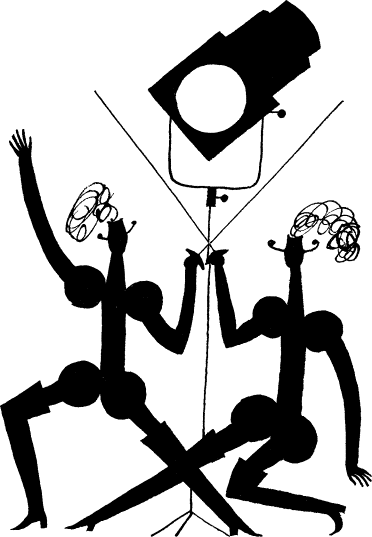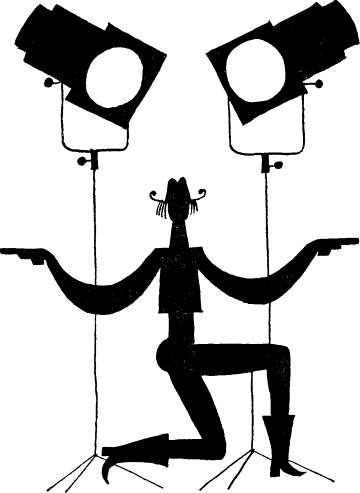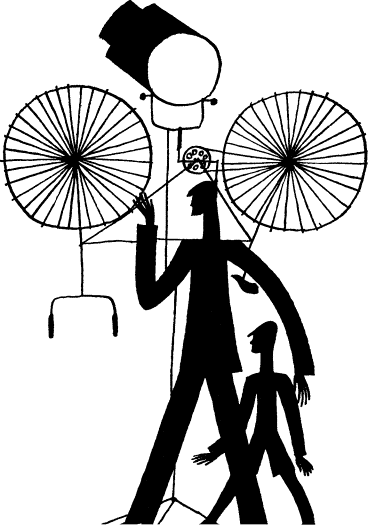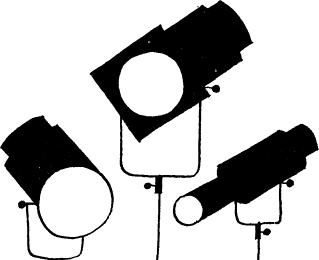Перейти
00 –
оглавление
002 - параметры в начале книги -
издательства
kom -Комментарии.
kons1
- Конспект
lit - Список литературы.
page - Данные о страницах
pril - Приложение.
pril2
- Приложение дополнительное.
prim - Примечание
PU - Предметный указатель.
Slov – Словарь
Text - Текст.
UI - Указатель имен.
za - Данные типографии, в конце книги.
zz - Аннотация
zzz - Запас
АНДРЕ БАЗЕН
ЧТО
ТАКОЕ КИНО?
Сборник
статей
Издательство
"Искусство" Москва 1972
==1
ANDRE BAZIN
QU'EST-CE QUE LE CINEMA?
Volume I: Ontologie et langage (1958)
Volume II: Le cinema et les
autres arts (1959)
Volume III: Cinema et Sociologie
(1961)
Volume IV: Une esthetique de la
realite: le neorealisme (1962) Paris, 7-e art
Переводы с французского
В. Божовича (книга I) и Я. Эпштейн (книги II, III, IV)
Вступительная
статья И. Вайсфельда
778И
Б17
8 .1-5
143-71
==2
АНДРЕ БАЗЕН И СОВРЕМЕННОЕ КИНОИСКУССТВО
Широкий
зритель чаще всего знает актеров (и это естественно: они непосредственные
«передатчики» авторских мыслей), реже запоминает имена режиссеров или
композиторов, совсем редко — сценаристов и операторов. На низшей ступени этой
«иерархической лестницы» находится критик, теоретик кино.
Критик,
по словарю Даля,— это «оценщик», «разборщик», «хулитель». Случается, что критик
соответствует лишь последней части триады Даля («хулитель»!), да и в представлении
зрителя эта профессия нередко связывается с началом негативным, невеселым,
нетворческим. Справедливо ли это?
По мере
развития искусства кино формировался новый тип критика — далекого от «хулителя»
или даже просто стороннего «оценщика» — участника общей кинематографической
работы, человека творческого запала, способного заглянуть в будущее, выразить
через свое личное восприятие общезначимое начало, правду о рассматриваемом
предмете.
Назначение,
функции критика коренным образом изменились после ликвидации в России
коммерческого кинематографа. Критика из разновидности рекламы превратилась в
разновидность науки об искусстве. Мастерству разбора, оценки художественного
произведения учила диалектика Маркса и Ленина, диалектика классовой борьбы и
строительства нового общества. В победные завоевания советского кино,
искусства, видимого каждому, вложена и частица неброской, невидимой на экране
работы критика, редактора, который — в идеале — является деятельным другом
создателей фильмов. Одновременно с критикой, от нее отпочковываясь и с нею
сливаясь, возникала, приобретала специфические очертания новая область
творчества — теория кино. Ее разрабатывали и критики и сами мастера фильма,
режиссеры; творческой лабораторией теории, истории, педагогики постепенно
становилась первая в мире высшая кинематографическая школа — ВГИК,— открывшая
свои двери в год наибольшей опасности для молодой Советской республики —
1919-й.
В 20-е
годы появляются статьи, книги литературоведов и писателей, связавших свою жизнь
с искусством
==3
кино,— их вклад в теорию молодого искусства неизмеримо
велик. Назову лишь имена Пиотровского, Тынянова, Шкловского. Манифесты,
декларации, статьи, а потом и книги мастеров кино формулировали намерения
художников, оценивали их опыт, возможности искусства. Со временем (уже в 20-е
гг.) книги Кулешова, Эйзенштейна, Пудовкина сделались настольными для
кинематографиста; переведенные на многие языки, они повлияли и на развитие
прогрессивного киноискусства Франции, Японии, Италии, США, Чехословакии,
Польши, Мексики, Германии, Бразилии и других стран. Приведу высказывание
итальянского критика Умберто Барбаро: «Теория киноискусства, выработанная
советскими кинематографистами, явилась той теоретической основой, на которой родилась
итальянская кинематографическая культура и которая определила направление ее
развития» *. С этим высказыванием перекликается мысль Джея Лейды (США): «Каждый
труд, каждое слово Эйзенштейна и Довженко подвергаются исследованию самыми
молодыми кинематографистами всех стран, как учебное пособие, стимул и помощь, с
еще большей тщательностью, чем при жизни этих мастеров».
Настроение
многих мастеров кино передают Люда и Жан Шницер (Франция): «После Октябрьской
революции ленинская теория отражения, теория, ставшая ключом для понимания
всего окружающего мира, нашла свое полное художественное выражение в
кинематографе».
Старейший
деятель японского кино Кехико Усихара вспоминает: «Наибольшее влияние на
создание звукового кино в Японии оказали так называемая «Заявка»,
опубликованная в 1928 году за подписями Эйзенштейна, Пудовкина и Александрова,
а также две работы Пудовкина: «Асинхронность как принцип звукового кино»,
написанная на основе опыта создания им первого звукового фильма «Дезертир», и
«Проблемы ритма в моем первом звуковом фильме».
Приведенные
оценки дают представление о влиянии, какое оказывала молодая теория советских
мастеров на развитие столь же молодого искусства мира.
* Здесь
и далее цит. по сб. «Октябрь и мировое кино», М., «Искусство», 1969, стр. 303,
347, 359.
==4
Но кроме советской и другие кинематографии еще в годы
развития немого фильма выдвинули крупных теоретиков, например Делюка и
Муссинака — французская, Балаша — венгерская, Ижиковского — польская, Тилле —
чехословацкая.
В наши
дни в передовом киноискусстве сохраняется благородная и плодотворная традиция:
критик, теоретик — не гость в искусстве, а рабочий человек; на
кинематографическом корабле он и матрос и штурвальный, а если надо — капитан.
Среди
теоретиков и критиков кино послевоенного времени видное место принадлежит
французу Андре Базену. Творчество его противоречиво и примечательно.
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
КРИТИКА
Андре
Базен умер в сорокалетнем возрасте — в 1958 году.
Понадобилось
всего 15 лет его активной журналистской и критической деятельности, чтобы имя
Базена приобрело широкую известность как у мастеров кино разных стран, так и у
читателей кинопериодики.
Во
французской печати Базена называли — ни больше, ни меньше! — «Аристотелем
критики», «нашим Сент-Бевом». Пусть в этих оценках есть явное преувеличение, но
не преувеличена любовь к Базену авторов подобных высказываний. Базена по праву
почитали духовным отцом французской «Новой волны». Режиссер «Новой волны»
Франсуа Трюффо, сам в прошлом кинокритик, человек, далекий от
сентиментальности, не случайно посвятил памяти Базена свой фильм «400 ударов».
Устроители кинофестиваля в Вене в 1959 году выпустили памятный знак,
посвященный Андре Базену.
Его
работы переведены на многие языки, о его статьях и книгах говорят и спорят.
Известный польский критик Болеслав Михалек свою книгу «Заметки о польском кино»
начинает с разбора так называемого «комплекса мумии» Базена, с которым
предстоит познакомиться и читателю этой книги. По работам Базена учатся будущие
мастера кино: в программах и рекомендательных списках литературы для слушателей
==5
зарубежных киношкол и киноинститутов не раз встречается его
имя.
Базен
писал постоянно, изо дня в день. Не тогда, когда было настроение, а когда
состоялась достойная внимания кинопремьера или происходил очередной
кинофестиваль. Его работы создавались не в тиши кабинета ученого, но в
обстановке фестивальных соревнований и празднеств, в буднях журналистских
тревог и забот.
После
освобождения страны Базен вместе с Ж. Дониолем-Валькрозом становится
основателем и постоянным сотрудником влиятельного французского
кинематографического журнала «Кайе дю синема» (основан в 1952 г.). В первые
мирные дни, еще до основания «Кайе дю синема», Базен начинает вести ежедневную
рубрику в газете «Паризьен Либере», затем печатается в разных изданиях, главным
образом левого направления—в «Экран франсэ», «Франс-обсерватер», в
левокатолической «Эспри» и «Рэдио-сине-телевижн», в ежемесячнике «Ревю дю
синема», публикует обзоры в фестивальных изданиях, в иностранной прессе,
главным образом в итальянской. Базен становится энтузиастом и активным
участником движения киноклубов.
В
рецензиях, обзорах, теоретических статьях он откликается на выход новых картин,
делится наблюдениями, формулирует эстетические взгляды.
На
волне общественной активности демократических сил во французском кино и
увлечения журналистской работой вырастали книги Базена «Орсон Уэллс» (1950),
«Витторио Де Сика» (1951) и основной труд «Что такое кино?», который составлен
уже после его смерти из статей, написанных им в разное время и объединенных
узловыми проблемами теории кино.
Как бы
мы ни относились к взглядам Базена, но без него нельзя достаточно полно
представить себе атмосферу творческой жизни послевоенной Франции, будней
кинокритики и киножурналистики.
Необычайную
популярность Базена, его влияние на мастеров кино объясняли по-разному: его
литературно-творческой одаренностью; близостью к режиссуре, способностью понять
ее трудности и поиски; тем, что он ниспровергал мнимые кинематографические
авторитеты.
==6
Все это близко к истине. Но для характеристики творческой
практики Базена и роли критики надо напомнить читателю о некоторых особенностях
обстановки в кино послевоенной Франции.
В
газете «Экран франсэ» (1945, № 6), той самой, в которой сотрудничал Базен,
приводится характерный эпизод. Не успели первые американские танки остановиться
на улицах Парижа, как из одного из них вылез Кастер — сотрудник кинослужбы американских
вооруженных сил и по совместительству представитель голливудских киномонополий.
— Где
будет моя контора? — таков был первый и единственный вопрос, с которым Кастер
обратился к Жану Пенлеве*.
Вопрос
американского кинопредставителя не такой уж невинный — это была первая
пристрелка, за которой последовала своеобразная кинооккупация Франции
Голливудом. Соглашение Блюм — Бирнс от 26 мая 1946 года юридически оформило
этот процесс. Как откликнулись на гнетущее событие французские деятели кино?
Мнение многих киноработников выразил актер Луи Жувэ: «Это смертельный удар по
нашему национальному единству, по нашему драматическому искусству, по нашей
духовной жизни» **.
С
агрессией американских монополий переплетается агрессия отечественных, «своих»
кинопродюсеров. Она выражалась в определенной системе репертуара, сюжетных
штампов, тематических требований, вкусовых оценок, которые предъявлялись
продюсерами мастерам кино. Продюсеры обладают не только гигантской силой
материальных рычагов — в их руках и деньги и студии,— но они оказывают и
большое влияние на прессу как общую, так и кинематографическую, на кинорекламу.
В
результате сложилось такое соотношение между макулатурой и подлинными
произведениями искусства, которое сценарист Шарль Спаак определил цифрами
9:1***.
* См.:
Ю. Ш е р, Французская кинематография в борьбе за свою национальную
самостоятельность.— Сб. «Французское киноискусство», М., «Искусство», 1960,
стр. 161.
** Т а
м же, стр. 166.
*** Там
же, стр. 197.
==7
В этих условиях иных охватывало отчаяние, гнетущее ощущение
безвыходности. Чуткий знаток человеческой психологии Жак Беккер передал это
состояние в следующих словах: «Мы живем в полной анархии. Все плывет по
течению. К чему предлагать какой-то выход, когда заранее знаешь, что ничего не
будет сделано...» *.
Отчаяние
— плохой советчик, оно толкает на компромиссы — постановку полукоммерческих или
вполне коммерческих картин, что не раз случалось и случается даже с именитыми
режиссерами.
Роль
критики, теории кино в этих условиях особенно значительна. Критика, теория кино
способны поражать противника — реакцию, коммерческий кинематограф,— они могут
стать детонатором революционных преобразований в искусстве.
Почти
вся кинопечать Франции прямо или косвенно испытывала (и испытывает) влияние
продюсеров, законов коммерческого кино. Но было бы заблуждением считать, что
вся французская критика захлестнута волной желтой журналистики и над этой
безликой стихией возвышается один Базен. Совсем не так. Французская теория и
кинокритика выдвинули в послевоенное время, например, такую цельную и крупную
фигуру, как Жорж Садуль,— марксиста, историка мирового кино, который жил
интересами современного прогрессивного творчества, человека большого авторитета
и обширных знаний. Влияние Садуля, упоминавшегося выше Муссинака и других
прогрессивных критиков на развитие передового демократического киноискусства во
Франции и многих других странах весьма серьезно.
Своеобразие
Андре Базена заключается в том, что он отразил в своем творчестве и
общественной деятельности мир драматических столкновений во французском кино,
сам оставаясь его частицей, отразил настроения жаждущей демократических перемен
кинематографической интеллигенции, смену ее настроений, пестроту ее поисков,
неудач и свершений. При всех своих противоречиях и непоследовательности он
всегда
* См.:
Ю. Ш е р. Французская кинематография в борьбе за свою национальную
самостоятельность.— Сб. «Французское киноискусство», стр. 195—196.
==8
был с теми, кто не принимал эстетических стереотипов и
нравственных установлении коммерческого кинематографа.
Если
Жак Беккер и другие мастера французского кино видели лишь хаос и ощущали свое
бессилие, то Базен направил все свои силы на поиски выхода из тупика, он
намечал трассы возможных открытий. Пафос этих открытий — в ниспровержении
«эстетических» канонов продюсерского мышления в киноискусстве как
отечественных, так и импортных — голливудских. Предлагаемая вниманию читателей
книга «Что такое кино?» раскрывает основные позиции Базена. Их сущность в самой
краткой форме заключается в следующем: 1. Необходимость передавать на экране
реальность в ее непосредственных проявлениях, равняясь не на доступные
кинематографические стереотипы в духе коммерческого экрана, а используя лучшие
кинематографические традиции прошлого, среди которых почетное место принадлежит
советскому немому кино (советское звуковое кино Базен знал, к сожалению,
плохо), используя также новые эстетические возможности, открываемые прогрессом
в технике кино (высокочувствительная пленка, портативные микрофоны, ручная
камера и пр.).
2.
Необходимость творческого единения кино со смежными искусствами и литературой
для более полного выявления, развития внутренних потенциалов фильма, стремление
его мастеров к познанию, художественному освоению современной действительности.
Самая суть этих размышлений Базена в значительной мере направлена против
снобизма и формализма в искусстве кино.
3.
Искренняя, убежденная поддержка в искусстве кино всего, что бьет по фашистской
идеологии, гитлеризму (в особенности интересны в этом смысле страницы,
посвященные «Диктатору» Чаплина).
4.
Разбор новых, увлекающих и художника и зрителя, средств изображения человека и
событий, вовлекающих аудитории кинотеатров в более активное, заинтересованное
восприятие фильма («эффект присутствия» в кино и театре, сложное
мизансценирование как способ достижения большей жизненности, выразительности
экрана и др.).
==9
5. Понимание кино как искусства активных воздействий на
массы зрителей и вытекающая отсюда высокая эстетическая и творческая
взыскательность художника, особенно необходимая из-за чрезвычайной
выразительности, достоверности («фотографичности») изображения.
6.
Поддержка новых прогрессивных поисков в кинематографиях разных стран, в
особенности итальянского неореализма, творчества Чаплина и т. д.
7.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов литературную форму статей Базена. Он как
бы превращает нас, читателей, в собеседников, которых доверительно вовлекает в
ход своих размышлений,— редкая в кинокритике, располагающая стилистическая
манера.
Все эти
положения рассматриваются на многообразном материале, который Базен
воспринимает эмоционально, я бы сказал, как художник. В его работах немало
тонких наблюдений, метких суждений, иные из которых воспринимаются как рабочие
формулы кинематографиста. Новых статей Базена ждали с нетерпением и мастера и
зрители. Может ли быть большая награда критику?
Приведу
несколько высказываний о Базене прежде всего французов: «Он дарил счастье»
(писатель Клод Руа). «Как было хорошо жить, пока он не умер» (режиссер Франсуа
Трюффо). «Он был более чем критиком. Если Луи Деллюк был душой французского
кино, то душа Базена сделала из него Деллюка завтрашнего дня» (директор парижской
синематеки Анри Ланглуа). Известному испанскому режиссеру Луису Бунюэлю Базен
помог понять самого себя. Бунюэль сказал: «Он открыл передо мной некоторые
стороны моего творчества, неизвестные мне самому». Итальянский режиссер
Федерико Феллини дал Базену такую психологическую характеристику: «У него была
тонкая и пламенная способность проникать в самую суть произведений и явлений,
интуитивно улавливать их аспекты» *.
Как
видим, речь идет о человеке незаурядном, о критике, вошедшем в историю
искусства кино.
И все
же вопрос о его творческом облике и взглядax не так очевиден, как это может
показаться.
* Все
эти высказывания цит. по кн.: Жорж Садуль, Справочник кинематографиста, Париж,
1965, стр. 22—23.
К оглавлению
==10
Базен разделял и достоинства и слабости породившей его
среды.
Два
Базена совмещались в Базене. Один, блистательный стилист и чуткий критик, до
самозабвения любил экран (он создал, по выражению его коллеги, журналиста,
«религию кино»), исследовал закономерности и возможности современного фильма,
стал другом и соратником многих прогрессивных кинематографистов. Другой —
склонный к субъективизму и поверхностности в решении сложных проблем. Даже
автор восторженной статьи о Базене в капитальном энциклопедическом словаре Роже
Буассино отмечает, что Базен, испытав влияние писателей-католиков Бергсона и
Мориака и спиритуалиста Эммануэля Мунье, не избежал «формализма и
спиритуализма». На некоторых важных высказываниях Базена лежит отпечаток этих влияний
идеалистически-субъективистского характера, заслуживающих прямой критики.
Однако
неверно было бы предполагать, что Базен — последовательный сторонник Бергсона
или Мунье. Скорее, Базен считал себя далеким от научного познания искусства, он
остерегался всяких философских концепций. И, даже следуя тем или иным
философским воззрениям, мог не осознавать этого. В какой-то мере Базен
находился в мире иллюзий. Пожалуй, он немного кокетничал своей отрешенностью от
науки, своеобразным стихийным эмпиризмом. Этому можно найти известное
биографическое объяснение. Базен, правда, блестяще учился в средней школе в
Сен-Клу, он готовился к педагогической карьере (в 1938 г. поступал в Высшую
педагогическую школу), много читал и знал. Служба во французской армии и испытания,
выпавшие на его долю в дни гитлеровской оккупации, обогатили социальный опыт
Базена, помогли выработать определенную антифашистскую позицию. Но все же
основательных, систематических научных знаний, на уровне второй половины XX
века, у него не было, и юношеские увлечения католицизмом, естественно, не могли
восполнить отсутствия университетского образования.
Как это
— увы! — иногда бывает в жизни, нехватка знаний у имярек, если она не
восполняется, а время упущено, превращается постепенно в доктрину и позицию.
Такая позиция не может полностью соответствовать Базену, но, во всяком случае,
нечто похожее с ним
==11
произошло, и частично поэтому многие его любопытные догадки
и выводы не получили развития, так и оставаясь лишь ярко схваченными
впечатлениями.
Так,
недостаточно осведомленный в марксизме и в проблемах советского кинематографа,
Базен иногда спешит высказать суждения, столь же неубедительные, сколь
категорические. Деликатно и в то же время решительно эти заблуждения Базена
осуждает, например, Луи Дакэн в книге «Кино—наша профессия». Приведу это место
полностью. Речь идет о том, как продюсеры заставляют художников склоняться
перед их требованиями. По этому поводу Дакэн пишет: «И горе тому, кто не
захочет склонить головы! Разве обвиняли бы, скажем, в расточительстве Марселя
Карне после постановки «Врат ночи», если бы он истратил даже в десять раз
большую сумму на какой-либо библейский сюжет? Соучастниками тех, кто решил
жестоко покарать Карне и Превера за смелость, оказались, к сожалению,
журналисты и даже коллеги этих киномастеров. Ведь режиссер и сценарист посмели
сделать воплощением зла коллаборациониста — миллионера и спекулянта, а простого
рабочего, да еще к тому же коммуниста,— олицетворением добра!
А.
Базен, который вместе с Ж. Садулем вскрывает «это любопытное и весьма
характерное для кино обстоятельство», делает, однако, слишком поспешный вывод:
«То же самое могло случиться с Эйзенштейном, Пудовкиным или Довженко, как и с
Абелем Гансом, Кингом Видором или Фрэнком Капра, последние фильмы которых, за
редким исключением, свидетельствуют о глубоком внутреннем разладе этих
художников...»
Приведя
эту цитату из Базена, Дакэн пишет: «Суждение весьма поспешное, тем более что
это присуще не только кино. То же самое можно видеть в литературе и в театре.
Суждение
к тому же и легкомысленное, потому что художественное развитие Эйзенштейна
нельзя сравнивать с развитием Абеля Ганса или Кинга Видора, поскольку эволюции
творчества каждого из них свойственны свои особые обстоятельства...
Неумение
Кинга Видора, Франка Капра и многих других киномастеров «быстро приспособиться»
было как раз следствием их слишком поспешного приспособ-
==12
ленчества к духовному и материальному комфорту на голливудской
земле.
И это
лишь наглядный пример того, какую сил; характера и честности по отношению к
самому ce6е нужно проявить художнику!» Далее Дакэн пишет: «...Но драма таких
людей, как Эйзенштейн, имела 6ы место даже в идеальном обществе в силу
внутренних творческих противоречий художника. Это драма творца со всеми его
удачами и поражениями, неустанно ищущего совершенства и сущности нового
искусства драма тем более острая и парализующая, что она происходит в душе
гиганта кинематографической мысли
В конце
концов «Александр Невский» — это такой же несравненный шедевр, как и
«Броненосец «Потем кин», а «Иван Грозный» — безусловно, ни с чем не сравнимая
первая трагедия на экране.
Неудача
Пудовкина, стремившегося, как он мне сам говорил, «драматургически и кинематографически
выразить, как в уме ученого может родиться научна. мысль» (имеется в виду
замысел фильма «Жуковский».—И. В.), вовсе не доказательство его неумени;
«приспособиться к обстоятельствам».
Дакэн
тонко и точно разбирает неточности и ошибки Базена в оценке советского кино —
следствие поверхностного подхода к сложным явлениям, и следы таких оценок
читатель найдет в этой книге.
Мне
кажется, что Базен — фигура по-своему драматическая. Замечательные потенциалы
Базена не были реализованы достойно его таланта, так как на него в известной
мере повлияли стереотипы эмпирической буржуазной журналистики. Связь Базена с
прогрессивными мастерами кино и их искусством оказалась все же достаточно
основательной, и поэтому Базен не переродился в рутинного буржуазного
журналиста. Не обещал он все же больше.
Рассмотрим,
где наши пути скрещиваются и в чем размежевание.
«КОМПЛЕКС
МУМИИ»
«Доверие
к действительности» — эта формула Базена выражает пафос его устремлений и
взглядов. О отстаивает подлинность, документальную убедительность экрана.
==13
Для советского читателя это может показаться само собой
разумеющимся: что тут особенного? Разве не на доверии к действительности
основаны уже ранние произведения советского кино? Не к этому ли призывали
статьи советских теоретиков? Не в этом ли духе высказывался Луи Деллюк, когда
писал о «фотогении»?!
Вопросы
естественны, закономерны. Прежде всего отрадно, что французский критик
обратился именно к этим истокам, а не к мистико-идеалистической или
голливудско-коммерческой инерции, гораздо более «удобной» и привычной в
буржуазных условиях. Проблему «доверия к действительности» он разрабатывал
оригинально и на опыте современной истории кино.
Новое в
отношении Базена о документальности — это разбор внутренних, психологических
возможностей отдельного кадра, момента действия, и связей изображенного на
экране с восприятием зрителя, его психологией. В статье «Смерть после полудня и
каждый день» критик пишет об «эффекте повторяемости» как характерной особенности
и съемки и восприятия зрителя. В статье отмечается, например, что фотография
может показать либо агонизирующего человека, либо труп, но не переход от жизни
к смерти. В отличие от фотографии кинофильм способен передать мгновение
перехода от бытия к небытию. «Весной 1949 года,— пишет Базен в одной из
статей,— мы имели возможность увидеть в одном выпуске кинохроники кошмарные
кадры, запечатлевшие антикоммунистический террор в Шанхае: красных «шпионов»
убивали на площади выстрелами из револьвера в затылок, там было все, вплоть до
повторного выстрела одного из полицейских, у которого револьвер дал осечку».
В
правильности наблюдения Базена мы не раз убеждались, когда смотрели на экране,
скажем, съемки американских зверств во Вьетнаме, в Камбодже или когда видели на
экране лицо фашистского немецкого палача за его «работой» на оккупированной
территории. Только кинопленка могла сохранить неповторимое : нечаянную
любительскую съемку убийства Джона Кеннеди.
Для
того чтобы пояснить свою мысль, Базен приводит такое парадоксальное и
фантастическое сопоставление: «Вы поймете меня, если я скажу, что заснятие на
пленку представления «Мнимого больного» не имеет
==14
никакой ценности — ни театральной, ни кинематографической,
но если бы камера имела возможность запечатлеть последние минуты жизни Мольера
(как известно, Мольер умер на сцене во время представления «Мнимого
больного».—И. В.), то перед нами был бы поразительный фильм».
Потрясает
повторение трагического события. Я бы сказал — воспроизведение
невоспроизводимого никаким другим искусством. Базен обращает внимание и на
отрицательную сторону проблемы, когда изображение скрытого мгновения жизни или
смерти может превратиться в противоположное—в непристойность: «Не случайно любовь
по-французски называют «малой смертью» («la petite mort») — ее можно пережить,
но нельзя представить, не совершив при этом насилия над природой. Подобное
насилие называется непристойностью».
Читатель
найдет в книге Базена немало страниц, посвященных убежденной защите
документальности на экране, призывающих к «доверию к действительности». Эта
защита подлинности, достоверности близка позиции демократических кругов
кинематографистов многих стран, противников коммерческого кинематографа.
После
второй мировой войны в киноискусстве многих стран происходит процесс
демократического обновления. Передовые мастера кино обращались не к элите, они
обращались к народу, к тому «рядовому» человеку, который, одержав победу на
полях сражений, одержал и нравственную победу над идеологией и практикой
фашизма, доказав свою незаурядность и могущество.
В
Англии возникло движение «Свободное кино»; в США активизировались
антиголливудски настроенные мастера, в Италии сложился неореализм, во Франции,
в Мексике, Бразилии и других капиталистических странах — влиятельная
антипродюсерская оппозиция и т. д. Все эти движения отличала глубокая
заинтересованность в документальности, не угасшая, а, напротив, развившаяся в
наши дни, особенно с появлением телевидения («социологические фильмы»,
например).
О
документальности не только внешне событийной, но и внутренне психологической
убежденно, веско сказал Чезаре Дзаваттини, кинодраматург и теоретик,
==15
один из основателей итальянского неореализма: «Речь идет о
том, чтобы жизни человека, каждой минуте его существования (разрядка моя.—И.
В.) придать значение исторического события» *.
Стремление
же бежать от действительности, продолжал Дзаваттини,— «не что иное, как
отсутствие мужества, то есть страх» **.
Базен
избегает точности и решительности интонаций, присущих Дзаваттини. Он пишет, как
бы отыскивая решения. К тому же, прибегая к терминологии Фрейда или Бергсона,
Базен придает иным своим суждениям привкус старомодности и смутности. Но все же
основная тенденция поисков Базена не в сторону от действительности, а навстречу
ей.
Характерно,
что непоследовательность суждений Базена проявляется обычно тогда, когда он
подходит к теоретическим обобщениям. Вот тогда начинается «астматическое»
дыхание.
Так
случилось с «комплексом мумии».
Базен
полагает (см. статью «Онтология фотографического образа»), что в основе
живописи и скульптуры лежит «комплекс мумии». В мумиях, саркофагах, в
статуэтках, которые помещались рядом с умершим на случай, если мумия будет
уничтожена, «раскрываются религиозные истоки скульптуры, ее первоначальная
функция. Спасти существо посредством сохранения видимости». Затем развитие
цивилизации, продолжает свою мысль Базен, освободило искусство от магических
функций: Людовик XIV не требует, чтобы его мумифицировали, он удовлетворяется
портретом Лебрена. Никто уже не верит в онтологическое тождество модели и
портрета, но допускается, что портрет помогает нам помнить о человеке и спасает
его, таким образом, от второй смерти — забвения. Речь идет о создании
идеального мира, подобного реальному, но обладающему автономным существованием
во времени. История живописи, по Базену,— это история правдоподобия. После
открытия в эпоху Возрождения перспективы, создавшей иллюзию трехмерного
пространства, * Ч е з а р е Дзаваттини, Некоторые мысли о кино.— Чезаре
Дзаваттини, «Умберто Д.», «Искусство», 1960, стр. 27.
** Там
же, стр. 31.
==16
живопись еще больше приблизилась к реальности. Но это
означало, как полагал Базен, всеобщий кризис искусства: «Перспектива была
первородным грехом западной живописи».
Таков
первый постулат Базена.
Второй
постулат таков: изобретение фото и кино полностью удовлетворяли «нашу
потребность в иллюзорном сходстве». Впервые образ внешнего мира образуется
автоматически, «без творческого вмешательства человека». Объективность сообщает
достоверность, недоступную живописи.
Живописи
приходит конец.
Фотография
воздействует на нас как «естественный» феномен, подобно цветку или снежному
кристаллу. Вместо изображения или копии — сам предмет. (Говоря это, Базен
обращается к терминологии фрейдистского характера, хотя само рассуждение имеет
весьма отдаленное отношение к Фрейду: «Только объектив может дать нам такое
изображение предмета, которое способно освободить из глубин нашего подсознания
вытесненную потребность заменить предмет даже не копией, а самим этим
предметом, но освобожденным от власти преходящих обстоятельств»). В этом Базен
усматривает объяснение воздействия на нас альбомных фотографий. Они — не просто
семейные портреты, в них заключено «волнующее присутствие отошедших жизней,
оставленных во времени, вырванных из-под власти судьбы» — и не благодаря
возвышенной силе искусства, но через посредство бесстрастного механизма.
Фотография мумифицирует время, предохраняя его от саморазложения.
Все
изложенное — фрагменты конструкция эстетического «мироздания» Базена.
Мы уже
говорили выше, что многое располагает в этих построениях: открытое обращение к
жизни, протест против фальши, подделок, тяготение к истинности, доверие к
подлинности.
Надо
еще добавить, что Базен не отождествляет фотографию и кино — здесь он далек от
вульгаризации. Фотография, по Базену, позволяет уловить только срез времени в
его статике. Кинематограф воплощает в себе «странный парадокс: он представляет
собой мгновенный слепок объекта и в то же время запечатлевает его след во
времени». Но, пускаясь в плавание по стихиям
==17
кинематографической истории и современности, романтический
корабль Базена иногда наталкивается на рифы и застревает... В каких случаях?
Тогда, когда теоретик, стремясь к правдоподобию и реальности предмета,
исключает образность.
В
«Эволюции киноязыка» Базен радуется тому, что теперь «режиссер пишет кино, а
камера—это перо». Действительно, прекрасно, когда камера схватывает
неповторимое, непредвиденное, еще не увиденное нами, возникшее перед объективом
в данное мгновение и через мгновение исчезающее, когда камера наблюдает течение
жизни в ее непосредственности, незаданности, непреднамеренности. Конечно,
привлекательно и то, что французский кинематографист увлечен Вертовым, его
«жизнью врасплох». Но ошибочны в конструкциях Базена проявления
консервативности, узости мышления.
«Фотографичность»,
документальность экрана не может преуменьшить роль художника, его личного
восприятия. Исключая человека из фотографии и (в значительной мере) из кино, он
совершает ошибку фактическую (в «бесстрастной» фотографии всегда присутствует,
проявляется личность снимающего) и принципиально-творческую: подчинение фото-
или кинокамеры случайности, стихии снимаемого материала, оз' начало бы
принижение идеологической, философской значимости искусства, принижение
личности художника. А искусство без страсти и пристрастий, лишенное
индивидуально-художественного начала, способного воплотить важные общественные
движения времени,— мертво.
Обратимся
к истокам односторонности и отступлений от истины в концепции Базена.
Уязвимые
места в его построениях связаны как с исходными понятиями, так и с
окончательными выводами и прогнозами: Базен интереснее всего в самом процессе
размышления, когда находится под впечатлением самого фильма, «магии» экрана. В
самом деле, «комплекс мумии» основан на мысли, что искусство в истоках своих
религиозно, мистично. Для удобства Вазен начинает историю искусства с Египта.
Но она, вопреки утверждениям Базена, началась значительно раньше, и не только в
целях фиксации, «мумифицирования» времени.
==18
Привожу наблюдения знатока первобытного искусства —
немецкого ученого Герберта Кюна, касающиеся человека палеолита: «Художник хочет
изобразить зверя, за которым он охотился, во всей правде его бытия, таким,
какой он есть в действительности. В этих изображениях нет ничего религиозного
или магического — все таинственное чуждо этим людям; для них вещи существуют,
реально существуют и за ними ничего не скрывается. Палеолит не имеет идолов, не
знает изображения божеств... Человек палеолита—безбожник; это человек момента;
он не думает ни о прошлом, ни о будущем... ему незнакома раздвоенность,
разделение на дух и тело» *.
Герберт
Кюн указывает, что другие ученые ставили палеолитическое искусство в связь с
тотемизмом (Рейнак), с желанием приобрести волшебную власть над зверем (Клаач),
но настаивает на своем мнении: палеолитическое искусство «могло существовать
только во времена полного безбожия, еще не видящего тайны вещи за самой
вещью... оно до конца правдиво, оно полно жизни, в нем нет элемента
умствований...» **.
Подобного
рода суждения Кюн высказывает и об искусстве бушменов Южной Африки (тоже
палеолитическом). Их удивительная наскальная живопись, поразительные антилопы,
например, убеждают в том, что у «безусловно арелигиозных бушменов живопись не
может иметь религиозного основания, что, скорее, она возникает из игры и является
подражанием и средством общения» ***.
Л.
Леви-Брюль, автор знаменитой книги «Первобытное мышление» (которой было уделено
большое внимание в основном докладе С. М. Эйзенштейна на Всесоюзной творческой
конференции работников кино в 1935 г.), занимает в оценке роли мистических
представлений в жизни первобытных народов несколько иную позицию, чем Кюн. Но
по интересующему нас вопросу о взглядах Базена на время Леви-Брюль высказывает
весьма ценное суждение. Для первобытных людей
*
Герберт Кюн, Искусство первобытных народов, Ленизогиз, 1933, стр. 23.
** Т а
м же, стр. 27.
*** Там
же, стр. 33.
==19
ни время, ни пространство не являются точно тем же, чем они
являются для нас в повседневной жизни. Как бы предвидя возможность превращения
категории времени в застывшую данность, французский ученый писал:
«Представление, которое мы имеем о времени, кажется нам прирожденным свойством
человеческого сознания. Это, однако, иллюзия. Эта идея времени почти не
существует для первобытного мышления...» *.
Леви-Брюль
приводит свидетельство одного очевидца, который жил среди племен, сохранивших
первобытный уклад: «...то, что мы, европейцы, называем прошедшим, связано с
настоящим, а настоящее в свою очередь связано с будущим. Однако... для этих
людей время не имеет в действительности тех делений, которые оно имеет для нас.
Точно так же оно не имеет ни ценности, ни объекта, потому к нему относятся с
безразличием и пренебрежением, совершенно необъяснимым для европейца» **.
Как
видим, были эпохи, когда искусство не ставило своей целью «остановить» время,
увековечить умершего.
Новые
научные исследования, если обобщить их пафос, вводят нас в жизненные, так
сказать, «документальные» истоки творческой фантазии древности. Относится это
не только к живописи или скульптуре, но и к сказаниям, легендам, в частности
запечатленным в Библии. Польский ученый и писатель Зенон Косидовский во
вступлении к своей книге «Библейские сказания» рассказывает о первоисточниках
религиозной фантастики, открываемых современной наукой. Он пишет: «Под влиянием
этих научных открытий мы стали смотреть на Библию другими глазами и, к нашему
удивлению, обнаружили, что она является одним из шедевров мировой литературы,
произведением реалистическим, в котором бурлит и хлещет через край настоящая
жизнь. Просто трудно поверить, что этот калейдоскоп сказаний, полных пластики,
движения и колорита, а также человеческих образов из плоти и крови, мог
возникнуть в столь отдаленном прошлом
*Л.
Леви-Брюль, Первобытное мышление, М., «Атеист», 1930,стр. 285.
** Т а
м же, стр. 286
К оглавлению
==20
и просуществовать до наших дней. Содержание Библии так
богато, как богата сама жизнь. Идиллические сцены на ее страницах перемежаются картинами
кровавых войн, эксцессами разнузданности и разврата, а также эпизодами, которые
потрясают своим трагизмом» *.
Не
только первобытное искусство, но и искусство, близкое по времени египетскому, о
котором пишет Базен в связи с «комплексом мумии», не однородно и не всегда
связано с мистическими представлениями.
В
искусстве Крита примерно XVII века до нашей эры существует сочетание условного
канона и живого наблюдения, «свойственного изображениям природы, которая
понимается не как вместилище таинственных сил, а как красочная среда,
окружающая человека» **.
Сложную
диалектику взаимопереходов действительности, сказаний и изобразительного
искусства отмечает Н. А. Дмитриева. В частности, о древнерусском искусстве она
пишет: «Житейская» поэзия иконы сливалась воедино с поэзией сказки. В иконе
многое идет от русского сказочного фольклора, а, может быть, было и обратное —
сказочный фольклор имел одним из своих источников икону» ***.
Можно
было бы продолжить обзор разнородного, неожиданного и фантастически щедрого
мира творчества человека доегипетской истории. Но и эти примеры отчетливо
подтверждают несводимость истории искусства к какой-то одной категории
чувствования, миросозерцания и восприятия, в данном случае — к «комплексу
мумии», к жестокому религиозному стереотипу.
Безусловно
права Н. А. Дмитриева, когда она (с необходимой бережностью и вниманием к
разным аспектам вопроса) говорит следующее о значении надевания охотником маски
для привлечения буйволов, или
* Зенон
Косидовский, Библейские сказания, М., Политиздат, 1968, стр. 13—14.
** В.
М. Полевой, Искусство Греции. Автореферат диссертации, представленной на
соискание ученой степени доктора искусствоведения, М., 1970, стр. 7—8.
*** Н.
А. Дмитриева, Краткая история искусств. Очерки, изд. 2, вып. 1, М.,
«Искусство», 1969, стр. 215.
==21
уничтожения глиняного зверя для убийства его двойника, или
изображения медведя, пронзенного копьями: «Это еще не было собственно религией,
собственно искусством и собственно познавательной деятельностью (как мы теперь
их понимаем), но было первоначальным синкретическим единством всех этих форм
сознания. Причем более всего походило все-таки на искусство... Вероятно, можно
в этом смысле сказать, что искусство старше религии и старше науки» *.
Следовательно,
Базен верен истине, когда говорит о фиксации времени в мумифицированном
надгробии, но, когда он усматривает в египетском «комплексе мумии»
происхождение искусства, его изначальные движения, он неправ. Между тем на идее
религиозного происхождения искусства, именно на ней, строится концепция Базена.
Так, в
статье «Миф тотального кино» он пишет: «Если верно, что происхождение искусства
проливает свет на его природу, то позволительно рассматривать немое и звуковое
кино как два этапа единого технического развития, мало-помалу приближающего
кино к исходному миру его создателей».
Из
генезиса, вызванного «комплексом мумии», Базен выводит довольно мрачную
закономерность: киноде — это машина, позволяющая вновь «обрести» отошедшее
время, чтобы тем вернее утратить его. Кино им рассматривается как этап
завершения фотографической объективности во временном измерении. А отсюда Базен
делает следующий шаг — он расценивает миф о временной функции искусства кино
как движущую силу в возникновении новых искусств.
Мифы
как движущая сила художественного процесса во все времена — такова наивная и
напряженно схоластическая структура, которую воздвигает Базен в полемике с
материалистическим взглядом на развитие истории.
«Тщетно
высокомерная эстетическая критика требует,—писал Гегель во введении к
«Философии истории», — чтобы то, что нам нравится, не определялось
материальным, то есть субстанциональным элементом содержания, но чтобы изящное
искусство имело в виду
* Н. А.
Дмитриева, Краткая история искусств. Очерки, стр. 14.
==22
прекрасную форму как таковую, величие фантазии и т. п. и
чтобы на них обращал внимание и ими наслаждался либеральный и образованный ум.
Однако здравый смысл не допускает таких абстракций... форма и содержание в
художественном произведении так тесно связаны, что форма может быть
классической, лишь поскольку содержание оказывается классическим» *.
Поддавшись
абстракции, Базен подгоняет под установленный шаблон многое в истории искусств:
живопись он «закончил» на «мифе Пикассо», хотя она, как известно, продолжает
жить, она обновляется, предстает в новых качествах, новых синтетических связях.
Вспомним хотя бы о монументальном искусстве — мексиканских фресках Сикейроса,
Диего Риверы, о полотнах нашего Сарьяна и т. д. Сколько было сказано громких
слов о крушении театра после появления искусства кино! А театр жив и не
собирается умирать. Теперь модно говорить о том, что телевидение хоронит
киноСлава богу, Базен принес только живопись в ритуальную жертву своим построениям.
Но все же кинематограф он замкнул (правда, в рамках своих теоретических
рассуждении; в конкретной критике Базен интереснее, более чуток к истине) в
рамки фиксации внешнего, физического облика событий. Такая узость тревожит даже
тех, кто ценит Базена, например Болеслава Михалека. Он соглашается, что
кинематограф фиксирует внешний облик мира, но задается вопросом: не значит ли
это, что в киноискусстве нет места для творческой интерпретации
действительности? И отвечает: конечно, не значит **. Михалек придает большое
значение семантике, логике произведения кино. Так, говоря о лжи на экране, он
подчеркивает, что она редко основывается на искажении физической картины мира,
она таится в искажении его внутренней структуры, в порочной логике, логике необычайных,
неправдоподобных, но все-таки возможных событий. Надо присоединиться к жесткой
оценке этой логики Михалеком: «Это особый, общественно очень опасный вид лжи,
лжи
*
Гегель, Философия истории, М.—Л., Гос. социально-экономическое изд-во, 1935,
стр. 66—67.
**Болеслав
-Михалек, Заметки о польском кино, М., «Искусство», 1964, стр. 27.
==23
наиболее убедительной, потому что она опирается на элементы
правды. Здесь мы снова встречаемся с особого рода парадоксом шестидесятилетней
истории киноискусства» *.
Вопреки
Базену, время в искусстве воплощается не только передачей портретного сходства,
натуралистической достоверностью. Существо искусства составляет образность, и
она позволяет воплощать время во всем богатстве реальности мира и возможностей
художественного мышления, а не только непосредственным, фотографическим
соответствием произведения такому-то объекту изображения. Атмосферу времени
может до нас донести и пейзаж, натюрморт, свободная поэтическая композиция. В
картине «Бег» бурное движение событий неожиданно останавливается, на экране —
пейзаж и удаляющиеся от нас персонажи; они «растворяются» в цветовой размытости
дали, и эта статика, кажущаяся отвлеченной, так же входит в реалии изображения
времени, как и разговорные сцены, с четко обозначенным течением событий.
Статику пейзажа зритель воспринимает как элемент поэтического повествования о
времени и не требует от нее информационной точности и динамики, однотипных,
скажем, с батальными эпизодами. Документальный фильм «Замки на песке»
рассказывает о мальчике, строящем на берегу «дворцы» из песка. Зрителя меньше
всего интересует, кто этот мальчик, из какой он школы или семьи,— зрителя
увлекает мир поэтических импровизаций юного героя и отношение к ним окружающих.
Поэтический мир мальчика из киргизского фильма, снятого в 60-х годах,— такова
временная реальность этого произведения.
Впрочем,
если бы слабость эстетической конструкции Базена сводилась только к сведению
функции кино к его документальным потенциалам, грех был бы невелик: Базен был
бы просто пропагандистом одной из сильнейших и привлекательнейших особенностей
кино.
Но из
«комплекса мумии» Базен выводит еще одну черту киноискусства, также
заслуживающую критического рассмотрения.
*
Болеслав Михалек, Заметки о польском кино, стр. 29—30.
==24
О МОНТАЖЕ И МИЗАНСЦЕНЕ
Центральное
место в теоретических воззрениях Базена занимает монтаж и мизансцена. Его
воззрения по этому вопросу получили оценку во многих работах, вызвали
дискуссию; к ним я отсылаю всех интересующихся *.
На
протяжении почти всей кинематографической истории монтаж не раз подвергался
сомнению: не изжил ли он себя, не «отменяет» ли его появление звукового фильма?
Не упраздняет ли телевидение? Не делают ли излишним длинные кадры, панорамные
съемки? Базен не оригинален: и он считал, что в современном искусстве монтаж
себя изжил. Одна его статья так и называется «Запрещенный монтаж». В связи с
картиной французского поэта и режиссера Кокто «Кровь поэта» Базен отметил, что
монтаж, «о котором нам столько твердили как о сущности кино», оказывается в
данном случае приемом литературы, «в высшей степени антикинематографическим».
Базен заявляет, что он отвергает «общепринятую точку зрения», согласно которой
«мы считаем выразительность к^дра и монтаж сутью киноискусства». Правда,
творческий темперамент Базена заставляет его при анализе конкретных фильмов
быть не столь уж категоричным и даже противоречить самому себе. (Так, он пишет
об одном французском киноработнике, что тот ошибается, «наивно полагая, будто
кино — это бинокль, направленный на сцену... кино начинается тогда, когда рамки
кадра, а также близость камеры и микрофона помогают сделать акцент на актере».
Как видим, здесь критик, по сути дела, говорит о монтажной съемке.)
Но стоит
Базену погрузиться в сферу теории, как он с прежней энергией атакует монтаж.
Для сокрушения
*
Назову отклики, опубликованные на русском языке: В. Б ожович, Андре Базен.
«Эстетика невмешательства».—Сб. «Вопросы кинодраматургии», вып. V— «Сюжет в
кино» (М., «Искусство», 1965); Неделчо Милев, Божество с тремя лицами, разделы:
«Фотографичность и монтаж», «Ограниченность Базена», «Эстетика фотографичности»
(М., «Искусство», 1968); Н. Клейман, Кадр как ячейка монтажа.— Сб. «Вопросы
киноискусства», вып. 11 (М., «Наука», 1968). Из работ автора этих строк упомяну
главу «Взгляд художника» в кн. «Крушение и созидание» (М., «Искусство», 1964) и
главу «Жив ли Флаэрти?» в кн. «Завтра и сегодня» (М., «Искусство», 1968).
==25
своего противника он привлекает тот самый «комплекс мумии»,
о котором речь шла выше.
Кино,
по Базену, не только поворачивается в сторону реальной действительности, но
даже сливается с нею, камера «пишет» ее. В таком случае монтаж заменяется
глубинной мизансценой *.
Пристрастие
французского критика к глубинной мизансцене вполне можно понять. Глубинная
мизансцена — характерная черта киноискусства, она открыла изумительные
возможности многопланового, тонкого, истинно выразительного воплощения жизни на
экране. Глубинная мизансцена, требующая сочетания внутри кадра разных планов
действия, делает кинематографическое изображение более емким, драматичным,
захватывающим зрителя. Это тонко ощущает Базен, когда, например, говорит о
структуре американского фильма «Гражданин Кейн», поставленного в 1941 году
Орсоном Уэллсом. В связи с этой знаменательной и принципиально важной картиной
Базен справедливо говорит о том, что она — одно из проявлений глубинных
«геологических сдвигов», затронувших самые основы киноискусства и приведших
более или менее повсюду к революционному преобразованию киноязыка.
В этой
формулировке есть односторонность: не один Орсон Уэллс изменял характер
современного кино ; это сказал бы и сам Базен, если бы он лучше знал советское
звуковое кино — скажем, фильмы 30-х и 40-х годов Эйзенштейна, Довженко,
Савченко, Васильевых, Вертова, Козинцева и Трауберга. Но не только об узости
кругозора Базена в данном случае идет речь, но и о его философской позиции. Он
не понял основного: глубинная мизансцена не ликвидировала монтаж, а придала ему
иной характер, обогатила его непредвиденные возможности. Однако такой поворот
мысли разрушил бы так тщательно, «издалека» созданную им концепцию.
*
Проблема глубинной мизансцены основательно освещена в нашей кинолитературе.
Напомню о лекциях Эйзенштейна, опубликованных в IV томе его сочинений, статьях
М. Ромма <0 мизансцене» («Искусство кино», 1948, № 3) и «Глубинная
мизансцена» (в его книге «Беседы о кино», М., 1964), статье С. Юткевича и А.
Карановича «Рождение мизансцены» (в сборнике «Вопросы киноискусства», М.,
1965).
==26
Напомню читателю, что Базен не считал фотографию искусством
и полагал, что она дает безличное изображение, а кинематограф — логическое
завершение этой тенденции в мировой истории искусств. В такой концепции не
остается места для воплощения авторской мысли, авторского отношения к
изображаемому предмету. Для того чтобы подчинить многосложный, многолинейный и
противоречивый процесс развития кино как искусства с заданным тезисом, Базен
устанавливает жесткие ограничения, совсем в духе прокрустова ложа: он считает
пройденным этап монтажного кинематографа; наступает время безмонтажного фильма,
свободного от интерпретации, трактовки, предлагаемой художником своей
аудитории. Приведем формулировку Базена: «Как в области пластического
содержания кадра, так и в области монтажа кино располагало арсеналом средств,
чтобы навязывать зрителю свою интерпретацию изображаемого события. К концу
немого периода этот арсенал был полностью освоен ».
Далее в
этой же статье Базен пишет, что благодаря глубине изображенного в кадре
пространства зритель оказывается по отношению к экрану в положении, более
близко напоминающем его отношение к реальной действительности. Отсюда следует,
что зритель занимает более активную мысленную позицию и более активно
«участвует в режиссуре». Раньше зрителю ничего не оставалось делать, как только
следить за «гидомрежиссером», который производил за него выбор. Здесь же от
собственного внимания и воли зрителя «частично зависит смысл изображения».
Базен
устанавливает трехступенчатую градацию развития кино. На первой ступени оно
обозначало то, что режиссер хотел сказать; в 30-е годы, когда расцвело звуковое
кино, фильм описывал, а сегодня, наконец, «можно сказать, что режиссер непосредственно
пишет в кино». Полностью отдавшись пафосу своих логических построений и мало
заботясь о связях с реалиями кинематографа, из формулы «камера—перо» он делает
такие выводы: «Оригинальность итальянского неореализма по сравнению с главными
предшествовавшими реалистическими школами, включая и советскую школу,
заключается в том, что он не подчиняет действительность какому-либо априорному
взгляду».
==27
Здесь все поставлено с ног на голову. Утверждение об
отсутствии «априорного взгляда» (а это можно понимать и как отсутствие
определенной идеологической позиции) в проникнутом духом антифашизма
итальянском неореализме просто абсурдно, оно, кстати, противоречит и оценкам
самого Базена, сделанным по разным поводам и разбросанным в его статьях в
настоящей книге. Утверждение, что при глубинной мизансцене зритель активен, а
при неглубинной — пассивен, также совершенно несостоятельно. Хорош «пассивный»
зритель, скажем «Броненосца «Потемкин», тот зритель на голландском военном
корабле, который под впечатлением произведения Эйзенштейна поднял революционный
мятеж! Хороша и «пассивность» испанских республиканцев, которые после просмотра
«Чапаева» или «Мы из Кронштадта» шли в бой, подражая героям этих фильмов!
Зритель
немых фильмов не был нейтрален не только в таком, прямо, резко выраженном
проявлении. Расширяя познавательный мир зрителя и читателя, участвуя в
формировании духовной атмосферы общества, удовлетворяя его эстетические
потребности, кино в ряду других искусств в конечном итоге повышало творческую
активность своих аудиторий и тогда, когда глубинные мизансцены не получили еще
широкого распространения.
В
противоположность этому известны некоторые современные картины с преобладанием
глубинных мизансцен, которые совершенно не увлекали зрителя, не превращали его
в «соучастника» авторов, не возбуждали его фантазии. Такова была, например,
участь значительной части фильмов, поставленных в рамках французской «новой
волны», да и некоторых других «волн», сформировавшихся не в результате
истинного творчества, а следования односторонним в своей основе ложным
эстетическим концепциям и модам.
Все
достижения современного мирового киноискусства связаны не с принижением
философской значимости произведений и не с принижением личности художника,
способного наблюдать, волноваться, размышлять, а, напротив, с крайним развитием
тех качеств, которые пренебрежительно именуются «навязыванием интерпретации».
Без интерпретации, а вернее сказать, без авторской страсти, способной захватить
и зрителя
==28
и передать пафос современности, вообще не существует
истинного искусства—ни «старомодного», ни сегодняшнего. Вся эстетическая
«структура» Базена, присоединенная к его же интересным работам, рушится при
первом же прикосновении не то что научного анализа, а просто нормальной
человеческой логики.
Очень
хорошо, что Базен придает большое значение документальности и тому зрительному
впечатлению, которое производит экран на свою аудиторию. Его рассуждения на эти
темы оригинальны и плодотворны. Но совершенно неубедительно стихийное
противопоставление визуальности, пластичности, документальности кинематографа
его внутреннему драматизму. Базен, например, полагает, что «у истоков
«Похитителей велосипедов» лежит исчезновение сюжета».
Развивая
этот тезис, Базен и в конце главы утверждает уже совершенно невероятное:
«Благодаря этому «Похитители велосипедов» стали одним из первых образцов
чистого кино (!). Ни актеров, ни сюжета, ни режиссуры; словом, в идеальной
эстетической иллюзии действительности—никакого кино». И это говорится о
произведении, которое обозначило не упразднение сюжета, а его революционное
обновление, не упразднение режиссуры, а ее видоизменение, не торжество
кинематографических абстракций, а предельное внимание к социальным
конкретностям итальянской действительности. Базен именует «чистым» кино
произведение, которое атакует все «эстетические» установления чернорубашечников
и в то же время выражает антиголливудские настроения мастеров итальянского
неореализма.
В анализе
Базеном фильма «Похитители велосипедов» снова парадоксально проявляется
совмещение несовместимого. С одной стороны, в разборе неореалистических фильмов
он предстает критиком наблюдательным, бесконечно верящим в будущность того
открытия, которое сделано передовыми итальянскими мастерами, с другой — в
эстетических формулировках — столь же легковесным, сколь и недоказательным.
Базен — рецензент фильмов ищет внутренние пружины действия, драматизм мысли,
социальную сердцевину отношений между персонажами, а Базен-эстетик до
неузнаваемости искажает им же найденное, упрощает иные оценки до степени
ходячего стереотипа.
==29
Такого рода противоречия поражают и в рассуждениях Базена о
реализме и об итальянском кино. В статье «Кинематографический реализм и
итальянская школа эпохи Освобождения» Базен, соглашаясь с Садулем, ставит фильм
Росселлини «Пайза» в ряд с выдающимися произведениями мирового кино. С
симпатией он пишет о фильмах Эйзенштейна, Довженко, Пудовкина, критикует «эстетизм
немецкого экспрессионизма» и слащавое идолопоклонство перед голливудскими
кинозвездами. Анализ проблематики деталей драматургии и режиссуры фильма
«Пайза» нужно отнести к лучшим страницам книги. Касаясь рассматриваемого
вопроса мизансцены и монтажа, Базен развивает одно из важнейших положений
книги. Он говорит, что монтажное построение картин, подобных «Гражданину Кейну»
и «Пайза», неторопливое развертывание действия в системе длинных кадров
позволяет зрителю самому различать «драматический спектр», а не следовать за
раскадровкой, выбирающей за нас то, что надлежит увидеть. В этом рассуждении,
правда, есть доля преувеличения, но оно имеет под собой серьезное основание,
тревожит мысль. Любопытны, своеобразны наблюдения критика о композиции кадра
(например, о символической значимости повторов линии горизонта в «Пайза»). Но
как только Базена покидает острая наблюдательность художника-исследователя, он
становится дидактиком, чеканящим эстетические определения, и мы попадаем в мир
наслаивающихся друг на друга недоумении.
Чрезвычайно
вольно обращается Базен с термином «реализм». То он предстает в качестве
«социального», то (в отношении американского романа) в виде коктейля из
«бихевиоризма, техники репортажа и этики насилия» (?!). Уследить за всеми
вариациями «реализма» Базена просто нет никакой возможности. Впрочем, есть две
общие черты в этом калейдоскопе превращений «реализма». Одна—негативная. Базен
не говорит о реализме как творческом методе, отражающем мировоззрение
художника, его классовую позицию.
Другая
общая черта рассуждении Базена дает некоторое представление о том, что же
подразумевается под термином «реализм». Оказывается—степень приближения экрана
к документальности, иллюзия подлинности изображаемого. Так, «усилением реализма
К оглавлению
==30
кино», по Базену, является использование звука, цвета,
объемного изображения. Следуя наивным и достаточно высокомерным ходячим
предрассудкам, он считает кино «наиболее реалистическим из искусств». Говоря,
«реализм», Базен имеет в виду правдоподобие, а не метод искусства. К подобным
терминологическим вольностям можно было бы отнестись снисходительно, если бы за
ними по пятам не следовали неувязки уже более значительные. Отметив подлинные
исторические заслуги итальянского неореализма, Базен пишет, что это
«единственный» кинематограф в мире, «одержимом страхом и ненавистью». Заявления
о единственности итальянского неореализма — неосновательны. Одновременно с ним
нарастал подъем прогрессивного киноискусства на родине Базена — Франции и в
других капиталистических странах. Итальянский неореализм еще переживал свои
лучшие времена, когда советское кино такими фильмами, как «Летят журавли»,
«Баллада о солдате», «Судьба человека», завоевало мировое признание. Почти
одновременно наступила пора расцвета польской школы — кинематографа Вайды,
Мунка, Кавалеровича. Можно ли понять место итальянского неореализма, не
считаясь с развитием искусства в социалистических странах? Приведенный пример
лишний раз показывает ненаучность такого подхода.
Вернемся
к «интерпретации». Базен полагает, что, поскольку искусство уже в своих истоках
сохраняет, консервирует время, оно непреднамеренно и выражает только стихийные
движения души. В частности, стихийна, непреднамеренна пластика кино (в том
числе, следовательно, и жест). Все это не так очевидно и не так элементарно,
как показалось уважаемому французскому критику.
Алексей
Толстой в своей статье «Семь жестов», опубликованной в 1924 году в журнале
«Кинонеделя», издававшемся в Петрограде, размышляет о преднамеренности и
непреднамеренности жеста, обращаясь при этом не только к опыту театра или кино,
но и к самой природе. Ход размышления Толстого таков.
...Сложнейший
человеческий организм повседневно рождает жесты. Волны чувств и ощущений как бы
==31
ежемгновенно кристаллизуются в жестах и замирают в них.
Попробуйте сфотографировать этот жест или попробуйте повторить его на сцене
(что обычно и делают плохие и средние актеры). На фотографии, на сцене такой
жест явится иллюстрацией. Я, зритель, могу даже любоваться им. Но во мне он
никогда не вызовет ту бурю ощущений, результатом которых он явился. Я лишь
констатирую его существование. В огромном большинстве случаев от этих
результативных жестов и происходят чудовищные трафареты в театре и кино.
Алексей
Толстой говорит о существовании и других жестов, которые предшествуют мысли и
чувству,— это первоосновные, звериные жесты. Писатель утверждает, что тетерев
на току особым образом распускает хвост и напыщенной походочкой прохаживается
близ места, где сидит самка. «Я уверяю вас,— пишет Толстой,— что ход мыслей
тетерева в эту минуту совсем не таков: «ага, распущу, мол, я хвост да гордо
пройдусь, ан тетерка и влюбится». Нет... Тетерев распускает хвост и надувается
и от этого своего жеста чувствует прилив любовной отваги. Возьмите саблю,
сильным движением вытащите ее из ножен. За жестом последует воинственная гамма
ощущений...» *.
Мысль
Толстого ведет нас к пониманию многосложности движений, жестов в природе и искусстве
театра и кино.
Трудно
предположить, чтобы Базен не ощущал многозначности жеста, того магнитного поля
ассоциаций, смысловых планов, которые сопровождают действия актера. Но когда он
настаивает на ограничении экрана «описанием» или «писанием», когда он
настаивает на упразднении интерпретации, то это и ведет к уничтожению именно
магнитного поля эмоций и мыслей, составляющего самое драгоценное свойство
искусства.
Многоплановое,
глубинное построение заменяется однолинейным. Сюжет, драматургия повергаются в
бездну. Остается лишь магия «чистой» изобразительности... Этого ли хотел Базен?
К чему
приводит гипертрофия изобразительности в искусстве, мы рассмотрим на некоторых
примерах.
*
Алексей Толстой, Семь жестов. Последняя публикация.— «Литературная газета»,
1970, 29 июля.
==32
За последнее время во многих кинематографиях мира появилась
тенденция, которую условно можно назвать операторским кинематографом. Это
явление не простое и не однозначное. Работы операторов, перешедших в режиссуру,
продемонстрировали и глубокое понимание сущности киноискусства, не сводимого
только к пластике, только к выразительности отдельно взятого кадра. В таких
произведениях, как «Тени забытых предков», творчество режиссера С. Параджанова,
оператора Ю. Ильенко и художников М. Раковского и Г. Якутовича,
экранизировавших Коцюбинского, слилось в органическое целое, взаимодействующее
отдельными своими частями без внутренних трений или несоразмерностей. В картине
«Летят журавли» режиссер и оператор проявляют творческую активность, не приходя
в драматическое столкновение с литературной первоосновой или друг с другом.
После картины «Летят журавли» стали говорить о «кинематографии Урусевского», не
умаляя этим личности и вклада режиссера Калатозова или драматурга Розова. Но
переходы операторов на режиссерское поприще продемонстрировали и примеры
изобразительной односторонности.
Польский
критик Мария Корнатовска в своей статье «Время камеры», напечатанной 6 сентября
1970 года в еженедельнике «Культура» (Варшава), пишет о том, что качество
кинотехники и пластики в последнем десятилетии достигло границы совершенства.
Но есть фильмы, в которых гармония линий, объемов и колорита трактуется как
сущность искусства (совсем по Базену! — И. В.). Многим художникам, отмечает
Корнатовска, создающим фильмы великолепные по съемкам, нечего сказать, и они
пытаются довольно удачно «заслониться фиговым листком технической
виртуозности». Это относится, по мнению Корнатовской, не только к операторам,
но и вообще к тому искусству кино, которое отходит от литературы.
«Операторское
кино», в которое перешли в качестве режиссеров Лелюш, Кутар, Урусевский и
другие, создало свои шедевры, но, узко понятое иными мастерами изобразительного
искусства, оно нанесло «удар по кинодраматургии». Кинопроизведение распалось на
самостоятельные эпизоды, которые рассматривались как операторские этюды на
определенную тему.
==33
Крен в сторону той самой описательности, которой так
восхищался Базен, ограничивает социальный и эстетический кругозор даже тех
зарубежных авторов, которые осуждают буржуазную нравственность и образ
мышления. Так, нашумевшая американская картина «Бонни и Клайд» добросовестна и
выразительна в описаниях, в показе событий из жизни молодых бандитов и
чрезвычайно слаба в анализе. Поэтому (быть может, помимо воли авторов?) в
картине теряется грань между констатацией и осуждением. Талантливая картина
американских кинематографистов «Лошадей тоже убивают, не так ли?» своими
лучшими эпизодами наносит ощутимые удары по философии наживы, господствующей в
США и уничтожающей в человеке человеческое. Но и эта замечательная работа не
лишена греха описательности. Однообразие повторов в отдельных местах картины
принижает ее трагедийное звучание, и только в финале авторы сбрасывают путы
«пишущего» кино и подымаются до трагедии.
Эстетический
«нейтрализм» Базена проявляется еще в одном аспекте проблемы монтажа и
мизансцены. Понятие «монтаж» он в ряде случаев исчерпывает метафорическим,
условно-поэтическим сопоставлением кадров. Это неправильно.
Монтаж
на экране в действительности несет двуединую функцию: информации о моментах
развития действия в их художественной логике и образного воздействия на
зрителя. Образное воздействие достигается не только неожиданными стыками,
сопоставлениями, не только «конфликтами» между кадрами, но и их гармоническими
сочетаниями, а также внутрикадровыми движениями в глубину мизансцены (когда
сопоставляются, взаимно переплетаются несколько планов действия), по
«горизонтали» и по «вертикали» (сочетание изображения с музыкой, диалогом,
закадровым голосом, шумами, песней). Существует монтажная полифония, и
закрывать на нее глаза — невозможно.
Синтез
монтажных средств выразительности в их окончательном виде, на экране,— это до
конца реализованная композиция, заложенная еще в сценарном решении. В свою
очередь монтажная многоплановость (если речь идет о действительном творчестве)
отражает в конечном итоге реальные жизненные связи, определенным образом
осмысленные художником.
==34
Лишите художника этого права и возможности— и от искусства
не останется и следа.
«Если
режиссер,— писал Пудовкин,— не сумеет, пусть интуитивно, проанализировать
явление, которое он хочет снять, не сумеет проникнуть в его глубину, схватить
детали и одновременно понять взаимную связь, сливающую их в органическое целое,
он не сумеет создать ясного и яркого изображения этого явления на экране» *.
Объясняя
причины неудачи «Нетерпимости» Гриффита («неслиянность» четырех эпох,
показанных в этом фильме), Эйзенштейн писал: «...формальная неудача их слияния
в единый образ Нетерпимости есть лишь отражение ошибочности тематической и
идейной... Секрет здесь не профессионально-технический, но
идеологически-мыслительный» **.
Любопытно
еще одно сопоставление: Базен, как мы знаем, усматривал в картине Орсона Уэллса
«Гражданин Кейн» воплощение новых, «геологических» процессов. Но сам-то Орсон
Уэллс, не претендуя на философские обобщения, рассуждая как художник и
мастеровой, отвергает искусственные взгляды на монтаж, глубинный план и роль
интерпретации в современном кино. В журнале «Кайе дю синема» (Париж, 1958, №
84) он писал: «Для моего стиля, для моего понимания кино монтаж не один из
аспектов, а главный аспект... Единственный момент, когда можно осуществить
контроль над фильмом,— период монтажа. Итак, за монтажным столом я работаю
очень медленно, и это всегда приводит к тому, что разгневанные продюсеры
отнимают фильм из моих рук... По-моему, кинопленка подлежит окончательной
интерпретации, как, например, музыкальная партитура, и эта интерпретация
детерминруется посредством монтажа, образно говоря, так же, как один дирижер
интерпретирует данное музыкальное произведение в сухой академической манере,
другой — в романтической и т. д. Изобразительный материал сам по себе
недостаточен... Существенное — это продолжительность
* В. И.
Пудовкин, Статьи о киноискусстве, М., изд. ВГИКа, 1966, стр. 8.
** С.
М. Эйзенштейн, Диккенс, Гриффит и мы.— Сб. «Избранные статьи», М., «Искусство»,
1956, стр. 195.
2*
==35
каждого кадра и то, что за ним следует: в этом заключается
все красноречие кинематографа, и оно создается на монтажном столе».
» » *
Итак,
«нейтрализм» Базена оказывается несостоятельным со всех точек зрения, в любых
полемических аспектах. Среди всех прочих антиподов Базена находится... сам
Базен, когда он далек от невмешательства и нейтрализма.
Тогда
Базен высказывает интересные мысли об эстетических возможностях мизансцены, о
жизненной убедительности монтажных решений, о создании в кинотеатре атмосферы
доверия зрителя к экрану; в лучших своих работах критик сам становится тем
доверительным «собеседником» читателя, каким Базен хочет видеть передового
мастера экрана в отношении своего зрителя.
Базен
импонирует нам, когда темпераментно, убежденно отстаивает необходимость
отражения на экране жизни, ее захватывающих сторон и проявлений, когда говорит
о демократизме кино, о важности «эффекта присутствия», о контакте экрана и
зрителя, когда обличает всяческие проявления фашистской идеологии на экране и
высоко оценивает достижения прогрессивного итальянского, американского,
французского кино, открытия советского кино, когда тонко анализирует общность
театра, кино, литературы, живописи, музыки, критикуя формализм и поверхностность,
когда раскрывает мысль об этической ответственности, взыскательности художника,
о «стыдливости», необходимой на экране из-за чрезвычайной приближенности
изображения к зрителям, его «фотографичности».
Другими
словами, нам понятна и близка демократическая направленность, если хотите —
тенденциозность Базена.
Но он
лишен нейтральности и в другом смысле — когда отдает себя во власть стереотипов
буржуазной журналистики, когда проповедует эстетическое и социальное
«невмешательство», когда кокетничает легковесными и опасно-безответственными
оценками вроде того, что творчество режиссера Ренуара «лишено нравственного
начала (?), что, впрочем, придает ему особое
==36
обаяние» (?!), или что «сны бывают только эротические», или
что драматургия Брессона—это «оборотная сторона лика божьего», или что реализм
заключается «в равном отходе от нравственного пессимизма и нравственного
оптимизма». Все это отталкивает Базена от истинно современного, новаторского в
искусстве кино.
В
русское издание вошли избранные, наиболее ценные работы из наследия Базена,
поэтому не все, о чем говорится в данной статье, включено в книгу. Однако по
этому изданию читатель составит представление о взглядах Базена, его
эстетическом и нравственном облике, о достоинствах, противоречиях и слабостях,
о о том, что связывает и разъединяет эту книгу с современным кино и его
теорией.
Мне
кажется, что творчество Базена дает поразительно наглядный материал для
уяснения одной поучительной закономерности. Базен проницателен, он проникает за
внешнюю оболочку явлений в той мере, в какой связывает свою теоретическую
практику с большими общественными движениями в киноискусстве, которые сложились
в атмосфере Сопротивления,— с итальянским неореализмом, передовым творчеством
мастеров кино Франции.
Но
Базен терпит поражение, становится заурядным и претенциозным всякий раз, когда
отрекается от живительной почвы демократических традиций и поисков, избирает
позу судьи, стоящего над политическими партиями, общественными движениями, эстетическими
противоречиями. Поза — всегда поза. Но что особенно нетерпимо, это когда ее
занимает человек, способный на большее.
Как
отмечали выше, иными своими оценками, формулировками Базен дает нам понять, что
он вне науки, что он просто остается самим собой: откровенным, контактным,
размышляющим. Но кто сказал, что нельзя оставаться самим собой и в то же время
принадлежать истинной науке?! Базен отчетливейшим образом продемонстрировал
безусловный крах позитивистской бескрылости, пресловутого буржуазного «здравого
смысла», кажущегося, быть может, житейски убедительным
==37
, но в сущности своей бессильного объяснить явления. Всей
своей жизнью в искусстве Базен оставляет в душевной памяти читателя чувство
непримиримости к любым пережиткам эпигонского мышления с его страхом перед
научным познанием мира, жертвой которого в некоторой мере стал сам автор книги
«Что такое кино?», и признательность критику за истинное вдохновение,
мастерство, проницательность в анализе сложившихся теоретических проблем
современного киноискусства.
И.
Вайсфельд
==38
00.htm -
glava01
I. ОНТОЛОГИЯ И ЯЗЫК.

==39
ОНТОЛОГИЯ i ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА
Психоанализ
пластических искусств мог бы рассматривать практику мумифицирования как
основополагающий факт их генезиса. В основе живописи и скульптуры можно было бы
обнаружить «комплекс мумии». Египетская религия, целиком направленная на
преодоление смерти, ставила посмертную жизнь в прямую зависимость от
материальной сохранности тела. Таким путем она удовлетворяла одну из исконных
потребностей человеческой психологии — потребность защитить себя от времени.
Смерть — это всего лишь победа времени. Искусственно закрепить телесную
видимость существа — значит вырвать его из потока времени, «прикрепить» его к
жизни2. Отсюда естественное стремление — в самой реальности смерти сохранить
телесную видимость жизни. Первая египетская скульптура — это мумия, человеческое
тело, обработанное едким натром. Но пирамиды и лабиринты не были достаточной
гарантией против нарушения святости гробницы; нужно было принимать
дополнительные меры предосторожности. Поэтому в саркофаг вместе с пищей для
умершего клались глиняные статуэтки — нечто вроде запасных мумий на случай,
если сама мумия будет уничтожена. Здесь перед нами раскрываются религиозные
истоки скульптуры, ее первоначальная функция: спасти существование путем
сохранения внешнего облика. И вне всякого сомнения можно рассматривать как
противоположное выражение того же стремления статуэтку медведя, пронзенную
стрелами, найденную в пещере доисторического человека, эту ритуальную замену
реального животного изображением с целью сделать удачной будущую охоту.
Известно,
что параллельное развитие искусства и цивилизации освободило пластические
искусства от их магических функций (Людовик XIV не требует, чтобы его
мумифицировали, он удовлетворяется портретом Лебрена). Но оно могло только
сублимировать в соответствии с требованиями логической мысли неистребимую
потребность остановить время. Ныне никто уже не верит в онтологическое
тождество модели и портрета, но мы допускаем, что портрет помогает нам помнить
о человеке и спасать его таким образом от второй — духовной смерти. Более того,
создание изображений освободилось
К оглавлению
==40
от всякого антропоцентрического утилитаризма. Теперь уже
речь идет не о посмертной жизни человека, но, в более общем плане, о создании
идеального мира, подобного реальному, но обладающего автономным существованием
во времени. «Какая пустая вещь живопись!» (Паскаль), если только мы не сумеем
различить за нашим нелепым восхищением исконное желание победить время
посредством сохранения нетленности формы! Если история пластических искусств
связана не только с их эстетикой, но и с их психологией, то она предстает перед
нами главным образом как история правдоподобия или, если угодно, история
реализма.
Фотография
и кино, рассмотренные в этой социологической перспективе, могли бы самым
естественным образом объяснить тот великий духовный и технический кризис,
который современная живопись переживает начиная с середины прошлого века.
В своей
статье, опубликованной в журнале «Верв», Андре Мальро писал, что «кино — это
всего лишь самый развитый аспект изобразительного реализма, принцип которого
возник в эпоху Возрождения и нашел свое наиболее полное выражение в живописи
барокко».
Действительно,
мировая живопись достигала различными способами равновесия между символизмом и
реализмом форм, но начиная с XV века западная живопись постепенно перестает
видеть свою первейшую задачу в выражении духовного содержания и переходит к
таким формам, в которых выражение духовного содержания сочетается с более или
менее полной имитацией внешнего мира. Решающим событием вне всякого сомнения
было изобретение первой научной и уже в какой-то мере механической системы —
перспективы («камера обскура» Леонардо да Винчи предвещала фотокамеру Ньепса).
Перспектива позволяла художнику создавать иллюзию трехмерного пространства, в
котором глаз воспринимал предметы так же, как в реальности.
Отныне
живопись разрывалась между двумя стремлениями: собственно эстетическим
(выражение духовных реальностей, когда натура выводится за ее пределы посредством
символизма формы) и психологическим
==41
, связанным со стремлением создать «двойника» видимого мира.
Эта потребность в иллюзии, возрастающая по мере своего удовлетворения,
постепенно целиком подчинила себе пластические искусства. Но поскольку
перспектива разрешила только проблему пластических форм, но не проблему
движения, то реализм получил свое естественное продолжение в стремлении
драматически выразить мгновение, в поисках некоего четвертого психического измерения,
способного вдохнуть жизнь в мучительную неподвижность барочного искусства.
Разумеется, выдающиеся художники всегда осуществляли синтез этих двух
тенденций: одну из них они подчинили другой, обуздав реальность и растворив ее
в искусстве. Тем не менее перед нами продолжают существовать два по сути своей
различных феномена, которые объективная критика должна уметь разделять, чтобы
понять эволюцию живописи. Потребность в иллюзорном сходстве не переставала с
XVI века оказывать на живопись воздействие изнутри. Потребность эта, чисто
психологическая, внеэстетическая сама по себе, восходящая к магическому
мышлению, оказывается очень настоятельной, и воздействие ее глубоко
дезорганизовало равновесие изобразительных искусств.
Споры о
реализме в искусстве проистекают из этого недоразумения, из смешения эстетики и
психологии, истинного реализма, который есть не что иное, как потребность
выразить конкретное и одновременно существенное значение мира, и реализма
ложного, стремящегося обмануть глаз (а также и разум) иллюзорной похожестью
форм. Вот почему средневековое искусство, например, по-видимому, не страдает от
этого конфликта; откровенно реалистическое и вместе с тем высокоодухотворенное,
оно не ведало того драматического противоречия, которое возникло в результате
технических открытий. Перспектива была первородным грехом западной живописи 3.
Ньепс и
Люмьер взяли на себя искупление этого греха. Фотография, покончив с барокко,
освободила пластические искусства от их навязчивого стремления к правдоподобию.
Ибо живопись стремилась — по сути дела, тщетно — создать иллюзию реальности, в
то время как фотография и кино оказались такими открытиями, которые
окончательно и в самых его глубоких
==42
истоках удовлетворяют навязчивое стремление к реализму. Как
бы ни был искусен художник, его творчество всегда несет на себе печать
неизбежной субъективности. А потому изображение ставится под сомнение самим
фактом присутствия человека. Самое главное при переходе от барочной живописи к
фотографии заключено не в простом техническом усовершенствовании (кино еще
долго будет отставать от живописи в передаче цвета), но в психологическом
факте: стало возможным полностью удовлетворить нашу потребность в иллюзионном
сходстве посредством механического репродуцирования, из которого человек
исключен. Решение было заключено не в результате, но в генезисе*.
Вот
почему конфликт между стилем и правдоподобием — это сравнительно недавний
феномен, возникший уже после изобретения фотопластинки. Совершенно очевидно,
что завораживающая объективность Шардена не имеет ничего общего с
объективностью фотографа. Именно в XIX веке начинается действительный кризис
реализма, кризис, который ныне породил миф Пикассо и который поставит под
вопрос и формальные условия существования пластических искусств и их
социологические основания. Освобожденная от комплекса правдоподобия, живопись
предоставляет возможность народу ** выискивать сходство, с одной стороны,
* Следовало бы, однако, изучить психологию второстепенных
пластических жанров, таких, как снятие посмертных масок, потому что и в них
присутствует автоматизм репродуцирования. В этом смысле можно было бы
рассматривать фотографию как муляж, как снятие отпечатка с предмета посредством
света. (Здесь v, далее примечания автора.)
**
Впрочем, разве «народ» как таковой определил существующий ныне разрыв между
стилем и правдоподобием? Скорее уж, этот разрыв связан с возникновением
«буржуазного духа», сводившего искусство к его психологическим категориям и
служившего полюсом отталкивания для художников XIX в. Вот почему фотография не
является прямым историческим преемником барочного реализма, и Мальро
справедливо замечает, что первоначально ее единственной заботой было
«подражание искусству», выражавшееся в наивном копировании живописного стиля.
Ньепс и другие пионеры фотографии стремились с ее помощью подражать искусству
гравюры. Фабриковать произведения искусства, не будучи художниками, посредством
простого калькирования — вот к чему они стремились. Стремление в высшей степени
буржуазное, но оно подтверждает наш тезис и в известном смысле возводит его в
квадрат. Естественно, что первоначально самым достойным предметом для
подражания в глазах фотографа оказ
==43
в фотографии, с другой — в той живописи, которая
подделывается под натуру.
Оригинальность
фотографии по сравнению с живописью заключается в том, что фотография по самой
своей сути объективна. Недаром ведь сочетание линз, образующее «глаз»
фотоаппарата и заменяющее человеческий глаз, называется «объективом». Впервые
складывается такое положение, когда между предметом и его изображением не стоит
ничего, кроме другого предмета. Впервые образ внешнего мира образуется
автоматически, в соответствии со строгим детерминизмом и без творческого
вмешательства человека.
Личное
участие фотографа в этом процессе сводится к выбору, ориентации,
«педагогическому» воздействию на феномен; как бы ни было оно заметно в конечном
результате, оно входит в него совсем на иных правах, чем личность художника.
Все искусства основываются на присутствии человека, и только в фотографии мы
можем наслаждаться его отсутствием. Фотография воздействует на нас, как
«естественный» феномен, как цветок или снежный кристалл, красота которых
неотделима от их растительного или теллурического происхождения.
Этот
автоматизм возникновения фотографического изображения привел к полному
перевороту в психологии зримого образа. Объективность фотографии сообщает ей
такую силу достоверности, которой не обладают произведения живописи. Какие бы
возражения ни выставлял наш критический разум, мы вынуждены верить в
существование представленного предмета, то есть предмета действительно
воссозданного, ибо благодаря фотографии он присутствует во времени и в
пространстве. Фотография заставляет реальность перетекать с предмета на его
репродукцию *. Тщательно выполненный рисунок может сообщить нам больше свелось
произведение искусства: ведь и само оно подражало природе, только «делало
лучше». Потребовалось время для того, чтобы фотограф, ставший в свою очередь
художником, понял, что единственное, что он может копировать,— это природа.
*
Следовало бы также ввести сюда анализ психологии реликвий и «сувениров»,
который также использует механизм перенесения реальности, связанный с
«комплексом мумии».
==44
дений о предмете, но он никогда не будет обладать
иррациональной силой фотографии, которая принуждает нас верить в ее реальность.
Тем
самым обнаруживается техническое несовершенство живописи как средства
репродуцирования. Только объектив может дать нам такое изображение предмета,
которое способно освободить из глубин нашего подсознания вытесненную
потребность заменить предмет даже не копией, а самим этим предметом, но
освобожденным от власти преходящих обстоятельств. Изображение может быть
расплывчатым, искаженным, обесцвеченным, лишенным документальной ценности, но
оно действует в силу своей генетической связи с онтологией изображаемого
предмета; оно и есть сам этот предмет. Вот откуда очарование альбомных
фотографий. Серые или подкрашенные сепией тени, призрачные, выцветшие,— это не
просто традиционные семейные портреты; в них заключено волнующее присутствие
отошедших жизней, остановленных во времени, вырванных из-под власти судьбы,— и
не благодаря возвышенной силе искусства, но с помощью бесстрастного механизма.
Ибо фотография в отличие от искусства не творит из материала вечности, она
только мумифицирует время, предохраняя его от самоуничтожения.
В этой
связи кино предстает перед нами как завершение фотографической объективности во
временном измерении. Фильм не ограничивается тем, что сохраняет предмет,
погружая его в застывшее время, подобно тому как насекомые сохраняются в
застывших каплях янтаря; он освобождает барочное искусство от его судорожной
неподвижности. Впервые изображение вещей становится также изображением их
существования во времени и как бы мумией происходящих с ними перемен4.
Категории*
сходства, характеризующие фотографическое изображение, определяют также его
эстетику по
* Я
употребляю термин «категория» в том значении, которое придает ему А. Гуйе в
своей книге о театре, различая драматические и эстетические категории. Подобно
тому как драматическое напряжение еще не предполагает никакой художественной
ценности, так и совершенство в имитации не идентично красоте; оно составляет
только первичную материю, из которой формируется художественное явление.
==45
отношению к живописи. Эстетические возможности фотографии
заключены в раскрытии реального. Отражение в мокром тротуаре, жест ребенка,— не
от меня зависело различить эти элементы в ткани окружающего мира; только
бесстрастность объектива, освобождая предмет от привычных представлений и
предрассудков, от всей духовной грязи, которая на него наслоилась в моем
восприятии, возвращает ему девственность и делает его достойным моего внимания
и моей любви. На фотографии — этом естественном отражении мира, который мы не
умели или не могли увидеть,— природа не подражает искусству, но делает гораздо
большее: она подражает художнику.
И она
может даже превосходить его своей творческой силой. Эстетический мир,
создаваемый художником, неоднороден с окружающим миром. Рама картины замыкает в
себе микрокосм, по материалу и по сути своей отличный от того, что его
окружает. Что же касается сфотографированного предмета, то его существование
зависит от существования модели, являясь снимком с него, наподобии отпечатка
пальцев. Тем самым фотография продолжает процесс естественного творчества,
вместо того чтобы подменять его творчеством художественным.
Сюрреализм
угадал возможности фотографической пластики, обратившись к ней для создания
своей пластической тератологии. Дело в том, что для сюрреализма эстетическая
цель неотделима от механического воздействия изображения на наше восприятие.
Логическое разделение между воображаемым и реальным имеет тенденцию к
исчезновению. Каждый образ должен восприниматься как предмет, а каждый предмет
как образ. Фотография была поэтому излюбленной техникой сюрреалистов, поскольку
она дает образ, который в ти же время принадлежит к самой природе — нечто вроде
галлюцинаций, имеющих реальную основу. Обратным результатом того же стремления
является скрупулезная точность деталей, создающая в сюрреалистской живописи
полную зрительную иллюзию.
Появление
фотографии оказывается, таким образом, самым важным событием в истории
пластических искусств. Будучи в одно и то же время освобождением и завершением,
она помогла западной живописи покончить с навязчивым стремлением к реализму и
==46
вновь обрести свою эстетическую автономию. «Реализм»
импрессионистов, несмотря на свои научные претензии, выступает как антипод
зрительной иллюзии. Цвет потому и смог разложить форму, что функция подражания
была ею утрачена. Затем, в творчестве Сезанна, форма вновь станет
господствовать, но она уже не будет опираться на геометрическую иллюзию
перспективы. Механическое изображение противопоставило себя живописи, выступив
как ее конкурент во всем, что касалось не только барочного правдоподобия, но и
подлинности модели,— и тем самым принудило живопись также превратиться в
предмет.
Отныне
паскалевское осуждение живописи утрачивает свой смысл, ибо, с одной стороны,
фотография позволяет нам восхищаться изображением вещей, которые сами по себе
не привлекли бы нашего взгляда, живопись же восхищает нас как чистый предмет,
уже не требующий, чтобы его соотносили с природой.
С
другой стороны, кино — это язык5.
«Problemes de la peinture», 1945
^^^ МИФ
ТОТАЛЬНОГО КИНО
Замечательная
книга Жоржа Садуля*, посвященная истокам кино, показывает нам — парадоксальным
образом и вопреки точке зрения автора — обратную зависимость между
технико-экономической эволюцией и воображением изобретателей. Все будто нарочно
происходило так, чтобы перевернуть историческую причинность, идущую от
экономического базиса к идеологическим надстройкам, и побудить нас видеть в
крупнейших технических открытиях результат счастливого стечения благоприятных
обстоятельств, имеющих, однако, лишь сугубо второстепенное значение по
отношению к первоначальному замыслу изобретателей. Кино — идеалистический
феномен. Его идея существовала в совершенно готовом виде в человеческом мозгу
* Ж. С
а д у л ь, Всеобщая история кино, т. I, M., «Искусство», 1958.
==47
— как на платоновском небе, и более всего нас поражают не те
импульсы, которые воображение исследователей получало от технических
изобретений, но упорное сопротивление материи идее 1.
Таким
образом, кино почти ничем не обязано духу научного исследования. Не ученые
являются его отцами. (Исключение составляет лишь Марей, но характерно, что
Марей интересовался лишь разложением движения на фазы, а не обратным процессом,
который позволил бы синтезировать движение из неподвижных фаз.) Даже Эдисон — этот,
в сущности, гениальный, изобретатель-кустарь — гигант среди участников конкурса
Лепйна. Ньепс, Мэйбридж, Леруа, Жоли, Демени, сам Луи Люмьер — это одержимые,
чудаки, изобретатели-кустари или, самое большее, изобретательные
предприниматели. Что касается чудесного и возвышенного Эмиля Рейно, то кому же
не ясно, что его движущиеся рисунки возникли как результат навязчивой идеи?
Вряд ли можно объяснить открытие кино исходя из его технических предпосылок.
Напротив, мы видим, как неполное и усложненное осуществление замысла почти
всегда предшествует тем промышленным открытиям, которые одни только и могли
сделать возможным практическое применение идеи. Так, сегодня нам кажется
очевидным, что кино, даже в самой своей элементарной форме, предполагает в
качестве технических предпосылок наличие гибкой, прочной и прозрачной
целлулоидной основы и сухой эмульсии, способной мгновенно фиксировать
фотографическое изображение (все остальное — лишь механизм, гораздо менее
сложный, чем часы XVIII в.). Однако легко заметить, что все главные этапы
изобретения кино были пройдены до того, как были созданы эти технические
условия. Мэйбридж, чтобы удовлетворить свою прихоть любителя скаковых лошадей,
не останавливается перед затратами я строит в 1877 году огромный технический
комплекс, который позволил запечатлеть последовательные фазы движения скачущей
лошади и создать таким образом первую кинематографическую серию. При этом
Мэйбридж располагал только влажным коллоидным раствором на стеклянных
пластинках (иначе говоря, ему удалось осуществить только одно из трех
технических условий: мгновенный фотографический эффект, сухая эмульсия, гибкая
целлулоидная
==48
основа). После открытия в 1880 году сухой эмульсии из солей
бромистого серебра, но до появления в продаже первых мотков целлулоидной ленты
Марей конструирует свое фотографическое ружье— настоящую кинокамеру со
стеклянными пластинками Наконец, уже после того как существовали фильмы нэ
целлулоидной основе, Люмьер пытался создать фильм на бумажной ленте.
Выше мы
рассматривали фотографическое кино только в его развитой и окончательной форме.
Для того чтобы осуществить синтез фаз движения, впервы" научно
обоснованный Плато, не было нужды дожидаться промышленного и экономического
развития конца XIX века. Как справедливо замечает Ж. Садуль, ничто не
препятствовало постройке фенакистоскопа или зоотропа еше во времена античности.
Конечно, именно работы Плато дали толчок многочисленным техническим
изобретениям, позволившим применить движущееся изображение к народным нуждам.
Но если в применении к фотографическому кино мы имеем основания удивляться
тому, что его изобретение в какой-то мере предшествует необходимым техническим
условиям, то, рассматривая вопрос в более далекой исторической перспективе,
следовало бы объяснить, почему при наличии в течение столь долгого времени всех
необходимых условий (ведь сохранение сетчаткой глаза остаточного изображения —
давно известный факт) изобретение кино столь медленно подвигалось к своему
завершению. Быть может, небесполезно будет заметить, что без всякой научно
необходимой связи работы Плато более или менее совпадают по времени с работами
Нисефора Ньепса; как будто, для того чтобы заинтересоваться синтезом движения,
мысль исследователей на протяжении веков ожидала именно того момента, когда —
совершенно независимо от оптики — химия, со своей стороны, займется проблемой
автоматической фиксации изображения *. Я особенно настаиваю на том факте, что
это историческое совпадение, по-видимому, * Египетские фрески и барельефы свидетельствуют
о стремлении не столько к синтезу, сколько к анализу движения. Что касается
автоматов XVIII в., то они относятся к кино так же, как живопись к фотографии.
Как бы там ни было, даже если автоматы времен Декарта и Паскаля предвосхищают
машины .XIX в , то явление это аналогично стремлению создать точную зрительную
иллюзию в живописи: то и другое порождено обостренным влечением к жизнеподобию.
Но техника зрительной иллюзии ни на шаг не продвинула оптику и фотографическую
химию, она, если можно так выразиться, передразнивала их, забегая вперед.
==49
не может быть объяснено научной эволюцией — экономической
или промышленной. Фотографическое кино могло бы с таким же успехом развиться в
1890 году на основе фенакистоскопа, придуманного уже в XVI веке. Опоздание с
изобретением кинематографа столь же загадочно, сколь и наличие у него
предшественников.
Но если
теперь мы рассмотрим внимательнее работы этих предшественников, вникнем в смысл
как самих их технических изобретений, так и в смысл их писаний и комментариев,
то убедимся, что перед нами не столько даже предшественники, сколько пророки.
Почти все они, перескакивая через этапы (первый из которых был для них просто
технически неосуществим), стремились к непосредственному осуществлению самой
высокой задачи. Их воображение отождествляет кинематографическую идею с
тотальным и целостным воспроизведением реальности; они хотят сразу создать
совершенное подобие внешнего мира — в звуке, цвете и объеме.
В
отношении объема один историк кино, П. Потонье, решился даже утверждать, что
«именно изобретение стереоскопического изображения (получившее коммерческое
распространение в 1851 г.) незадолго до первых опытов с движущейся фотографией
открыло глаза исследователям. Увидев неподвижные фигуры в пространстве,
фотографы поняли, что, для того чтобы быть точной копией природы, этим фигурам
не хватало только движения». Во всяком случае, не было такого изобретателя,
который не стремился бы сочетать звук и объем с движущимся изображением. Это
относится и к Эдисону, который хотел снабдить фонографом и наушниками свой
кинетоскоп, предназначенный для инДивидуального
Впрочем,
техника зрительной иллюзии, как указывает само слово («trompe-l'oeil» — «обман
зрения»), связана скорее с иллюзией, чем с реализмом, то есть, скорее с
обманом, чем с истиной. Статуя, написанная на стене, должна была казаться
стоящей на пьедестале в пространстве. В известной мере к этому же стремилось на
первых порах и кино, но эта спекулятивная функция быстро уступает место
онтогенетическому реализму (см. статью «Онтология фотографического образа»).
К оглавлению
==50
пользования; и к Демени с его говорящими портретами; и даже
к Надару, который, незадолго перед тем, как осуществить свой первый
фоторепортаж, писал: «Моя мечта—чтобы фотоаппарат фиксировал все позы, все
изменения в выражении лица оратора, в то время как фонограф будет записывать
его слова» (февраль 18tf7 г.). И если о цвете пока еще нет речи, то это лишь
потому, что первые опыты с трехслойкой относятся к более позднему времени. Но
Э. Рейно уже давно раскрашивал свои фигурки, и первые фильмы Мельеса раскрашены
от руки. Существует много более или менее бредовых текстов, в которых
изобретатели рисуют облик интегрального кино, дающего полную иллюзию
реальности, от практического осуществления которого мы и сейчас еще далеки.
Известна страница из «Евы будущего», где Вилье де ЛильАдам, за два года до того
как Эдисон предпринял свои первые изыскания в области движущейся фотографии,
приписывает ему следующее изобретение: «Прекрасный призрак, чудесно
сфотографированный, в покрытой блестками юбочке, танцевал какой-то мексиканский
народный танец. Движения были полны жизни благодаря непрерывным фотографическим
снимкам на ленте длиною в шесть локтей, которая могла схватить движения ее в
течение десяти минут и запечатлеть на микроскопических стеклах... Вдруг
послышался неестественный пошлый голос—это танцовщица выкрикивала «гей» и
«хода» своего фанданго» *.
Таким
образом, изобретение кинематографа направлялось тем же самым мифом, который
подспудно определял все остальные разновидности механического воспроизведения
реальности, увидевшие свет в XIX веке,— от фотографии до фонографа. Это — миф
интегрального реализма, воссоздающего мир и дающего такой его образ, который
неподвластен ни свободной интерпретации артиста, ни необратимому ходу времени.
Если кинематограф при своем рождении не обладал всеми атрибутами тотального
кино, то лишь потому, что феи, стоявшие у его колыбели и стремившиеся оделить
его всеми дарами, были недостаточно сильны в техническом отношении.
1.
Вилье де Лиль-Адам, Ева будущего, ч. U, М., 1911, стр.33—34.
==51
Если верно, что происхождение искусства проливает свет на его
природу, то позволительно рассматривать немое и звуковое кино как два этапа
единого технического развития, мало-помалу приближающие кино к исходному мифу
исследователей. В этой перспективе становится понятным, сколь нелепо видеть в
немом кино некое первоначальное совершенство, которому реализм звука и цвета
наносит непоправимый ущерб. Примат изображения — факт исторически и технически
случайный, и тоска по немому экрану восходит к не слишком далекому детству
кинематографа, в то время как подлинные кинопримитивы, существовавшие лишь в
воображении нескольких десятков людей XiX века, были направлены на целостное
подражание природе. Все последующие усовершенствования — ив отом заключается
парадокс — лишь приближали кино к его истокам. Кино еще не изобретено!
Вот
почему при всем том, что научные и промышленно-технические открытия играют
столь большую роль в развитии кино, видеть в них исходный толчок к его
изобретению значило бы переворачивать порядок причинных связей, во всяком
случае, с психологической точки зрения. Как раз менее всего верили в будущее
кино как искусства и даже как промышленности два предпринимателя — Эдисон и
Люмьер. Эдисон удовлетворился кинетоскопом для индивидуального пользования,
Люмьер же, хотя и отказался под весьма хитроумным предлогом продать патент
Мельесу и счел более выгодным самому эксплуатировать свое изобретение, смотрел
на него как на игрушку, которая рано или поздно надоест публике. Что касается
настоящих ученых, каким был Марей, то они обращались к кино лишь эпизодически и
ради достижения иных научных целей. Фанатики и маньяки, бескорыстные пионеры
кино, способные, как Бернар Палисси, сжечь свою мебель ради нескольких секунд
дрожащей проекции на самодельном экране, не были ни предпринимателями, ни
учеными, но людьми, одержимыми воображением. Кинематограф появился благодаря
стечению их навязчивых идей, порожденный мифом — мифом тотального кино. Этим
объясняется и то опоздание, с которым Плато сделал практические выводы из факта
остаточного изображения на сетчатке глаза, и то, почему синтез движения все
время обгонял развитие фотогра
==52
фической техники. И в том и в другом случае все определяло
воображение века. Конечно, в истории техники и изобретений можно найти и другие
примеры совпадения открытий, но следует различать те из них, которые явились
результатом научной эволюции и промышленных (или военных) потребностей, и те,
которые, судя по всему, этой эволюции и этим потребностям предшествовали. Так,
древний миф об Икаре должен был дожидаться двигателя внутреннего сгорания, дабы
спуститься наконец с платоновского неба. Но он существовал в душе каждого
человека с тех пор, как человек увидел птицу. В известной мере то же самое
можно сказать и о мифе кино. Но его превращения вплоть до XIX века имели лишь
отдаленное отношение к тому мифу, в создании которого мы участвуем сегодня и
который был движущей силой в возникновении механических искусств,
характеризующих современный мир.
«Critique»,
1946
^^^ ПО ПОВОДУ
ФИЛЬМА «ПОЧЕМУ МЫ СРАЖАЕМСЯ?»
Апокалипсис
минувшей войны вызвал решительную переоценку возможностей документального
репортажа. Ведь во время войны реальные события имели небывалый размах и
значение. Они складывались в такую колоссальную постановку, по сравнению с
которой декорации «Антония и Клеопатры» или «Нетерпимости» напоминают реквизит
провинциальной театральной труппы. Но то была реальная постановка, и она не
повторялась дважды. И драма тоже разыгрывалась «взаправду», ибо ее участники
действительно умирали на поле боя под взглядом кинокамеры, как некогда умирали
гладиаторы на арене цирка. Современный мир умудряется экономить на войнах,
используя их дважды: и для истории и для кино, подобно тому как не очень
добросовестный продюсер снимает два фильма в одних и тех же декорациях. В
данном случае мир прав. Война, с ее горами трупов, огромными разрушениями,
переселением бесчисленных толп, концлагерями и атомными бомбами, оставляет
далеко позади воображение
==53
всякого, кто захотел бы все это воспроизвести еще раз.
Увлечение
военным репортажем связано, как мне кажется, с целым рядом требований
психологического и, быть может, морального порядка. Ничто не может сравниться
для нас с неповторимым событием, запечатленным в момент его свершения. Театр
военных действий имеет перед обычным театром то несравненное преимущество, что
пьеса создается по ходу спектакля. Это как бы комедия дель арте, в которой сама
канва действия все время ставится под вопрос. Что касается средств, пущенных в
ход, то нет никакой нужды подчеркивать их небывалую силу. Они достигают
космических масштабов, и только землетрясения, извержения вулканов, наводнения
и конец света могут выдержать сравнение с ними. Я говорю это без иронии, ибо не
сомневаюсь, что первый выпуск киножурнала «Хроника вечной жизни» будет посвящен
Страшному суду, по сравнению с которым Нюрнбергский процесс будет выглядеть
примерно так же, как «Выход рабочих с фабрики» Люмьера.
Если бы
я был пессимистом, я добавил бы сюда психологический фактор фрейдистского
толка; я назвал бы его «комплексом Нерона» и связал бы с тем удовольствием,
которое доставляет человеку зрелище разрушения городских сооружений. Если бы я
был оптимистом, я ввел бы моральный фактор, о котором уже упомянул выше,
говоря, что жестокость и насилия войны воспитали в нас уважение и почти что
культ по отношению к реальному факту, делающему всякое, даже добросовестное,
воспроизведение сомнительным, непристойным и святотатственным.
Но
военный репортаж отвечает иной потребности, которая и объясняет его
повсеместное распространение. Влечение к хроникальности, сопряженное с
влечением к кино,— это не что иное, как выражение присущего современному
человеку стремления присутствовать при свершении Истории, с которой он
нерасторжимо связан как политической эволюцией, так и техническими средствами
связи и разрушения. Эпоха тотальных войн — это неизбежно и время тотальной
Истории. Правительства прекрасно это поняли, вот почему они стремятся с помощью
кинохроники запечатлеть для нас все свои исторические деяния, подписание договоров,
все
==54
возможные встречи на высшем уровне и т. д. А поскольку
История — не балет, где все расчислено заранее, то люди стараются разместить на
ее пути как можно больше кинокамер, чтобы с тем большей уверенностью настигнуть
историческое событие. Недаром воюющие нации предусмотрели кинематографическое
оснащение своих армий наряду с оснащением военным. Оператор сопровождал
бомбардировщик во время вылета, десант во время высадки. Вооружение истребителя
включало автоматическую кинокамеру, помещенную между двумя пулеметами. Оператор
подвергается такому же риску, как и солдаты, смерть которых он должен
сфотографировать с опасностью для собственной жизни (но какое это имеет
значение — пленка-то останется!). Планирование большинства военных операций
включало тщательную кинематографическую подготовку. Кто может сказать,
насколько чисто военная целесообразность отличается от ожидаемого зрелищного
эффекта? В одной из своих лекций о документальном кино Роже Леенхардт высказал предположение,
что когда-нибудь полковник Хэмфри Богарт или сержант Спенсер Трэси, исполняющие
свои собственные роли, станут протагонистами какого-нибудь большого
полудокументального репортажа, воссоздающего те военные операции, в которых они
действительно участвовали с риском для жизни. Мне возразят, что до этого дело
еще не дошло. Но подумайте об атомной бомбардировке атолла Бикини. Только
избранные были допущены присутствовать при этом зрелище (наподобие тех
немногих, кто непосредственно участвует в телевизионных репортажах); но
одновременно многочисленные кинокамеры запечатлели для нас с вами сенсационный
момент. Подумайте также о Нюрнбергском процессе, который целиком происходил при
свете юпитеров, как сцена суда в каком-нибудь полицейском фильме.
Мы живем
в мире, где скоро не останется ни одного уголка, куда не заглянул бы глаз
кинокамеры. Это — мир, стремящийся непрерывно снимать слепки со своего
собственного лица. Документальные кадры, отснятые десятками тысяч камер,
ежедневно обрушиваются на нас с сотен тысяч экранов. Кожа Истории шелушится,
превращаясь в кинопленку. Какой-то киножурнал до войны назывался «Мировое око».
Это название
==55
уже не кажется претенциозным теперь, когда бесчисленные
объективы на всех перекрестках событий высматривают забавные, живописные или
ужасные приметы нашей судьбы.
Можно
сказать, что среди американских картин, вышедших на французские экраны сразу же
после войны, безоговорочным признанием пользовались только фильмы серии «Почему
мы сражаемся?». Их заслуга заключалась не только в том, что в искусство
пропаганды они внесли новый тон — умеренный, убедительный, лишенный крайностей,
поучающий и привлекающий одновременно; составленные из одних только
документальных кадров, они умудрялись к тому же быть захватывающими, как
полицейский роман. Я думаю, что историк кино может усмотреть в этой серии
рождение нового жанра: идеологического кинодокумента. создаваемого средствами
монтажа. Разумеется, использование монтажа не было новостью. Немецкие и советские
мастера монтажа давно уже показали его возможности в области документального
кино, но фильмы Фрэнка Капры отмечены двойной оригинальностью. Ни один из
кадров, их составляющих (за исключением нескольких раккордов), не был снят
специально для этих фильмов. Монтаж здесь имеет целью не столько показывать,
сколько доказывать. Перед нами абстрактные, чисто логические построения,
пользующиеся, как это ни странно, самыми конкретными историческими документами
— кинохроникой. Трудно представить себе более совершенное доказательство того,
что монтаж исторических документов, сделанный a posteriori и для достижения
иных целей, может по своей гибкости и точности приближаться к языку. Лучшие
документальные ленты мирового кино были только рассказами, а эти фильмы напоминают
речи.
Серия
«Почему мы сражаемся?» (как и несколько других документальных фильмов
американского и русского производства) стала возможна благодаря наличию
огромного количества хроникального материала, накопленного в результате
официально санкционированной охоты за событиями. Чтобы сделать эти фильмы, надо
было располагать огромными богатствами международных киноархивов, где хранится
столь полная
==56
и интимная информация об исторических событиях, как,
например, знаменитый «танец скальпа» Гитлера в Ретонде. Можно сказать, что идеи
Дзиги Вертова о «киноглазе» начинают подтверждаться в таком смысле, о котором и
не подозревал советский теоретик. Единственная камера русского охотника за
кадрами не могла стать вездесущей и доставить нам такой улов, который мы
получаем сегодня благодаря всей разветвленной сети современного документального
кино.
Фильмы
серии «Почему мы сражаемся?» были удостоены заслуженных похвал как за
кинематографические, так и за политические достоинства. Но мне кажется, что не
был с достаточной тщательностью проанализирован сам интеллектуальный и
психологический механизм их педагогического воздействия. Между тем механизм
этот требует самого пристального к себе внимания, ибо его главный принцип кажется
мне в высшей степени опасным для будущего человеческого разума и составляющим
важное звено в истории насилия над массами.
Принцип
такого рода документальных фильмов состоит в том, что кадрам придается
логическая структура ораторской речи, а сама эта речь приобретает достоверность
и очевидность фотографического изображения. У зрителя возникает иллюзия, будто
перед ним бесспорное в своей очевидности доказательство, в то время как в
действительности это — лишь серия двусмысленных фактов, сцементированных только
словами комментатора. Главное в этом фильме не изображение, а звуковая дорожка.
Быть может, мне возразят, что в этом нет ничего нового и что любой
«педагогический» фильм — это всегда иллюстрация к тексту? Я думаю, что это не
так и что в любом случае господствует либо изображение, либо речь.
Документальный фильм о рыбной ловле тралом или о постройке моста показывает и
объясняет. В этом нет никакого интеллектуального подлога. Слово и изображение
сохраняют свою собственную и независимую друг от друга ценность. Фильм же Капры
основан на совершенно обратном соотношении. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что
речь здесь идет не о содержании, а о методе. Я не ставлю под сомнение ни
обоснованность аргументов, ни право автора убеждать зрителей, я оспариваю толь ко
законность избранного им приема. Эти фильмы, кс
==57
торым обеспечен благосклонный прием уже в силу того, что они
апеллируют к логике, к разуму, к очевидности фактов, в действительности
основаны на серьезном смешении ценностей, на злоупотреблении психологическими
законами убеждения и восприятия. Можно было бы детально проанализировать
некоторые эпизоды, как, например, эпизод битвы под Москвой (третий фильм
серии). Комментарий ясно излагает факты: отступление русских, продвижение
немцев, сопротивление русских, стабилизация фронта на последних рубежах,
русское контрнаступление. Совершенно очевидно, что битву такого масштаба нельзя
было заснять целиком. Речь идет об отдельных, весьма отрывочных кадрах. Работа
режиссера состояла главным образом в том, что он подбирал из немецкой хроники
кадры, способные создать впечатление победоносного наступления: быстрые марши
пехоты, движущиеся танки, трупы русских в снегу — причем не было даже никакой
уверенности, что эти кадры действительно сняты под Москвой. Затем для
изображения русского контрнаступления подбирались впечатляющие кадры,
показывающие движение мощных масс пехоты в направлении, противоположном ранее
показанному движению немецких частей. Ум зрителя воспринимает все эти по видимости
конкретные элементы абстрактной схемы и воссоздает идеальный образ сражения, и
в то же время у него возникает иллюзия, будто он видел эту битву воочию, словно
некую дуэль. Я нарочно выбрал эпизод, где эта конкретная схематизация была
неизбежна и вполне оправдана, поскольку немцы и в самом деле потерпели
поражение. Но достаточно подвергнуть этот прием экстраполяции, и станет ясно,
что таким путем можно убедить зрителей, будто они видят воочию события, на
самом деле являющиеся вымышленными и склеенными из чего попало. Мне скажут, что
гарантией нам может служить нравственная честность авторов. Но эта честность
соблюдена лишь в отношении конечных целей, между тем как сама структура
избранных средств ставит эти цели под сомнение.
Кадры,
использованные в этих фильмах, являются как бы сырыми историческими фактами*.
Мы, не задумываясь
Но и это не бесспорно. С чисто британским юмором Джон
Грирсон недавно рассказал (в газетах от 13 октября 1958 г.),
==58
верим фактам, хотя современная критика достаточно
убедительно доказала, что они имеют лишь тот смысл, который вкладывает в них
человеческий разум. До изобретения фотографии, когда «исторический факт»
восстанавливался по документам, разум и язык вмешивались дважды: в процессе
реконструкции события и в самом его историческом истолковании. С помощью кино
мы можем приводить факты в их, так сказать, первозданном виде. Способны ли эти
факты свидетельствовать о чем-либо, помимо самих себя, помимо своей собственной
истории? Я лично думаю, что кино своим реализмом не только не помогает
историческим наукам сделать новый шаг к объективности, но, напротив, дает им
новые возможности создания иллюзии. Невидимый комментатор, о котором забывают
зрители, смотрящие замечательные монтажные фильмы Капры,— это и есть историк
завтрашнего дня, создающий для толп чудовищные инсценировки, воскрешающий по
своему желанию лица и события, накапливающиеся в киноархивах всего мира.
«Esprit»
', 1946
^^^ СМЕРТЬ
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Пьер
Браунберже недаром так долго вынашивал идею этого фильма. Результат показывает,
что игра стоила свеч. Возможно, Пьер Браунберже, утонченный «аффисионадо»,
страстный любитель и знаток корриды, видел во всем этом предприятии лишь
возможность прославить любимое искусство тавромахии и одновременно снять фильм,
о котором не пришлось бы жалеть продюсеру. По всей вероятности, с коммерческой
точки зрения фильм «Бой быков» (1951) оказался очень удачным — заслуженно
удачным! — предприятием, ибо все любители боя быков ринутся его смотреть, а
люди несведущие пойдут из любопытства. Думаю, что зрители не будут
разочарованы: документальные
что
именно он был автором знаменитого танца Гитлера в Ретонде. Гитлер ограничился
тем, что поднял ногу. Повторив этот кадр несколько раз, знаменитый английский
документалист заставил Гитлера сплясать сатанинскую жигу, ставшую
«историческим» фактом.
==59
съемки великолепны. В фильме можно увидеть, как работают
знаменитые тореро, а то, как подобраны и смонтированы куски, резко усиливает их
воздействие. Надо было иметь в своем распоряжении огромное количество
фильмоматериалов, связанных с боем быков, чтобы восстановить зрелище с такой
полнотой, Многочисленные планы, демонстрирующие мастерство прославленных
тореро, различные фигуры и заключительные удары сняты практически без купюр,
хотя длятся иногда по нескольку минут, причем камера все время держит человека
и быка на среднем плане, а иногда переходит даже на американский план. Когда же
в кадре появляется крупным планом голова быка, можете быть уверены, что это не
чучело.
Не
исключено, что в моем восхищении я оказался жертвой таланта Мириам', которая
монтировала фильм. Она смонтировала документы с таким дьявольским мастерством,
что лишь при особом напряжении внимания удается заметить, что бык, врывающийся
в кадр слева, не всегда бывает тем же самым быком, который только что исчез за
правой кромкой кадра. Надо было бы просмотреть фильм на мовиоле для того, чтобы
с уверенностью определить, где перед нами подлинная съемка и где эпизод,
составленный из различных кусков,— настолько мастерски сделаны переходы от
одного плана к другому. «Вероника», начатая одним матадором, завершается другим
матадором и другим быком — так, что вы не замечаете подмены. Со времени «Романа
шулера» и «Парижа, 1900» мы были уверены в большом таланте Мириам. Фильм «Бой
быков» подтвердил еще раз ее талант и показал, что на определенном уровне
искусство монтажера выступает как важнейший художественный компонент фильма.
Можно было бы многое сказать о монтажных фильмах такого рода. Речь идет о
чем-то совсем ином, чем возвращение к преобладанию монтажа над раскадровкой,— в
том виде, как это имело место в раннем советском кино. «Париж, 1900» или «Бой
быков» — это не «киноглаз», а произведения «современные», стоящие по своей
эстетической концепции рядом с «Гражданином Кейном», «Правилами игры»,
«Лисичками» или «Похитителями велосипедов». Цель монтажа состоит здесь не в
том, чтобы устанавливать абстрактные и символические отношения между кадрами,
как то делал Кулешов
К оглавлению
==60
в своем знаменитом опыте- с крупным планом Мозжухина. Если
даже феномен, открытый Кулешовым, играет какую-то роль в этом неомонтаже, то он
целиком подчинен другой цели: помочь раскадровке обрести физическую
достоверность и одновременно — логическую подвижность. План обнаженной женщины
и следующая за ним двусмысленная улыбка мозжухина означали вожделение. Более
того, отвлеченное ячячение в какой-то мере даже предшествовало физическому
выражению: план обнаженной женщины 4+ план улыбки = вожделению. Конечно,
зарождение желания предполагает логически, что мужчина смотрит на женщину. Сам
этот вывод почти излишен, и для Кулешова он имел второстепенное значение;
главным для него был тот смысл, которым наделялась улыбка в результате
столкновения планов, В нашем же случае цель совершенно иная: Мириям стремится
прежде всего к физическому реализму. Жульничество монтажа помогает
достоверности раз-кадровки. Соединение двух планов, запечатлевших двух разных
быков, нужно не для того, чтобы символизиоовать мощь быка, но чтобы перед
нашими глазами возник некий реальный, хотя в действительности и не
существующий, бык. Только опираясь на реализм, монтажер наделяет свой монтаж
смыслом, подобно тому как режиссер делает то же самое, опираясь на раскадровку.
Это не «киноглаз», но приспособление техники монтажа к эстетике камеры-пера 3.
Вот
почему для людей, подобно мне, ничего не смыслящих в бое быков, этот фильм
может служить пособием. ясным и полным, насколько это вообще возможно. Ибо
материалы здесь смонтированы не по принципу зрелищности, но по принципу ясности
и необходимости. В изложении истории боя быков, в эволюции стиля матадоров до
Бельмонте и после него использованы все возможности дидактического кино.
Например, при воспроизведении одной из фигур кадр останавливается в решающий
момент и комментатор объясняет взаимное расположение человека и животного. Не
имея в своем распоряжении эпизодов, снятых рапидом, Пьер Браунберже прибег к
приему стоп-кадра, и результат оказался столь же эффективным.
Разумеется,
сами дидактические достоинства этого фильма определяют и его ограниченность —
так, во
==61
всяком случае, кажется на первый взгляд. Замысел здесь не
столь грандиозен и всеобъемлющ, как у Хемингуэя в «Смерти после полудня». «Бой
быков» может показаться большим и захватывающим документальным фильмом, но в
конце концов — всего лишь «документальным». Однако подобная оценка была бы
несправедлива и ошибочна. Ибо скромность педагогической установки автора — это
не столько ограниченность, сколько самоограничение. Перед величием сюжета,
перед богатством материала Пьер Браунберже решил быть скромным; дикторский
текст в фильме только поясняет, ибо всякое поползновение на словесное выражение
лиризма было бы убито лиризмом самих кадров. Что же касается сюжета (предмета
изображения), то он несет в себе возможность выхода за собственные пределы —
потому-то в кинематографическом плане замысел Пьера Браунберже, может быть, гораздо
более значителен, чем это кажется.
Опыт
заснятых на пленку театральных спектаклей — и его почти полный провал, пока
недавние успехи не поставили проблему заново,— заставил нас осознать значение
реального присутствия. Мы знаем, что театральный спектакль, будучи заснят на
пленку, предстает перед нами лишенным своей психологической реальности, как
тело без души. Взаимное присутствие, живое соприкосновение зрителя и актера —
это не просто случайное физическое явление, но онтологический факт, определяющий
сущность спектакля как такового. Исходя из этой теоретической посылки, равно
как и из практического опыта, можно было бы сделать вывод, что бой быков еще
менее кинематографичен, чем театральный спектакль. Если реальность театрального
зрелища не может быть запечатлена на пленке, то что же сказать о трагедии
борьбы человека и быка, с ее литургической стороной и сопутствующим ей почти
религиозным чувством? Ее фотографическое изображение может обладать
документальной или дидактической ценностью, но как может оно передать главное:
взаимодействие внутри мистического треугольника — между животным, человеком и
толпой?
Я
никогда не присутствовал на бое быков и не буду ставить себя в смешное
положение, утверждая, будто фильм позволил мне испытать все чувства, вызываемые
этим представлением, но я заявляю, что он воспроизвел
==62
для меня главное — метафизическое зерно зрелища: смерть.
Именно вокруг присутствия смерти, ее постоянной возможности (смерть животного
или человека) организуется трагический балет боя. Вот почему арена — это нечто
большее, чем театральная сцена, ведь здесь речь идет о смерти: тореро рискует
собственной жизнью, как акробат, работающий без сетки под куполом цирка. Однако
смерть — это одно из тех редких событий, которые оправдывают применение милого
Клоду Мориаку термина «кинематографическая специфика». Будучи искусством
временным, кино обладает чрезвычайной способностью повторять мгновение. Эта
способность вообще присуща механическим искусствам, но кино может пользоваться
ею с бесконечно большей эффективностью, чем радио или грамзапись. Внесем и еще
одно уточнение, поскольку существуют и другие временные искусства, музыка
например. Но музыкальное время с самого начала и по сути своей есть
протяженность эстетическая, между тем как кино формирует свое эстетическое
время исходя из пережитого времени, из бергсонианской «длительности»,
необратимой и качественной по самому своему существу4. Реальность, которую в
любом объеме воспроизводит и организует кино,— это реальность мира, в который
мы включены, это чувственная непрерывность, запечатляемая на пленке и в
пространственном и во временном выражении. Я не могу повторить ни одного
мгновения своей жизни, но какое-нибудь из этих мгновений кино способно
повторять передо мной до бесконечности. И хотя для нашего сознания каждое
мгновение не тождественно другому, есть такой момент, в отношении которого это
основополагающее неравенство имеет особую силу: я имею в виду момент смерти.
Для любого существа смерть — момент единственный par excellence. По отношению к
нему определяется ретроспективно качественное время жизни. Он обозначает
границу между сознательной длительностью и объективным временем вещей. Смерть —
всего лишь одно из мгновений, следующих друг за другом, но это — последнее
мгновение. Конечно, ни одно мгновение не идентично другому, но они могут быть
похожи, как листья на дереве ; вот почему их кинематографическое повторение
более парадоксально в теории, чем на практике; и мы допускаем его, несмотря на
онтологическое противоречие
==63
, как некое объективное соответствие памяти. Однако два
момента жизни обнаруживают свою решительную несовместимость с подобной уступкой
нашего сознания: это—половой акт и смерть. И то и другое — в каждом случае
по-своему — является абсолютным отрицанием объективного времени, качественным
мгновением в чистом виде. Не случайно любовь по-французски называют «малой
смертью» (la petite mort) — ее можно пережить, но нельзя представить, не
совершив при этом насилия над природой. Подобное насилие называется
непристойностью. Показ реальной смерти также является непристойностью, но уже
не моральной, а метафизической. Дважды не умирают. С этой точки зрения
фотография не обладает возможностями фильма; она может показать агонизирующего
человека либо труп, но не переход от жизни к смерти. Весной 1949 года мы имели
возможность увидеть в одном выпуске кинохроники кошмарные кадры, запечатлевшие
антикоммунистический террор в Шанхае: красных «шпионов» убивали на площади
выстрелами из револьвера в затылок. Там было все, вплоть до повторного выстрела
одного из полицейских, у которого револьвер дал осечку. Это зрелище невыносимо
в силу не столько даже своего объективного ужаса, сколько особого рода
онтологической непристойности. До появления кино мы знали только
надругательства над трупами и разграбление гробниц. С помощью кино появилась
возможность разоблачить и выставить на всеобщее обозрение наше единственное
неподвластное времени и неотчуждаемое достояние. Мертвые без реквиема — чья
смерть повторяется вновь и вновь — вечное угрызение совести кино!
Я
представляю себе как высшее выражение кинематографической извращенности
обратную проекцию сцены смертной казни — подобно тому, как в старых бурлескных
лентах можно увидеть пловца, выпрыгивающего из воды ногами вперед и
возносящегося на вышку для ныряния.
Все эти
рассуждения не так уж далеко увели меня от «Боя быков». Вы поймете меня, если я
скажу, что заснятое на пленку представление «Мнимого больного» не имеет никакой
ценности — ни театральной, ни кинематографической, но если бы камера имела
возможность
==64
запечатлеть последние минуты жизни Мольера, то перед нами
был бы поразительный фильм.
Вот
почему момент смерти быка (предполагающий также смертельную опасность для
человека) в принципе так же волнующ на экране, как и в реальной
действительности. В известном смысле на экране он производит даже большее
впечатление, поскольку его первоначальное воздействие помножено на эффект
повторности, что сообщает ему особую торжественность. Кино запечатлело навечно
материальный облик смерти Манолетто.
На
экране тореро умирает каждый день после полудня.
«Cahiers
du Cinema», 1951, «Esprit», 1949
ВВЕДЕНИЕ
К СИМВОЛИЧЕСКОМУ ИСТОЛКОВАНИЮ ОБРАЗА ЧАРЛИ
ЧАРЛИ —
ПЕРСОНАЖ-МИФ
Чарли
как персонаж-миф определяет любое приключение, в которое он замешан. Для
зрителей Чарли существует до того, как началось действие «Спокойной улицы» или
«Пилигрима», и после того, как сеанс окончился. Для сотен миллионов людей на
планете Чарли — такой же герой, какими были в свое время и для иных цивилизаций
Улисс или Неистовый Роланд, с той лишь разницей, что мы теперь знаем древних
героев по завершенным литературным произведениям, раз и навсегда закрепившим их
приключения и превращения, в то время как Чарли сохраняет свободу появиться в
очередном фильме. Живой Чаплин продолжает оставаться творцом и подтверждением
персонажа Чарли.
ТАК ЧТО
ЖЕ ГОНИТ ЧАРЛИ?
Но
непрерывность и цельность эстетического существования Чарли может быть
определена лишь -через фильмы, в которых он живет. Зрители узнают его в лицо,
но главным образом по усикам, а также — по
==65
утиной походке; что касается его костюма, то он не имеет
решающего значения — здесь, как и обычно, одежда не делает монаха. В
«Пилигриме» Чарли появляется сначала в одежде каторжника, затем — в сутане
священника, во многих лентах он носит смокинг или элегантный фрак миллиардера.
Все эти внешние приметы не имели бы никакого значения, если бы не внутренние константы,
которые в действительности и определяют персонаж. Описать и определить их не
такто просто. Можно, например, попытаться сделать это на основании его манеры
реагировать на события определенного типа. Так, Чарли не проявляет никакого
упрямства в тех случаях, когда мир оказывает ему слишком сильное сопротивление.
В этих случаях он стремится не преодолевать препятствия, но обходить их. Он
удовлетворяется временными решениями так, словно будущее для него не
существует. В «Пилигриме», например, он подпирает бутылкой молока скатывающийся
с полки валик для теста, но тут же берет эту бутылку; валик, конечно, падает
ему на голову. Но в поисках этих временных решений он проявляет поразительную
изобретательность. Никакая ситуация не может поставить его в тупик. Он всегда
находит выход, хотя окружающий мир — мир людей и, пожалуй, в еще большей
степени, мир вещей — создан не для него.
ЧАРЛИ И
ПРЕДМЕТЫ
Целесообразное
использование предметов связано с таким человеческим образом жизни, который
самоцелесообразен и построен с учетом будущего. В окружающем нас мире предметы
— это орудия более или менее результативного и целенаправленного действия. Но
по отношению к Чарли предметы перестают выступать в своей служебной роли.
Подобно тому как общество принимает Чарли лишь на время и каждый раз в
результате какого-нибудь недоразумения, так и предметы оказывают ему
сопротивление всякий раз, как он пытается использовать их по назначению, по их
социальному назначению; происходит это либо в результате смешной неловкости
Чарли (особенно за столом), либо потому, что сами предметы отказываются ему
повиноваться, проявляя злую волю. В ленте «Удовольствия
==66
дня» мотор старенького «Форда» глохнет, стоит только Чарли
открыть дверцу машины. В картине «В час ночи» механическая кровать пускается на
хитрости, чтобы помешать Чарли лечь спать. В «Ростовщике» винтики разобранного
будильника начинают шевелиться, как насекомые. Однако те же самые предметы,
которые сопротивляются Чарли, когда он пытается использовать их по прямому
назначению, легко подчиняются ему, когда он употребляет их в необычных и
многообразных функциях, в соответствии с потребностями момента. Газовый фонарь
в «Спокойной улице» помогает ему победить грозного бандита. (В то время как
полицейская дубинка, этот «функциональный» предмет, оказалась совершенно
непригодной.) В фильме «Искатель приключений» надетый на голову абажур
превращает Чарли в торшер и тем спасает его от преследования полиции. В
«Солнечной стороне» рубашка служит скатертью, а ее рукава — салфетками и т. д.
Создается впечатление, что предметы оказывают содействие Чарли постольку,
поскольку они выходят тем самым за пределы функций, предписанных им обществом.
Самым замечательным примером подобного расхождения может служить танец булочек
(из «Золотой лихорадки»), где сообщничество между героем и предметами порождает
самоценный хореографический номер. Рассмотрим еще один весьма характерный трюк.
В фильме «Искатель приключений» Чарли с высокого обрыва швыряет камнями в
преследующих его полицейских; результат налицо: оглушенные ударами, полицейские
валятся без сознания. Но вместо того чтобы постараться убежать подальше, Чарли,
с увлечением художника, стремящегося довести свое произведение до совершенства,
продолжает швырять в лежащих маленькими камушками, не замечая при этом, как за
его спиной вырастает фигура еще одного полицейского. Потянувшись за очередным
камнем, Чарли нащупывает рукой его сапог. Реакция героя изумительна: вместо
того чтобы бежать (что было бы делом совершенно безнадежным), словно оценив всю
безысходность ситуации, он засыпает песком грозный сапог блюстителя порядка. Вы
смеетесь, и ваш сосед тоже. Сначала все смеются одинаково. Но я «слушал» этот
трюк двадцать раз в различных аудиториях. Когда зал, хотя бы частично, заполнен
интеллигентной публикой (студентами
==67
, например), возникает вторая волна смеха, отличная от
первой. Это уже не единый взрыв, но как бы многочисленные отголоски,
отразившиеся от сознания зрителей, как от стен невидимой бездны. Это эхо не
всегда можно уловить, во-первых, потому, что оно зависит от состава публики, но
главным образом потому, что чаплиновские трюки предельно коротки и за ними нет
пауз, которые давали бы время для размышлений. Эта техника смеха противоположна
той, которая принята в театре. Хотя и воспитанный в школе мюзикхолла, Чарли
очистил мюзик-холльный комизм от всех уступок публике. Стремление к простоте и
действенности связывается с ясностью и предельной краткостью трюка, из
которого, после того как он завершен, Чарли отказывается извлекать
дополнительный эффект. Техника трюка у Чаплина заслуживает специального
анализа, который мы не имеем возможности проводить в данной статье.
Быть
может, достаточно указать, что техника эта достигает предельного совершенства,
предельной насыщенности стиля. Совершеннейшей нелепицей было бы, например,
видеть в Чарли гениального клоуна. Конечно, если бы кино не существовало, Чарли
действительно стал бы гениальным клоуном, но кино позволило ему поднять цирковой
и мюзик-холльный комизм до самого высокого эстетического уровня. Средства кино
были необходимы Чаплину для того, чтобы освободить комизм от ограничений в
пространстве и времени, навязываемых ему подмостками эстрады или цирковой
ареной. Кинокамера позволяет с величайшей ясностью показывать комический эффект
и пристально следить за его развитием; нет никакой нужды форсировать эффект,
чтобы он дошел до всего зала,—напротив, можно делать трюк все более тонким,
шлифовать и оттачивать его детали, превращая его в механизм, действующий с
высокой точностью и немедленно отзывающийся на легчайшее прикосновение.
Весьма
показательно и то, что лучшие фильмы Чаплина можно смотреть помногу раз, и наше
удовольствие при этом не только не уменьшается, но даже возрастает. Это значит,
что удовольствие, вызываемое некоторыми трюками, имеет столь глубокие истоки,
что оно неисчерпаемо, а комическая форма и эстетическое качество трюка никак не
связаны с эффектом неожиданности
==68
. Удивление зрителя, будучи использовано при первом
просмотре, уступает место более тонкому наслаждению, состоящему в ожидании и
узнавании совершенства.
ЧАРЛИ И
ВРЕМЯ
Совершенно
очевидно, что описанный выше трюк, после того как проходит действие первого
комического эффекта, открывает перед нашим сознанием безграничный простор,
который, даже если зритель не имеет времени, чтобы углубиться в него, вызывает
захватывающее головокружение и изменяет тональность смеха. Дело в том, что
Чарли в данном случае доводит до абсурда свою главную тенденцию: не выходить за
рамки текущего мгновения. Избавившись от двух преследователей благодаря своей
способности использовать местность и предметы, он тотчас же перестает думать об
опасности и о предосторожностях, и результат — появление третьего полицейского
— не заставляет себя ждать. Но реакция Чарли не имеет ничего общего с
действиями страуса, прячущего голову в песок! Наоборот. Чарли — это воплощение
импровизации, безграничная фантазия перед лицом опасности. Но опасность,
возникшая в момент полной эйфории героя, столь внезапна и осязаема, что на этот
раз он не может найти выход тотчас же. Ему только и остается, что прибегнуть к
иллюзорному устранению опасности. Впрочем, кто знает, возможно, именно этот
жест, вызвавший у полицейского такое удивление, дал Чарли ту долю секунды,
которая была ему необходима, чтобы найти способ ускользнуть.
Жест
иллюзорного устранения опасности составляет часть целой системы трюков,
свойственных Чарли. К ним следует отнести и знаменитый трюк маскировки под дерево
из фильма «На плечо!». Слово «маскировка» в данном случае не совсем подходит,
речь идет, скорее, о мимикрии. В конечном счете защитные рефлексы у Чарли ведут
к тому, что время растворяется в пространстве. Оказавшись перед лицом
неумолимой опасности, Чарли прячется за внешней видимостью, подобно тому как
краб прячется в песок (сказанное не является даже метафорой, ибо в начале
фильма «Искатель приключений» мы видим, как голова Чарли
==69
появляется из песка и, когда опасность возвращается, вновь
прячется туда же). Превратившись в дерево, Чарли, поразительным образом
сливается с другими деревьями в лесу. Так насекомые на наших глазах
превращаются в сухой сучок, а бабочки со скрупулезной точностью повторяют форму
и рисунок древесного листа. Но Чарли отличается от насекомого той быстротой, с
которой он переходит от полного растворения в окружающей среде к самому
активному сиюминутному действию. Так, преобразившись в неподвижное дерево, он
точными и быстрыми ударами своих рукветвей оглушает немецких солдат,
оказавшихся в пределах его. досягаемости.
В ПИНКЕ
НОГОЙ — ВЕСЬ ЧЕЛОВЕК
Высшая
свобода от биографического и социального времени, уносящего нас своим течением
и порождающего у нас сожаления и беспокойство, выражается у Чарли с помощью
великолепного и обыденного жеста'—пяткой ноги он отбрасывает от себя какой-либо
предмет, будь то банановая кожура, или воображаемая голова гиганта Голиафа, или
— в идеальном плане — любая докучливая мысль. Характерно, что Чарли наносит
удар ногою всегда назад, а не вперед. Даже пинок ногою в зад кому-нибудь из
своих партнеров он наносит, глядя в противоположную сторону. Сапожник объяснил
бы это тем, что Чарли носит слишком большие башмаки. Позвольте все же мне пойти
дальше поверхностного реализма и усмотреть в этом постоянном и сугубо личном
способе наносить удар ногою некое выражение жизненной позиции персонажа. Чарли
не любит атаковать опасность в лоб; он предпочитает схитрить и повернуться к
ней задом. С другой стороны, когда этот жест (пинок ногою назад) не направлен к
конкретной цели, он прекрасно выражает постоянное стремление Чарли разорвать
связь с прошлым, сжечь за собою мосты. Этот великолепный жест заключает в себе
тысячу нюансов, начиная от злобной мстительности и кончая резвостью человека,
почувствовавшего себя свободным; а может быть, Чарли взбрыкивает ногами для
того, чтобы разорвать невидимые нам путы.
К оглавлению
==70
ГРЕХ ПОВТОРЯЕМОСТИ
Тенденция
к механической реакции — это цена, которую Чарли платит за свое неучастие в
событиях и в окружающем его порядке вещей. Подобно тому как предмет, когда с
ним имеет дело Чарли, утрачивает свою целесообразность, так и сам персонаж в
своих механических, спазматических поступках теряет сознание первоначального
смысла действия.
Эта
дурная склонность играет с ним злые шутки. Она лежит в основе знаменитого трюка
из «Новых времен», где Чарли, рабочий на конвейере, не может остановиться и
продолжает судорожно завинчивать воображаемые гайки. Ту же самую склонность — в
более тонком выражении — мы можем наблюдать и в фильме «Спокойная улица».
Спасаясь от преследования огромного бандита, Чарли делает так, что между ним и
преследователем оказывается кровать. Следует серия обманных движений с той и с
другой стороны. Немного времени спустя, Чарли настолько привыкает к ситуации,
что, игнорируя опасность, начинает совершать свои маневры совершенно
механически, как если бы однообразное повторение одних и тех же движений могло
отныне и навсегда уберечь его от опасности. Как ни глуп преследователь, но даже
он догадывается, что достаточно изменить ритм движения — и Чарли окажется в его
руках. Мне кажется, что всякий раз, как в творчестве Чаплина дает о себе знать
механистичность, персонаж попадает в неприятное положение. Происходит это
потому, что механистичность — это в каком-то смысле главный грех Чарли. И
вечный его соблазн. Свобода по отношению к вещам и событиям может существовать
во времени лишь в механической форме, как сила инерции, продолжающая толкать
предмет в заданном направлении. Деятельность социального человека — а к этой
категории относимся и мы с вами — постоянно организуется и контролируется с
учетом будущего и взаимодействия с реальностью. Входя как составная часть в
некое событие, эта деятельность взаимодействует с ним на всем протяжении.
Действия же Чарли, напротив, слагаются из последовательности отдельных
моментов, каждый из которых замкнут (в себе самом). Но наступает усталость, и
Чарли начинает повторять в последующие моменты решение
==71
, подсказанное уже истекшим мгновением. Главный грех Чарли —
грех, который он, не колеблясь, выставляет на осмеяние,— состоит в том, что он
проецирует во времени то, что соответствует только данному мгновению; это и
есть «повторяемость».
Я думаю
даже, что существует связь между грехом повторяемости и группой известных
трюков, показывающих нам, как возмечтавший о счастье Чарли вынужден вернуться к
реальности. Речь идет о знаменитом трюке из «Новых времен», когда Чарли, желая
искупаться, ныряет в реку, где воды оказывается... всего на двадцать
сантиметров. В «Спокойной улице» опьяненный любовью Чарли складывает молитвенно
руки, возводит очи горе и... кубарем летит с лестницы. Нет нужды заниматься
перечислением, мысль моя сводится к следующему. Всякий раз, когда Чарли
высмеивает не других, а самого себя, это означает, что он совершил оплошность и
либо отождествил будущее и настоящее, либо имел наивность принять правила игры
людей, живущих в обществе, и поверить в один из их способов фабриковать будущее
— с помощью нравственности, религии, социальных установлении, политики
человек
ВНЕ СФЕРЫ СВЯЩЕННОГО
Один из
характерных аспектов свободы Чарли по отношению к обществу заключается в полном
равнодушии чаплиновского персонажа к категориям священного. Я имею в виду,
конечно, прежде всего различные социальные аспекты религиозной жизни. Старые
фильмы Чаплина несут в себе колоссальный антиклерикальный заряд; трудно себе
вообразить более резкое обличение пуританизма американской провинции.
Достаточно вспомнить «Пилигрима» и поразительные фигуры дьякона, церковного
служки, ядовитых и беззубых святош, торжественных и угловатых квакеров. Мир
Дюбу — детская игра по сравнению с этой социальной карикатурой, достойной
Домье. Но сила созданной картины связана с тем, что художником движет вовсе не
антиклерикализм, а, скорее, то, что можно назвать радикальным аклерикализмом. В
конце концов потому-то фильмы и остаются в границах допустимого: в них нет
намеренного святотатства. Тут даже священник
==72
не нашел бы, к чему придраться. Но дело обстоит гораздо
серьезнее: сами эти персонажи, их верования и действия обращены в ничто. Чарли
ровным счетом ничего против них не имеет. Он может даже изображать ритуал воскресной
службы и пасторской проповеди для того, чтобы доставить удовольствие
присутствующим и отвести от себя подозрения полиции,— с таким же успехом и с
теми же целями он мог бы участвовать в ритуальных плясках негритянского
племени. Тем самым верующие и их обряды предстают перед нами в нелепом виде; их
существование, будучи лишено смысла, выглядит смехотворным и почти
непристойным. Забавный парадокс заключается в том, что единственно осмысленными
действиями в ходе всей этой церемонии оказываются действия Чарли, проверяющего
выручку от пожертвований, улыбающегося щедрым и бросающего укоризненные взгляды
скупцам.
Точно
так же по окончании проповеди-пантомимы Чарли несколько раз выходит
раскланиваться, как эстрадный актер, довольный своим успехом; единственным же
зрителем, который входит в ситуацию представления и награждает пастора
аплодисментами, оказывается зловредный и сопливый мальчишка, в течение всей
службы зевавший по сторонам, несмотря на замечания своей родительницы.
Но речь
идет не только о религиозных церемониях. Общество поддерживает тысячу
условностей, создавая себе особого рода религиозный культ. Так обстоит дело,
между прочим, с правилами поведения за столом. Чарли не в состоянии
соответствующим образом пользоваться столовым прибором. Он обязательно попадет
рукавом в тарелку, прольет суп на брюки и т, д. Особенно смешно бывает, когда
сам Чарли выступает в роли официанта. В религиозной форме или нет элемент
священного присутствует повсюду в социальной жизни, и не только в деятельности
чиновника, полицейского, священника, но и в таинствах еды, профессионального
общения, общественного транспорта. Подобно магнитному полю, он помогает
обществу поддерживать свое единство. Ежеминутно и бессознательно мы подчиняемся
действию силовых линий. Но Чарли создан из другого металла. Магнитное поле на
него не действует. Более того. категория священного для него
==73
просто не существует, он не может себе ее представить, как
не может представить себе розу человек, слепой от рождения 2.
«Д. О.
С», 1948
^^^ ГОСПОДИН
ЮЛО И ВРЕМЯ
Всем
известно, что французское кино не проявляет особой одаренности в области
комедии. Во всяком случае, на протяжении последних тридцати лет. Ибо стоит
напомнить, что именно во Франции родилась школа бурлеска, нашедшая в лице Макса
Линдера своего образцового героя, школа, уроки которой были подхвачены Мак
Сеннетом в Голливуде. Там она расцвела еще более пышным цветом, выдвинув таких
актеров, как Гарольд Ллойд, Гарри Ленгдон, Бастер Китон,Лаурел и Харди, а
превыше всех — Чарли Чаплин. Причем последний считал Макса Линдера своим
учителем. Однако французский бурлеск — если исключить последние фильмы Макса Линдера, снятые в Голливуде, —
практически не переступил рубеж 1914 года, сметенный поразительным и заслуженным
упехом американского комического фильма. И после прихода звука Голливуд
оставался законодателем в области комического кино, опираясь прежде всего на
возрожденную и обогащенную бурлескную традицию (Филдс, братья Маркс, а также,
на втором плане, Лаурел и Харди), но выдвинув вместе с тем и новый жанр,
родственный театру,— «американскую комедию».
Во
французском же кино появление слова повлекло за собой только отчаянно плохие
экранизации бульварных водевилей. Стоит поискать, что же у нас было создано
выдающегося — после 1930 года — в области кинокомедии, и мы только и обнаружим,
что двух актеров — Ремю и Фернанделя. Но — странная вещь — эти два «священных
чудовища» смеха играли только в плохих фильмах. Не будь Паньоля с его четырьмя
или пятью хорошими лентами, пришлось бы сказать, что Ремю и Фернандель не
получили в кино ни одной роли, которая была бы на уровне их таланта (в крайнем
случае можно найти и еще одно исключение — любопытнь-й и непризнанный «Франциск
I» Кристи
==74
ана-Жака, а также — добавим для равновесия —
привлекательные, но легковесные создания Ноэль-Ноэля). Знаменательно, что после
неудачи, постигшей его в 1934 году с «Последним миллиардером», Рене Клер
покинул французские студии, уехав сначала в Англию, а потом в Голливуд. Мы
видим, таким образом, что французское кино испытывало недостаток не в
талантливых актерах, а в стиле, в концепции комического.
Я
нарочно не упомянул о единственной серьезной попытке возродить фрацузскую
традицию бурлеска: я имею в виду братьев Превер. Некоторые хотели бы видеть в
таких фильмах, как «Дело в шляпе», «Прощай, Леонар!» и «Удивительное
путешествие», новый расцвет комедийного кино. По их мнению, перед нами
произведения гениальные и непонятые. Мне столь же трудно в это поверить, как и
публике, отнесшейся к этим фильмам равнодушно. Конечно, это была интересная и
вызывающая к себе симпатию попытка, но обреченная на неудачу в силу своего
интеллектуализма. У братьев Превер трюк — это всегда отвлеченная идея,
зрительное воплощение которой приходит a posteriori, так что комический эффект
возникает лишь в результате мыслительной операции, возводящей зрительный трюк к
его интеллектуальному значению. Подобный процесс характерен для историй в
картинках (потому-то один из наших лучших рисовальщиков-юмористов, Морис Анри,
никогда не мог добиться успеха в кино в качестве гэгмена). Слишком
интеллектуализированный, трюк попадает в цель лишь рикошетом, а юмор, будучи
нарочитым, требует от зрителя неоправданных усилий. Комизм в кино (как, вероятно,
и в театре) немыслим без щедрой общительности, расчет на узкий круг избранных
здесь неуместен. Только один фильм, связанный с преверовским юмором, идет далее
первоначальных попыток и приближается к успеху, это—«Странная драма», однако
здесь мы имеем связь и с другими источниками; Марсель Карне недаром вспомнил и
о «Трехгрошовой опере» и о традициях английского юмора.
На этом
бледном историческом фоне «Праздничный день» Жака Тати выглядит достижением
столь же неожиданным, сколь исключительным. Известна история создания этого
фильма, снятого почти тайком, по дешевке; от него отказывались сначала все
прокатчики
==75
. И вот он оказался боевиком года и принес прибыль, в десять
раз превышающую его стоимость.
Тати
сразу же стал знаменит. Однако тогда возник вопрос: не исчерпал ли этот фильм
талант своего автора? Здесь были поразительные находки, юмор оригинальный и
вместе с тем связанный с лучшей традицией бурлескного кино; но, с другой
стороны, говорили люди, если бы у Тати был истинный талант, зачем бы ему
двадцать лет прозябать в мюзик-холле, а сама оригинальность фильма
свидетельствует о том, что автор не сможет повторить свой успех. Конечно, можно
предлагать публчке все новые и новые похождения сельского почтальона, но в
результате нам пришлось бы только пожалеть о том, что Тати не сумел вовремя
остановиться.
Однако
Тати не только не кинулся разрабатывать открывшуюся перед ним золотоносную
жилу, но, наоборот, четыре года вынашивал свой новый фильм, который не только
не проиграл от сравнения с предыдущим, но заставил смотреть на «Праздничный
день» как на первоначальный набросок. Значение «Каникул господина Юло»
невозможно переоценить. Речь идет не только о самом значительном комедийном
произведении экрана со времен братьев Маркс и Филдса, но также о событии в
истории звукового кино.
Как все
великие комики, Тати, прежде чем заставить нас смеяться, создает свой мир. Этот
мир создается вокруг персонажа, подобно тому как крупица соли, брошенная в
перенасыщенный раствор, вызывает кристаллизацию. Конечно, персонаж, созданный
Тати, смешон, но это не главное его качество, и оно находится в постоянной
зависимости от окружающего мира. Лично он может даже не участвовать в наиболее
смешных трюках, ибо господин Юло — это только метафизическое воплощение
беспорядка', продолжающегося долгое время после того, как персонаж уже ушел.
Однако,
если мы рассмотрим сам персонаж, то не замедлим убедиться, что его своеобразие
по отношению к традиции комедии дель арте, которая продолжается и в бурлеске,
состоит в его незавершенности. Герой комедии дель арте представляет комическую
сущность, его функция ясна и всегда подобна себе самой. Напротив, свойство
господина Юло состоит, по-видимому, в том, что он не решается обрести полноту
существования
==76
. В своих блужданиях он как бы воплощает скромную и
неуверенную попытку — попытку быть. Свою робость он возводит до уровня
онтологического принципа! Но естественно, что та мимолетность, с которой
господин Юло вступает в контакт с миром, как раз и оказывается причиной всех
катастроф, ибо идет вразрез с правилами приличия и социальной целесообразности.
Господин Юло обладает гениальной способностью делать все не вовремя. Нельзя,
однако, сказать, чтобы он был неловок и неуклюж. Напротив, он само изящество,
ангел безалаберности, и беспорядок, который ему сопутствует,— это беспорядок
душевности и свободы. Знаменательно, что единственными персонажами фильма,
одновременно грациозными и безоговорочно симпатичными, оказываются дети. Только
они свободны от выполнения «каникулярных обязанностей». Господин Юло их не
удивляет, он им как брат, всегда располагающий досугом, без ложного стыда
отдающийся играм и забавам. Если на бале-маскараде танцует один-единственный
человек, то это, конечно, господин Юло, безмятежно равнодушный к той пустоте,
которая его окружает. От его спички взлетает на воздух ящик с ракетами и
шутихами, предназначенными для фейерверка.
Но чем
был бы господин Юло без каникул? Мы можем без труда угадать профессию или род
занятий всех обитателей курортного пляжа. Можно представить себе, откуда
прибывают автомобили и поезда, словно по таинственному сигналу устремившиеся в
маленький приморский городок. Но смешная машина господина Юло, в сущности, не
имеет возраста, и прибывает она ниоткуда — просто возникает из Времени. Можно
представить себе, что господин Юло попросту исчезает на десять месяцев в году и
возникает «наплывом» 1 июля, когда часы перестают шевелить своими стрелками и в
некоторых местах, на морском побережье и в деревне, образуется особое Время,
изъятое из обычной временной протяженности, тихо вращающееся в своих границах,
колеблющееся, как морской прилив. Время, состоящее из повторения ненужных
жестов, едва ползущее и совсем замирающее, когда наступает послеобеденный
отдых. Но также — Время ритуальное, которому задает ритм литургия условных
==77
удовольствий, более строгая, чем отбывание рабочих часов в
канцеляриях.
Потому-то
жизнь господина Юло не могла бы протекать «по сценарию». Сюжет предполагает
некий смысл, ориентацию времени, текущего от причины к следствию, начало и
конец. «Каникулы господина Юло», напротив, могут быть только цепью событий,
связанных по смыслу, но драматически друг от друга независимых. Каждое из приключений
и злоключений героя могло бы начинаться с традиционной формулы: «А в другой раз
господин Юло...» Наверное, никогда раньше в такой мере, как здесь, время не
выступало как исходный материал фильма, почти как предмет изображения. В фильме
Тати это ощущается гораздо явственнее, чем в некоторых экспериментальных
фильмах, где время действия и время проекции совпадают. Господин Юло помогает
нам понять временную протяженность наших движений.
В этом
каникулярном мире действия, имеющие точную временную протяженность, приобретают
нелепый вид. Один только господин Юло везде оказывается не вовремя, потому что
он один отдается течению времени, между тем как все другие стараются
восстановить формальный распорядок в соответствии с ритмом, который отбивает
хлопающая дверь ресторана.
Но в
еще большей степени, чем изображение, звуковая дорожка сообщает фильму его
временную насыщенность. В этом состоит очень значительная и в техническом
отношении самая оригинальная находка Тати. Существует неправильное мнение,
будто фонограмма фильма представляет собой некую нечленораздельную звуковую
магму, на поверхность которой иногда всплывают обрывки фраз, отдельные слова,
ясно слышимые, но вырванные из контекста и потому смешные. Однако такое
впечатление фильм производит лишь на невнимательного слушателя. На самом деле в
фильме почти нет смазанных звуковых элементов (за исключением голоса из
громкоговорителя на вокзале, но здесь-то как раз трюк имеет совершенно
реалистический характер). Весь фокус состоит именно в том, что Тати разрушает
четкость посредством четкости. Диалоги не то чтобы непонятны, а незначительны,
и эта незначительность раскрывается именно благодаря их ясности. Тати
добивается этого главным образом
==78
через нарушение соотношений между звуковыми планами вплоть
до того, что на изображение может накладываться звуковой ряд сцены, находящейся
в данный момент за кадром. Звуковой фон обычно состоит из реалистических
элементов: обрывков диалога, восклицаний, различных замечаний, но ни один из
этих элементов не связан жестким образом с драматической ситуацией. На этом
фоне какой-нибудь неуместный звук выделяется и звучит особенно невпопад. Так
происходит, например, вечером, когда обитатели пансионата читают, спорят или
играют в карты, а Юло играет в пинг-понг, и целлулоидный шарик щелкает
несоразмерно громко, разрушая приглушенную звуковую атмосферу, так что кажется,
будто с каждым ударом шарик увеличивается в размерах. Звуковая фонограмма
фильма состоит из подлинных звуков, записанных где-нибудь на пляже, а поверх
этого фона накладываются искусственные звуки, не менее четкие, но диссонирующие
с фоном. Из сочетания реализма с деформацией и рождается столь убедительная
звуковая атмосфера этого бестолкового и в то же время человечного мира. Никогда
еще физическая сторона речи, ее анатомия, не раскрывалась перед нами со столь
безжалостной очевидностью. Мы привыкли приписывать речи определенный смысл даже
в тех случаях, когда в действительности она его лишена, и нам труднее
почувствовать ироническую дистанцию по отношению к тому, что мы слышим, чем по
отношению к тому, что мы видим. Здесь же слова с забавным бесстыдством
разгуливают голые, сбросив с себя иллюзорное достоинство, которым прикрывала их
социальная условность. Вам кажется, что одни слова вылетают из радиоприемника,
наподобие связки красных воздушных шаров; другие собираются облачком над
головой говорящего человека, затем плывут по ветру, пока совершенно неожиданно
вдруг не окажутся перед вашим носом. Хуже всего, что эти слова на самом деле
всетаки имеют смысл — надо только как следует вслушаться и вникнуть, закрыв
глаза. Случается, что Тати незаметно вводит уже совсем фальшивый звук, но он
так хитро вплетен в общую звуковую путаницу, что мы и не думаем протестовать.
Так, лишь при особенном напряжении внимания мы можем заметить, что к треску
потешных огней примешивается звук бомбежки.
==79
Именно звук придает миру Юло его насыщенность и моральную
выразительность. Попробуйте подумать, откуда возникает в конце фильма это
ощущение тоски, безмерного разочарования,— и вы поймете, что это результат
наступившей тишины. На протяжении всего фильма детские голоса звенели над
пляжем, а теперь они замолкли, и это означает, что каникулы кончились.
Господин
Юло остается один; его соседи по пансионату отворачиваются от него, не желая
ему простить испорченного фейерверка. Он возвращается на пляж, встречает там
двух ребят, они кидают друг в друга несколько пригоршней песку. Но вот
потихоньку некоторые друзья все-таки приходят проститься с ним: старая
англичанка, считавшая очки в теннисе; сынишка господина, разговаривавшего по
телефону; муж, любитель прогулок... Словом те, кто еще живет, существуют в этой
толпе рабов, прикованных к своим каникулам, в ком еще тлеет слабенький огонек
свободы и поэзии. Высшее изящество этого конца без развязки достойно лучших
фильмов Чаплина.
Как все
выдающиеся комедийные произведения, «Каникулы господина Юло» являются
результатом безжалостной наблюдательности. Рядом с фильмом Тати «Такой хорошенький
маленький пляж» Ива Аллегре и Жака Сигюра производит впечатление романа
«розовой серии». При всем том комизм Жака Тати (и в этом, быть может, заключен
самый верный признак его величия), как и комизм Чаплина, никогда не производит
пессимистического впечатления. Вопреки идиотизму окружающего мира, персонаж
Жака Тати сохраняет неистребимую легкость; своим существованием он доказывает,
что непредвиденное возможно, что оно всегда может возникнуть и разрушить
дурацкий порядок вещей, превратить автомобильную камеру в погребальный венок, а
похоронную процессию — в увеселительную прогулку.
«Esprit»,
1953
^^^ ЭВОЛЮЦИЯ
КИНОЯЗЫКА
В 1928
году искусство немого кино достигло зенита. Можно понять, но не оправдать
отчаяние тех, кто своими глазами наблюдал разрушение этой законченной
К оглавлению
==80
образной системы. С эстетических позиций, которые занимали в
то время наиболее выдающиеся кинематографисты, казалось, что немое кино
великолепно приспособилось к плодотворным ограничениям, связанным с отсутствием
звука, и что, следовательно, звуковой реализм неизбежно приведет к хаосу.
Теперь,
когда использование звука достаточно ясно показало, что он пришел не отменить,
но осуществить «ветхий завет» киноискусства, следовало бы задаться вопросом:
действительно ли технической революции, которую произвело появление звуковой
дорожки, соответствовала революция эстетическая? Или, иными словами,
действительно ли в 1928—1930 годы произошло рождение нового кино? Если мы
рассмотрим историю кино с точки зрения изменения принципов раскадровки', то
увидим, что между немым и звуковым кино нет столь резкого разрыва
постепенности, как того можно было ожидать. Напротив, можно различить
родственные черты, сближающие некоторых режиссеров середины 20-х годов с их
собратьями, работавшими в 30-е и особенно в 40-е годы. Например, Эрика фон
Штрогейма с Жаном Ренуаром или Орсоном Уэллсом, Карла Теодора Дрейера с Робером
Брессоном. Однако эта более или менее отчетливая близость говорит не только о
том, что возможно перекинуть мост через трещину, разделяющую 20-е и 30-е годы,
и не только о том, что некоторые ценности немого кино сохраняются в звуковом.
Нет, речь идет о том, что следует противопоставлять друг другу не столько
«немое» и «звуковое» кино, сколько две стилевые линии, две принципиально
различные концепции киновыразительности, существовавшие в недрах немого
кинематографа и продолжающие свою жизнь в звуковом кино.
Отдавая
себе отчет в относительной ценности упрощенной схемы, к которой меня вынуждают
ограниченные размеры этой статьи, я предлагаю (не столько в качестве
объективной истины, сколько на правах рабочей гипотезы) различать в истории
кино с 20-х по 40-е годы две большие противоборствующие тенденции — одна из них
представлена теми режиссерами, которые верят в образность, другая — теми, кто
верит в реальность.
Под
«образностью» я понимаю все то, что приобретает изображаемый предмет благодаря
своему изображению
==81
на экране2. Такое «добавление» многосложно, но может быть
сведено к двум основным компонентам: пластике кадра и возможностям монтажа
(который является не чем иным, как организацией кадров во времени). Под
пластикой следует понимать стиль декораций и грима, в известной мере игру
актеров, а также, разумеется, освещение и, наконец, кадрирование, которое
завершает композицию.
Что
касается монтажа, возникшего, как известно, в шедеврах Гриффита, то он
знаменовал, как справедливо отметил Андре Мальро в «Психологии кино», рождение
кино как искусства, ибо именно монтаж отличает киноискусство от ожившей
фотографии, делает его языком.
Применение
монтажа может быть «невидимым», как, например, в классическом американском
довоенном кино, где разбивка на планы имеет единственной целью проанализировать
событие в соответствии с материальной или драматической логикой сцены. Именно
его логичность делает этот анализ незаметным, поскольку зритель естественно
принимает точку зрения, предложенную ему режиссером, ибо она обусловлена
географией действия или перемещением центра драматической заинтересованности.
Однако
нейтральность «невидимой» раскадровки не дает представления о всех возможностях
монтажа, которые полностью обнаруживают себя в трех приемах, известных под
названием «параллельного монтажа», «ускоренного монтажа» и «монтажа
аттракционов». Создавая параллельный монтаж, Гриффит передавал путем
чередования планов одновременность двух действий, разделенных в пространстве.
Абель Ганс в фильме «Колесо» создает иллюзию ускоряющегося движения паровоза
исключительно с помощью монтажа все более и более коротких планов, не прибегая
к кадрам, прямо изображающим скорость (ибо вращающиеся колеса могут крутиться
на месте). Наконец, «монтаж аттракционов», созданный С. М. Эйзенштейном,
описать труднее; но грубо его можно определить как усиление значения одного
кадра путем его сопоставления с другим кадром, причем их предметное содержание
может относиться к совершенно различным событийным рядам: например, фейерверк
вслед за изображением быка в «Старом и новом». В этой крайней
==82
форме «монтаж аттракционов» редко использовался даже его
создателем, но к нему очень близки такие широко используемые фигуры, как
эллипс, сравнение или метафора: например, чулки, упавшие к подножию кровати,
или выкипающее молоко («Набережная ювелиров» А.-Ж. Клузо).
Существуют,
разумеется, различные сочетания этих трех приемов.
Все три
приема обладают некоей общностью, которая и является характеристикой монтажа
как такового: это передача смысла, который не содержится в самих кадрах, а
возникает лишь из их сопоставления. Знаменитый опыт Кулешова с одним и тем же
крупным планом Мозжухина, выражение лица которого казалось зрителю различным в
зависимости от предшествующего кадра, прекрасно передает это свойство монтажа.
Монтаж
Кулешова, Эйзенштейна или Ганса не показывал само событие, а лишь косвенно на
него указывал. Хотя они и заимствовали большинство монтажных элементов из той
действительности, которую желали воспроизвести, но конечное значение фильма заключалось
скорее в организации этих элементов, чем в их объективном содержании. Как бы ни
был реалистичен каждый кадр сам по себе, смысл повествования возникает
исключительно из их сопоставления (улыбка Мозжухина + мертвый ребенок =
жалость); иначе говоря, получен некий абстрактный результат, предпосылки
которого вовсе не содержались в тех конкретных элементах, из которых он
извлечен. Точно так же можно вообразить следующий ряд: молодые девушки +
цветущие яблони = надежда. Возможны бесчисленные комбинации. Но все они сходны
между собой тем, что подсказывают идею с помощью метафоры или мысленной
ассоциации. Таким образом, между сценарием в собственном смысле слова,
являющимся конечной целью повествования, и первичным кадром возникает
дополнительная инстанция, эстетический «трансформатор». Смысл не заключен в
кадре, а возникает в сознании зрителя как результат монтажной проекции.
Итак,
резюмируем. Как в области пластического содержания кадра, так и в области
монтажа кино располагало целым арсеналом средств, чтобы навязывать зрителю свою
интерпретацию изображаемого события. К концу немого периода этот арсенал был
полностью
==83
освоен. С одной стороны, советское кино довело до конечных
выводов теорию и практику монтажа; с другой стороны, немецкая школа заставила
пластику кадра (декорации и освещение) претерпеть все возможные насильственные
превращения. Опыт других кинематографических школ тоже, конечно, имел значение,
но, будь то во Франции, Швеции или Америке, немое кино не испытывало,
по-видимому, недостатка в средствах выражения для того, чтобы сказать все, что
потребуется. Если суть киноискусства заключена в том, что способны добавить к
изображаемой реальности пластика и монтаж, то немое кино — завершенное
искусство. Звук может выступить только в подчиненной и второстепенной роли, как
контрапункт к зрительному ряду. Однако даже такое, в лучшем случае
незначительное, приобретение окажется оплаченным слишком дорогой ценой, если
учесть, что звук нагружает кино дополнительным балластом реальности.
Сделанные
нами только что выводы справедливы лишь при условии, что мы считаем
выразительность кадра и монтаж сутью киноискусства. Однако эту общепринятую
точку зрения скрыто поставили под вопрос еще в период немого кино такие
режиссеры, как Эрих фон Штрогейм, Ф.-М. Мурнау или Р. Флаэрти. В их фильмах
монтаж практически не играет никакой роли, если не считать чисто негативной
функции неизбежного отбора в слишком обильной реальности3. Камера не может
увидеть всего сразу, но, во всяком случае, она старается не упустить ничего из
того, на что решила смотреть. Снимая Нанука, охотящегося на тюленя, Флаэрти
стремится прежде всего показать отношения между человеком и животным, реальную
длительность ожидания. Монтаж мог бы косвенно передать ощущение течения
времени; Флаэрти ограничивается тем, что показывает ожидание; продолжительность
охоты — это само содержание кадра, его истинный предмет. В фильме этот эпизод
снят единым планом. Но разве можно отрицать, что он производит гораздо большее
впечатление, чем «монтаж аттракционов»?
Мурнау
интересуется не столько временем, сколько реальностью пространства, в котором
развертывается
==84
действие; ни в «Носферату», ни в «Восходе солнца» монтаж не
играет решающей роли. Может показаться, что пластика кадра сближает режиссера с
некоей разновидностью экспрессионизма. Но это поверхностное впечатление.
Композиция кадра у Мурнау вовсе не живописна, она ничего не добавляет к
реальности и не деформирует ее, а, напротив, стремится выявить реально
существующие отношения и сделать их составными частями драмы. Так, в «Табу»
корабль, вплывающий в кадр из-за левой кромки экрана, безошибочно
отождествляется с судьбой, хотя Мурнау ни на йоту не отступает от строгого
реализма фильма, целиком снятого на натуре.
Бесспорно,
однако, что именно Штрогейм наиболее резко противостоит и экспрессионизму кадра
и ухищрениям монтажа. У него реальность выдает себя, как преступник на допросе
у неутомимого следователя. Принцип мизансцены прост: достаточно смотреть на мир
пристально и в упор, чтобы открылись его безобразие и жестокость. Можно легко
представить себе как крайний случай фильм Штрогейма, снятый одним-единственным
планом, любой длины и крупности.
Выбор
этих трех режиссеров не является исчерпывающим. Мы легко обнаружим и у
некоторых других (и даже у Гриффита) элементы неэкспрессионистического и
немонтажного кинематографа. Но, думается, и приведенных примеров достаточно,
чтобы доказать наличие внутри немого кино тенденции, которая прямо противоположна
тому, что принято считать спецификой киноискусства. Для этой разновидности
киноязыка монтажный план отнюдь не служит семантической и синтаксической
единицей; для нее значение плана определяется не тем, что он добавляет к
реальности, но прежде всего тем, что он раскрывает в ней. Для этой тенденции
отсутствие звука было увечьем: от реальности был отсечен один из ее элементов.
«Алчность» Штрогейма, как и «Жанна д'Арк» Дрейера,— это потенциально говорящие
фильмы. Если мы откажемся считать монтаж и пластическую композицию кадра сутью
киноязыка, то появление звука перестанет нам казаться эстетической линией
разлома, расколовшей седьмое искусство. Появление звука несло гибель
определенному направлению в немом кинематографе, но это было не «все кино».
Подлинный водораздел проходил
==85
в другом месте, он существовал и продолжает существовать на
протяжении всех тридцати пяти лет истории киноязыка.
Поставив,
таким образом, под вопрос эстетическое единство немого кино и увидев в нем
борьбу двух враждебных тенденций, рассмотрим теперь историю последнего
двадцатилетия.
С 1930
по 1940 год во всем мире под влиянием главным образом американских фильмов
сложилось известное единство выразительных средств киноязыка. Пять или шесть основных
жанров, одержав триумфальную победу в Голливуде, утверждают свое непререкаемое
преимущество: американская комедия («Мистер Дидс едет в Вашингтон»), бурлеск
(братья Маркс), музыкальный фильм с танцами и мюзик-холлом (Фред Астер и
Джинджер Роджерс, «Зигфелд-фоллиз»), полицейский и гангстерский фильм («Лицо со
шрамом», «Я—беглый каторжник», «Осведомитель»), психологическая и бытовая драма
(«Тупик», «Иезавель»), фантастический фильм и гиньоль («Доктор Джекиль и мистер
Хайд», «Невидимка», «Франкенштейн»), вестерн («Дилижанс»). Вторым по своему
значению было в этот период, несомненно, французское кино; постепенно его
преимущество утвердилось в области черного, или поэтического, реализма,
представленного четырьмя крупнейшими именами: Жак Фейдер, Жан Ренуар, Марсель
Карне и Жюльен Дювивье. Поскольку сравнительная оценка национальных
кинематографий не входит в нашу задачу, нам незачем останавливаться на
советском, английском, немецком, а также итальянском кино, для которого
рассматриваемый период был менее плодотворным, чем последующее десятилетие. Во
всяком случае, американской и французской кинопродукции нам будет вполне
достаточно, чтобы определить довоенное звуковое кино как искусство, явно
достигшее равновесия и зрелости как по содержанию, так и по форме.
В
отношении содержания — сложились основные жанры с хорошо разработанными
правилами, способные нравиться массовой международной аудитории, равно как и
культурной элите, если только она не предубеждена против кино.
В
отношении формы — в операторском и режиссерском решении фильма выработались
отчетливые стили,
==86
соответствующие теме; между изображением и звуком было
достигнуто полное единство. Когда смотришь сегодня такие фильмы, как «Иезавель»
Уильяма Уайлера, «Дилижанс» (1939) Джона Форда или «День начинается» (1939)
Марселя Карне, то видишь перед собой искусство, достигшее полного равновесия,
идеальной формы выражения, и одновременно восхищаешься драматическими и
моральными темами, которые, возможно, и не были порождены кинематографом, но
которые именно благодаря ему получили художественную силу и величие. Короче
говоря, перед нами «классическое» искусство со всеми его отличительными чертами
и со свойственной ему полнотой.
Мне
могут справедливо возразить, что новизна послевоенного кино сравнительно с
периодом до 1939 года заключается в выдвижении на первый план некоторых новых
национальных кинематографий и прежде всего — в ослепительной вспышке
итальянского кино и в появлении оригинального британского киноискусства, освободившегося
от голливудских влияний; что, следовательно, наиболее важным для периода 1940—
1950 годов было его обогащение новыми силами и новым, еще не исследованным
материалом; что подлинная революция произошла скорее в области содержания, чем
в области стиля, то есть определялась обновлением того, о чем говорило кино, а
не того, как оно это говорило. Разве неореализм не является прежде всего
гуманизмом, а потом уже режиссерским стилем? И притом таким стилем, который
определяется главным образом своим самоустранением перед лицом изображаемой
реальности?
Я вовсе
не собираюсь утверждать какое-то превосходство формы над содержанием. Проповедь
«искусства для искусства» — нелепость, а для кино — в особенности. Но ведь
новому содержанию нужна новая форма! Исследование способа выражения помогает
лучше понять то, что выражено.
К 1938
или 1939 году говорящее кино достигло, особенно во Франции и в Америке, некоего
классического совершенства, которое основывалось, с одной стороны, на зрелости
драматических жанров, разработанных на протяжении последующих десяти лет или
унаследованных от немого кино, а с другой стороны — на стабилизации
технического прогресса. 30-е годы были
==87
годами звука и панхроматической пленки. Конечно, техническое
оснащение студий продолжало совершенствоваться, но все эти улучшения касались
деталей и не открывали перед режиссурой принципиально новых возможностей. После
1940 года положение не очень изменилось, только чувствительность пленки
возросла. Панхроматическая пленка произвела переворот в тональном решении
кадра, в то время как сверхчувствительные эмульсии позволили несколько изменить
его рисунок. Имея возможность снимать в студии при меньшей диафрагме, оператор
мог в случае надобности избежать мягкофокусного размыва дальних планов. Но
можно найти немало примеров более раннего использования глубинного кадра
(например, у Жана Ренуара). Кадр с большой глубиной резкости можно было
получать и раньше — при натурных съемках или даже в павильоне, если как следует
постараться. Так что речь шла не столько о технической проблеме (решение
которой стало гораздо более легким), сколько о поисках стиля, и об этом нам еще
придется говорить. В общем, после того как панхроматическая пленка, микрофон и
съемочный кран получили широкое распространение, можно считать, что необходимые
и достаточные технические условия для развития киноискусства после 1930 года
были созданы.
Поскольку
технические условия оставались практически неизменными, мы должны искать в
другом месте истоки и принципы эволюции киноязыка: в переоценке содержания и,
следовательно, в необходимости нового стиля для его выражения. В 1939 году кино
достигло того состояния, которое географы называют «профилем равновесия реки»,
то есть той идеальной математической кривой, которая возникает в результате
достаточной размытости русла. Достигнув «профиля равновесия», река свободно
течет от истоков до устья и перестает размывать русло. Но вот происходит
какой-нибудь геологический сдвиг, который изменяет профиль местности, и вода
снова принимается за работу, размывает почву, проникает все глубже. Иногда на
ее пути встречаются известняки; тогда вода уходит под землю, ее течение
становится невидимым, но остается все таким же бурным и прихотливым.
==88
ЭВОЛЮЦИЯ РАСКАДРОВКИ В ЗВУКОВОМ КИНО
Итак, в
1938 году мы встречаем почти повсюду один тип раскадровки. Стиль немых фильмов,
основанных на ухищрениях пластики и монтажа, мы называем несколько условно —
«экспрессионистическим» или «символическим». Новую форму киноповествования мы
можем определить как «аналитическую» или «драматическую». Возьмем в качестве
примера ситуацию, уже использованную Кулешовым в его знаменитом опыте —
накрытый стол и голодный человек. Можно себе представить, что в 1936 году
раскадровка этой сцены выглядела бы примерно так: 1. Общий план, в кадре
одновременно актер и стол.
2.
Наезд камеры на крупный план лица актера, которое выражает радость и
предвкушение.
3.
Серия крупных планов еды.
4.
Снова актер в полный рост, медленно идущий на камеру.
5.
Небольшой отъезд камеры, позволяющий показать на американском плане, как актер
хватает куриное крылышко.
Может
быть много вариантов раскадровки, но все они будут иметь между собой две общие
черты: 1. Достоверность пространства, в котором всегда четко определено
местонахождение персонажа, даже если он изолирован крупным планом от окружающей
среды.
2.
Разбивка на планы служит исключительно драматургическим и психологическим
целям.
Другими
словами, если бы эта сцена была разыграна в театре, то для зрителя, сидящего в
партере, она имела бы точно такой же смысл. Изображаемое событие существует
объективно, изменяющаяся точка зрения камеры ничего в нем не меняет, она только
показывает реальность более действенным образом: во-первых, позволяя лучше
рассмотреть, во-вторых, подчеркивая то, на что следует обратить внимание.
Конечно,
подобно театральному режиссеру, кинорежиссер имеет известную возможность
интерпретировать событие и влиять на смысл действия. Но это лишь ограниченная
возможность, которая не позволяет изменить формальную логику события. А вот
монтаж каменных львов из «Конца Санкт-Петербурга»4 дает
==89
противоположный пример: сближение различных скульптур
создает впечатление вздыбившегося зверя (олицетворяющего народ). Эта
великолепная монтажная находка была бы невозможна после 1932 года. В фильме
«Ярость» (1935) Фриц Ланг пробовал монтажно сопоставить планы пляшущих женщин и
кудахтающих кур. Но это был не более как пережиток «монтажа аттракционов»,
который выглядел совершенно инородным в общем контексте фильма. Каким бы
отточенным ни было мастерство Карне при постановке «Набережной туманов» и «День
начинается», его раскадровка остается на уровне анализируемой реальности и
только помогает ее лучше увидеть. Вот почему исчезают • такие искусственные
приемы, как двойная экспозиция, а в Америке — даже и крупный план, поскольку
своим слишком сильным физическим воздействием он делает заметным монтаж. В
типичной американской комедии режиссер стремится по мере возможности так
строить кадр, чтобы рамка экрана обрезала фигуру персонажа чуть повыше колен.
Такая крупность более всего соответствует естественному восприятию зрителя.
В
действительности описанная практика монтажа уходит корнями еще в немое кино.
Именно так использовал монтаж Гриффит в «Сломанных побегах», хотя в
«Нетерпимости» он уже вводит ту синтетическую концепцию монтажа, из которой
советское кино сделает крайние выводы и которая в конце немого периода получит,
хоть и не в столь абсолютном выражении, повсеместное признание. Легко, впрочем,
понять, что звуковое кино, сделав кадр гораздо менее податливым, вернуло монтаж
к реализму, постепенно изживая как пластический экспрессионизм, так и
символические соотношения между кадрами.
Таким
образом, к концу 30-х годов одни и те же принципы определяли характер
раскадровки почти повсеместно. Сюжет излагался в серии планов, общее число
которых было сравнительно постоянным (около 600). Характерным приемом было
чередование встречных планов — так, во время диалога, по логике текста, на
экране появлялся то один, то другой собеседник.
Этот
тип раскадровки, утвердивший себя в лучших фильмах 30-х годов, вновь был
поставлен под вопрос
К оглавлению
==90
Орсоном Уэллсом и Уильямом Уайлером с их глубинными
мизансценами.
«Гражданин
Кейн» по заслугам пользуется всеобщим признанием. Благодаря построению кадра в
глубину целые сцены снимались единым куском, причем камера могла даже
оставаться неподвижной. Те драматические эффекты, которые раньше создавались с
помощью монтажа, порождаются теперь перемещением актеров в кадре, рамки
которого остаются неизменными. Конечно, как Гриффит не «изобрел» монтаж, так и
Уэллс не «изобрел» глубинный кадр,— его широко использовали на заре
кинематографа, и это было не случайно. Мягкофокусный размыв фона появился
вместе с монтажом, так что он не был только технически неизбежным результатом
укрупнения планов, но явился логическим последствием монтажа, его пластическим
эквивалентом. Если, например, в определенный момент действия режиссеру
понадобится показать крупным планом вазу с фруктами, то у него совершенно
естественно появится потребность изолировать эту вазу в пространстве, отделить
ее от фона путем соответствующей наводки на резкость. Мягкофокусный размыв фона
подтверждает, таким образом, эффект монтажа и характеризует не столько
фотографический стиль, сколько стиль ведения рассказа. Это превосходно понял
уже в 1938 году Жан Ренуар, который писал после «Человека-зверя» и «Великой
иллюзии», но до «Правил игры»: «Чем лучше я овладеваю моим ремеслом, тем больше
меня привлекает глубинная мизансцена; я больше не хочу сажать актеров перед
камерой, снимать их с добросовестностью фотографа, а потом склеивать снятые
планы». И действительно, если мы будем искать предшественника Орсона Уэллса, то
это будет не Люмьер и не Зекка, а Жан Ренуар; у Ренуара поиски глубинного
построения кадра идут рука об руку с частичным упразднением монтажа, который
заменяет частые панорамы и входы актеров в кадр. Все это предполагает
стремление к сохранению единства драматического пространства и временной
протяженности.
Совершенно
очевидно, что сцены, снятые Уэллсом единым планом в «Великолепных Амберсонах»
(1942), ни в коей мере не являются пассивной «регистрацией» действия,
сфотографированного в рамках неизменного
==91
кадра. Напротив, отказ дробить событие, стремление сохранить
его пространственное и временнбе единство дают положительный эффект, который
намного превосходит то, чего можно добиться с помощью классической раскадровки.
Достаточно
сравнить два глубинных кадра — один, относящийся к 1910 году, и другой, взятый
из фильма Уэллса и Уайлера,— чтобы убедиться по одному внешнему виду, что
функция глубинной мизансцены стала совершенно иной. В 1910 году кадр
соответствовал четвертой, воображаемой стене театральной сцены, а в натурных
сценах строился исходя из наиболее удобной для наблюдения точки. Во втором
случае использование декорации и света придает композиции кадра совершенно иное
значение. Режиссер и оператор, предусмотрев каждую деталь, превратили
поверхность экрана в настоящую шахматную доску, на которой разыгрывается
драматическое действие. Самые ясные, если и не самые оригинальные, примеры
такого рода мизансцен, доведенные до точности чертежа, мы находим в «Лисичках»
Уайлера (у Уэллса барочная перегруженность делает анализ более сложным).
Расположение предметов по отношению к действующим лицам таково, что зритель не
может не принять предлагаемого истолкования. Того самого истолкования, которое
монтаж раскрыл бы в серии последовательных планов.
Другими
словами, современный режиссер, используя план-эпизодs с глубинной мизансценой,
не отказывается от монтажа (он не мог бы этого сделать, не возвращаясь к
примитивному бормотанию), но включает его в изобразительное решение кадра.
Повествование у Уэллса и Уайлера не менее ясно, чем у Джона Форда, но обладает
преимуществами, связанными с единством экранного образа во времени и
пространстве. А ведь далеко не безразлично (особенно в произведении, обладающем
стилистической завершенностью), анализируется ли событие по частям или
воспроизводится в своем физическом единстве. Было бы нелепостью отрицать
огромные приобретения, которые принес с собой монтаж, но они были достигнуты путем
отказа от других не менее важных кинематографических ценностей.
Вот
почему глубинное построение кадра не операторская мода (как использование
определенных фильтров
==92
или стиль освещения), но важнейшее завоевание режиссуры,
диалектический прогресс в развитии киноязыка.
Это не
только прогресс формы! Правильно использованная глубина кадра — это не только
возможность более экономно, просто и тонко передать событие. Изменяя структуру
киноязыка, она затрагивает также характер интеллектуальных связей,
устанавливающихся между зрителем и экраном, и тем самым изменяет смысл зрелища.
Данная
статья не ставит себе задачу проанализировать психологические оттенки этих
связей и их эстетические следствия, но в самых общих чертах можно отметить
следующее: 1. Благодаря глубине изображенного в кадре пространства зритель
оказывается по отношению к экрану в положении, более близко напоминающем его
отношение к реальной действительности. Поэтому можно сказать, что, даже
независимо от содержания кадра, его структура становится более реалистической.
2. Тем
самым зритель оказывается перед необходимостью занять психологически более
активную позицию и соучаствовать в режиссуре. При аналитическом монтаже зрителю
остается только следовать за гидом-режиссером, который производит выбор за него
и сводит к минимуму его личную активность. Здесь же от его собственного
внимания и воли частично зависит смысл изображения.
3. Из
этих двух психологических наблюдений вытекает третье положение, которое можно
определить как метафизическое.
Анализируя
реальность посредством монтажа в его специфическом качестве, режиссер исходил
из того, что драматическое событие обладает однозначным смыслом. Конечно, к
тому же событию возможен совершенно иной аналитический подход, но тогда
получился бы другой фильм. В общем, монтаж по самому своему существу
противостоит выражению многозначности (ambigui'te)6. Кулешов в своем опыте как
раз и доказывает это от противного, придавая с помощью монтажа определенное и
каждый раз новое значение одному и тому же плану лица, неизменное выражение
которого в своей неопределенности разрешает всю эту множественность взаимно
исключающих интерпретаций.
==93
Глубина кадра, напротив, вновь вводит многозначность в
структуру кадра если не как необходимость (фильмы Уайлера не многозначны), то,
во всяком случае, как возможность. Вот почему можно без преувеличения сказать,
что «Гражданин Кейн» может мыслиться только построенным в глубину кадра.
Неуверенность в том, где же находится ключ к духовному значению и истолкованию
этого произведения, воплощается прежде всего в самом рисунке кадра.
Уэллс
не отказывается от экспрессионистического использования монтажа, но употребляет
его лишь от случая к случаю, между «планами-эпизодами», что и сообщает монтажу
новый смысл. Раньше монтаж был основой кино, тканью сценария. В «Гражданине
Кейне» наплывы противопоставляются непрерывности сцен, снятых единым планом;
это другая, откровенно абстрактная модальность повествования. Ускоренный монтаж
нарушал подлинность времени и пространства. У Уэллса монтаж не имеет целью нас
обмануть, но выступает по контрасту как сгущенное время, соответствующее,
например, французскому imparfait (прошедшему несовершенному) или английскому
continious (прошедшему продолженному). Таким образом, «ускоренный монтаж» и
«монтаж аттракционов», двойная экспозиция, которая не употреблялась уже в
течение десяти лет, вновь получают применение в соотношении с временным
реализмом немонтажного кино. Мы потому так долго останавливаемся на творчестве
Орсона Уэллса, что его появление на кинематографическом горизонте в 1941 году
положило начало новому периоду, а также потому, что его пример особенно
нагляден и характерен даже в своих крайностях. «Гражданин Кейн» — это одно из
проявлений глубинных геологических сдвигов, затронувших самые основы
киноискусства и приведших более или менее повсюду к революционному
преобразованию киноязыка.
Тот же
процесс, хоть и иными путями, происходил в итальянском кино. В фильмах «Пайза»
и «Германия, год нулевой» Роберто Росселлини, в «Похитителях велосипедов»
Витторио Де Сики итальянский неореализм противостоит предшествующим формам
реализма в кино благодаря отказу от всякого экспрессионизма и в особенности от
эффектов монтажа. Подобно Уэллсу, несмотря на все стилистические различия,
неореализм
==94
стремится вернуть фильму многозначность реального. В фильме
«Германия, год нулевой» Росселлини добивается того, чтобы лицо ребенка (героя
фильма.— Прим. пер.} сохранило тайну своего выражения, то есть преследует цель,
прямо противоположную тому, чего добивался Кулешов в своем опыте с крупным
планом Мозжухина. Нас не должен вводить в заблуждение тот факт, что эволюция
неореализма поначалу не сопровождалась, как это было в американском кино,
революцией в области техники раскадровки. Разные средства здесь служат единой
цели — уничтожить монтаж и показать на экране истинную непрерывность
реальности. Дзаваттини мечтает о том, чтобы заснять девяносто минут из жизни человека,
с которым ничего не происходит! Самый «эстетский» из неореалистических
режиссеров, Лукино Висконти, с неменьшей ясностью, чем Уэллс, воплотил главную
тенденцию своего творчества в фильме «Земля дрожит», почти целиком состоящем из
планов-эпизодов, где стремление к охвату события в его цельности приводит к
глубинному построению кадра и бесконечному панорамированию.
Нет
возможности перечислить все произведения, в которых начиная с 1940 года
проявилась эта эволюция киноязыка. Пора попытаться подвести итог нашим
размышлениям. Нам кажется, что десятилетие 1940— 1950 годов знаменовало собой
решающий прогресс в области кинематографического способа выражения. Мы
умышленно обошли здесь ту тенденцию немого кино, которая была связана с именами
Э. Штрогейма, Ф.-В. Мурнау, Р. Флаэрти, К. Дрейера. Это произошло не потому,
что она исчезла с приходом звука. Напротив, мы думаем, что она представляла
самую плодотворную линию немого кино, поскольку она по самой своей эстетической
природе не была связана с монтажом и стремилась к звуковому реализму как к
своему естественному продолжению. Но действительно, звуковое кино между 1930 и
1940 годами почти ничем не обязано этому направлению, если не считать славных и
пророческих опытов Жана Ренуара, который в одиночку искал, в стороне от
проторенных дорог монтажного кино, секрет такого кинематографического
повествования, которое было бы способно, не дробя мир, раскрыть потаенный смысл
вещей и существ в их естественном единстве.
==95
Речь идет не о том, чтобы дискредитировать 30-е годы
(подобная попытка была бы немедленно опровергнута примером нескольких
бесспорных шедевров), но о том, чтобы обосновать идею диалектического развития
киноискусства и роль 40-х годов в этом процессе. Звуковое кино действительно
похоронило определенную эстетику киноязыка, но именно ту, которая более всего
удаляла кино от его реалистического призвания. Однако звуковое кино сохранило
за монтажом его основную функцию — прерывистое описание и драматургический
анализ события. Оно отказалось от метафоры и символа во имя стремления к
иллюзии объективного показа. Экспрессионизм монтажа почти полностью исчез, но
относительный реализм монтажного стиля, который восторжествовал примерно к 1937
году, содержал в себе природную ограниченность, которую мы не могли осознать до
тех пор, пока сюжеты полностью соответствовали стилю. Это относится к
американской комедии, которая достигла совершенства в рамках такой раскадровки,
где временной реализм не играл никакой роли. Глубоко логичная, как водевиль или
игра слов, совершенно условная в своем моральном и социологическом содержании,
американская комедия получала огромный выигрыш от пользования классической
раскадровкой с ее линейной правильностью в описаниях и ритмическими
возможностями.
Традиция
Штрогейма — Мурнау, почти полностью забытая с 1930 по 1940 год, подхвачена
более или менее сознательно современным киноискусством. Но оно не только
продолжает эту традицию, оно открывает в ней секрет реалистического обновления,
получая возможность обрести реальное время, реальную длительность события,
тогда как классическая раскадровка коварно подменяла реальное время мысленным и
абстрактным временем. Не отменяя завоеваний монтажа, оно определяет их
относительную ценность и смысл. Ибо только по отношению к возросшему реализму
образа становится возможным дополнительное абстрагирование. Стилистические
возможности такого режиссера, как Хичкок, простираются от прямого
документализма до двойных экспозиций и сверхкрупных планов. Но крупные планы у
Хичкока — это совсем не то, что крупные планы в «Вероломной» Сесиля де Милля.
Они — только одна из многих стилистических фигур.
==96
Иначе говоря, во времена немого кино монтаж обозначал то,
что режиссер хотел сказать; в 1938 году кино описывало; а сегодня наконец можно
сказать, что режиссер непосредственно пишет камерой. Экранный образ — его
пластическая структура, его организация во времени,— опираясь на возросший
реализм, располагает, следовательно, гораздо большими средствами, чтобы изнутри
видоизменять и преломлять реальность. Кинематографист наконец перестает быть
конкурентом художника и драматурга, он становится равным романисту.
Этот
очерк возник в результате объединения трех статей; первая — в «Cahiers du
Cinema» (1950, № 1), вторая была написана для книги «Двадцать лет кино в
Венеции» (1952), а третья, озаглавленная «Раскадровка и ее эволюция», появилась
в журнале «L'Age Nouveau» (1955, № 93).
УИЛЬЯМ
УАЙЛЕР, ЯНСЕНИСТ МИЗАНСЦЕНЫ
Детальное
изучение фильмов Уайлера показывает, что фильмы эти очень отличаются один от
другого как по использованию кинокамеры, так и по качеству фотографии. Нет
ничего более противоположного по изобразительному решению, чем «Лучшие годы
нашей жизни» (1946) и «Письмо» (1940). Рассмотрев кульминационные сцены фильмов
Уайлера, замечаешь, что их драматический материал весьма разнообразен, а приемы
раскадровки, с помощью которых этот материал обрабатывается, имеют между собой
мало общего. Идет ли речь о красном платье на балу в «Иезавель» (1938), о диалоге
во время бритья или о смерти Герберта Маршалла2 в «Лисичках», о смерти шерифа в
«Человеке с Запада» (1940) или о сцене в старом бомбардировщике в «Лучших годах
нашей жизни», мы не ощущаем такого постоянства тем, как, скажем, погони у Джона
Форда, драки у Тэя Гарнетта, свадьбы или преследования у Рене Клера. Нет ни
излюбленных декораций, ни излюбленных пейзажей. Самое большее, что можно
отметить,— это склонность к психологическим сценариям с социальным фоном. Но
если Уайлер считается мастером в разработке такого рода сюжетов (нередко
извлеченных из романа, как, например, «Иезаведь
==97
», или из пьесы—«Лисички»), если его фильмы обладают
несколько резким и сухим привкусом психологического анализа, то вместе с тем вы
не найдете в них тех великолепных и выразительных кадров, тех формальных
красот, которые побуждали бы нас вновь и вновь созерцать их в наших
воспоминаниях. А ведь стиль художника нельзя определить только через его
склонность к психологическому анализу и социальному реализму, тем 'более что
речь чаще всего идет об экранизациях.
Тем не
менее, я думаю, что достаточно нескольких планов для того, чтобы узнать
стилистику Уайлера, точно так же как мы узнаем стилистику Джона Форда, Фрица
Ланга или Альфреда Хичкока. В ряду этих имен автор картины «Лучшие годы нашей
жизни» даже производит впечатление художника, менее других увлекающегося
искусственными приемами в ущерб стилю. И если Лангу или Капре случалось
подделываться под самих себя, то Уайлеру свойственны иные слабости. У него
случаются провалы, его вкус не безошибочен, он подчас способен искренне
восхищаться Анри Бернстейном и авторами того же уровня, но никто не может
упрекнуть его в злоупотреблении формой. У Джона Форда есть только стиль, вот
почему он гарантирован от подражаний, даже от подражаний самому себе. Имитация
здесь была бы просто бесполезна, ибо она не могла бы опереться на
сколько-нибудь определенные формальные моменты, будь то характер освещения или
угол съемки. Единственный способ подражать Уайлеру состоит в том, чтобы усвоить
ту особую этику мизансцены, результаты которой наиболее очевидны в «Лучших
годах нашей жизни» 3. Уайлер не может иметь подражателей,— только
последователей.
Если бы
мы попытались охарактеризовать режиссуру этого фильма, исходя из одних только
формальных моментов, то пришлось бы ограничиться негативным определением.
Всякое усилие, направленное на построение мизансцены, имеет тенденцию к
исчезновению. Так что в результате этого процесса обнажения драматическая
структура и актер раскрываются перед нами с максимальной силой и ясностью.
Эстетический
смысл этой аскезы станет для нас более понятен, если мы возьмем пример из
«Лисичек», потому что здесь установка режиссера доведена допарадоксальной
==98
крайности. Пьеса Лилиан Хеллман почти не подверглась
переделке: в фильме ее текст воспроизведен чуть ли не целиком. В этих условиях
было трудно ввести действенные сцены на натуре, которые с точки зрения
большинства режиссеров были здесь совершенно необходимы, дабы сделать более
кинематографичной эту театральную массу. Ведь хорошая экранизация обычно в том
и заключается, что стараются выразить кинематографическими средствами все то
что удается освободить от литературной и театральной техники изложения. Если бы
вам сообщили, что господин Бертомье, например, перенес на экран, не изменив ни
единой строчки, последнюю пьесу господина Бернстейна, вами сразу овладело бы
недоброе предчувствие. А если бы вестник, принесший эту дурную новость, еще
добавил бы, что девять десятых фильма развертываются в одной и той же
театральной декорации изображающей традиционную гостиную, вы и вовсе уверились
бы, что речь идет о циничной ремесленной поделке. Но если бы вы услышали вдобавок,
что в этом фильме не наберется и десяти панорам и что камера почти все время
фиксирует актеров с неподвижной точки, вам осталось бы только воскликнуть: «Все
ясно!» А между тем, исходя из вышеизложенных парадоксальных установок, Уайлер
поставил фильм, относящийся к числу наиболее ярко выраженных, чисто
кинематографических произведений.
Главная
часть действия происходит в одной декорации, изображающей обычнейший холл в
обширном доме колониального стиля. В глубине — лестница, ведущая во второй
этаж, где расположены комнаты Бетт Дэвис и Герберта Маршалла. Никакие
живописные подробности не оживляют реалистическими штрихами это место действия,
столь же безличное, как и декорации классических трагедий. Действующие лица
имеют вполне правдоподобный, хотя и условный, повод встречаться здесь, заходя с
улицы или спускаясь из своих комнат. Лестница в глубине холла выполняет функции
сценической конструкции — это элемент театральной архитектуры, назначение
которого — позволить располагать действующих лиц в пространстве по вертикали.
Возьмем главную сцену фильма — сцену смерти главного героя (Герберт Маршалл).
Она происходит
==99
как раз в описанной выше декорации, и ее анализ поможет нам
раскрыть основные секреты уайлеровского стиля.
Бетт
Дэвис видна на втором плане, она сидит лицом к зрителям, в середине экрана,
причем яркий свет подчеркивает бледность ее набеленного лица. На первом плане,
частично срезанная рамками кадра, видна фигура Герберта Маршалла, обращенного к
зрителям в три четверти. Кадр остается неизменным все время, пока муж и жена
обмениваются своими безжалостными репликами; затем у мужа начинается сердечный
приступ, и он умоляет жену подняться в его комнату за лекарством. Начиная с
этого момента, как справедливо заметил Дени Марион, весь драматический интерес
сцены заключается в обыгрывании неподвижности жены. Маршалл вынужден подняться
и сам идти за лекарством. Не выдержав физического усилия, он замертво упадет на
первых же ступеньках лестницы.
В
театре эта сцена была бы, по-видимому, построена точно так же. Прожектор мог бы
освещать Бетт Дэвис, и зритель испытывал бы такой же ужас и отвращение при виде
ее преступной неподвижности, так же мучительно следил бы за спотыкающейся
походкой ее жертвы. Но, вопреки видимости, мизансцена Уайлера в максимальной
степени использует возможности, которые предоставляют режиссеру камера и
кадрирование. Положение Бетт Дэвис в центре экрана предоставляет ей
преимущественное место в драматической геометрии пространства; вся сцена вращается
вокруг нее, но чудовищная неподвижность героини выступает во всей своей
очевидности благодаря двойному выходу Герберта Маршалла за пределы кадра:
сначала направо, на переднем плане, потом налево, вглубине. Вместо того чтобы
следовать камерой за движениями героя (как поступил бы менее умный режиссер),
Уайлер оставляет камеру неподвижной. Когда, наконец, Маршалл входит в кадр
вторично и начинает подниматься по лестнице, Уайлер дает указание своему
оператору Грэгу Толанду не делать наводку на резкость на всю глубину плана, так
что зритель лишь смутно различает героя в момент его падения и смерти. Эта
несфокусированная съемка усиливает наше чувство беспокойства; мы стараемся
разглядеть издалека, как бы из-за плеча повернувшейся к нам спиной Бетт Дэвис,
чем
К оглавлению
==100
же закончится драма, ход которой скрыт от наших
глаз.
Мы
видим, как много здесь добавляет кино к собственно театральным средствам, но
убеждаемся также, что, как это ни странно, максимум кинематографической
выразительности совпадает с минимумом мизансценирования. Ничто не могло так
усилить драматическое воздействие этой сцены, как полная неподвижность камеры.
Любое движение камеры, которое с точки зрения менее тонкого режиссера могло
показаться кинематографическим элементом, на самом деле снизило бы
драматическое напряжение сцены. Здесь камера не отождествляется с каким-либо
зрителем, но благодаря рамкам кадра и драматической структуре внутрикадрового
пространства организует действие.
В
школьные годы, когда я увлекался минералогией, я, помнится, был поражен
структурой некоторых ископаемых раковин. Известковые слои при жизни животного
шли параллельно поверхности створок, однако с течением времени их молекулы
перегруппировались таким образом, что образовалось огромное количество
тончайших кристаллов, расположенных перпендикулярно первоначальному направлению
слоев. Раковина сохраняла свой прежний вид, так что на поверхности можно было
различить первоначальное расположение полосок; но стоило вам разломить хрупкую
оболочку — и вы убеждались, взглянув на излом, что старая форма совершенно не
соответствует новой внутренней микроархитектуре. Я прошу извинить меня за это
сравнение, но оно иллюстрирует те молекулярные превращения, которые претерпела
эстетическая структура пьесы Лилиан Хеллман, хотя в экранном воплощении она и
сохраняет парадоксальную верность своему театральному обличью.
В
«Лучших годах нашей жизни» проблемы предстают в ином свете. Практически фильм
поставлен по оригинальному сценарию. Роман в стихах Мак Кинли Кантора,
переделанный в сценарий Робертом Шервудом, конечно, не был сохранен в своем
первоначальном виде, как это имело место с пьесой Хеллман. Характер сюжета, его
серьезность и актуальность, его социальная органичность требовали в первую
очередь скрупулезной и почти документальной точности. Сэмюэль Голдвин и Уайлер
хотели сделать фильм, который был
==101
бы столь же художественным, сколь и гражданственным
произведением. Речь шла о том, чтобы через сюжет, хотя и романизированный, но
типичный и достоверный до мельчайших деталей, показать с достаточной широтой и
сложностью одну из самых мучительных социальных проблем послевоенной Америки. В
известном смысле «Лучшие годы нашей жизни» схожи с теми
воспитательно-дидактическими фильмами, которые Уайлер делал во время войны для
нужд американской армии. Мы знаем, что война, побудившая людей по-новому
взглянуть на реальность, оказала глубокое влияние на европейское кино. В
Голливуде это воздействие было менее ощутимо. Однако несколько режиссеров все
же были затронуты этим потоком, этим циклоном новой реальности, обрушившимся на
мир, что и выразилось здесь, как и повсюду, в стремлении к реализму,
выступающему как требование этическое.
«Мы все
трое (Капра, Стивене и Уайлер) участвовали в войне. На каждого из нас она
оказала глубокое воздействие. Без этого я не мог бы сделать мой фильм так, как
я его сделал. Мы научились лучше понимать мир... Я знаю, что Джордж Стивене
стал другим человеком после того, как увидел трупы в Дахау. Мы вынуждены
признать, что Голливуд почти совершенно не отражает мир и время, в котором мы
живем». Эти несколько строк, принадлежащие Уайлеру, достаточно ясно показывают,
как он понимал свою задачу при постановке фильма «Лучшие годы нашей жизни».
Известно,
впрочем, с какой тщательностью Уайлер готовился к постановке самого большого и
дорогостоящего из всех своих фильмов. Однако если бы «Лучшие годы нашей жизни»
сводились к гражданственной пропаганде, какой бы умелой, честной, волнующей и
полезной она ни была, не стоило бы уделять им столь пристальное внимание.
Сценарий фильма «Миссис Миннивер» (1942) в конечном счете ненамного хужр, но
Уайлер поставил его, не очень-то вдаваясь в проблемы стиля, и в результате его
постигла неудача. В «Лучших годах», напротив, этическая установка на
скрупулезную верность реальности получила эстетическое выражение в режиссуре.
Нет ничего более ошибочного и нелепого, чем противопоставлять — как это нередко
делалось по отношению к русскому и итальянскому кино—«реализм» и «эстетизм».
Вряд ли можно
==102
найти более «эстетический» фильм в истинном значении слова,
чем «Пайза». Реальность не есть искусство, но «реалистическое» искусство — это
такое искусство, которое умеет создавать эстетику, составляющую одно целое с
реальностью. Уайлер, слава богу, не ограничился сохранением психологической и
социальной правды и естественностью актерского исполнения. Он постарался в
самой постановке найти соответствующие эстетические решения.
Отмечу
для начала реализм декораций, построенных в своем истинном масштабе и целиком
(что необычайно усложняет съемки, потому что, для того чтобы осуществить отъезд
камеры, приходится убирать часть фундуса). Актеры и актрисы были одеты самым
обычным образом, и лица их если и были загримированы, то не больше, чем в
жизни.
Конечно,
эта почти суеверная забота о бытовой достоверности выглядит в Голливуде
особенно странно, и дело здесь даже не столько в том, заметит ли эти мелочи
зритель, сколько в тех требованиях, которые они диктуют режиссеру и которые
затрагивают и постановку света, и ракурс, и поведение актеров. Реализм
определяется не тем, находятся ли на сцене настоящие мясные туши и настоящие
деревья (как то было у Антуана); он определяется теми выразительными
средствами, которые художник открывает в материале реальности. «Реалистическая»
тенденция существует в кино начиная с Луи Люмьера и даже раньше — с Марея и
Мэйбриджа. Она развивалась с переменным успехом, но формы, которые она
принимала, продолжали существовать лишь в той мере, в какой они были связаны с
изобретением (или открытием) новых эстетических форм (независимо от того, были
ли эти открытия сознательными или нет). Существует не один реализм, но многие
его разновидности.
Каждая
эпоха вырабатывает свой реализм, то есть такую технику и эстетику, которые
способны наилучшим образом уловить, удержать и воспроизвести то, что нас
интересует в реальности. В кино техника, конечно, играет гораздо большую роль,
чем, например, в романе, потому что литературная речь довольно стабильна, а
кинематографическая образность с самого момента своего возникновения находится
в непрерывном движении. Панхроматическая пленка, звук, цвет
==103
привели к глубоким сдвигам. Не только словарь, но и
синтаксис киноязыка претерпел коренные изменения.
«Монтажное»
построение, соответствующее главным образом немому периоду, ныне почти
полностью вытеснено логикой раскадровки. Конечно, эти изменения могут отчасти
объясняться модой, которая в кино, как и повсюду, играет свою роль,— но
все-таки те из них, которые имеют реальное значение и обогащают кинематограф,
связаны с техникой, составляющей их базис.
Соблюдать
правдоподобие, показывать реальность, всю реальность и ничего, кроме реальности,—
что ж, это намерение достойно уважения. Но как таковое оно не выходит за
пределы морали. В кино же речь может идти только об изображении реальности.
Проблема эстетическая встает перед нами, лишь только мы задаемся вопросом о
средствах этого изображения. Мертвый ребенок, показанный крупным планом, это не
то же самое, что мертвый ребенок на общем плане или мертвый ребенок, снятый в
цвете. В действительности наш глаз и соответственно наше сознание видят
мертвого ребенка не так, как это делает кинокамера, заключающая изображение в
прямоугольник кадра.
Следовательно,
«реализм» заключается не только в том, чтобы показать нам труп, но и в том,
чтобы сделать это с учетом определенных физиологических и психологических
условий восприятия или, точнее, найти для них эквивалент. Классическая
раскадровка, разбивающая сцену на определенное количество элементов (рука на
телефонной трубке или на дверной ручке, которая медленно поворачивается),
внутренне соответствует определенному умственному процессу, так что мы приемлем
последовательность планов, не отдавая себе отчета в их технической
произвольности.
В
реальной действительности наш глаз, совсем как объектив кинокамеры, фиксируется
на той точке пространства, где происходит интересующее нас событие. Исследуя
реальность, он как бы переходит от одного пространственного плана к другому,
вводя тем самым и определенные временные градации во второй степени — именно
через пространственный анализ реальности, которая сама по себе также движется
во времени.
Первоначально
в кино употреблялись объективы с неизменным фокусным расстоянием, которые
давали наводку на резкость на большую глубину, что соответствовало
==104
раскадровке фильмов того времени — вернее, почти полному
отсутствию раскадровки. В то время не могло быть и речи о том, чтобы разбить
сцену на двадцать пять планов и следить за перемещениями актера в кадре, меняя
соответствующим образом наводку на резкость. Совершенствование оптики находится
в тесной связи с историей раскадровки, будучи одновременно причиной и
следствием.
Для
того чтобы пересмотреть технику съемок, как это сделал в 1938 году Жан Ренуар,
а немного позже Орсон Уэллс, надо было осознать, насколько иллюзорной была
аналитическая раскадровка, несмотря на свой кажущийся психологический реализм.
Если
наш глаз постоянно переходит от одного плана к другому в зависимости от того,
куда направлены наш интерес и наше внимание, то ведь эта умственная и
психологическая аккомодация происходит a posteriori. Событие существует
непрерывно в своем единстве, и как единое целое оно требует к себе нашего
внимания; а уж затем мы выделяем в нем тот или иной аспект под воздействием
нашего чувства или рассуждения, хотя выбор одного человека не похож на выбор
другого. В любом случае мы свободны и можем строить мизансцену по-своему —
всегда возможна иная раскадровка, которая может радикально изменить
субъективный аспект реальности. Однако режиссер, осуществляющий раскадровку,
производит вместо нас этот отбор и дифференциацию. Мы бессознательно принимаем
его анализ, потому что он проводится в соответствии с законами восприятия. Но
тем самым мы лишаемся права, имеющего столь же глубокие психологические
обоснования,— права в любой момент свободно менять нашу систему раскадровки.
Все это
имеет весьма серьезные психологические и эстетические последствия. Особым
свойством этой техники является то, что она имеет тенденцию* исключать
многозначность, имманентную реальности. Она до крайности «субъективизирует»
событие, поскольку каждая его частица оказывается результатом предвзятости
* Я
говорю «имеет тенденцию», так как все-таки возможно использовать эту технику
таким образом, чтобы свести на нет психологический ущерб, заключенный в ее
принципе. Хичкок, например, великолепно умеет вызвать ощущение многозначности
события, хотя и показывает его серией крупных планов.
==105
режиссера. Она, эта техника, не только требует
драматического, аффективного и нравственного отбора, но и предполагает — а это
еще существенней — определенную позицию по отношению к реальности как таковой.
Конечно, было бы крайностью воскрешать в связи с Уильямом Уайлером спор об
универсалиях. Если номинализм и реализм имеют свои соответствия в кино, то они
определяются не только в связи с техникой съемки и раскадровки. Однако вряд ли
можно считать случайностью то, что Жан Ренуар, Андре Мальро, Орсон Уэллс,
Роберто Росселлини и Уильям Уайлер в «Лучших годах нашей жизни» сходятся в
частом использовании глубинной наводки на резкость или, во всяком случае, «симультанной»
мизансцены4. Не случайно именно в фильмах этих режиссеров, с 1938 по 1946 год,
сосредоточено то, что является действительным достижением кинематографического
реализма, что связано с эстетикой реальности.
Благодаря
наводке на резкость по всей глубине кадра, в сочетании с одновременной игрой
актеров на разных планах, зритель получает возможность самостоятельно
произвести хотя бы заключительную операцию раскадровки. Цитирую Уайлера: «У
меня были длительные беседы с оператором Грэгом Толандом. Мы решили стремиться
к наибольшей реалистичности и простоте. Способность Грэга Толанда легко
переходить от одной декорации к другой... позволила мне усовершенствовать мою
технику постановки. Так, я могу строить действие, избегая купюр. Возникает
непрерывность, планы становятся более жизненными, более интересными для
зрителя, который получает возможность по собственному желанию рассматривать
каждый персонаж и самому делать купюры».
Выражения,
употребляемые Уайлером, показывают, что он стремился к целям, существенно
отличным от целей Орсона Уэллса или Жана Ренуара. Ренуар использовал
симультанную и боковую мизансцену главным образом для того, чтобы наглядно
показать взаимное пересечение интриг — как это имеет место в «Правилах игры», в
эпизоде празднества в замке. Прав да, в «Правилах игры» Ренуар пользуется не
столько глубинной мизансценой, сколько фронтальным развертыванием одновременно
протекающих действий в одном кадре и на одном пространственном плане. Но
==106
цель приема та же самая. Речь идет, так сказать, о глубине
кадра во фронтальной плоскости.
Здесь
можно указать на один психологический парадокс. Использование глубинной наводки
на резкость позволяет спроецировать на экран параллелепипед реальности,
равномерно четкий в любой точке своего пространства. Первоначально может
показаться, что эта равномерная четкость есть свойство самой реальности.
Очертания стула могут казаться нам расплывчатыми лишь потому, что в данный
момент нет аккомодации нашего глаза на этот предмет; поэтому закономерно, что и
на экране он будет не в фокусе. Нереальное событие обладает тремя измерениями.
Для нас же было бы физиологически невозможно увидеть с одинаковой четкостью
одновременно и стакан из-под яда на первом плане, на столике у кровати Сьюзен
Кейн, и дверь комнаты в дальней перспективе, в глубине кадра. В
действительности фокусировка нашего хрусталика должна была бы измениться. Так
что можно было бы даже утверждать, что реалистичность изображения принадлежит,
скорее, аналитической раскадровке. Но сказать так — значило бы игнорировать
мыслительный процесс, имеющий в данном случае большее значение, чем
психологический процесс восприятия. Вопреки подвижности нашего внимания,
событие воспринимается нами в своей непрерывности.
Кроме
того, аккомодация глаза и возникающая благодаря ей смена планов настолько
стремительны, что в результате бессознательного суммирования зрительных
впечатлений в нашем сознании складывается целостный образ; это немного похоже
на то, как пучок катодного излучения, пробегая по флуоресцентному экрану,
создает для зрителя, сидящего перед телевизором, иллюзию постоянного и
устойчивого изображения.
Можно
даже добавить, что поскольку в кино зритель обязательно и непрерывно видит
экранное изображение во всей его четкости, не имея при этом возможности
психологически уклониться от него путем перемещения своего взгляда чуть ближе
или чуть дальше, то непрерывность события (его онтологическое единство даже
скорее, чем драматическое) доводится до его восприятия в обязательном порядке.
Следовательно,
небольшой трюк, состоящий в том, что за экранным изображением сохраняется
равномерная
==107
резкость, не только не наносит ущерба реализму, но усиливает
и подтверждает его, ибо соответствует внутренне присущей ему многозначности. Он
физически конкретизирует метафизическое положение о том, что вся реальность
расположена на одном плане. Легкое физическое усилие по аккомодации зрения
часто заслоняет от нас тот мыслительный процесс, который ему соответствует и
который единственно только имеет значение. Кино же, напротив, совсем как
портреты кватроченто, где пейзаж на заднем плане выписан так же четко, как
черты лица, не дает зрителю уклониться от необходимости выбора; непроизвольные
рефлексы разрушены, и внимание должно давать ответ перед лицом сознания и
совести.
Орсон
Уэллс стремится то к тираническому объективизму в духе Дос Пассоса, то к своего
рода систематическому растягиванию реальности в глубину, как если бы она была
нарисована на элластичной ленте, которую режиссер забавы ради то растягивает,
пугая нас, то вдруг отпускает, так что она летит прямо нам в лицо. Убегающая в
глубину кадра перспектива и нижние точки съемки образуют в фильмах Уэллса как
бы взведенную катапульту. Но Уайлер стремится совсем к другому. Разумеется, и
для него также речь идет о том, чтобы ввести в раскадровку и в кадр максимум
реальности, передать целостное и одновременное присутствие обстановки и
актеров, так чтобы из действия не выпало ни одно звено. Но это постоянное
суммирование действия в кадре имеет целью самую полную нейтральность. Садизму
Орсона Уэллса и ироническому беспокойству Ренуара нет места в «Лучших годах
нашей жизни». Уайлер не стремится ни провоцировать зрителя, ни терзать его. Он
только хочет дать ему возможность: 1) все видеть; 2) выбирать по собственному
желанию. Это акт лояльности по отношению к зрителю, решимость соблюдать
честность в построении действия. Игра ведется с открытыми картами. Смотря этот
фильм, понимаешь, сколь неуместной была бы здесь традиционная раскадровка; это
было бы похоже на номер фокусника: «посмотрите сюда», как бы говорит нам
камера, «а теперь сюда». Ну, а что же происходит между планами? Обилие общих
планов и глубина резкости в кадре дают зрителю уверенность в том, что от него
ничего не утаили, что он имеет полную
==108
возможность наблюдать и выбирать и даже время от времени
делать выводы...
Глубина
кадра у Уильяма Уайлера выражает определенную установку, такую же либеральную и
демократическую, как сознание американского зрителя, как сознание героев
уайлеровского фильма!
Рассмотренная
с точки зрения повествования, глубина кадра у Уайлера выступает как
кинематографический эквивалент того идеального литературного стиля, который, по
мысли Жида и дю Гара, характеризуется полной нейтральностью и прозрачностью,
так что между сюжетом романа и сознанием читателя нет никакой окрашивающей или
преломляющей среды.
В
соответствии с замыслом Уайлера Грэг Толанд применяет здесь операторскую
технику, существенно отличную от его же манеры в «Гражданине Кейне» *. Это
касается прежде всего постановки света. Орсон Уэллс стремился к контрастному
освещению, резкому и в то же время богатому переходами, широкие зоны светотени
пронизывались пучками света, направленного на актеров. Уайлер потребовал от
Грэга Толанда, чтобы освещение было как можно более нейтральным; это не
эстетическая и даже не драматургическая работа светом, а просто честное
освещение, чтобы достаточно хорошо были видны актеры и окружающие их предметы.
Но яснее всего выявилось различие технического подхода в выборе объективов.
Широкоугольные объективы «Гражданина Кейна» сильно искажают перспективу, и
Орсон Уэллс использовал эффект убегающих в глубину кадра декораций. Примененные
в «Лучших годах нашей жизни» длиннофокусные объективы, более соответствующие
нормальному зрительскому восприятию, имеют тенденцию сплющивать сцену, то есть
приближать дальний план к поверхности экрана. Таким образом, и здесь тоже
Уайлер отказывается от некоторых возможностей мизансценирования
*
Интересно отметить, что какой бы выдающейся и бесспорной ни была роль Грэга
Толанда, существенные различия в технике глубинной съемки приводят к тому, что
стиль Уайлера совершенно не похож на стиль Орсона Уэллса. Это замечание говорит
в пользу как обоих режиссеров, так и их оператора.
==109
дабы соблюсти верность реальности. По-видимому, это
требование сильно осложнило задачу Грэга Толанда. Лишенный возможности
использовать короткофокусную оптику, он должен был до предела закрывать
диафрагму...
Декорации,
костюмы, освещение и, главное, фотографическая фактура — словом, все, что мы до
сих пор рассмотрели,— стремится к нейтральности. Создается впечатление, что
режиссура — во всяком случае, в рассмотренных нами элементах — характеризуется
как отсутствие таковой. Усилия Уайлера систематически направлены к созданию
кинематографического мира, не только строго соответствующего реальности, но и
как можно менее подверженного деформирующему воздействию оптики. С помощью необычных
технических ухищрений (таких, как декорации нормальных масштабов и предельное
диафрагмирование объектива) Уайлер добивается только того, что максимально
приближает экранное изображение к куску реальности, который мог бы
представиться нормальному человеческому взгляду, брошенному сквозь
прямоугольную рамку экрана *.
Все эти
поиски не могли не затронуть и раскадровки. Прежде всего по вполне очевидным
техническим причинам среднее число планов в фильме уменьшается пропорционально
его реализму. Известно, что в говорящих фильмах планов меньше, чем в немых, а в
цветных — еще меньше.
И Роже
Леенхардт мог не без основания предположить, что в стереоскопическом фильме
количество сцен окажется таким же, как и в пьесах Шекспира, то есть порядка
пятидесяти. Чем больше фильм стремится приблизиться к реальности, тем сложнее
оказывается психотехническая проблема перехода от одного плана к другому.
Приход в кино звука очень затруднил монтаж (так что он, надо сказать, почти
исчез, уступив место раскадровке), глубинное же построение кадра делает каждую
смену планов технической головоломкой. Потому-то и был так благодарен Уайлер
своему оператору
*
Сравните калейдоскопическую лавку в «Антуане и Антуанетте» с аптекой в «Лучших
годах», где можно разом охватить все предметы, выставленные на продажу (включая
чуть ли не цену на ярлычках), и всех клиентов, и самого хозяина, сидящего
где-то в глубине помещения в своей стеклянной клетке.
К оглавлению
==110
. Талант Грэга Толанда проявился здесь не столько в глубоком
знании фотографических свойств пленки, не столько даже в великолепном умении
кадрировать, о чем нам еще придется говорить, сколько в безошибочности
монтажных переходов, когда чередуются уже не плоские планы, но одна глыба,
состоящая из декораций, света, актеров и неограниченного в глубину
пространства, замещается другой.
Детерминизм
такой техники вполне соответствовал замыслам Уайлера. Разбивка сцены на планы —
операция по необходимости искусственная. Тот же самый эстетический расчет,
который подсказал режиссеру построение кадра в глубину, побудил его уменьшить
число планов до минимума, необходимого для ясности изложения. Фактически
«Лучшие годы нашей жизни» насчитывают не более 190 планов в час, то есть примерно
500 планов в фильме, длящемся 2 часа 40 минут. Напомню для сравнения, что
современные фильмы содержат в среднем 300—400 планов в час (то есть примерно
вдвое больше), а такой фильм, как «Антуан и Антуанетта», сделанный в прямо
противоположной технике, насчитывает 1200 монтажных склеек за 1 час 50 минут
проекции. В «Лучших годах» не редкость двухминутные планы, снятые совершенно
неподвижной камерой. В подобной мизансцене не остается и следа от техники
монтажа. Сама раскадровка как эстетическое выражение соотношения между планами
играет гораздо меньшую роль: план и эпизод имеют тенденцию к совпадению. Многие
сцены подчиняются тому же закону драматического единства, что и сцены у
Шекспира, и снимаются единым планом. И в этом отношении сопоставление с фильмами
Орсона Уэллса также выявляет различие эстетических установок при известной
общности технических решений. Глубинное построение кадра должно было привести
автора «Гражданина Кейна», в соответствии с той же логикой реализма, к
совпадению между планом и эпизодом. Вспомните, например, сцену отравления
Сьюзен, сцену разрыва между Кейном и Джедом Лилэндом, а в «Великолепных
Амберсонах» замечательную любовную сцену в коляске с этой длинной-длинной
панорамой, которая, как нас в этом убеждает заключительное движение камеры,
была снята без применения рирпроекции; или же сцена на кухне, где юный Джордж
лопает пирожные
==111
и болтает с тетей Фанни. Но Орсон Уэллс весьма разнообразно
использует эти сцены. В его эстетике длинные планы соответствуют определенному
типу кристаллизации реальности; но тут же рядом существуют и другие
разновидности кристаллов, такие, как ролик, стилизованный под хронику в
«Гражданине Кейне», а главное — серии наплывов, служащие для краткой передачи
длительных отрезков повествования. Ритм и сама структура излагаемых фактов
меняются в соответствии с диалектикой уэллсовского рассказа. У Уайлера нет
ничего подобного. Эстетика раскадровки остается у него неизменной, приемы
ведения рассказа имеют единственной целью сделать повествование как можно более
ясным и посредством этой ясности — наиболее эффективным в драматургическом
плане.
В этом
месте нашего анализа читатель, возможно, задает себе вопрос, как же все-таки
проявляется мизансценирование в «Лучших годах нашей жизни». Действительно, до
сих пор мы только и делали, что показывали его отсутствие. Но прежде чем
перейти к позитивным аспектам столь парадоксальной режиссерской техники, я
хотел бы избежать одного недоразумения. Если Уайлер стремился, вопреки техническим
трудностям, которые до него еще никто не преодолевал, к созданию совершенно
нейтрального драматического мира, то было бы наивно смешивать эту нейтральность
с отсутствием искусства. Подобно тому как в «Лисичках» за верностью театральным
формам скрывалось их тонкое эстетическое преобразование, так и здесь терпеливое
и умелое достижение нейтральности предполагает предварительное преодоление
обычных кинематографических условностей. Нужно было обладать большим мужеством
и богатым воображением для того, чтобы избавиться как от почти неизбежных
технических условностей (влекущих за собой определенные эстетические
условности), так и от приемов раскадровки, навязанных модой. Мы привыкли
хвалить писателя за строгость стиля и, восхищаясь Стендалем за его стремление
писать языком Гражданского кодекса, мы не думаем упрекать его в умственной
лени. Выше я сравнивал установку Уайлера с определениями идеального
литературного стиля, принадлежащими Андре Жиду и Роже Мартен дю Гару. Правда,
это предварительное очищение стиля приобретает смысл и значение
==112
лишь постольку, поскольку в результате на этой почве
возникают подлинные произведения, что нам и предстоит доказать.
В своей
пространной статье Уайлер признался, что он полностью доверился Грэгу Толанду
во всем, что касается технической раскадровки на съемочной площадке. То же
самое он подтвердил мне в личной беседе, да и внимательный просмотр фильма
свидетельствует о том же. Такая организация работы объясняется прежде всего
тем, что Грэг Толанд снял шесть фильмов Уайлера, что облегчало взаимопонимание
между режиссером и оператором.
Поэтому
Уайлер, будучи уверенным в своем операторе и находясь с ним в полном творческом
согласии, не стал делать подробной режиссерской разработки сценария.
Практически фильм снимался по литературному сценарию, так что техническое
решение каждой сцены осуществлялось непосредственно на съемочной площадке.
Подготовка к съемкам каждого плана занимала очень много времени, но при этом
режиссер не интересовался камерой. Таким образом, вся «режиссура» Уайлера была
сосредоточена на актере. Он добился того, что внутрикадровое пространство
утратило значение само по себе, но это было ему нужно лишь для того, чтобы
предоставить кадр в полное распоряжение актеров, носителей и выразителей всего
богатства драматического спектра.
Почти
все планы Уайлера построены как уравнение, или, лучше сказать, как
параллелограмм сил драматического действия, направление которого можно выразить
чуть ли не графически. Разумеется, это нельзя считать новаторством, ведь каждый
режиссер, достойный этого имени, заставляет актеров располагаться и двигаться в
пространстве кадра в соответствии с еще не изученными законами,
непосредственное постижение которых является частью его таланта. Любому известно,
например, что персонаж, обладающий в данный момент превосходством, должен быть
расположен в кадре выше того, кому он дикует свою волю.
Уайлер
не только умеет сообщать своим смысловым конструкциям исключительную ясность и
силу. Своеобразие его таланта связано с открытием некоторых специфических для
его творчества законов, и, главное,— с использованием глубины кадра как дополни
==113
тельной пространственной координаты. Проанализированная выше
сцена смерти главного героя в «Лисичках» показывает, с каким мастерством Уайлер
строит всю сцену вокруг актера: неподвижная Бетт Дэвис в центре экрана, словно
пригвожденная к месту светом прожектора, а вокруг нее — извилистый путь
Герберта Маршалла, являющего собою как бы другой, противоположный и движущийся,
полюс драматического напряжения; его перемещение с переднего плана в глубину
кадра ведет к сдвигу всего драматического спектра, причем поразительные эффекты
достигаются благодаря его двукратному выходу за кадр и мягкофокусному размыву
дальнего плана в момент подъема героя по лестнице. Мы видим, таким образом, как
Уайлер использует глубину кадра. В «Лучших годах» установка режиссера
заключалась в том, чтобы поддерживать эту глубину постоянно, но в «Лисичках»
такой установки не было. Поэтому Уайлер предпочел, чтобы фигура умирающего
Маршалла была дана в мягкофокусном размыве, дабы усилить таким образом у
зрителя чувство беспокойства...
Драматическая
эволюция этого плана следует, таким образом, за диалогом и за действием, но его
кинематографическое решение обладает своей собственной логикой драматического
развития, своим особым сюжетом, в основе которого — история самого этого
кинематографического плана с того момента, как Маршалл встает, и до его падения
на лестнице, А вот в «Лучших годах» драматическая конструкция опирается на три
персонажа (сцена разрыва между Даном Эндрюсом и Терезой Райт). Действие
происходит в баре. Фредерик Марч, отец Терезы Райт, только что убедил своего
товарища порвать отношения с его дочерью и предлагает ему немедленно пойти и
позвонить ей по телефону. Дан Эндрюс встает и идет к телефонной будке,
расположенной у входа, в другом конце помещения. Фредерик Марч остается на
переднем плане и, опершись на пианино, делает вид, будто с интересом следит за
музыкальными упражнениями безрукого сержанта, пытающегося играть с помощью
своих протезов. Кадр охватывает клавиатуру пианино крупным планом, чуть
подальше Фредерика Марча на среднем плане, а в самой глубине, на другом конце
зала, мы очень четко различаем Дана Эндрюса в телефонной
==114
будке. Этот план совершенно явно построен на двух
драматических полюсах и трех персонажах. Действие, происходящее на переднем
плане, является второстепенным, хотя достаточно интересным и необычным, чтобы
удержать наше внимание, тем более что на экране ему уделено значительное место.
Главное действие, определяющее в данный момент решающий поворот в ходе событий,
напротив, развертывается почти скрыто в крохотном уголке большого зала, то есть
в левом верхнем углу экрана.
Связь
между двумя этими зонами осуществляется благодаря Фредерику Марчу, который один
только, вместе со зрителем, знает, что происходит в телефонной будке, но
который по логике сцены захвачен также музыкальными упражнениями своего безрукого
товарища. Время от времени он слегка поворачивает голову, и его взгляд,
пересекая по диагонали обширное помещение, с беспокойством следит за действиями
Дана Эндрюса. А тот, положив наконец трубку, внезапно выходит за дверь и
исчезает на улице.
Если мы
разложим действие на элементы, то убедимся, что реальное значение имеет, в
сущности, только телефонный звонок Дана Эндрюса; только этот разговор нас в
данный момент и интересует. Единственный актер, чье лицо мы хотели бы сейчас
увидеть на крупном плане, удален от нас и почти не различим за стеклами кабины.
Естественно, что слов его мы тоже не слышим. Истинная драма развертывается
внутри какого-то аквариума, так что мы только и видим, что обычные, банальные
жесты человека, звонящего по автомату. Глубина плана с равномерной наводкой на
резкость использована здесь для тех же целей, которые в «Лисичках» достигались
мягкофокусным размывом дальнего плана в сцене смерти Герберта Маршалла; но в
данном случае дальность расстояния дает тот же эффект, что и несфокусированная
съемка.
Телефонная
будка, помещенная в глубине зала и заставляющая зрителя гадать о происходящем,
проникаясь тем же беспокойством, что и Фредерик Марч,— великолепная
режиссерская находка. Но Уайлер почувствовал, что, взятая сама по себе, она разрушит
пространственное и временное единство плана. Нужно было ее уравновесить и
усилить в одно и то же время. Отсюда и возникла идея отвлекающего действия на
==115
переднем плане, действия, занимающего в пространстве кадра
место, обратно пропорциональное его драматическому значению. Но хотя и
второстепенное, действие это не безразлично для зрителя, ибо его волнует также
и судьба безрукого сержанта, а кроме того, не каждый день приходится наблюдать,
как играют на пианино протезными крючками. В ожидании конца телефонного
разговора внимание зрителя раздваивается между крючками и телефонной будкой.
Так Уайлер достигает двойной цели: дивертисмент с пианино позволяет продлить во
времени план, который в ином случае показался бы бесконечным и однообразным; а
введение дополнительного драматического полюса, кроме того, помогает
организовать действие и построить кадр. На реальное действие накладывается
собственное действие мизансцены, состоящее в том, чтобы, вопреки воле зрителя, расщепить
его внимание и направить его туда, куда нужно, в тот момент, когда нужно, и
сделать таким образом зрителя активным соучастником драмы, созданной
режиссером.
Добавлю
для точности, что эта сцена дважды перебивается крупным планом Фредерика Марча,
смотрящего в сторону кабины. Уайлер, по-видимому, опасается, как бы зритель не
увлекся упражнениями на пианино и не забыл о действии, происходящем в глубине.
Для страховки он сделал несколько планов, изолирующих главное действие,—
драматическую линию между Фредериком Марчем и Даном Эндрюсом. Монтаж показал,
что двух перебивок вполне достаточно, чтобы поддержать слабеющее внимание зала.
Соблюдение подобных предосторожностей очень характерно для техники Уайлера.
Орсон Уэллс тот просто запихнул бы кабину как можно дальше в глубину кадра и
держал бы план столько, сколько ему нужно. Потому что для Орсона Уэллса глубина
кадра — эстетическая самоцель, в то время как Уайлер подчиняет ее драматическим
требованиям мизансцены и главным образом — ясности изложения. Две перебивки
равнозначны выделению жирным шрифтом, они подчеркивают существенное.
Уайлер
особенно пристрастился к построению сцены на двух одновременных и неравноценных
действиях. Это легко можно проследить на одном из планов из последнего эпизода
фильма.
==116
Празднуется свадьба безрукого сержанта. Драматический полюс
сцены находится в правой части кадра, где собрались почти все присутствующие.
На самом же деле действие, связанное со свадьбой, фактически уже пришло к своему
завершению и все внимание зрителей сосредоточено на Терезе Райт (стоящей слева
в глубине кадра) и на Дане Эндрюсе (слева на переднем плане), так как они
встречаются сейчас впервые после разрыва. На протяжении всего эпизода
бракосочетания Уайлер манипулирует актерами таким образом, чтобы из общей массы
все время выделялись именно эти два протагониста, которые, как чувствуют
зрители, не перестают думать друг о друге. Два полюса — Дан Эндрюс и Тереза
Райт — еще не встретились, но благодаря их перемещениям в кадре (тщательно
замаскированным естественностью поведения других актеров) ясно выявилась
существующая между ними связь. Белое платье Терезы Райт в середине кадра как бы
обозначает драматический водораздел, так что достаточно разрезать в этом месте
кадр на две части, чтобы разделить действие на два составляющих элемента. В
соответствии с драматической логикой и пластической композицией из всех
присутствующих только двое влюбленных оказались в левой части экрана.
На этом
кадре легко заметить, какое значение имеет направление взглядов, которое всегда
составляет у Уайлера как бы скелет мизансцены *. Зрителю достаточно
*
Помимо реальных взглядов актеров есть еще скрытый взгляд кинокамеры, с которым
неприметно отождествляется наш собственный взгляд. Уайлер превосходно умеет
дать нам это почувствовать. Как уже отметил Жан Митри, в одной из сцен фильма
«Иезавель» (где Бетт Дэвис замечает палку в руках Генри Фонда) камера занимает
позицию, диаметрально противоположную героине, но направление объектива
совпадает со взглядом актрисы, устремленным на палку. Тем самым мы получаем
возможность лучше почувствовать направление взгляда, чем если бы кинокамера
просто заняла место героини.
А вот
еще одна разновидность того же приема. В «Лисичках» требуется передать ход мыслей
одного из героев, который видит стальную шкатулку, где, как он знает, лежат
похищенные акции. Уайлер помещает шкатулку на переднем плане, так что глаза
актера и объектив кинокамеры оказываются расположенными симметрично по
отношению к предмету и на одинаковой высоте. Таким образом, наш взгляд
встречается со взглядом персонажа не прямо, но как бы преломившись через
предмет, на который мы смотрим под тем же углом, что и актер, но с про-
==117
следовать за взглядами персонажей, чтобы перед ним
раскрылись все замыслы режиссера. Достаточно прочертить их направления на
фотографии, чтобы перед нами возникла диаграмма драматических токов,
пронизывающих экран, подобно тому как железные опилки показывают нам
направление силовых линий магнитного поля. Вся подготовительная работа Уайлера
как раз в том и состоит, чтобы как можно больше упростить механику мизансцены,
с тем чтобы добиться как можно большей ее выразительности и ясности. В «Лучших
годах» он приходит к почти абстрактной обнаженности. Драматическое
взаимодействие настолько тонко и подвижно, что перемещение направления взгляда
всего на несколько градусов не только отчетливо воспринимается даже самым тупым
зрителем, но способно, подобно воображаемому рычагу, перевернуть всю сцену.
Может
быть, свойством высшего мастерства мизансцены как раз и является способность
обходиться без заранее придуманных эстетических решений. И в этом отношении
также Уайлер выступает как антипод Орсона Уэллса, который пришел в кино с
намерением извлечь определенные эффекты из кинематографической техники. Уайлер
же долгое время крутил посредственные вестерны, о которых ныне все забыли.
Именно как профессионал, через ремесло, а не через эстетику, он стал тем
законченным художником, который предстал перед нами уже в «Додсворте». Когда он
говорит о своей режиссуре, то всегда подчеркивает, что единственная цель — это
зритель, необходимость с наибольшей ясностью и силой раскрыть перед ним
действие. Огромный талант Уайлера как раз и состоит в его умении добиваться
ясности через обнажение формы благодаря скромности перед лицом зрителя и
избранному сюжету. Он воплощает собой нечто вроде гения ремесла,
кинематографического умения, что и позволило ему довести экономию выразительных
средств до такого предела, где она парадоксальным образом привела к созданию
своеобразнейшей индивидуальной стилистики. Чтобы описать это индивидуальное
своеобразие, тивоположной стороны. В любом случае Уайлер направляет наш взгляд
в соответствии со строгими законами драматургической оптики.
==118
нам пришлось для начала охарактеризовать его как отсутствие
стиля.
Существуют
вещи специфически кинематографические, как существует специфическое достояние
поэзии. Но глупо было бы думать, будто можно нанести этот элемент на кинопленку
и спроецировать его в увеличенном виде на экран. Чистое кино существует в
смешении и может с равным успехом сочетаться и со слезливой драмой и с
раскрашенными кубами Фишингера. Кино не есть некое особое вещество, которое мы могли
бы получить в виде кристаллов. Скорее, это эстетическое качество материала,
модальность рассказа-зрелища 5. Опыт достаточно убедительно показал, что надо
избегать отождествления кино с той или иной эстетической системой, а тем более
— с какой-либо манерой, какими-либо субстанциализированными формами, которыми
режиссеры и должны были бы пользоваться хотя бы в виде приправы.
Кинематографическая «чистота», или, как я предпочел бы выразиться,
кинематографический коэффициент фильма есть функция эффективности его
раскадровки.
Именно
в той мере, в какой Уайлер никогда не пытался маскировать литературный и
театральный характер большинства своих сценариев, в его фильмах раскрывалась во
всей своей чистоте кинематографическая специфика. Автор «Иезавели» и «Лучших годов
нашей жизни» никогда не задавался целью «снимать кинематографично». Но никто
лучше него не умел рассказать историю «кинематографично». Для Уайлера действие
выражается в первую очередь через актера. Как любой театральный режиссер, он
стремится строить действие в зависимости от актера. Декорации и камера нужны
только для того, чтобы помочь актеру сосредоточить на себе максимум
драматического напряжения, собственного же значения они иметь не должны. Но
если театральный режиссер стремится к той же цели, он располагает очень
ограниченными средствами для ее достижения вследствие характера современной
театральной архитектуры, а главное -— расположения рампы.
Марсель
Паньоль ошибался, наивно полагая, будто кино — это бинокль, направленный на
сцену. Укрупнение, равно как и время, не имеют к этому никакого отношения. Кино
начинается тогда, когда рамки кадра,
==119
а также близость камеры и микрофона помогают сделать акцент
на актере. Какой актер не мечтал о возможности играть, сидя неподвижно в
кресле, чтобы пять тысяч зрителей могли следить за малейшим движением его глаз?
Какой режиссер не желал бы заставить зрителя галерки отчетливо воспринимать все
перемещения персонажей, смысл всех изменений мизансцены в любой момент действия?
Осуществить в кино то, что составляет суть театральной постановки,— вот и все,
к чему стремился Уайлер, имея при этом в виду такую театральную постановку, при
которой режиссер отказался бы от возможностей света и декорации, ограничившись
исключительно актерами и текстом. Но при всем том в «Иезавели» и «Лучших годах
нашей жизни» нет ни одного плана, ни одной минуты, которые не представляли бы
собою чистого кино *.
«Revue
du Cinema», 1948
^^^ *
Перечитывая сегодня эту статью десятилетней давности, я испытываю потребность
внести некоторые уточнения... Мне кажется, что анализы, содержащиеся в этом
тексте, сохранили свой интерес вплоть до настоящего времени, независимо от
моего тогдашнего энтузиазма по отношению к Уильяму Уайлеру. Сегодня я, конечно,
уже не поставил бы в столь исключительное положение этого режиссера, чье
творчество потерпело ущерб под ударами времени. Некогда Роясе Леенхард
воскликнул: «Долой Форда, да здравствует Уайлер!» История не поддержала этот
воинственный клич, и на какое бы место мы ни поставили сегодня Форда, Уайлер
окажется ниже. Тем не менее следует различать собственное значение этих двух
режиссеров и значение их эстетических установок как таковых. С этой точки
зрения все еще возможно отдавать предпочтение кинематографическому письму
Уайлера, проявившемуся в некоторых его фильмах, перед зрелищным кинематографом
Форда.
К оглавлению
==120
ЗА «НЕЧИСТОЕ» КИНО
(В
защиту экранизации)
Окинув
критическим взглядом кинопродукцию последних десяти-пятнадцати лет, нетрудно
усмотреть, что одно из основых явлений, определяющих ее развитие, состоит во
все более значительном использовании литературного и театрального наследия.
Разумеется,
кинематограф не впервые стал обращаться к сокровищам романа и театра; однако
подход его явно изменился. Экранизация «Графа Монте-Кристо», «Отверженных» или
«Трех мушкетеров»—процесс иного порядка, нежели воспроизведение на экране
«Пасторальной симфонии»,
«Жака-фаталиста» («Дамы Булонского леса»), «Дьявола во плоти» или
«Дневника сельского священника». Александр Дюма или Виктор Гюго предоставляли
кинематографистам лишь персонажей и приключенческую канву, которые в
значительной мере независимы от своего первоначального литературного
воплощения. Инспектор Жавер или Д'Артаньян стали ныне элементами мифологии,
лежащей за пределами романа. Они живут своего рода автономной жизнью, по отношению
к которой оригинальное произведение — всего лишь случайное и почти излишнее
проявление.
С
другой стороны, продолжается экранизация романов, подчас превосходных, которые
можно рассматривать как тщательно разработанные либретто. В этом случае
кинематографист ищет у романиста персонажей, и интригу, и даже — что
представляет собой уже более высокий уровень — известную атмосферу, как,
например, у Сименона, или поэтический настрой, как у Пьера Бери. Но и здесь
можно себе представить, что книга вовсе не была написана, и что писатель — лишь
необычайно многословный сценарист. Это настолько верно, что многие американские
романы «черной серии» явно написаны с двоякой целью, учитывающей возможность их
экранизации Голливудом. Следует все же отметить, что уважительное отношение к
полицейскому роману, особенно если он обладает известной оригинальностью,
становится все более и более настоятельным требованием; вольное обращение с
автором не проходит в полной мере безнаказанно.
==122
Но когда Робер Брессон, собираясь перенести на экран
«Дневник сельского священника», заявляет, что он намерен следовать книге
страница за страницей, если не фраза за фразой, то тут уже становится
очевидным, что речь идет о совершенно ином, что в игру вовлекаются новые
ценности. Кинематографист не довольствуется больше разграблением достояния
прошлого, как это, в общем делали до него Корнель, Лафонтен или Мольер. Он
хочет перенести на экран как бы в подлиннике произведение, превосходство
которого он признает a priori. Да и может ли быть иначе, если речь идет о
произведении, принадлежащем к столь высоко развитой форме литературы, что и
герои и значение их поступков тесно связаны со стилем писателя; если они
заключены в этом стиле, как в микрокосмосе, непреложные законы которого теряют
свое значение за его пределами; если роман, отрекшись от эпического упрощения,
перестает быть образцом для штамповки мифов и становится сферой тончайших
взаимодействий между стилем, психологией, нравственностью или метафизикой?
Тенденция
этого развития еще более отчетливо сказывается в области театра. Подобно
роману, драматургическая литература всегда поддавалась насилию со стороны кино.
Но кто осмелится сравнить «Гамлета» Лоренса Оливье со смехотворными с нынешней
точки зрения заимствованиями, которые позволяли себе постановщики «Film d'Art»
' начала века по отношению к репертуару «Комеди франсэз»? Кинематографисту
всегда казалось соблазнительным просто снимать театральный спектакль, который
представляет собой уже готовое зрелище; результаты, однако, общеизвестны.
Недаром, видимо, выражение «фильм-спектакль» стало общепринятой формулой
критического осуждения. Роман требовал известной доли творческого подхода для
того, чтобы от рукописи перейти к изображению. В противоположность этому театр
оказался коварным другом; его кажущееся сходство с кинематографом заводило
последний в тупик, толкало его по пути наименьшего сопротивления. И если
репертуар бульварного театра послужил все же основой для небольшого числа
сносных фильмов, то объясняется это тем, что иногда режиссер позволял себе с
пьесами те же вольности, которые он допускал по отношению к роману,
==123
сохраняя в основном лишь персонажей и фабулу. Но здесь мы
сталкиваемся с совершенно новым явлением, которое, наоборот, выдвигает в
качестве непреложного требования принцип соблюдения театрального характера
первоисточника.
И
упомянутые выше фильмы и другие ленты, названия которых придут нам сейчас на
ум, столь многочисленны, а качество их столь несомненно, что о них нельзя
говорить как об исключениях, подтверждающих правило. Наоборот, подобные
произведения стали за последние десять лет вехами, характерными для одного из
наиболее плодотворных направлений современного кино.
«Вот
.это кино!»—провозгласил некогда Жорж Альтман на обложке книги, посвященной
восхвалению немого кино от «Пилигрима» до «Старого и Нового». Следует ли отныне
считать устарелыми догмы и надежды первых представителей кинематографической
критики, защищавших автономию седьмого искусства? Разве кинематограф или то,
что от него осталось, неспособен в наши дни выжить без таких подпорок, как
литература или театр? Стоит ли он на пути превращения в искусство, подчиненное,
зависящее, подобно дублеру, от другого искусства с установившимися традициями?
Предлагаемая
нашему вниманию проблема, по существу, не столь нова — это в первую очередь
проблема взаимного влияния искусств и ее переработки. Если бы кинематограф
насчитывал два или три тысячелетия, мы, вероятно, увидели бы с большей ясностью,
что он не ускользает от общих законов развития искусств. Но ему всего лишь
шестьдесят лет и его историческая перспектива чрезвычайно сжата. То, что обычно
раскрывается на протяжении одной или двух цивилизаций, здесь происходит в
течение жизни одного человеческого поколения. Но основная причина ошибок
заключена в ином: это ускоренное развитие даже во времени не совпадает с
эволюцией других искусств. Кинематограф молод, тогда как литература, театр.
музыка, живопись столь же древни, как сама история. Подобно тому как воспитание
ребенка строится на основе подражания окружающим взрослым, развитие
кинематографа неизбежно подчинялось примеру уже сформировавшихся искусств.
Поэтому его история,
==124
начавшаяся на заре нашего века, слагается из детерминизма,
характерного для эволюции всякого искусства, и из влияний, оказываемых на него
уже развитыми видами искусства. Запутанность этого эстетического комплекса
усложняется еще и социологическими воздействиями. Ведь кинематограф утверждается
как единственное подлинно народное искусство в эпоху, когда даже театр,
искусство по преимуществу общественное, оказывается доступным лишь
привилегированному меньшинству обладателей определенной культуры или достатка.
Возможно, последние двадцать лет существования кинематографа будут равноценны в
его истории пяти векам истории литературы; для искусства — это мало, для нашего
критического восприятия — много. Поэтому попытаемся ограничить круг наших
размышлений.
Прежде
всего отметим, что переложение (адаптация), которое в той или иной мере
рассматривается современной критикой как крайне постыдный прием, неизменно
существовало в истории искусства. Мальро2 показал, чем была обязана живопись
Ренессанса готической скульптуре. Джотто использовал в своем творчестве принцип
рельефа; Микеланджело умышленно отказался от преимуществ масляных красок, ибо
фреска больше соответствовала скульптурной живописи. Безусловно, это был быстро
пройденный этап на пути к высвобождению «чистой» живописи. Но разве можно сказать,
что Джотто ниже Рембрандта? Да и что значила бы подобная иерархия? Можно ли
отрицать, что рельефные фрески были необходимым, а следовательно, эстетически
оправданным этапом? И что в таком случае сказать о византийских миниатюрах,
увеличенных в камне до размера тимпанов, украшавших соборы? Если же обратиться
к роману, то следует ли упрекать доклассическую трагедию в том, что она
приспособила для сцены романтическую пастораль, следует ли ставить в упрек
мадам де Лафайет все, чем она обязана драматургии Расина? То, что справедливо в
отношении техники, в еще большей мере справедливо в отношении тем, свободно
переходивших от одной формы выражения к другой. Это было обычным явлением в
истории литературы вплоть до XVIII века, когда впервые стало возникать понятие
плагиата. В средние века наиболее значительные христианские сюжеты
==125
встречались и в театре, и в живописи, и в витражах, и т. д.
Когда
речь заходит о кинематографе, нас, видимо, вводит в заблуждение то, что в противоположность
обычным циклам художественного развития здесь переложение, заимствование,
подражание не лежат у самых истоков. Наоборот, независимость выразительных
средств, оригинальность сюжетов никогда не были более значительными, чем в
первые двадцать пять — тридцать лет развития кино. Можно с легкостью допустить,
что зарождающееся искусство пыталось подражать старшим, а затем мало-помалу
начало выявлять свои собственные законы и темы; труднее понять, когда оно
ставит свой всевозрастающий опыт на службу произведениям, чуждым ему по духу,
как будто его способности к выдумке, к специфическому творчеству обратно
пропорциональны его выразительным возможностям.
Отсюда
один лишь шаг до признания этого парадоксального развития проявлением упадка,
шаг, который почти вся критика, не колеблясь, сделала на заре звукового кино.
Но это,
по существу, означало непонимание основных факторов истории кино. Из того, что
кинематограф появился «после» романа или театра, вовсе не следует, что он
подстраивается в один ряд, вслед за ними, и располагается с ними в одной
плоскости. Кинематограф развивался в социальных условиях, отличающихся от
условий существования искусств с установившимися традициями. С тем же успехом
можно было бы утверждать, что народные танцульки или модные современные танцы
являются наследниками классической хореографии. Первые кинематографисты
действительно многое заимствовали у искусства, чью публику они собирались
отбить, а именно, у цирка, ярмарочных балаганов и мюзик-холла, давших
кинематографу, в частности первым комическим фильмам, и специфическую технику и
исполнителей. Известны знаменитые слова, приписываемые Зекке, впервые
обнаружившему некоего Шекспира: «Как много замечательного прохлопал этот жалкий
тип!» Самому Зекке и его собратьям не грозило воздействие той литературы,
которую не читали ни они, ни их зрители. Зато они в полную меру восприняли
влияние бульварной
==126
литературы того времени, которой мы обязаны несравненным
«Фантомасом»3— одним из шедевров экрана. Кинематограф воссоздавал условия для
становления подлинного и большого народного искусства и не отворачивался от
скромных и презираемых форм ярмарочного балагана или романа-фельетона. Важные
господа из Академии и «Комеди Франсэз» попытались, правда, усыновить младенца,
стремившегося идти по стопам своих отцов, однако неудача «Film d'Art»
свидетельствует о тщетности этого противоестественного намерения. Горести царя
Эдипа или принца Датского означали для начинающего кинематографа не больше, чем
«наши предки галлы» значат для негритят — учеников начальной школы в глухих
африканских дебрях. Сегодня мы находим в этих фильмах некий интерес и
очарование лишь постольку, поскольку их можно уподобить языческим наивным
обрядам, которые создает на основе католической литургии дикое племя, сожравшее
своих миссионеров.
И если
во Франции явное заимствование того, что сохранилось от народного театра
ярмарочных площадей и бульваров (а в Голливуде — бесстыдное расхищение приемов
и исполнителей англосаксонского мюзикхолла), не вызвало эстетических протестов,
то причину следует искать прежде всего в отсутствии в ту пору
кинематографической критики. К тому же превращения этих так называемых низших
форм искусства никого не шокировали. Никто не помышлял их защищать, помимо заинтересованных
лиц, обладавших в большей мере знанием своего ремесла, нежели киноведческими
предубеждениями.
Можно
сказать, что кинематограф действительно следовал за театром лишь в тот период,
когда, перешагнув через один или два века эволюции искусства, он обратился к
почти заброшенным драматургическим формам. Догадываются ли высокоученые
историки, досконально знающие все о фарсе XVI века, какую жизненность он вновь
обрел в период между 1910— 1914 годами на студиях Пате и Гомона и в твердых
руках Мак Сеннета?
Аналогичные
доказательства можно, вероятно, с легкостью привести и по отношению к роману.
Многосерийный фильм, использующий широко распространенные приемы фельетона, по
существу, возвращается
==127
к старым формам повествования. Я лично ощутил это,
пересматривая «Вампиров» 4 Фейада на одном из тех сеансов, секретом организации
которых обладает Анри Ланглуа, милейший руководитель Французской синематеки. В
тот вечер работал только один из двух проекционных аппаратов. К тому же в
показанной копии не было субтитров, и, пожалуй, сам Фейад не распознал бы своих
убийц. Зрители начали спорить о том, кто из действующих лиц — хороший, а кто —
злодей. Тот, кого считали бандитом, в следующей части оказывался жертвой. И,
наконец, свет, загоравшийся в зале каждые десять минут, пока перезаряжали
аппарат, умно- жал количество эпизодов.
Благодаря такому показу шедевр Фейада
необычайно ярко раскрывал эстетический принцип своего очарования. Каждый
перерыв вызывал вздох разочарования, а продолжение показа воекрешало надежду.
История, в которой публика ровным
счетом уже ничего не понимала, захватывала ее внимание и чувства просто
как повествование само по себе. Это не было закономерно развивающимся
действием, произвольно раздробленным антрактами; это был неуместно прерываемый
творческий процесс, некий неиссякаемый источник, струи которого останавливала
таинственная рука.
Отсюда
несносное ощущение беспокойства, вызываемое надписью «Продолжение в следующем
номере», напряженное ожидание не столько последующих событий, сколько
дальнейшего развития рассказа, продолжения прерванного акта творения. Сам Фейад
именно так и создавал свои фильмы. Не зная никогда заранее, каким будет
продолжение, он снимал каждый следующий эпизод в зависимости от вдохновения,
принесенного наступившим утром. И автор и зритель оказывались в той же
ситуации, что Калиф и Шехерезада. Возникавшая каждый раз в кинозале темнота
напоминала обстановку «1001 ночи». Таким образом, надпись «Продолжение следует»
в настоящем романефельетоне, как и в старом иностранном фильме, ни в коей мере
не была навязана сюжету извне. Если бы Шехерезада рассказала все сразу. Калиф,
не менее жестокий, чем публика, приказал бы казнить ее на заре. И Калифу и
публике нужен перерыв, чтобы ощутить всю силу волшебства; они хотят вкусить
сладостное ожидание рассказа, заменяющего собой повседневную
==128
жизнь, которая лишь на время прерывает прекрасный сон.
Мы
видим, таким образом, что мнимая исходная чистота первых примитивных кинолент
не может противостоять анализу. Звуковое кино не лежит у порога утраченного
рая, переступив который муза седьмого искусства осознала свою наготу и стала
прикрываться крадеными лохмотьями. Кинематограф не избежал общего закона: но он
подчинился ему по-своему, способом, единственно возможным при данных социальных
и технических обстоятельствах.
Разумеется,
недостаточно доказать, что большинство примитивных кинолент было лишь
результатом заимствований и хищений, чтобы тем самым оправдать современные
формы экранизации. Сбитый со своих привычных позиций поборник «чистого кино»
может еще утверждать, что связи между разными видами искусства легче всего
осуществляются на уровне примитивных форм. Весьма возможно, что фарс обязан
кинематографу второй молодостью, но справедливо отметить, что действенность
фарса определялась главным образом его визуальными свойствами и именно
благодаря им, а позднее и мюзик-холлу сохранилась очень древняя традиция
пантомимы. Чем дальше развивается история, а с ней вместе иерархия жанров, тем
отчетливее выявляются различия последних, подобно тому, что имеет место в
эволюции животного мира по мере достижения самых крайних ответвлений, идущих от
общего ствола. Заложенные в искусстве многогранные возможности постепенно
развились и в дальнейшем связались со столь тонкими, столь сложными формами,
что их нельзя уже затронуть, не поставив под удар само произведение. Джотто
может использовать приемы рельефного изображения под непосредственным влиянием
архитектурной скульптуры, но уже Рафаэль и Леонардо да Винчи противостоят
Микеланджело, превращая живопись в совершенно автономное искусство.
Нельзя
категорически утверждать, что это возражение может неколебимо выдержать
углубленный анализ и что высокоразвитые формы не продолжают влиять друг на
друга; несомненно, однако, что история искусств развивается в сторону
достижения все большей их независимости и специфичности. Концепция
чистого искусства (чистая поэзия, чистая живопись и т. д.)
не лишена смысла; она связана с эстетической реальностью, которую столь же
трудно определить, как и опровергнуть. Во всяком случае, если еще возможно
известное смешение искусств, так же как и смешение жанров, то из этого вовсе не
следует, что всякое смешение удачно. Наряду с плодотворными скрещиваниями, при
которых соединяются исходные достоинства предков, возникают также
соблазнительные, но бесплодные гибриды; а иные чудовищные сочетания порождают
лишь химер. Поэтому лучше отказаться от примеров, относящихся к зарождению
кино, и рассмотреть проблему в том виде, в каком она предстает перед нами
сегодня.
Если
критика довольно часто сетует по поводу заимствований кинематографа у
литературы, существование обратного воздействия обычно считается столь же закономерным,
сколь очевидным. Стало почти тривиальным утверждение, что современный роман, и
в частности роман американский, испытал влияние кино. Оставим, разумеется, в
стороне книги, в которых прямое заимствование умышленно не скрывается и поэтому
менее показательно, как, например, в книге Раймона Кено «Вдали от Рюейя». Нам
важно узнать, не восходит ли искусство таких авторов, как Дос Пассос, Колдуэлл,
Хемингуэй или Мальро, к методам и приемам кинематографа. Откровенно говоря, мы
в это не верим. Несомненно — да и могло ли быть иначе — новые формы восприятия,
порожденные экраном, такие способы видения, как крупный план, такие структуры
повествования, как монтаж, помогли романистам обновить свои технические приемы.
Однако в той же мере, в какой ссылки на кинематограф откровенно признаются,
как, например, у Дос Пассоса, они могут быть и отвергнуты: кинематографические
особенности просто дополняют комплекс приемов, из которых писатель строит свой
особый мир. Даже если признать, что силой своей эстетической гравитации
кинематограф заставил роман отклониться в сторону, едва ли можно считать, что
воздействие нового искусства превзошло то влияние, которое в прошлом веке мог,
например, оказать на литературу театр. Закон, определяющий влияние соседнего
господствующего искусства, по-видимому, является постоянным. Конечно, у
какого-нибудь
К оглавлению
==130
Грэма Грина можно на первый взгляд уловить неопровержимые
черты сходства с кинематографом. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что
мнимая кинематографическая техника Грина (не следует забывать, что он в течение
ряда лет был кинокритиком) на самом деле в кино вовсе не используется. Таким
образом, пытаясь «зрительно» представить себе стиль романиста, поневоле
постоянно задаешься вопросом, почему кинематографисты столь неразумно лишают
себя приемов, которые бы им так подошли. Оригинальность такого фильма, как
«Надежда» Мальро, в том и состоит, что он показывает нам, чем было бы кино,
если бы оно вдохновлялось романами... созданными «под влиянием» кинематографа.
Какой же напрашивается вывод? Да только тот, что следовало бы, пожалуй, сменить
привычную формулировку на противоположную и поставить вопрос о влиянии
современной литературы на кинематографистов.
Что же
в действительности подразумевается под словом «кино» в свете интересующей нас
критической проблемы? Если это способ выражения, основанный на реалистическом
воспроизведении, на простой регистрации изображений, если это чисто внешнее
видение, противостоящее возможностям интроспекции или классического
романического анализа, тогда следует отметить, что англосаксонские романисты
уже нашли в принципе «бихевиоризма» 5 психологические обоснования такого
метода. К тому же литературный критик обычно неосмотрительно и предубежденно
судит о том, что такое кинематограф, исходя из очень поверхностного определения
его сущности. Из того, что фотография служит ему сырьем, вовсе не следует, что
седьмое искусство главным образом посвящено диалектике внешней видимости и психологии
поведения. Правда, кинематограф может увидеть свой объект лишь извне, но тем не
менее располагает тысячью разных способов воздействия на эту внешнюю видимость,
позволяющих исключить из нее всякую двусмысленность и представить ее как
проявление единой и единственной внутренней реальности. И в самом деле, образы
экрана в огромном своем большинстве внутренне соответствуют психологии театра
или классического аналитического романа. Исходя из здравого смысла, они
предполагают необходимую и недвусмысленную причинную связь
==131
между чувствами и их проявлениями; они утверждают, что все
заключено в сознании и что сознание может быть познано.
Если
при более тонком анализе понимать под словом «кинематограф» методы повествования,
родственные монтажу и смене планов, то замечания, приведенные выше, остаются в
силе. Какой-нибудь роман Дос Пассоса или Мальро противостоит привычным для нас
фильмам не меньше, чем творениям Фромантена или Поля Бурже6. В
действительности, век американского романа — это не столько век кинематографа,
сколько эпоха определенного видения мира, видения, несомненно обогащенного
взаимоотношениями человека и технической цивилизации; однако кинематограф, сам
будучи продуктом данной цивилизации, гораздо меньше испытал на себе влияние
этого видения мира, нежели роман, несмотря на все алиби, которые
кинематографист мог дать романисту.
В
результате, обращаясь к роману, кинематограф, вопреки, казалось бы, логике,
чаще всего вдохновлялся не теми произведениями, в которых кое-кто пытался
усмотреть результаты предшествующего влияния самого кино; в Голливуде он
предпочитал литературу викторианского типа, а во Франции — творения господ Анри
Бордо и Пьера Бенуа 7. Более того — когда американский кинематографист в виде исключения
берется за произведение Хемингуэя, например за роман «По ком звонит колокол»,
то он разрабатывает его в традиционном стиле, который с тем же успехом подошел
бы для любого приключенческого сюжета.
Словом,
все происходит так, будто кинематограф отстает от романа на пятьдесят лет. Если
же продолжать настаивать на том, что первый влияет на второй, то при этом
следует исходить из некоего потенциального образа, существующего только под
лупой критика и соответствующего его личной точке зрения. Речь могла бы идти о
влиянии кинематографа, который не существует; о влиянии того идеального кино,
которое мог бы создать романист, будь он кинематографистом; о воображаемом
искусстве, которого мы еще только ждем.
Но,
ей-богу, эта гипотеза не столь уж абсурдна. Запомним ее хотя бы так, как мы
держим в уме мнимые величины, исключаемые затем из уравнения, решению
==132
которого они содействовали. Если влияние кинематографа на
современный роман смогло породить иллюзии в умах весьма неплохих критиков, то
произошло это потому, что в наши дни романист использует методы повествования и
приемы подачи фактов и событий, родство которых с выразительными средствами
кинематографа не вызывает сомнений (он либо прямо заимствует их у кинематографа,
либо, как мы скорее всего полагаем, причина состоит в своего рода эстетической
конвергенции, вызывающей одновременную поляризацию нескольких современных форм
выражения). В этом процессе установления взаимных влияний или соответствий
именно роман зашел дальше всего в разработке логики стиля. Это он использовал
наиболее тонкие возможности методов монтажа и нарушения хронологии. Именно
роман сумел поднять до подлинно метафизического значения внечеловеческий, как
бы кристаллический объективизм. Какой камере удавалось увидеть свой объект со
стороны так, как это делает сознание героя в «Постороннем» АльбераКамю? По сути
дела, мы не знаем, оказались бы такие романы, как «Манхэттен» или «Условия
человеческого существования», совершенно иными, не будь кинематографа; зато мы
убеждены, что «Могущество и слава» (режиссер Уильям К. Говард, 1933) и
«Гражданин Кейн» никогда не были бы созданы без Джеймса Джойса и Дос Пассоса.
На самых передовых позициях кинематографического авангарда мы видим
всевозрастающее число фильмов, дерзающих черпать вдохновение в романтическом
стиле, который можно было бы назвать ультракинематографическим. В этом свете
признание факта заимствования имеет лишь второстепенное значение. Большая часть
фильмов, которые мы при этом имеем в виду, вовсе не экранизации романов, однако
некоторые эпизоды, скажем, в фильме «Пайза» гораздо большим обязаны Хемингуэю
(эпизод на болотах) или Сарояну (неаполитанский эпизод), нежели фильм Сэма Вуда
«По ком звонит колокол» (1944) — своему первоисточнику. Зато фильм Мальро точно
соответствует нескольким эпизодам из романа «Надежда», а лучшими английскими
фильмами последнего времени, несомненно, являются экранизации Грэма Грина. На
наш взгляд, наиболее удачной была скромно снятая лента по его роману
«Брайтонская скала» (режиссер
==133
Дж. Боултинг, 1948), которая прошла почти незамеченной, в то
время как Джон Форд сбился с пути среди пышной фальши романа «Могущество и
слава» 8. Следует прежде всего научиться понимать, чем обязаны лучшие фильмы
наших дней современным романистам, и легче всего это показать хотя бы — или
даже прежде всего — на материале «Похитителей велосипедов». Тогда мы перестанем
возмущаться экранизациями, а сумеем усматривать в них если не верный залог, то
по крайней мере возможный фактор прогресса кинематографа. Того кинематографа,
каким его в конечном счете мог бы преобразовать романист!
Мне
могут возразить: все это, быть может, справедливо по отношению к современным
романам, если кинематограф действительно находит в них во сто крат
преумноженным то, что он сам же им одолжил; но каков смысл всех этих
рассуждении, если кинематографист намеревается черпать вдохновение в творчестве
Андре Жида или Стендаля? И почему бы ему тогда не обратиться к Прусту или мадам
де Лафайет?
А
почему бы нет? В статье, опубликованной в журнале «Ревю дю синема», Жак Буржуа
подверг блестящему анализу сродство между романом «В поисках утраченного
времени» и выразительными средствами кинематографа. В самом деле, подлинные
препятствия, которые пришлось бы преодолеть при возможном осуществлении таких
экранизаций, не имеют отношения к категориям эстетического порядка, они связаны
с кинематографом как социологическим фактором и отраслью промышленности, а не
искусством. Драма экранизации состоит в основном в опасности вульгаризации. В
одном рекламном буклете, опубликованном в провинции, можно было прочитать
следующее определение фильма «Пармская обитель» (1948): «По знаменитому роману
плаща и шпаги». Так истина порой глаголет устами торговцев кинопленкой, никогда
не читавших Стендаля. Должны ли мы поэтому осуждать фильм Кристиана-Жака? Да,—
в той мере, в какой он исказил сущность произведения, коль скоро мы считаем,
что это искажение не было неизбежным. Нет,— если мы прежде всего примем во
внимание, что эта экранизация стоит намного выше среднего уровня большинства
фильмов и что она в конечном итоге представляет собой привлекательное введение
к произведению
==134
Стендаля, которому она, несомненно, подарила новых читателей.
Бессмысленно возмущаться деградацией, которой подвергаются на экране
литературные произведения ; во всяком случае, нелепо возмущаться от имени
литературы. Сколь бы ни были приблизительными экранизации, они не могут
повредить оригиналу в глазах меньшинства, хорошо его знающего и ценящего. Что
же касается невежд, то тут есть две возможности: либо они удовлетворятся
фильмом, который, наверное, не хуже всякого другого, либо им захочется
познакомиться с первоисточником — в этом случае литература только выиграет. Это
рассуждение подтверждается статистикой издательского дела, свидетельствующей о
стремительном росте продажи литературных произведений после появления
кинематографических экранизаций. Право, культура в целом и литература в
частности ничего в результате не теряют!
Остается
кинематограф! Я полагаю, что есть все основания огорчаться по поводу того,
каким образом его зачастую используют при разработке литературного капитала. И
дело не столько в необходимости уважительного отношения к литературе, сколько в
том, что кинематографист со своей стороны лишь выиграл бы, соблюдая большую
верность оригиналу. Будучи формой более высоко развитой и адресованной к
относительно более культурной и требовательной публике, роман предлагает
кинематографу более сложные характеры действующих лиц и требует соблюдения в
соотношениях между формой и содержанием точности и тонкости, непривычных для
экрана. В том случае, если исходный литературный материал, над которым работают
сценаристы и режиссеры, обладает интеллектуальными качествами, намного
превосходящими средний кинематографический уровень, очевидно, возникают две
возможности — либо различие в уровнях и художественный престиж оригинала просто
служат фильму порукой, источником идей и ярлыком, гарантирующим высокое качество,
как было с фильмами «Кармен» (режиссер Кристиан-Жак, 1944), «Пармская обитель»
(режиссер Кристиан-Жак, 1948) и «Идиот» (режиссер Жорж Лампен, 1946), либо
кинематографисты честно стараются достичь полного соответствия и по крайней
мере пытаются не только черпать вдохновение в книге, не только перелагают ее, а
стремятся
==135
действительно перевести ее на язык экрана, как, например, в
фильмах «Пасторальная симфония» (режиссер Жан Деланнуа, 1946), «Дьявол во
плоти» (режиссер Клод Отан-Лара, 1946), «Дневник сельского священника»
(режиссер Робер Брессон, 1950).
Не
следует, однако, бросать камень в тех мастеров «красивых картинок», которые
«экранизируют», упрощая. Как мы уже говорили, их предательство — относительно,
и литература при этом ничего не теряет. Несомненно, однако, что надежду
кинематографа составляют режиссеры, относящиеся ко второй категории. Когда
открывают шлюзы, устанавливается средний уровень воды, ненамного превышающий
уровень в самом канале. Когда в Голливуде снимают «Мадам Бовари», то сколь бы
ни была велика разница в эстетических уровнях между средним американским
фильмом и произведением Флобера, в конечном итоге получается стандартный
американский фильм, единственным недостатком которого является то, что он еще
носит название «Мадам Бовари». Иначе и быть не может, если сравнить
литературное произведение с огромной и могучей массой кинопромышленности,
кинематограф сам по себе все нивелирует. Когда же, наоборот, благодаря
счастливому стечению обстоятельств кинематографист имеет возможность подойти к
книге не как к серийному сценарию, тогда оказывается, что кинематограф в целом
поднимается до уровня литературы. И возникают «Мадам Бовари» (1934) или
«Загородная прогулка» (1936) Жана Ренуара. Правда, эти два примера не очень
удачны, но дело не в достоинствах или недостатках фильмов, а в том, что Ренуар
в гораздо большей мере соблюдает верность духу, нежели букве первоисточников. В
этой верности нас больше всего поражает то, что она парадоксальным образом совмещается
с полнейшей независимостью. Оправданием Ренуару служит его гениальность,
равнозначная гениальности Флобера и Мопассана. В итоге мы видим феномен,
который можно сравнить с бодлеровским переводом Эдгара По.
Разумеется,
мы бы предпочли, чтобы все режиссеры были гениальны; тогда, вероятно, проблема
экранизации больше не возникала бы. Но критик должен почитать за счастье, если
он может хоть иногда рассчитывать на их талант! Для нашего рассуждения и этого
==136
достаточно. Никому не возбраняется мечтать о том, чем был бы
«Дьявол во плоти», снятый Жаном Виго, а пока порадуемся все же экранизации
Клода ОтанЛара. Соблюдение верности произведению Радигэ не только вынудило
сценаристов показать нам интересных персонажей с относительно сложными
характерами; оно побудило их также разрушить некоторые моральные условности
кинематографического зрелища, рискуя задеть предубеждения публики (риск,
правда, благоразумно рассчитанный, но кто за это упрекнет?). В итоге удалось
расширить интеллектуальные и нравственные горизонты зрителя и проложить путь
другим выдающимся фильмам. Но это еще не все. Было бы неправильным
рассматривать верность первоисточнику только как непременно отрицательную
зависимость от чуждых эстетических законов. У романа есть, разумеется, свои
собственные средства; он оперирует языком, а не изображением, его интимное
воздействие на изолированного читателя отличается от влияния фильма на массы
зрителей, сидящих в темных залах. Но именно различия эстетических структур делают
поиск эквивалентов задачей особенно деликатной, требуют еще большей
изобретательности и богатства фантазии от кинематографиста, действительно
претендующего на достижение сходства. Можно утверждать, что с точки зрения
языка и стиля кинематографическое произведение находится в прямой зависимости
от своей верности оригиналу. По тем же причинам, по которым дословный перевод
никуда не годится, а перевод слишком вольный заслуживает, по нашему мнению,
осуждения, мы считаем, что хорошая экранизация должна суметь воспроизвести суть
и буквы и духа первоисточника. Известно, однако, какого совершенного владения
языком, какой способности проникнуться его духом требует хороший перевод.
Можно, например, считать сугубо литературным фактором стилистический эффект
преимущественного использования глаголов в простом прошедшем времени, который
характерен для прозы Андре Жида; можно полагать, что эти стилистические
тонкости не поддаются передаче языком кинематографа. Нельзя, однако, с
уверенностью утверждать, что Деланнуа не сумел найти их эквивалент в своей
постановке «Пасторальной симфонии». Снег, служащий неизменным фоном действия,
насыщен тонкой и многозначной
==137
символикой, которая подспудно отражается на происходящем как
некий постоянный нравственный коэффициент, значение которого, быть может,
немногим отличается от того, чего стремился достичь писатель посредством
соответствующего использования грамматического времени. Сама мысль окружить
душевные переживания героев этой снежной белизной, настойчивое стремление
игнорировать летний характер пейзажа представляют собой специфическую
кинематографическую находку, на которую режиссера могло натолкнуть тонкое
понимание текста. Еще более убедителен пример Брессона в «Дневнике сельского
священника» — его экранизация достигает головокружительной степени верности,
основанной на творческом и глубоко уважительном подходе к оригиналу. Альбер
Бегэн справедливо заметил, что свойственная Бернаносу жестокость совершенно
по-разному проявляется в литературе и в кино. Экран столь часто прибегает к
показу жестокости, что она как бы обесценивается, приобретая вызывающий я в то
же время условный характер. Верность тону романиста требовала поэтому
диаметрального преобразования жестокости, ощутимой в тексте. Подлинным
эквивалентом характерной для Бернаноса гиперболы оказались эллипсисы и литоты9
режиссерской разработки Робера Брессона.
Чем
более значительны и глубоки литературные достоинства первоисточника, тем больше
экранизация нарушает их равновесие, тем большего творческого таланта она
требует для установления нового равновесия, пусть не тождественного, но
равноценного прежнему. Представление об экранизации романов как о процессе
пассивном, неспособном дать что-либо настоящему, «чистому» кинематографу, бессмысленно
в критическом плане и опровергнуто всеми значительными экранизациями последнего
времени. Те, кто меньше всего заботится о верности литературному первоисточнику
во имя мнимых требований экрана, предают одновременно и литературу и кино.
Наиболее
убедительным подтверждением этого парадокса служит созданный на протяжении
последних лет ряд театральных экранизаций, которые, несмотря на разнообразие
источников и стилей, доказали всю относительность давнего предубеждения критики
против «экранизированного театра» 10. Не вдаваясь в настоящий
==138
момент в анализ эстетических причин этой эволюции,
ограничимся утверждением, что она тесно связана с решающим прогрессом языка
кино.
Плодотворную
верность первоисточнику, отличавшую творчество Кокто или Уайлера, ни в коей
мере нельзя считать результатом регресса; наоборот — она свидетельствует о
развитии кинематографического сознания. У автора «Несносных родителей»
(режиссер Жан Кокто, 1948) мы видим удивительно проницательное использование
подвижной камеры, в работе Уайлера поражают аскетизм монтажа, исключительная
строгость фотографии, применение неподвижных планов и глубинных мизансцен — в
обоих случаях успех всегда основан на исключительном мастерстве; более того, он
обусловлен изобретательным владением выразительными средствами, которое
представляет собой полную противоположность пассивной регистрации театрального
действа. Чтобы выразить свое уважение к театру, недостаточно его
сфотографировать. Быть по-хорошему «театральным» гораздо труднее, нежели
соблюсти «кинематографичность», к которой стремились до последнего времени
большинство авторов театральных экранизаций. В одном неподвижном плане
«Лисичек» (режиссер Уильям Уайлер, 1941) или «Макбета» (режиссер Орсон Уэллс,
1947) во сто крат больше кинематографа в лучшем смысле этого слова, чем во всех
панорамах, снятых на натуре, во всех естественных декорациях, во всей
географической экзотике и всех закулисных съемках, в которых изощрялся до сих
пор экран, тщетно пытаясь заставить нас позабыть о сцене. Завоевание
театрального репертуара кинематографом не только не является признаком упадка,
а, наоборот, свидетельствует о его зрелости. Наконец-то экранизация перестала
быть предательским искажением и стала синонимом уважения. Приводя сравнение
материального порядка, можно сказать, что для достижения столь высокого уровня
эстетической верности необходимо было, чтобы выразительные средства
кинематографа добились успехов, равноценных достижениям оптики. От «Film d'Art»
немого периода столь же далеко до «Гамлета», как от примитивного конденсатора
волшебного фонаря до сложной системы линз в современном объективе. А ведь
внушительная сложность этого объектива нужна лишь для того, чтобы
компенсировать
==139
деформации, аберрации, дифракции и отражения, порождаемые
стеклом,— иными словами, чтобы сделать кинокамеру максимально объективной.
Перенос театрального произведения на экран требовал в эстетическом плане такого
же мастерства в смысле верности воспроизведения, какое необходимо оператору в
отношении фотографической передачи. Эта верность представляет собой итог
достигнутого прогресса и источник нового возрождения. Если кинематограф может
ныне с полным основанием вторгаться в область романа и театра, то причина
заключается прежде всего в том, что он достаточно уверен в себе, достаточно
полно владеет своими возможностями, чтобы быть готовым не стушеваться перед
своим объектом. Он может, наконец, претендовать на достижение верности
оригиналу — но не иллюзорной верности переводных картинок, а верности,
основанной на глубоком понимании своих собственных эстетических структур,
понимании, которое является необходимым исходным условием соблюдения уважения к
используемым произведениям. Рост числа экранизаций литературных произведений,
очень далеких от кино, ничуть не должен тревожить критика, пекущегося о чистоте
седьмого искусства; наоборот — в этом залог его прогресса.
«Но, в
конце концов,— возразят еще приверженцы Кино с большой буквы, кино
независимого, специфического, автономного, свободного от всяких компромиссов,—
к чему столько излишних ухищрений, зачем переделывать на свой лад романы, когда
можно прочитать книгу, зачем переиначивать «Федру», когда достаточно пойти в
«Комеди Франсэз»? Сколь бы ни были удачны экранизации, вы не можете утверждать,
что они лучше оригинала или, во всяком случае, лучше фильма, равного по
художественным достоинствам, но основанного на специфически кинематографической
теме? Вы говорите: «Дьявол во плоти», «Падший идол», «Несносные родители»,
«Гамлет»,—пожалуй... но я могу противопоставить «Золотую лихорадку»,
«Броненосца «Потемкин», «Сломанные побеги», «Лицо со шрамом», «Дилижанс» и даже
«Гражданина Кейна» — все шедевры, которых не существовало бы без кинематографа,
которые представляют собой незаменимый вклад в сокровищницу искусства. Даже
если наилучшие экранизации не несут в себе наивного искаже
К оглавлению
==140
ния или низкого проституирования, они тем не менее плоды
таланта, сбившегося с пути. Вы говорите «прогресс», но в конечном итоге он
может лишь сделать кинематограф бесплодным и превратить его в некий придаток
литературы. Верните театру и роману то, что им принадлежит, а кинематографу то,
что никому, кроме него, принадлежать не может».
Это
последнее возражение было бы теоретически оправданным, если б оно не
пренебрегало исторической относительностью, которую всегда необходимо
учитывать, имея дело с искусством, находящимся в процессе эволюции. Несомненно,
что при равных качествах оригинальному сценарию следует отдать предпочтение
перед экранизацией. С этим спорить никто не собирается. Даже если считать Чарли
Чаплина «Мольером кино», мы тем не менее не согласились бы пожертвовать «Мсье
Верду» ради экранизации «Мизантропа». Остается лишь пожелать, чтобы у нас как
можно чаще появлялись такие вещи, как «День начинается», «Правила игры» или
«Лучшие годы нашей жизни». Но это все платонические пожелания и умозрительные
соображения, бессильные что-либо изменить в процессе развития кино. И если
кинематограф все чаще обращается к литературе (так же, впрочем, как к живописи
или журналистике), то это факт, который нам остается лишь принять во внимание и
попытаться понять, ибо есть все основания полагать, что воздействовать на него мы
не сможем. Если при данных обстоятельствах свершившийся факт еще не приобретает
безоговорочно права гражданства, то по крайней мере он требует от критика
позиции благоприятствования. Повторяю, что нас не должна вводить в заблуждение
аналогия с другими искусствами, особенно с теми, чья эволюция была направлена
на индивидуальное восприятие, что привело к почти полной независимости от
широкого потребителя. Лотреамон и Ван Гог11 могли творить, оставаясь
непонятными и неизвестными своей эпохе. Кинематограф не может существовать без
минимального количества зрителей (а минимум этот необъятен), которые нужны ему
немедленно. Даже тогда, когда кинематографист бросает вызов вкусам публики, его
дерзость оправдана лишь постольку, поскольку можно полагать, что ошибается именно
зритель в оценке того, что ему должно было бы понравиться и что ему
впоследствии
==141
полюбится. Единственное сравнение с современностью, которое
я могу привести,— это сравнение с архитектурой, ибо дом имеет смысл только
тогда, когда в нем можно жить. Кинематограф тоже искусство функциональное. Если
обратиться к другим определениям, то о кинематографе следовало бы сказать, что
его бытие предопределяет его сущность. Из этого бытия и должна исходить критика
даже в своих самых рискованных экстраполяциях. Как и в истории, и примерно с
теми же оговорками, признание наступивших перемен выходит за рамки реального
хода событий и настоятельно требует вынесения определенной оценки. Именно этого
не хотели признавать хулители звукового кино при его возникновении тогда, когда
оно уже обладало по сравнению с немым искусством несравненным преимуществом,
заключавшимся в том, что оно шло ему на смену.
Если
такой критический прагматизм покажется читателю недостаточно обоснованным, следует
хотя бы признать, что он оправдывает терпимость и методическую осторожность
перед лицом любых признаков эволюции кино.
Именно
с этих позиций мы и подходим к попытке истолкования, которой мы хотели бы
завершить настоящую статью.
Шедевры,
на которые обычно ссылаются, желая привести пример настоящего кино — того кино,
которое ничем не обязано театру и литературе, потому что оно сумело найти свои
специфические темы и язык,— эти шедевры, вероятно, столь же замечательны, сколь
и неподражаемы. И если советское кино не принесло ничего равноценного
«Броненосцу «Потемкин», а Голливуд ничего, равного фильмам «Солнце всходит»
(режиссер Ф. Мурнау, 1927), «Аллилуйя» (режиссер Кинг Видор, 1929), «Лицо со
шрамом» (режиссер Говард Хоукс, 1932), «Это случилось однажды ночью» (режиссер
Фрэнк Капра, 1934) и даже «Дилижансу» (режиссер Джон Форд, 1939), то причина
заключена не в том, что новое поколение режиссеров ниже своих предшественников.
В значительной мере люди остались те же. По нашему мнению, дело даже не в том, что
экономические или политические факторы кинопроизводства делают их вдохновение
бесплодным. Причину следует, скорее всего, усматривать в том, что гений и
талант —
==142
явления относительные, развивающиеся только в связи с
определенной исторической обстановкой. Было бы слишком легко объяснить неудачи
Вольтера в театре, сказав, что у него не было трагедийного склада ума; этого
склада не было у его века. Попытаться продолжить в ту эпоху трагедию Расина
было делом несообразным, противным природе вещей. Совершенно бессмысленно
спрашивать, что бы мог написать автор «Федры» в 1740 году, ибо то, что мы
называем Расином,— не человек, носивший данное имя, а «поэт, написавший
«Федру». Расин без «Федры» — лицо анонимное или умозрительное. Точно так же и в
кино бессмысленно сожалеть, что у нас нет ныне Мак Сеннетта, чтобы продолжить
великую комическую традицию. Гениальность Мак Сеннетта состоит в том, что он
создавал свои комические ленты в эпоху, когда это было возможно. Впрочем, замечательные
достоинства произведения Мак Сеннетта сошли на нет еще при его жизни, а
некоторые из его учеников живы и поныне: например, Гарольд Ллойд или Бастер
Китон, чьи редкие появления на экране за последние пятнадцать лет представляют
собой жалкое зрелище, в котором ничего не сохранилось от вдохновения прошлого.
Один Чаплин, и то лишь благодаря исключительности своего гения, сумел
удержаться в кино на протяжении трети века. Но ценой каких перевоплощений,
какого полного обновления источников своего вдохновения, своего стиля и даже
своего персонажа! Мы убеждаемся с поразительной очевидностью в странном
ускорении темпов эстетического развития, характерном для кинематографа.
Писатель может повторяться как по существу, так и по форме на протяжении
полувека. Талант кинематографиста, если только он не сумеет идти в ногу с
эволюцией своего искусства, живет не более пяти или Десяти лет. Именно поэтому
гений, будучи менее гибким и менее осознанным, нежели талант, часто терпит
удивительнейшие поражения. Примером тому — Штрогейм, Абель Ганс, Пудовкин.
Разумеется,
причины этих глубоких разногласий между художником и его искусством, вызывающих
резкое старение гения и превращающих его в некое сочетание бесполезных причуд и
мании величия,— эти причины многочисленны, и мы не собираемся их здесь
анализировать. Нам хотелось бы, однако, обратить
==143
внимание на одну из них, непосредственно связанную с нашей
темой.
Примерно
до 1938 года кинематограф (черно-белый) находился в состоянии непрерывного
прогресса. Прогресса прежде всего технического (искусственное освещение,
панхроматическая эмульсия, панорамные
съемки, звук), сопровождавшегося, естественно, обогащением выразительных
средств (крупный план, монтаж, параллельный монтаж, короткий монтаж, применение
эллипсисов, выкадрирование и т. д.). Параллельно с этой быстрой эволюцией языка
и в тесной связи с нею кинематографисты находили оригинальные темы, которые
новое искусство облекало в плоть и кровь. Восклицание «Вот это кино!» обозначает
тот самый феномен, который господствовал в кино в течение первых тридцати лет
его существования как искусства,— удивительное согласие между новой техникой и
небывалым содержанием. Этот феномен принимал различные формы: появление
кинозвезд, возрождение ценностей прошлого, воскрешение эпического стиля и
комедии масок и т. д. Но он был теснейшим образом связан с техническим
прогрессом; именно новизна выразительных возможностей прокладывала путь новым
темам. В течение тридцати лет история кинематографической техники (в самом
широком смысле слова) практически переплеталась с историей сценарного
искусства. Большие режиссеры — в первую очередь создатели формы или, если
угодно, мастера риторики. Это вовсе не значит, что они поборники искусства для
искусства ; это означает лишь, что в диалектике взаимоотношений формы и
содержания первая имела тогда определяющее значение, подобно тому как в свое
время принципы перспективы или масляные краски потрясли мир живописи.
Ныне,
по прошествии всего лишь десяти-пятнадцати лет, можно заметить явные признаки
старения в том, что было некогда достоянием киноискусства. Мы уже указывали на
скорую смерть некоторых жанров, даже таких значительных, как «комедия затрещин»
12, но, вероятно, наиболее характерной является судьба системы кинозвезд. И в
наши дни некоторые актеры пользуются коммерческим успехом у публики, но это
увлечение не имеет ничего общего с социологическим
==144
феноменом «освящения», поклонения золотым идолам, подобным
Рудольфу Валентине и Грете Гарбо.
Словом,
положение таково, будто тематика кино исчерпала все, чего она могла ожидать от
его техники. Теперь уже недостаточно изобрести короткий монтаж или изменить
операторский стиль, чтобы затронуть сердца зрителей. Кинематограф незаметно
вступил в век сценария; уточним — в эпоху установления обратных соотношений
между содержанием и формой. Нельзя сказать, что форма стала чем-то
безразличным; наоборот, она, вероятно, никогда еще не находилась в такой
строгой зависимости от самой темы, не была такой необходимой и такой тонкой. Но
все это мастерство стремится стушеваться, стать как бы прозрачным перед лицом
сюжета, который мы сегодня ценим ради него самого и к которому предъявляем все
большие требования. Подобно великим рекам, которые окончательно проложили свое
русло и у которых осталась сила только для того, чтобы донести свои воды до
моря, не тронув и песчинки на своих берегах, кинематограф приближается к тому
уровню, когда он достигнет состояния равновесия. Прошли те времена, когда достаточно
было «делать кино», чтобы быть достойным седьмого искусства. В ожидании того
времени, когда цвет или объемность временно возвратят форме ее первостепенное
значение и породят новый цикл эстетической эррозии, кинематографу пока нечего
больше завоевывать на поверхности. Ему остается лишь поить влагой свои берега,
просачиваться между искусствами, на территории которых он так быстро пробил
ущелья, исподволь охватывать их кольцом и уходить под землю, чтобы там
прорывать невидимые переходы. Возможно, настанет время, когда он снова выйдет
на поверхность, то есть когда возникнет кинематографист, независимый от романа
и театра. Но, может быть, это время настанет тогда лишь, когда романы будут
писать прямо в виде фильмов. А пока диалектика истории искусства не вернула ему
эту желанную и гипотетическую автономию, кинематограф ассимилирует огромнейший
капитал уже разработанных сюжетов, накопленный вокруг него на протяжении веков
соседними искусствами. Он завладевает этим капиталом и потому, что нуждается в
нем, и потому, что нам хочется вновь обрести эти сюжеты через посредство кино.
==145
В то же время кино не подменяет собой соседних с ним
искусств. Наоборот. Успех театральных пьес, перенесенных на экран, служит
театру точно так же, как экранизация романов служит литературе. «Гамлет» на
экране может лишь увеличить число зрителей Шекспира; по крайней мере часть из
них захочет пойти и посмотреть пьесу на сцене. «Дневник сельского священника»,
увиденный Робером Брессоном, удесятерил число читателей Бернаноса. По существу,
здесь нет ни конкуренции, ни подмены, а есть лишь присоединение нового
измерения, постепенно утраченного искусствами со времен эпохи Возрождения. Я
имею в виду публику.
Кто
может на это посетовать?
«Cinema,
un oeil ouvert sur le monde», Lauzanne
ТЕАТР И
КИНО
Если в
критике стала относительно обыденной тенденция подчеркивать родство между
кинематографом и романом, то «экранизированный театр» часто еще почитается
ересью. До той поры, пока защитником и образцом ему служил главным образом
Марсель Паньоль', с его декларациями и творениями, можно было считать, что
немногочисленные удачи в этой области представляют собой недоразумения,
возникшие в результате стечения исключительных обстоятельств. Экранизированный
театр был все еще связан с комическими воспоминаниями о «Film d'Art» прошлого
или с жалкими попытками использовать успехи бульварного театра в «стиле»
Бертомье2. В годы войны неудача экранизации такой отличной пьесы, как
«Путешественник без багажа»3, сюжет которой вполне можно было считать
кинематографическим, также давала, казалось бы, решающие доводы в руки
противника «экранизированного театра». Лишь появление в последние годы ряда
удачных постановок — от «Лисичек» до «Макбета», а в промежутке между ними «Генриха
V», «Гамлета» и «Несносных родителей» — доказало, что кинематограф дорос до
того, чтобы достойным образом экранизировать самые разнообразные
драматургические произведения.
==146
Но, по правде говоря, предубеждение против
«экранизированного театра», пожалуй, не имеет оснований рассчитывать на столь
уж большое число исторических доводов, как могло бы показаться, если исходить
из явных экранизаций театральных произведений. Следовало бы, в частности,
пересмотреть историю кино, исходя не из названий фильмов, а, скорее, опираясь
на драматургическую структуру сценария и особенности режиссуры.
НЕМНОГО
ИСТОРИИ
Безапелляционно
осуждая «экранизированный театр», критика осыпала похвалами такие
кинематографические формы, в которых при более тщательном анализе можно было бы
обнаружить преобразованные элементы драматургического искусства. Ополчаясь в
гневном ослеплении против ереси «Film d'Art» и ее последствий, «строгие
блюстители» безнаказанно пропускали под маркой «чистого кино» несомненные
образцы кинематографического театра, начиная с американских кинокомедий. При
ближайшем рассмотрении последние оказываются не менее «театральными», нежели
экранизации любой пьесы бульварного театра или театра Бродвея. Основанная на
комизме слова и ситуации, такая комедия зачастую не использует никаких чисто
кинематографических приемов; большинство сцен разыгрывается в интерьерах, а
монтаж строится почти исключительно на простых и встречных планах, позволяющих
подчеркнуть достоинства диалога. Здесь следовало бы более подробно остановиться
на социальном фоне, послужившем основой для блистательного развития
американской кинокомедии в течение целого десятилетия. Я полагаю, что этот фон
отнюдь не мешает установлению возможных взаимоотношений между театром и кино.
Кино как бы избавило театр от предварительного реального существования. Такое
существование оказывалось ненужным, поскольку авторы, способные писать подобные
пьесы, могли продавать их непосредственно для экрана. Однако это явление чисто
случайное, связанное исторически с конкретной экономической и социальной
конъюнктурой, которая, по всей видимости, постепенно исчезает. За последние
пятнадцать лет мы видим, как
==147
параллельно с упадком определенного типа американской
кинокомедии растет число экранизаций комических пьес, имевших успех на Бродвее.
В ойласти психологической драмы и драмы нравов Уайлер, не колеблясь, просто
взял пьесу Лилиан Хеллман «Лисички» и перенес ее «в кино», сохранив почти
театральные декорации. По существу, в Америке никогда не существовало
предубеждения против «экранизированного театра». Однако условия голливудского
кинопроизводства, во всяком случае, вплоть до 1940 года, складывались иначе,
чем в Европе. Там речь шла, скорее, о «кинематографическом» театре,
ограничивавшемся определенными жанрами и лишь изредка прибегавшем к
заимствованиям из сценического репертуара, во всяком случае, в первые десять
лет существования звукового кино. Сюжетный кризис, от которого страдает ныне
Голливуд, уже толкнул его на путь более частых заимствований из области
драматургии. Что касается американской кинокомедии, то в ней театр
присутствовал изначально, хотя и оставался невидимым*.
Правда,
в Европе, и особенно во Франции, мы ничего не могли бы сравнить с успехом
американской комедии. За исключением совершенно частного случая, каким является
Марсель Паньоль и который заслуживает специального разбора, использование
элементов
* В
книге воспоминаний о пятидесяти годах, прожитых в кино («Публика всегда права»,
Изд-во Корреа), Адольф Цукор4, создатель системы кинозвезд, рассказывает о том,
что в Америке, вероятно, в еще большой степени, чем во Франции, делавший первые
шаги кинематограф направил свое зарождающееся сознание на то, чтобы попытаться
ограбить театр. В те поры все самое знаменитое и прославленное в области
зрелища было сосредоточено на сцене. Цукор, понимая, что коммерческое будущее
кинематографа зависело от качества сюжетов и от престижа исполнителей, скупил
все, какие можно было, права на экранизацию драматургических произведений, а
также переманил самых известных театральных актеров эпохи. Однако его
относительно высокие по тем временам ставки не всегда могли устранить их
опасения скомпрометировать себя в столь презираемой ярмарочной отрасли. Но
очень скоро на этой театральной основе развился своеобразнейший феномен
кинозвезды. Публика остановила свой выбор на нескольких театральных
знаменитостях, и ее избранники вскоре достигли такой славы, которую нельзя было
сравнить со славой на подмостках. Параллельно театральные сценарии первых лет
кино были отброшены и уступили место сюжетам, соответствовавшим утверждавшейся
мифологии. Однако исходным трамплином, несомненно, послужило подражание театру.
==148
бульварного театра s кинематографе привело к
катастрофическим результатам. Однако экранизированный театр ведет свое начало
не от звукового кино — вернемся несколько дальше в прошлое, к эпохе, когда
«Film d'Art» уже заставил обратить внимание на свою несостоятельность. В те
времена безоговорочно царил Мельес, который, по существу, видел в кино только
усовершенствованное проявление театрального волшебства; трюковые съемки
представляли собой, на его взгляд, лишь некое продолжение искусства фокуса.
Большинство великих французских и американских комиков пришло в кино из
мюзик-холла или бульварного театра. Достаточно посмотреть на Макса Линдера,
чтобы понять, чем он обязан своему театральному опыту. Как и большинство
комиков той эпохи, он откровенно играет «на публику», подмигивает залу,
призывает его в свидетели своих затруднений, не колеблясь, бросает реплику в
сторону. Что касается Чарли, то независимо от того, что дала ему английская
пантомима, совершенно очевидно, что его искусство заключалось в
совершенствовании при помощи кинематографа приемов игры мюзик-холльного комика.
В данном случае кинематограф перерастает театр, но делает это, продолжая
театральные традиции и как бы избавляя театр от всех его несовершенств.
Соблюдение принципа экономии в театральном трюке подчинено расстоянию между
сценой и залом, а, главное, продолжительности взрывов смеха, заставляющих
актера растянуть эффект трюка, пока он не иссякнет. Таким образом, сцена
побуждает и даже принуждает актера к гиперболе. Только экран позволил Чарли
достичь той идеальной математической точности ситуации и жеста, при которой
максимальная ясность достигается в минимальное время.
Пересматривая
очень старые бурлески, например серию фильмов с участием комических персонажей
Буаро и Онезима5, можно заметить, что здесь не только игра актера, но и сама
структура сюжета сродни примитивному театру. Кинематограф позволяет
использовать до крайнего предела самую элементарную ситуацию, которая на сцене
подчинялась ограничениям во времени и пространстве, удерживавшим ее как бы в зачаточном
состоянии. Представление о том, что кинематограф изобрел или целиком и
полностью создал новые драматургические ценности, возникло потому,
==149
что именно благодаря кинематографу стала возможной
метаморфоза театральных ситуаций, которые без экрана никогда не достигли бы
стадии зрелости. В Мексике существует вид саламандр, способный размножаться на
стадии личинки и никогда не перерастающий ее. Инъекции соответствующего гормона
позволили довести это животное до формы взрослой особи. Точно так же известно,
что в непрерывном ряде эволюции животных существовали непонятные пробелы,
остававшиеся неразгаданными до тех пор, пока биологи не открыли законы
педоморфоза6, позволившие им не только включить эмбриональные формы
индивидуумов в общую схему эволюции видов, но также давшие основания считать
некоторых, казалось бы, взрослых индивидуумов существами, приостановленными в
своем развитии. В этом смысле можно сказать, что некоторые театральные жанры
основываются на драматических ситуациях, изначально атрофировавшихся еще до
появления кино. Если театр, как считает Жан Итье, действительно представляет
собой метафизику воли, то что же можно сказать о таком бурлеске, как «Онезим и
прекрасное путешествие», в котором упорство в осуществлении, вопреки самым
нелепым трудностям, невесть какого свадебного путешествия, сама цель которого
исчезает после первых катастроф, граничит со своего рода метафизическим
безумием, с исступлением воли, с раковым разрастанием «действия», самозарождающегося
вопреки всякому смыслу. Да и можно ли здесь вообще пользоваться психологической
терминологией и говорить о воле? Большинство этих бурлесков представляют собой,
скорее всего, линейное и непрерывное выражение исходного намерения персонажа.
Они идут от феноменологии упрямства. Буаро — слуга — будет заниматься уборкой
до тех пор, пока дом не превратится в развалины. Онезим — странствующий
новобрачный — будет продолжать свадебное путешествие, пока не отправится в
своей неизменной корзине в дальнее плавание к неведомым горизонтам. Здесь
действие не нуждается ни в интриге, ни в последствиях, ни в крутых поворотах,
ни в недоразумениях, ни в неожиданных развязках; оно неумолимо развивается до
полного самоуничтожения. Оно неотвратимо стремится к своего рода элементарному
катарсису катастрофы так же, как воздушный шар, неосторожно раздуваемый
К оглавлению
==150
ребенком, в конце концов лопается, к нашему, а может быть, и
к его, облегчению.
Впрочем,
когда обращаешься к истории персонажей, ситуаций и приемов классического фарса,
нельзя не увидеть, что бурлеск в кино был внезапным и ослепительным всплеском
этого жанра. Начиная с XVII века, жанр фарса «во плоти и крови» находится на
пути к полному вымиранию; он сохранился в крайне специализированной и
преображенной форме только в цирке и в некоторых видах мюзик-холла, то есть
именно там, где набирали своих актеров продюсеры фильмов бурлеска, особенно
голливудских. Однако логика жанра и логика кинематографических возможностей
немедленно расширила палитру их технических приемов. Благодаря ей появились
бесчисленные ленты Макса Линдера, Бастера Китона, Лаурела и Харди, Чаплина; в
период между 1905 и 1920 годами фарс пережил наивысший взлет за всю историю
своего существования. Я говорю о том самом фарсе, традиция которого восходит ко
временам Платона и Теренция и включает комедию масок с ее темами и приемами.
Приведу лишь один пример: классическая тема лохани сразу же обнаруживается в
каком-нибудь старом фильме Макса Линдера (1912—1913), где можно увидеть, как
суетливый Дон-Жуан, соблазнивший красильщицу, вынужден нырнуть в наполненную
краской бадью, чтобы избежать мести обманутого мужа. Совершенно очевидно, что в
данном случае мы имеем дело не с влияниями, а со спонтанным воскрешением
традиции жанра.
ТЕКСТ,
ТЕКСТ!
Из
этого краткого исторического экскурса явствует, что между театром и кино
существуют гораздо более старые и тесные связи, нежели принято обычно думать, а
главное, они не ограничиваются тем, что обычно уничижительно обозначают как
«фильм-спектакль». Совершенно очевидно также, что столь же неосознанное,
сколь и непризнанное, влияние театрального репертуара и театральных традиций
решительнейшим образом сказалась даже на тех жанрах кинематографии, которые
считают образцами чистоты и «специфичности».
Однако
проблема представляется несколько иначе, чем проблема экранизации пьесы в
обычном
==151
понимании. Прежде чем пойти дальше, необходимо установить
различие между театральным фактом и тем, что можно было бы обозначить как факт
«драматический».
Драма —
душа театра. Однако порой эта душа переселяется в иную форму. Сонет, басня
Лафонтена, роман... фильм могут быть обязаны силой своего воздействия тому, что
Анри Гуйе называет «драматическими категориями». С этой точки зрения было бы
тщетным отстаивать автономию театра или же ее следовало бы трактовать в
негативном плане — то есть пьеса не может не быть «драматической», тогда как
роману дозволено быть или не быть таковым. «О мышах и людях» Джона Стейнбека —
одновременно и новелла и чистый'образец трагедии. Зато было бы очень трудно
переделать для сцены роман «В сторону Сванна» Марселя Пруста. Пьесу едва ли
будут хвалить за то, что в ней есть романический элемент, тогда как романист
часто удостаивается похвалы за умение строить действие.
Если
все же считать театр специфическим искусством драмы, то необходимо признать,
что влияние его колоссально и что кинематограф — последнее из искусств, которое
могло бы от этого влияния ускользнуть. Но в таком случае половина литературы и
три четверти фильмов представляют собой дочерние ответвления театра. Поэтому
проблема заключается в ином; она возникает, по существу, лишь в связи с
воплощением театрального произведения, воплощением его даже не в актере, а в
самом тексте.
«Федра»
была написана для того, чтобы быть сыгранной, но фактически она уже существует
— и как произведение и как трагедия — для гимназиста, зубрящего творения
классиков.
«Театр
на дому», воссоздаваемый только силой воображения,— это театр неполный, но
все-таки уже театр. И, наоборот, «Сирано де Бержерак» и «Путешественник без
багажа» в том виде, в каком они были экранизированы, перестают быть театром,
хотя в них сохранен и текст пьесы — и, сверх того, есть даже зрелище.
Если бы
мы имели возможность взять из «Федры» только действие и переделать его в
зависимости от «требований» романа или диалога кино, мы бы вновь столкнулись с
вышеизложенной гипотезой, согласно которой театральное начало сводится к началу
==152
драматическому. Однако, если для подобного переложения
«Федры» нет никаких метафизических препятствий, то совершенно очевидно, что
имеется целый ряд практических помех случайного и исторического порядка.
Наиболее простая из них — спасительный страх оказаться смешным, а наиболее
настоятельная — современное понимание произведения искусства, требующее
уважения к тексту и к собственности художника, пусть даже моральной и
посмертной. Иными словами, только Расин должен был бы иметь право переписать
«Федру» для экрана; но прежде всего не доказано, что при этом условии
экранизация была бы хорошей (ведь Жан Ануй сам и перенес «Путешественника без
багажа» на экран), а кроме того, Расин уже умер.
Можно,
конечно, сказать, что положение меняется, если автор жив, ибо он может
самолично заново осмыслить свое произведение, заново переработать уже
использованный материал (что и сделал Андре Жид, переделав для сцены свой роман
«Подземелья Ватикана»); он может по крайней мере контролировать и подкреплять
своим авторитетом работу того, кто готовит экранизацию. Но при ближайшем
рассмотрении это дает удовлетворение скорее правовое, нежели эстетическое:
во-первых, потому что талант или, того лучше, гений не всегда универсален, и
ничто не может гарантировать равноценность оригинала и его адаптации, даже если
последняя сделана самим автором. Во-вторых, потому что самым обычным поводом
для переноса на экран современного драматургического произведения служит
сценический успех. Этот успех заставляет произведение выкристаллизовываться в
рамках текста, уже испытанного на зрителе, текста, который публика рассчитывает
вновь услышать в кино; таким образом, мы более или менее честно возвращаемся
кружным путем к принципу уважения написанного в его исходной форме.
И,
наконец, главная причина состоит в следующем: чем выше достоинства
драматургического произведения, тем труднее разделить драматическое и
театральное начала, синтезированные в тексте пьесы. Весьма показательно, что мы
часто встречаем попытки переноса на сцену романов, но практически никогда не
видим обратного. Создается впечатление, будто театр расположен у крайнего
предела необратимого
==153
процесса эстетического очищения. Можно, на худой конец,
сделать пьесу на основе «Братьев Карамазовых» или «Мадам Бовари»; но даже если
допустить, что подобные пьесы и существовали изначально, было бы совершенно
невозможно сделать из них те романы, которые мы знаем. Ибо если драматическое
начало заключено в романическом таким образом, что не может быть извлечено
путем дедукции, то обратное допущение предполагает индукцию, что в искусстве
означает попросту творческий акт. По отношению к пьесе роман представляет собой
лишь одну из многочисленных возможных форм синтеза, исходящего из простого
драматического элемента.
Таким
образом, если понятие верности оригиналу не лишено смысла при переходе от
романа к театру, то есть в направлении, где еще можно усмотреть обязательную
преемственность, то далеко не ясно, что могло бы означать понятие верности при
обратном процессе; в лучшем случае можно было бы говорить о равноценности, а
скорее всего речь шла бы о «вдохновении», основанном на данных ситуациях и
персонажах.
Я
сравниваю сейчас роман и театр, однако есть все основания полагать, что это рассуждение
в еще большей мере справедливо для кинематографа; а тут возможно одно из двух:
либо фильм — это попросту фотография пьесы (взятой, следовательно, вместе с
текстом), и тогда-то получается пресловутый «фильм-спектакль», либо пьеса
приспособлена к «требованиям кинематографического искусства», но тогда мы
возвращаемся к той самой индукции, о которой говорилось выше, и, следовательно,
мы имеем дело уже с совершенно иным произведением. Жан Ренуар, работая над
фильмом «Будю, спасенный из воды» (1932), черпал вдохновение в пьесе Рене
Фошуа, но он создал на ее основе произведение, вероятно, превосходящее оригинал
и полностью его затмевающее *. Впрочем, это исключение полностью подтверждает
правило.
С какой
стороны ни подойди, театральная пьеса, будь то классическая или современная,
непререкаемо защищена своим текстом. Его нельзя «переработать», не отказавшись
от оригинального произведения с тем, * Он с неменьшей вольностью обращался с
«Каретой Святых даров» Мериме.
==154
чтобы заменить его другим, быть может, и более совершенным,
но уже не являющимся исходной пьесой. Эта операция неизбежно ограничивается,
впрочем, лишь второстепенными или ныне здравствующими авторами, ибо шедевры,
освященные временем, требуют от нас непреложного уважения к тексту.
Сказанное
подтверждается опытом последних десяти лет. Если проблема экранизированного
театра вновь обрела поразительную эстетическую актуальность, то она обязана
этим появлению таких созданий, как «Гамлет», «Генрих V», «Макбет» — для
классического репертуара, а для репертуара современного — таких фильмов, как
«Лисички», «Несносные родители», «Позаботься об Амелии» (режиссер К. Отан-Лара,
1949), «Веревка» (режиссер А. Хичкок, 1948)... Еще до войны Жак Кокто
подготовил «экранизацию» «Несносных родителей». Вернувшись к этому замыслу в
1946 году, он отказался от своей адаптации и предпочел полностью сохранить
первоначальный текст пьесы. Мы увидим дальше, что он, по существу, сохранил
даже сценические декорации. Эволюция «экранизированного театра» — будь то
американского, английского или французского, основанного на классических или
современных произведениях— носит всюду одинаковый характер: она отличается все
более и более настоятельным требованием соблюдения верности первоисточнику. Создается
впечатление, будто разносторонний опыт звукового кино фокусируется именно в
этом пункте. В былые времена первоочередная забота кинематографиста, казалось
бы, состояла в том, чтобы замаскировать театральное происхождение прообраза,
приспособить его к кинематографу и растворить в нем. Теперь кинематографист,
видимо, не только отказывается от этого принципа, но подчас систематически
подчеркивает театральный характер своего прообраза. Иначе и быть не может, если
исходным моментом становится уважение к тексту оригинала как таковому.
Созданный в соответствии с театральными возможностями, текст несет их в самом
себе. Он определяет манеру и стиль представления, он фактически сам уже
является театром. Нельзя стремиться к соблюдению верности этому тексту и в то
же время пытаться приспособить его к иной форме выражения, чем та, на которую
он рассчитан.
==155
СПРЯЧЬТЕ ЭТОТ ТЕАТР, Я ЕГО ВИДЕТЬ НЕ МОГУ1
Подтверждение
вышесказанному мы можем найти в примере, заимствованном из классического
репертуара. Я имею в виду ленту, которая, может быть, еще оказывает свое
тлетворное влияние в некоторых французских средних школах и лицеях и претендует
на право считаться экспериментом в области преподавания литературы при помощи
кино. Речь идет о «Лекаре поневоле», который был перенесен на экран при помощи
педагога-добровольца одним режиссером, чье имя мы утаим. Существует обширнейшее
досье, в котором собраны отклики на этот фильм столь же хвалебные, сколь и
удручающие; в нём хранятся письма преподавателей и директоров лицеев,
выражающих свое удовлетворение его совершенством. На самом же деле — это
невероятное нагромождение всевозможных ошибок, способных исказить и
кинематограф, и театр, и самого Мольера в придачу. Первая сцена с дровами происходит
в настоящем лесу; она начинается бесконечной панорамой по низкорослому
подлеску, явно предназначенной для того, чтобы показать эффекты солнечных
лучей, пробивающихся сквозь ветви. Наконец появляются два шутовских персонажа,
видимо занятые сбором грибов: это несчастный Сганарель и его супруга, чьи
театральные костюмы производят впечатление гротескного облачения ряженых. На
протяжении всего фильма выставляются напоказ, где только можно, подлинные
декорации: приход Сганареля на консультацию служит поводом для того, чтобы
продемонстрировать маленькую сельскую усадьбу XVII века.
Что
сказать о раскадровке? В первой сцене идет медленный переход от
«среднего-общего» плана к «крупному» и, естественно, при каждой реплике план
меняется. Чувствуется, что не будь текста, который поневоле точно определял
метраж пленки, режиссер постарался бы передать «прогрессию диалога» при помощи
короткого монтажа в духе Абеля Ганса. Благодаря постоянной смене встречных
крупных планов такая раскадровка дает ученикам возможность рассмотреть, ничего
не упуская, мимику актеров «Комеди Франсэз», которая возвращает нас, как можно
с легкостью себе представить, к добрым старым временам «Film d'Art».
==156
Если понимать кинематограф как свободу развития действия по
отношению к пространству, как свободу выбора угла зрения по отношению к
действию, тогда экранизация театральной пьесы должна была бы состоять в том,
чтобы придать декорациям те размеры и ту достоверность, которых сцена не могла
обеспечить в силу чисто материальных причин. Она означала бы также освобождение
зрителя от плена театрального кресла, в котором он сидит, и, кроме того,
позволила бы выигрышно подать игру актеров, благодаря смене планов. Нельзя не
согласиться, что по отношению к таким «постановкам» справедливы все обвинения,
выдвигаемые против «экранизированного театра». Но дело в том, что здесь никакой
постановки, по существу, и нет. Вся операция сводится к тому, чтобы силой
«впрыснуть» кино в плоть театра. Исходное драматическое произведение и тем
более его текст неизбежно оказываются искаженными. Время театрального действия,
разумеется, отличается от экранного, а драматическое первородство глагола
оказывается смещенным в соответствии с тем дополнительным драматизмом, которым
камера наделяет декорации. Наконец, и это особенно важно, известная
искусственность, подчеркнутость транспозиции, свойственные театральным
декорациям, категорически несовместимы с врожденным реализмом кинематографа.
Мольеровский текст обретает свое значение только среди леса из раскрашенных
полотнищ; то же самое относится к игре актеров. Огни рампы не похожи на свет
осеннего солнца. Сцена с дровами может быть в крайнем случае разыграна перед
занавесом, у подножия дерева она перестает существовать.
Эта
неудача довольно хорошо иллюстрирует то, что можно было бы считать главнейшей
ересью «экранизированного театра», а именно: стремление, чтобы все выглядело,
«как в кино». В той или иной мере именно к этому и сводятся обычно экранизации
нашумевших пьес. Если, допустим, действие должно происходить на Лазурном
берегу, то любовники, вместо того чтобы болтать под сводами бара, станут
целоваться за рулем американского автомобиля по дороге на Корниш, а на заднем
плане будут «просвечивать» скалы мыса Антиб. Что касается раскадровки, то,
например, в фильме «Хамы в раю» (режиссер Рене Ле Энаф, 1946)
==157
равенство контрактов, заключенных с Ремю и Фернанделем,
гарантировало примерно равное число крупных планов того и другого актера.
Впрочем,
предвзятое отношение публики лишь утверждает предвзятость самих
кинематографистов. Публика не слишком разбирается в кинематографии,
отождествляя ее, однако, с размерами декораций, с возможностью показать
естественную обстановку и придать действию стремительность. Если к пьесе не
добавлена хоть минимальная доза «кино», зритель сочтет себя обкраденным. Кино
непременно должно выглядеть «богаче», чем театр. Актеры в нем могут быть только
знаменитостями, а все, что кажется бедным или говорит о скаредности в отношении
материальных средств, является, как пишут, «фактором неудачи». Режиссер и
продюсер, решившиеся бросить в этом плане вызов предубеждениям зрителей, должны
запастись известным мужеством. Особенно если они сами не верят в свою затею. В
основе ереси «экранизированного театра» лежит комплекс амбивалентности7,
испытываемый кинематографом по отношению к театру, комплекс неполноценности по
отношению к искусству, более древнему и более литературному, который
кинематограф пытается компенсировать техническим «превосходством» своих
средств, ошибочно принимаемым за превосходство эстетическое.
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ
ТЕАТР8 ИЛИ СВЕРХТЕАТР?
Угодно
проверить эти заблуждения методом доказательства от противного? Совершенно
недвусмысленный ответ можно найти в таких двух удачах, как «Генрих V» и
«Несносные родители».
Когда
постановщик «Лекаря поневоле», начиная свою работу, снимал панораму в лесу, он
исходил из наивной, быть может, неосознанной надежды, что тем самым ему удастся
заставить нас проглотить в дальнейшем, как засахаренную пилюлю, эту злосчастную
сцену с дровами. Он старался привнести хоть неможко реальности, пытаясь
подставить ту лестницу, по которой мы могли бы взобраться на сцену. Его
неловкие ухищрения имели, к сожалению, обратное действие: они окончательно выявили
ирреальность и персонажей и текста.
==158
Посмотрим теперь, каким образом сумел Лоренс Оливье
разрешить в «Генрихе V» диалектическое соотношение между кинематографическим
реализмом и театральной условностью. Фильм тоже начинается с панорамы, которая,
однако, имеет целью погрузить нас в театр, каковым является постоялый двор
елизаветинских времен. Он вовсе не претендует на то, чтобы заставить нас
позабыть о театральной условности,— наоборот, он всячески подчеркивает ее. Не
«Генрих V» становится фильмом сразу и непосредственно; им становится
представление «Генриха V». Это сделано со всей очевидностью, поскольку вовсе и
не предполагается, будто представление разыгрывается в наши дни, как в театре;
все строится на том, что представление происходит именно во времена Шекспира,
нам даже показывают зрителей и закулисную жизнь. Таким образом, возможность
ошибки исключена; чтобы наслаждаться зрелищем, зритель не обязан давать перед
поднимающимся занавесом никаких заверений в том, что он все принимает на веру.
Таким образом, мы имеем дело не с пьесой, а с историческим фильмом о
елизаветинском театре, то есть с кинематографическим жанром, который полностью
обоснован и к которому мы привыкли. И тем не менее мы наслаждаемся пьесой, наше
удовольствие не имеет ничего общего с тем, что мы испытывали бы, глядя
исторический документальный фильм,— это удовольствие именно от представления
Шекспира. Эстетическая стратегия Лоренса Оливье заключалась в хитрой попытке
обойти чудо занавеса. Строя свой фильм на основе театра, разоблачив
предварительно при помощи кино театральную манеру игры и театральную условность
и не пытаясь вовсе их замаскировать, Лоренс Оливье тем самым снял зарок
реализма, который противостоял театральной иллюзии. Обеспечив психологические
основы сообщничества зрителя, Лоренс Оливье мог себе позволить живописную
деформацию декораций и реализм битвы при Азинкуре; сам Шекспир побуждал его к
этому в своем непосредственном обращении к воображению аудитории; и здесь,
следовательно, тоже имелся идеальный предлог. Кинематографический размах,
который было трудно заставить принять, если бы фильм был лишь представлением
пьесы «Генрих V», обретал алиби в самой пьесе. Оставалось, разумеется, только
выиграть
==159
игру. Как известно, она действительно была выиграна. Отметим
лишь, что цвет (который, по существу, является элементом нереалистическим, что
со временем будет, возможно, обнаружено) здесь способствует тому, чтобы придать
убедительность переходу в область воображаемого, а в пределах воображаемого
делает возможным переход от гравюры к «реалистическому» воспроизведению
Азинкура. «Генрих V» ни на минуту не становится настоящим «экранизированным
театром», фильм как бы расположен по обе стороны театрального представления, по
ту и другую сторону сцены. Однако Шекспир, как, впрочем, и сам театр,
оказываются в прочном плену кинематографа.
Современный
бульварный театр не прибегает с такой очевидностью к сценическим условностям.
«Свободный театр» и теории Антуана9 на время заставили даже поверить в
существование «реалистического» театра как своего рода предвестника кино*. Это
была иллюзия, которая сегодня никого уже не может больше обмануть. Если
театральный реализм и существует, то лишь в сравнении с системой более
сокровенных, менее явных, но столь же несомненных условностей. В театре нет
«пласта жизни». Или, во всяком случае', * Здесь, пожалуй, не помешает небольшой
комментарий. Прежде всего следует признать, что в недрах самого театра
мелодрама и драма действительно пытались совершить реалистическую революцию —
они стремились к стендалевскому идеалу зрителя, столь увлеченного игрой, что он
стреляет в предателя из пистолета (Орсон Уэллс на Бродвее заставит, наоборот,
обстреливать из пулемета кресла первого ряда). Век спустя Антуан будет искать
продолжение реализма текста в реализме постановки. Поэтому не случайно Антуан
занялся позднее кинематографом. Таким образом, если окинуть историю взглядом,
то нельзя не признать, что обширное течение «театр—кино» предшествовало
тенденции «кино—театр». Дюма-сын и Антуан предшествовали Марселю Паньолю.
Возможно, однако, что возрождение театра, начатое Антуаном, было в значительной
степени облегчено существованием кинематографа, который отвлек на себя всю
ересь реализма и ограничил теории Антуана здоровой и эффективной борьбой против
символизма. Отбор, проведенный театром «Вье коломбье» среди революционных
достижений «Свободного театра» (причем реализм был отдан Гран-Гиньолю) и
завершившийся возрождением значимости сценических условностей, быть может, не
был бы возможен без конкуренции кино. Это была образцовая конкуренция, которая,
во всяком случае, делала драматический реализм непоправимо смехотворным. Ныне
никто не может утверждать, что даже самая мещанская из бульварных драм не берет
свое начало от всех театральных условностей.
К оглавлению
==160
сам факт показа его на сцене сразу отделяет его от жизни и
превращает в феномен in vitro *, который отчасти еще принадлежит природе, но
уже глубоко модифицирован условиями наблюдения. Антуан волен вытаскивать на
сцену целые говяжьи туши, но он все же не может прогнать перед зрителем все
стадо, как в кино. Чтобы посадить на сцене дерево, ему бы пришлось сначала
обрубить все корни, и все равно показать по-настоящему лес не удалось бы. Таким
образом, это «подлинное» дерево восходит к сценическим надписям елизаветинского
театра; в конечном итоге оно представляет собой указательный столб. Напомнив
эти бесспорные истины, нельзя не согласиться с тем, что перенос на экран такой
«мелодрамы», как «Несносные родители», не порождает проблем, скольконибудь
отличающихся от проблем, связанных с пьесой классического репертуара. То, что
здесь подразумевается под реализмом, вовсе не ставит пьесу на один уровень с
кино и не разрушает театральную рампу. Просто система условностей, которой
подчиняется театральная мизансцена, а следовательно, и текст являются как бы
системой первого порядка. Условности трагедии и сопутствующая им свита
материальных неправдоподобии и александрийских стихов — это, по существу, те же
маски и котурны, выявляющие и подчеркивающие изначальную условность
театрального действа.
Это
отлично понимал Жан Кокто, перенося на экран «Несносных родителей». А ведь его
пьеса была на первый взгляд самой что ни на есть «реалистической».
Кокто-кинематографист понял, что к театральным декорациям добавлять ничего не
следует, ибо кинематограф существует не для того, чтобы умножать эти декорации,
а чтобы усиливать их эффективность. Если одна-единственная комната служит
квартирой для целой семьи, то благодаря экрану и техническим возможностям
кинокамеры это жилище будет казаться еще более тесным, чем комната на сцене.
Поскольку главным здесь является драматический факт замкнутости и вынужденного
совместного еуществования, постольку малейший солнечный луч, любое освещение,
помимо электрического, разрушили бы этот хрупкий и
* In
vitro (латин.) — в экспериментальном сосуде.
==161
губительный симбиоз. Вот почему все население фургончика
может отправиться в полном составе на другой конец Парижа в гости к Мадлен;
расставшись с ним у порога одной квартиры, мы встречаемся в дверях другой. Это
не ставший уже классическим эллипсис монтажа, а позитивный факт мизансцены, к
которому кинематограф вовсе не принуждал Кокто и который выходит за рамки
выразительных возможностей театра; даже будучи вынужденным прибегнуть к этому
приему, театр не может извлечь из него равного эффекта. Можно привести сотни
примеров в подтверждение того, что кинокамера не нарушает природу театральной
декорации, а старается лишь усилить ее эффективность, никогда не вмешиваясь во
взаимоотношения между декорацией и персонажем.
Все
затруднения театральной постановки оказываются неуместными; необходимость
показывать на сцене каждую из комнат квартиры поочередно, опуская в промежутках
занавес, несомненно, излишня. И только кинокамера вводит благодаря своей
подвижности истинное единство времени и места. Понадобился кинематограф, чтобы
театральный замысел получил наконец возможность свободно воплотиться и чтобы
«Несносные родители» стали воистину трагедией тесного жилища, где приоткрытая
дверь иногда приобретает больший смысл, нежели монолог в постели. Кокто не
изменяет своему произведению, он остается верен духу пьесы, тем точнее соблюдая
основные ее условия, что он умеет отличить их от случайных обстоятельств.
Кинематограф действует здесь лишь как проявитель, который окончательно выявляет
некоторые детали, остававшиеся на сцене невидимыми.
После
того как проблема декораций была разрешена, оставалась наиболее сложная задача—
проблема раокадровки. И здесь Кокто проявил самую большую изобретательность и
воображение. Понятие «плана» окончательно растворяется. Остается лишь
«мизанкадр», как некая мимолетная кристаллизация реальности, присутствие
которой непрерывно ощущается. Кокто любит повторять, что замышлял свой фильм в
расчете на «16-мм». Но только «замышлял», ибо ему было бы очень трудно столь же
удачно снять его в малом формате. Важно одно, чтобы зритель испытывал полное
ощущение присутствия при свершении события,
==162
причем это чувство достигается не за счет глубинного
построения кадра, как у Уэллса (или Ренуара), а лишь благодаря дьявольской
быстроте мимолетного взгляда, которая здесь, казалось бы, впервые подчиняется
ритму внимания как таковому.
Всякая
умелая раскадровка несомненно учитывает этот момент. Традиционные «встречные
планы» дробят диалог согласно определенному элементарному синтаксису
зрительского интереса. Крупный план телефонного аппарата, который звонит в
самый патетический момент, равноценен концентрации внимания. Однако нам
кажется, что обычная раскадровка представляет собой компромисс между тремя системами
возможного анализа действительности: 1) чисто логическим и описательным
анализом (орудие преступления, лежащее возле трупа); 2) психологическим
анализом, идущим изнутри фильма, то есть соответствующим точке зрения одного из
персонажей в данной ситуации (стакан, быть может, отравленного молока, который
должна выпить Ингрид Бергман в фильме «Дурная слава» (режиссер А. Хичкок,
1946), или кольцо на пальце Терезы Райт в фильме «Тень сомнения» (режиссер А.
Хичкок, 1942); 3) и, наконец, психологическим анализом, исходящим из интересов
зрителя; интерес этот может быть спонтанным или вызванным режиссером именно
благодаря такому анализу — например, ручка двери, которая поворачивается
незаметно для преступника, полагающего, что он находится в одиночестве («Берегись!»
—закричали бы дети Гиньолю '°, которого вот-вот настигнет жандарм).
Эти три
точки зрения, сочетание которых составляет в большинстве фильмов синтез
кинематографического события, воспринимаются как некие единства. В
действительности же они несут в себе психологическую разнородность и
материальную разобщенность, аналогичные темы, к которым прибегает романист,
пишущий в традиционной манере, и из-за которых Франсуа Мориак навлек на себя,
как известно, громы ЖанПоль Сартра. Все значение глубинной мизансцены и
неподвижного плана, характерных для Орсона Уэллса или Уильяма Уайлера,
определяется именно отказом от произвольного дробления и его заменой
единообразно прочитываемым изображением, вынуждающим зрителя сделать свой выбор
самому.
==163
Оставаясь в техническом отношении верным классической
раскадровке (количество планов в его фильме даже несколько больше обычного),
Кокто придает ей тем не менее индивидуальный смысл, используя практически
только планы третьей из перечисленных выше категорий. То есть он исходит из
точки зрения зрителя и только его одного, зрителя, необычайно проницательного и
наделенного способностью все видеть. Логический и описательный анализ, равно
как и точка зрения действующего лица, практически исключены; остается лишь
точка зрения свидетеля. Таким образом, удалось, наконец, осуществить идею
«субъективной камеры», но воплотилась она «наизнанку» — не за счет детского
отождествления зрителя с персонажем через посредство камеры (как в фильме «Дама
в озере» (режиссер Р. Монтгомери, 1946), а, наоборот, за счет соблюдения
позиции безжалостного свидетеля извне. Наконец-то камера оказывается зрителем и
только зрителем. Драма вновь полностью обретает права спектакля. Сам Кокто
сказал однажды, что кино — это событие, увиденное сквозь замочную скважину. От
«замочной скважины» здесь остается чувство, будто мы нарушаем
неприкосновенность жилища, испытывая почти непристойное ощущение подглядывания.
Приведем
очень показательный пример предвзятой позиции внешнего наблюдателя: один из
последних кадров фильма, когда отравленная Ивонна де Бре11, пятясь, удаляется в
свою спальню, глядя на людей, суетящихся вокруг счастливой Мадлен. Снятая с
отъезда панорама позволяет камере следовать за актрисой. Однако движение аппарата
никогда не отождествляется, сколь бы сильным ни было искушение, с субъективной
точкой зрения «Софи». Эффект панорамы, несомненно, был бы большим, если бы мы
оказались на месте актрисы и смотрели на все ее глазами. Однако Кокто избежал
возможной двусмысленности; он «не спускает глаз» с Ивонны де Бре и пятится,
оставаясь все время за ее спиной. Задача плана состоит не в том, чтобы показать
ее взгляд или то, на что она смотрит; задача заключена в том, чтобы следить за
тем, как смотрит она. Конечно, это взгляд, брошенный из-за ее плеча, но в
том-то и заключается преимущество кинематографа, которое Кокто поспешает,
впрочем, вернуть театру.
==164
Таким образом, Кокто вернулся к самому принципу
взаимоотношений между зрителем и сценой. В то время как кинематограф давал ему
возможность уловить драму с различных точек зрения, он умышленно избрал одну
лишь точку зрения зрителя, представляющую собой единственный общий знаменатель
сцены и экрана.
В
результате Кокто сохраняет за своей пьесой основные черты ее театрального
характера. Вместо того чтобы вслед за многими другими попытаться растворить ее
в стихии кино, он, наоборот, использует все возможности камеры, чтобы выявить,
подчеркнуть, утвердить сценические структуры и их психологические последствия.
Специфический вклад кинематографа можно в данном случае определить лишь как
усиление театральности.
Тем
самым Кокто присоединяется к Лоренсу Оливье, Орсону Уэллсу, Уильяму Уайлеру и
Дадли Николсу, что мог бы подтвердить анализ «Макбета», «Гамлета», «Лисичек» и
картины «Траур к лицу Электре» (режиссер Д. Николе, 1947), не говоря уж о таком
фильме, как «Позаботься об Амелии», где Клод ОтанЛара осуществляет по отношению
к водевилю операцию, проделанную Лоренсом Оливье с «Генрихом V». Все эти столь
характерные удачи последних пятнадцати лет служат иллюстрацией парадоксального
факта: уважения к театральному тексту и к театральным структурам. Речь идет уже
не о сюжете, который стараются «приспособить» для экрана. Нет, мы имеем дело с
пьесой, постановка которой осуществляется средствами кино. В процессе перехода
от «консервированного театра», наивного или бесстыдного, к упомянутым выше
недавним удачным постановкам сама проблема «экранизированного театра»
подверглась кардинальному обновлению.
Мы
попытались распознать, каким образом это произошло. Удастся ли нам разрешить
более честолюбивую задачу и объяснить, почему?
Лейтмотивом
хулителей «экранизированного театра», их конечным и, казалось бы, неодолимым
доводом является ссылка на ничем не заменимое удовольствие, доставляемое
физическим присутствием актера. «Наиболее специфическое качество театра,— пишет
Анри Гуйе в книге «Существо театра»,— заключается
==165
в невозможности отделить действие от актера». И далее:
«Сцена допускает любые иллюзии, кроме иллюзии присутствия; актер появляется на
ней переодетым, с другой душой и другим голосом, но вот он— здесь, и сразу же
пространство вновь заявляет о себе, предъявляя свои требования и обретая
плотность во времени».
И
наоборот, можно сказать, слегка перефразируя, что кинематограф допускает все
формы реальности, кроме физического присутствия актера. Если правда, что суть
театрального феномена заключается именно в этом, тогда кинематограф ни в коей
мере не мог бы на нее претендовать. Если, как и надлежит, почерк, стиль,
построение драматургического произведения точно рассчитаны на то, чтобы
вместить душу и бытие актера во плоти и крови, тогда совершенно тщетной была бы
попытка заменить человека его отражением или тенью. Этот аргумент неопровержим.
Но в таком случае удачи Лоренса Оливье, Уэллса или Кокто следовало бы считать
спорными (для чего нужна была бы основательная предвзятость) либо необъяснимыми
явлениями: их пришлось бы рассматривать как вызов эстетике и философии.
Очевидно,
выяснить проблему можно, лишь поставив под сомнение избитую аксиому театральной
критики о «незаменимом присутствии актера».
ПОНЯТИЕ
ПРИСУТСТВИЯ
Первый
ряд замечаний, который возникает прежде всего, относится к самому содержанию
понятия «присутствие» ; ибо кажется, что кинематограф поставил под сомнение
именно это понятие в том смысле, в каком оно существовало до появления
фотографии.
Может
ли фотографическое, и особенно кинематографическое, изображение уподобляться
другим изображениям и так же, как они, отличаться от самого бытия объекта?
Присутствие, естественно, определяется по отношению ко времени и пространству.
«Находиться в присутствии» кого-то — значит признавать этого человека нашим
современником и утверждать, что он находится в радиусе, естественно доступном
для наших чувств (в данном случае речь идет о зрении, а для радио — о слухе).
До появления фотографии, а
==166
вслед за ней кинематографа пластические искусства и особенно
искусство портрета были единственно возможными посредниками между конкретным
присутствием и отсутствием. Причиной тому было сходство, возбуждающее
воображение и помогающее памяти. Фотография представляет собой нечто совершенно
иное. Это уже не изображение предмета или существа, а, скорее всего,— его след.
Механическое происхождение фотографии коренным образом отличает ее от всех
других методов воспроизведения. При помощи объектива фотограф осуществляет
самое настоящее световое снятие отпечатка, делает своего рода слепок. Следовательно,
он уносит с собой не сходство, а нечто большее — некий опознавательный знак
(существование удостоверения личности мыслимо лишь в век фотографии). Однако
фотография технически несовершенна, поскольку ее моментальность позволяет
уловить только мгновенный срез времени. Кинематограф воплощает в себе странный
парадокс: он представляет собой мгновенный слепок объекта и в то же время
запечатлевает его след во времени.
XIX век
с его техническими средствами объективного визуального и звукового воспроизведения
привел к появлению новой категории изображений, чье отношение к реальности, от
которой они исходят, требует строгого анализа. Не говоря уже о том, что без
такой предварительной философской операции нельзя правильно поставить
эстетические проблемы, возникающие в этой связи, было бы вообще неосторожным
рассматривать старые эстетические факты так, будто сопряженные с ними категории
не претерпели никаких изменений под влиянием совершенно новых феноменов.
Здравый смысл, который, пожалуй, является наилучшим философом в подобных
вопросах, отлично учел ситуацию, создав для обозначения на афише присутствия
актера выражение «самолично». Ибо для него слово «присутствие» звучит в наши
дни недостаточно определенно, и к тому же в эпоху кинематографа плеоназм никогда
не бывает излишним. Следовательно, отныне нельзя быть совершенно уверенным в
том, что не существует мыслимого посредника между присутствием и отсутствием.
Ведь источники действенности кино восходят к его онтологии. Было бы
неправильным утверждать, будто экран абсолютно неспособен дать нам
==167
ощутить «присутствие актера». Он это делает наподобие
зеркала (о котором можно сказать, что оно заменяет присутствие того, что в нем
отражается), но только зеркала с замедленным отражением, амальгама которого
удерживает изображение в себе*. Правда, в театре на сцене может умирать Мольер,
а мы имеем преимущество жить в одно биографическое время с актером, его
изображающим; но вот в фильме «Манолетто» (режиссер Ф. Рей, 1950) мы присутствуем
при подлинной смерти знаменитого тореадора, и если наши переживания не столь
остры, как те чувства, которые возникли бы, окажись мы действительно на
трибунах арены в тот исторический момент, то, во всяком случае, они по природе
своей едины. И разве то, что теряется из-за отсутствия прямого свидетельства,
мы не возмещаем за счет искусственной близости, достигаемой благодаря
увеличивающей способности кинокамеры? Все происходит так, будто из двух
определяющих присутствие параметров — Время — Пространство,— кинематограф
воспроизводит лишь ослабленную протяженность во времени, уменьшенную, но не
сведенную к нулю, и восстанавливает равновесие психологического уравнения за
счет умножения пространственного фактора. Во всяком случае, нельзя основывать
противопоставление кинематографа и театра только на одном понятии присутствия,
не отдав себе предварительного отчета в том, что же сохраняется на экране от
этого присутствия (и
*
Телевидение породило, естественно, новую разновидность «псевдоприсуэствий»,
возникающих благодаря научным методам воспроизведения, основа которых была
заложена фотографией. В «прямых» передачах актер присутствует на малом экране
даже во времени и пространстве. Однако взаимная связь актер — зритель
оказывается односторонней. Зритель видит, не будучи видимым,— обратной связи
нет. Казалось бы, театральное представление на телевизионном экране имеет
отношение одновременно и к театру и к кино. С театром его роднит присутствие
актера по отношению к зрителю, а с кино — «неприсутствие» второго по отношению
к первому. Однако это «неприсутствие» не есть подлинное отсутствие, ибо
телевизионный актер постоянно ощущает миллионы глаз и ушей, представленных
телекамерой. Это абстрактное присутствие особенно чувствительно тогда, когда
актер запинается, произнося текст. Такая ситуация мучительна в театре, а на
телевидении она просто невыносима, ибо зритель, бессильный помочь актеру,
осознает его противоестественное одиночество. В театре при тех же
обстоятельствах возникает своего рода сообщничество со зрительным залом,
которое помогает актеру в беде. На телевидении такая обратная связь невозможна.
==168
чего философы и специалисты по эстетике еще совершенно не
выяснили). Мы не собираемся это здесь делать, ибо даже в классическом
понимании, которое вкладывают в слово «присутствие» Анри Гуйе и другие, на наш
взгляд, не содержится при ближайшем рассмотрении основной сущности театра.
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ
И ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ
При
откровенном интроспективном анализе удовольствия, доставляемого театром и
кинематографом в его наименее интеллектуальной, наиболее непосредственной
форме, мы вынуждены признать, что радость, которая остается в душе после того,
как опускается театральный занавес, несет в себе нечто невыразимо более живительное
и, признаемся, более благородное — а, может быть, следовало сказать: более
нравственное,— нежели удовлетворение, испытываемое после просмотра хорошего
фильма. Кажется, будто мы уносим из театра более чистую совесть. Для зрителя
театр в известном смысле насквозь пронизан корнелевским духом. С этой точки
зрения можно было бы сказать, что лучшим фильмам «чего-то недостает».
Происходит некая неизбежная потеря напряжения, некое таинственное эстетическое
короткое замыкание, которое лишает нас в кино своеобразного напряжения,
свойственного исключительно сцене. Сколь бы незначительным оно ни было, это
различие существует даже между плохим любительским исполнением и самой
блестящей кинематографической интерпретацией Лоренса Оливье. Это утверждение
совершенно банально, а тот факт, что театр выжил вопреки пятидесяти годам
существования кинематографа и вопреки пророчествам Марселя Паньоля, служит
этому достаточным экспериментальным доказательством.
В
чувстве разочарованности, которое возникает после просмотра фильма, можно,
вероятно, обнаружить процесс обезличивания зрителя. Как писал в 1937 году
Розенкранц в статье, глубоко оригинальной для своего времени, все персонажи
экрана становятся, «естественно, объектами отождествления, тогда как персонажи
сцены, скорее, являются объектами мысленного противопоставления, ибо их
действенное присутствие придает им объективную реальность, и для того, чтобы
==169
преобразовать их в объективы вымышленного мира, необходимо
вмешательство активной воли зрителя, необходимо желание абстрагироваться от их
физической реальности. Такая абстракция представляет собой плод
интеллектуального процесса, которого можно ожидать только от совершенно
сознательных индивидуумов».
Зритель
в кино стремится отождествить себя с героем посредством психологического
процесса, в результате которого зал становится «толпой», а эмоции
унифицируются. «Подобно тому как в алгебре две величины, порознь равные
третьей, равны между собой, можно было бы сказать: если два индивидуума
отождествляют себя с третьим, они тождественны между собой». Возьмем
характерный пример полуобнаженных герлс на сцене и на экране. Их появление на
экране удовлетворяет бессознательные сексуальные стремления; когда герой
общается с ними, он удовлетворяет желание зрителя в той мере, в какой последний
отождествил себя с этим героем. На сцене танцовщицы возбуждают чувства зрителей
точно так же, как это имеет место в действительности. В результате
отождествления с героем не происходит. Последний становится объектом ревности и
зависти. Словом, Тарзан возможен только в кино. Кино успокаивает зрителя, а
театр — возбуждает. Даже тогда, когда театр обращается к самым низменным
инстинктам, он все же до известной степени предотвращает формирование
психологии толпы*, он препятствует коллективному представительству в
психологическом плане, ибо требует активного индивидуального сознания, тогда
как фильм удовлетворяется пассивным сочувствием.
Эти
высказывания по-новому освещают проблему актера. Они опускают ее с высот онтологии
до уровня психологии. Кинематограф противостоит театру лишь в той мере, в какой
он способствует процессу отождествления зрителя с героем. При такой постановке
вопроса проблема соотношения кино и театра утрачивает свою абсолютную
неразрешимость, ибо кинематограф всегда располагает режиссерскими методами,
содействующими пассивности зрителя или, наоборот, более
* Толпа
и- одиночество не противоречат друг другу: зрительный зал в кино состоит из
толпы одиноких индивидуумов. Слово «толпа» понимается здесь как
противоположность органическому сообществу, избранному по доброй воле.
К оглавлению
==170
или менее возбуждающими его сознание. В противоположность
этому театр может стремиться сгладить психологическое противопоставление между
зрителем и героем. Следовательно, между театром и кинематографом не существует
больше непреодолимой эстетической пропасти; просто им свойственна тенденция
вызывать два различных душевных состояния, которыми режиссеры могут в
значительной степени управлять.
При
более детальном анализе выясняется, что удовольствие, которое доставляет театр,
противостоит не только удовольствию, приносимому кинематографом, но и тому,
которое дает чтение романа. Читатель, физически находящийся в одиночестве,
подобно тому как одинок в психологическом отношении зритель в темном зале кино,
отождествляет себя с персонажами романа; поэтому он тоже ощущает после
длительного чтения аналогичное опьянение от сомнительного чувства близости с
героями. В удовольствии, испытываемом от чтения романа, несомненно, есть, как и
в кино, элемент самолюбования, некая измена действию, состоящая в отказе от
социальной ответственности.
Анализ
рассматриваемого явления можно без труда продолжить в психоаналитическом плане.
Разве не знаменателен тот факт, что психиатры, занимающиеся этими проблемами,
заимствовали у Аристотеля термин «катарсис». Современные педагогические
исследования в области «психо драмы», по-видимому, открывают плодотворные
перспективы для изучения процессов катарсиса в театре. Эти исследования
используют существующие еще у ребенка двойственность понятий игры и реальности,
для того чтобы дать субъекту возможность освободиться в процессе театральной
импровизации от мучающих его скрытых чувств. Этот метод приводит к созданию
своеобразного театра, где игра ведется всерьез, а исполнитель становится своим
собственным зрителем. Разыгрываемое действие еще не отграничено рампой, которая
совершенно очевидно представляет собой архитектурный символ цензуры, отделяющий
нас от сцены. Мы поручаем Эдипу действовать от нашего имени там, по ту сторону
этой огненной стены, этой обжигающей границы между реальностью и вымыслом,
которая делает возможным существование вакхических чудовищ и в то же время
защищает нас от них. Священные монстры не могут прорваться сквозь эту
==171
световую пелену, за пределами которой они кажутся нам
неуместными и кощунственными (этим объясняется существующая атмосфера
благоговения, окружающая, подобно фосфоресцирующему ореолу, загримированного
актера, когда мы навещаем его в театральной уборной). И пусть мне не возражают,
будто рампа в театре существовала не всегда. Рампа — всего-навсего символ; до
нее были другие, начиная с котурнов и маски. Присутствие на сцене театра XVII
века маленьких маркизов вовсе не было отрицанием рампы, а, наоборот, скорее
подтверждало ее существование посредством своего рода привилегии нарушать ее;
точно так же в наши дни на Бродвее Орсон Уэллс рассаживает в зрительном зале
актеров, чтобы иметь основание стрелять в сторону публики — тем самым он не
уничтожает рампу, а переступает через нее. Правила игры созданы, между прочим,
для того, чтобы их нарушали, и от некоторых игроков ждут, что они будут
жульничать.
Итак,
феномен присутствия сам по себе не дает оснований считать, что театр и кино
существенным образом противостоят друг другу. Скорее следует говорить о двух
психологических разновидностях зрелища. Театр строится на том, что зритель и
актер сознают присутствие друг друга, делая это в интересах игры. Театр
воздействует на нас, вызывая игровое соучастие в действии, осуществляемое
поверх рампы и как бы под ее контролем. Наоборот, в кино мы находимся в
одиночестве, спрятанные в темном помещении, и наблюдаем сквозь полуоткрытые
жалюзи за зрелищем, которое нас игнорирует и которое представляет ообой как бы
частицу вселенной. Ничто не противостоит нашему мысленному отождествлению с
миром, волнующимся перед нами, который становится Миром с большой буквы.
Поэтому интереснее сосредоточить наш анализ не на феномене актера как физически
присутствующего лица, а на той совокупности условий «театральной игры», которая
принуждает зрителя к активному соучастию. Мы увидим, что речь идет не столько
об актере и его «присутствии», сколько о человеке и декорации.
==172
ИЗНАНКА ДЕКОРАЦИИ
Театр
без человека не существует, тогда как кинематографическая драма может обойтись
без актеров. В кино драматическую силу могут обрести хлопнувшая дверь, лист,
летящий по ветру, волны, лижущие берег. Некоторые шедевры кино используют
человека лишь как аксессуар — в качестве статиста или для контрапункта с
природой, являющейся воистину центральным персонажем. И если в фильмах Роберта
Флаэрти «Нанук» (1922) или «Человек из Арана» (1934) сюжет строится на борьбе
человека с природой, эту борьбу все же нельзя сравнить с театральным действием,
ибо точкой опоры драматургического рычага служат не человек, а неодушевленные
предметы. Как сказал, кажется, Жан-Поль Сартр, в театре драма исходит от
актера, в кино она идет от декорации к человеку. Такая перемена направления
драматических токов имеет решающее значение, ибо затрагивает самую сущность
режиссуры.
В этом
следует усмотреть одно из последствий реализма фотографии. Разумеется,
кинематограф использует природу, но лишь потому, что в силах это сделать:
камера предоставляет в распоряжение режиссера все возможности — от микроскопа
до телескопа. Последние волокна веревки, которые вот-вот разорвутся, или целая
армия, атакующая вершину,— все это события, отныне доступные нам. Для киноглаза
драматургические причины и следствия не имеют материальных пределов. Благодаря
камере драма высвобождается от всяких ограничений, налагаемых временем и
пространством. Однако это высвобождение ощутимых драматических сил представляет
собой эстетическую причину вторичного порядка и поэтому не может полностью
объяснить столь диаметральную переоценку ценностей в отношениях между человеком
и декорацией. Кинематограф подчас умышленно не прибегает к помощи декораций и
природы — пример тому мы видели в «Несносных родителях»; а театр, наоборот,
использует сложные механизмы для того, чтобы дать зрителю иллюзию
вездесущности. Разве «Страсти Жанны д'Арк> (1928) Карла Дрейера — фильм,
целиком снятый на крупных планах, в декорациях Жана Гюго ]2, которых почти не
видно (и которые очень
==173
театральны),—менее кинематографичны, чем «Дилижанс»?
Следовательно, количество декораций в кино, равно как и сходство их с
некоторыми театральными декорациями, не имеет решающего значения. Декоратор не
может создать две существенно различающихся обстановки спальни для «Дамы с
камелиями», одну—для сцены, другую — для экрана. Правда, в кино еще могут
появиться крупные планы носового платка в пятнах крови. Однако при умелой
театральной постановке тоже можно эффектно обыграть кашель и носовой платок.
Все крупные планы «Несносных родителей», по существу, заимствованы у театра,
где наше внимание их выделяло совершенно спонтанно. Если бы кинематографическая
постановка отличалась от театральной лишь тем, что она допускает большее
приближение к декорации и ее более рациональное использование, тогда не было бы
никакого смысла продолжать работать в театре, а Паньоль был бы пророком. Ведь
мы отлично видим, что несколько квадратных метров декораций для «Пляски смерти»
в постановке Вилара заключали в себе не меньше драматизма, чем остров, на
котором был снят превосходный, впрочем, фильм «Пляска смерти» (1946) Марселя
Кравенна.
Проблема
заключается не в декорации самой по себе, а в ее природе и ее функции. Нам
предстоит теперь уяснить одно специфически театральное понятие: понятие
драматического места действия.
Театр
не может существовать без архитектуры, будь то паперть собора, арена в Ниме,
папский дворец, ярмарочные подмостки, полукруг театра в Винченце, разукрашенный
так, будто над ним потрудился некий Бэрар 13 в бреду, или, наконец, амфитеатр в
стиле рококо в каком-нибудь театральном зале на Больших Бульварах. Будучи по
существу своему игрой или празднеством, театральное действо не может слиться с
природой, не рискуя раствориться в ней и прекратить свое существование.
Поскольку оно основано на взаимном осознавании присутствующих участников, ему
необходимо противопоставить себя остальному миру, подобно тому как игра противопоставляется
реальности, сочувствие — равнодушию, литургия — вульгарности всего сугубо
утилитарного. Костюм, маска или грим, стиль языка, рампа — все в большей или
меньшей мере способствуют этому различению, однако
==174
наиболее ясное его воплощение — сама сцена,
архитектуи81 ра которой подвергалась
многочисленным изменениям, не переставая, однако, служить для обозначения
привилегированного пространства, фактически или мысленно отличающегося от
природы. Декорация существует именно в соотношении с этим локализованным местом
драматического действия, она просто содействует в той или иной степени его
выделению, уточнению его характера. Какой бы она ни была, декорация образует
три внутренних стенки открытой в сторону зала коробки, которая и представляет
собой сцену. Все эти фальшивые перспективы, фасады, рощицы имеют изнанку из
полотна, гвоздей и дерева. Никто не сомневается, что актер, «удаляющийся в свои
покои» (с окнами во двор или в сад) — на самом деле идет в свою театральную
уборную разгримировываться. Несколько квадратных метров света и иллюзий
окружены сложными механизмами и кулисами, чьи скрытые от глаз, но заведомо
существующие лабиринты ничуть не портят удовольствие зрителя, соучаствующего в
игре.
Будучи
лишь элементом сценической архитектуры, театральная декорация представляет
собой ограниченное, строго очерченное, физически замкнутое пространство, в чьих
стенах существуют только те «бреши», которые пробиты нашим воображением,
подчиняющимся правилам игры. Лицевая сторона декорации, ее «видимость» обращена
во внутрь, к публике и рампе; собственно опорой ее существованию служат
обратная сторона, так сказать, изнанка, да еще отсутствие потусторонности.
Точно так же произведение живописи существует благодаря своей раме. Подобно
картине, которая не сливается с изображенным на ней пейзажем и не является
окном в стене, сцена с декорациями, на которой разыгрывается действие,
представляет собой эстетический микрокосм, насильно внедренный во вселенную, но
коренным образом отличающийся от окружающей природы.
Иное
дело — кино, принцип которого заключается именно в отрицании всяких границ
действия. Концепция драматического места действия не только чужда, а прямо
противоположна понятию экрана. Экран — ограничен не рамкой, подобной обрамлению
картины, а каше, позволяющим улавливать лишь часть события. Когда персонаж
выходит из кадра, мы допускаем, что
==175
он ускользает из поля зрения камеры, но все же продолжает
существовать такой, какой он есть, в другой, скрытой от нас точке окружающей
его обстановки. У экрана нет кулис, да он и не мог бы их иметь, не нарушая
свойственной ему специфической иллюзии, состоящей в том, что экран превращает,
скажем, револьвер или лицо в центр вселенной. Пространство экрана центробежно в
противоположность сценическому пространству.
Поскольку
бесконечности, столь необходимой театру, не дано быть пространственной, ею
может стать только бесконечность человеческой души. Актер, заключенный в
замкнутом пространстве сцены, оказывается в -фокусе двояко-вогнутого зеркала.
Со стороны зрительного зала и со стороны декорации к нему сходятся сумрачные
огни человеческих душ и яркий свет рампы. Но огонь, сжигающий актера,— это
огонь его собственной страсти, сосредоточенный в нем; в каждом зрителе он
зажигает ответное пламя. Подобно океану, пробуждающему отзвук в раковине,
драматическая бесконечность человеческого сердца рокочет, отражаясь от
внутренней поверхности театральной сферы. Поэтому театральная драматургия по
существу своему человечна ; человек — ее первопричина и объект.
На
экране человек перестает быть средоточием драмы и становится (в случае
необходимости) центром вселенной. Его действия могут до бесконечности, подобно
удару, порождать в ней ответные волны, а окружающая его декорация исходит будто
из самой толщи мира. Поэтому актер как таковой может даже отсутствовать на
экране, ибо a priori человек не имеет здесь никаких преимуществ перед животным
или лесом. Однако совершенно не исключено, что он может стать главной и единственной
движущей силой драмы (как, например, в «Жанне д'Арк» Дрейера), и в этом плане
кинематограф прекрасно может дополнять и даже превосходить театр. Действие
«Федры» или «Короля Лира» само по себе столь же кинематографично, сколь и
театрально, а видимая на экране смерть кролика в «Правилах игры» Ренуара
волнует нас не меньше, чем рассказ о смерти котенка Аньес.
Но если
Расин, Шекспир или Мольер не терпят переноса на экран посредством простой
записи изображения и звука, то причина состоит в том, что разработка
==176
действия и стиль диалога их произведений задуманы
применительно к отзвуку, порождаемому в архитектуре театрального зала.
Специфическая театральность этих трагедий заключена не столько в самом
действии, сколько в примате человеческого, а следовательно, словесного начала,
свойственного драматической напряженности.
Проблема
экранизированного театра, во всяком случае, по отношению к классическому
репертуару состоит не столько в переносе «действия» со сцены на экран, сколько
в переводе текста из одной драматургической системы в другую при условии
сохранения его эффективности.
Следовательно,
кинематографу противится не столько действие театрального произведения, сколько
его словесная форма, которую мы вынуждены соблюдать в силу эстетических
условностей или укоренившихся культурных предубеждений; что же касается приемов
развития интриги, то их, вероятно, было бы нетрудно применить к правдоподобию
экрана. Именно словесная форма и не поддается попыткам вставить ее в рамки
экранного окна.
«Театр,—писал
Бодлер,—это люстра». Если бы этому круглому искусственному скоплению
хрустальных подвесок, блестящему, многогранному, отражающему огни, сверкающие
вокруг его центра, и завораживающему нас своим ореолом, надо было противопоставить
другой символ, мы могли бы сказать, что кинематограф — подобен маленькому
фонарику билетерши, который как мерцающая комета проходит сквозь ночь нашего
сна наяву, передвигаясь в рассеянном, лишенном геометрических форм и границ
пространстве, окружающем экран.
История
неудач и недавних успехов «экранизированного театра» должна, следовательно,
быть историей режиссерского мастерства, направленного на то, чтобы удерживать
драматическую энергию в такой среде, которая бы ее отражала или по меньшей мере
обеспечивала резонанс, достаточный, чтобы ее еще мог воспринять кинозритель.
Иными словами, речь должна идти не столько об эстетике актера, сколько об
эстетике декорации и раскадровки.
Теперь
понятно, что «экранизированный театр» неизбежно обречен на провал, когда его в
той или иной
==177
мере превращают в фотографию сценического представления,
особенно если камера пытается заставить нас позабыть о рампе и кулисах. При
этом драматическая энергия текста, вместо того чтобы вернуться в отраженном
состоянии к актеру, без отклика гаснет в кинематографическом эфире. Этим
объясняется тот факт что порой экранизированная пьеса оказывается совершенно
загубленной, хотя и текст, казалось бы, соблюден, и исполнение вполне прилично,
и декорации правдоподобны. Так было, например, с «Путешественником без багажа».
Пьеса, сохранившая, казалось бы, свою идентичность, погибла, утратив всякую
энергию, подобно аккумулятору, который «садится» в результате случайного
заземления.
Но за
пределами эстетики декорации как сценической, так и кинематографической мы в
конечном счете обнаруживаем при более углубленном анализе, что рассматриваемая
проблема — это, по существу, проблема реализма. Поэтому, говоря о кино,
неизбежно приходишь именно к ней.
КИНО И
РЕАЛИЗМ ПРОСТРАНСТВА
Фотографическая
природа кино позволяет с легкостью сделать вывод о его реализме. Существование
чудес или фантастики кино не только не противоречит реализму изображения, а,
наоборот, оказывается наиболее убедительным его подтверждением. Иллюзия в
кинематографе основана не на молчаливо принятых зрителем условностях, как в
театре, а, наоборот, на незыблемом реализме показываемого. В кино трюки должны
быть материально безупречными: «человек-невидимка» обязан носить пижаму и курить
сигареты.
Следует
ли из сказанного вывод о том, будто кинематограф обречен на показ реальности
если не в натуральном виде, то, во всяком случае, реальности правдоподобной, в
идентичность которой с природой зритель верит на основании своего опыта? Относительная
эстетическая неудача немецкого экспрессионизма могла бы подтвердить эту
гипотезу, ибо в «Кабинете доктора Калигари» (режиссер Р. Вине, 1920) совершенно
очевидно стремление уйти от реализма декораций под влиянием театра и живописи.
Однако такое суждение привело
==178
бы к упрощенному решению проблемы, допускающей гораздо более
тонкие ответы.
Если
между кинематографическим изображением и миром, в котором мы живем,
действительно существует некий общий знаменатель, тогда мы готовы согласиться с
тем, что экран — это окно, распахнутое в некий искусственный мир. Наше
чувственное познание пространства составляет инфраструктуру нашего
представления о вселенной. Перефразируя формулу Анри Гуйе «сцена допускает
любые иллюзии, кроме иллюзии присутствия», можно сказать, что
«кинематографическое изображение может быть лишено всякой реальности, кроме
одной: реальности пространства».
Пожалуй,
выражение «всякой реальности» несколько преувеличено, ибо попытка воспроизвести
пространство без малейших ссылок на природу, вероятно, неосуществима. Вселенная
экрана не может быть противопоставлена нашей вселенной; она по необходимости
подменяет ее собой в силу того, что самому понятию «вселенной» свойственна
пространственная исключительность. На какое-то время фильм становится
Вселенной, Миром, или, если угодно. Природой. Нельзя не согласиться с тем, что
все фильмы, пытавшиеся подменить мир нашего опыта некоей поддельной природой и
искусственной вселенной, никогда не достигали успеха. Однако, признавая провал
«Калигари» и «Нибелунгов» (режиссер Ф. Ланг, 1924), поневоле задаешь себе
вопрос: чем же объясняется несомненный успех «Носферату» и «Страстей Жанны
д'Арк» (критерием успеха служит тот факт, что последние два фильма ничуть не
устарели)? На первый взгляд может показаться, что методы постановки упомянутых
четырех фильмов объединяются несомненным эстетическим родством и что независимо
от различия темпераментов или эпох их можно причислить к «экспрессионизму» в
противовес «реализму». Но, приглядевшись внимательнее, между ними можно
заметить существенные различия. Эти различия совершенно очевидны в отношении Р.
Вине и Ф. Мурнау. Действие «Носферату» (режиссер Ф. Мурнау, 1922) чаще всего
разыгрывается в естественной обстановке, тогда как фантастика «Калигари»
порождается деформацией света и декораций. В случае «Жанны д'Арк» Дрейера
различие носит более тонкий характер, ибо природа здесь, казалось бы, не играет
==179
практически никакой роли. Хотя декорации Жана Гюго
отличались большей скромностью, они были ничуть не менее искусственными и
театральными, нежели декорации в «Калигари»; систематическое использование
крупных планов и необычных точек съемки немало способствовало окончательному
разрушению пространства. Завсегдатаи киноклубов знают, что перед показом фильма
Дрейера им никогда не приминут рассказать знаменитую историю о волосах
Фальконетти, которые действительно были сбриты в соответствии с требованиями
фильма; обычно упоминается также отсутствие грима у актеров. Однако эти
исторические ссылки, как правило, не выходят за рамки анекдота. А на мой
взгляд, в них-то и заключен эстетический секрет фильма — тот самый, который
делает его бессмертным. Благодаря им произведение Дрейера отказывается от
тенденции не иметь ничего общего с театром и, можно было бы даже сказать, от
тенденции разрыва с человеком. Чем больше Дрейер обращался исключительно к
выразительности человеческого лица, тем неизбежнее он должен был приблизить его
к природе. Не следует заблуждаться, эта изумительная фреска, скомпонованная из
людских голов, есть полная противоположность актерскому фильму — это
документальный фильм о человеческих лицах. Совершенно неважно, чтобы актеры
хорошо «играли», зато бородавка епископа Кошона или веснушки Жанна д'Ид
оказываются неотъемлемой частью действия. В этой увиденной под микроскопом
драме мы ощущаем под каждой порой кожи трепетание всей природы в целом.
Движение морщины, сжатие губ равнозначны сейсмическим толчкам и движениям
морских толщ, они представляют собой приливы и отливы в этой человеческой коре.
Однако наивысшее проявление кинематографического чутья Дрейера мне видится в
сцене, снятой на натуре, которую любой другой не преминул бы снять в павильоне.
Построенная декорация, несомненно, напоминает изображения средневековья,
характерные для театра или традиционных миниатюр. В известном смысле нельзя
придумать что-либо менее реалистическое, чем это судилище на кладбище или эти
ворота с подъемным мостом. Но все залито солнечным светом, могильщик выбрасывает
лопатой из ямы комья
К оглавлению
==180
настоящей земли*. И вот именно эти «второстепенные» детали,
противоречащие, казалось бы, общей эстетике произведения, придают ему глубоко
кинематографический характер.
Если
эстетический парадокс кино заключается в диалектике конкретного и отвлеченного,
если экран обязан передавать смысловые значения исключительно посредством
реальности, тогда особенно важным становится различие между элементами
постановки, которые подтверждают понятие естественной реальности, и теми,
которые его разрушают. Несомненно, попытка поставить ощущение реальности в
зависимость от нагромождения реальных фактов — это прием грубый. Нельзя
сомневаться, что «Дамы Булонского леса» (режиссер Р. Брессон, 1944) — фильм в
высшей степени реалистический, хотя в нем все или почти все стилизовано.
Все, за
исключением совсем незначительного поскрипывания щетки о ветровое стекло
автомашины, журчания потока или шороха земли, сыплющейся из разбитого
цветочного горшка. Но именно эти звуки, тщательно отобранные по признаку их
индифферентности по отношению к действию, именно они удостоверяют подлинность
происходящего.
Будучи
по существу своему драматургией природы, кино не может существовать без построения
открытого пространства, подменяющего собой вселенную вместо того, чтобы
вписываться в нее. Экран не смог бы создавать иллюзорного ощущения пространства
без некоторых гарантий естественного порядка. Но задача заключается не столько
в построении декорации, не столько в архитектурном оформлении или в безмерности
масштабов, сколько в том, чтобы выделить такой эстетический катализатор,
который достаточно ввести в мизансцену в ничтожно малой дозе, чтобы вызвать
реакцию «высвобождения природы». Сколь бы ни казался беспредельным сделанный из
бетона лес в
*
Поэтому я считаю серьезными просчетами Лоренса Оливье сцены кладбища и смерть
Офелии в его постановке «Гамлета». Он имел здесь возможность ввести солнце и
землю в контрапункте с декорациями Эльсинора. Почувствовал ли он такую
необходимость, включив в монолог Гамлета подлинную картину моря? Эта
превосходная сама по себе идея не была, однако, использована с достаточным
техническим совершенством.
==181
«Нибелунгах», мы не верим достоверности его пространства, а
ведь достаточно легкого трепета на ветру простой березовой веточки, освещенной
солнцем, чтобы вызвать представление о всех лесах мира.
Если
эта аналогия обоснована, тогда становится очевидным, что первейшая эстетическая
проблема «экранизированного театра» — это проблема декорации. Испытание,
которое должен выдержать режиссер, заключается в преобразовании пространства,
ориентированного исключительно вовнутрь, в преобразовании: замкнутого и
условного места театрального действия — в окно, распахнутое в мир.
Ни в
«Гамлете» Лоренса Оливье, ни тем более в «Макбете». Орсона Уэллса текст не
кажется излишним или ослабленным из-за парафраз мизансцены; сколь это ни
парадоксально, он кажется таковым в постановках Гастона Бати, в той мере, в
какой эти постановки стараются создать на сцене кинематографическое
пространство, отрицая существование изнанки декорации и тем самым сводя
звучание текста к одним лишь вибрациям голоса актера, лишенного резонатора и
подобного скрипке, звук которой зависит исключительно от струн. Нельзя
отрицать, что главное в театре — текст. Созданный в расчете на
антропоцентрическую» выразительность сцены и наделенный миссией подменять собою
природу, этот текст не может раскрыться в прозрачном, как стекло, пространстве,
не теряя при этом смысла своего существования. Следовательно, перед
кинематографистом встает задача: сохраняя естественный реализм декорации,
придать ей одновременно драматическую непроницаемость. Как только удастся
разрешить парадокс пространства, режиссер может не только без страха переносить
на экран театральные условности и подчиняться требованиям текста, он
приобретет, наоборот, возможность совершенно свободно опираться на них. Отныне
снимается вопрос о необходимости избегать всего, что «выглядит театральным».
Наоборот, при случае оказывается даже нужным подчеркивать эту театральность за
счет отказа от дешевых кинематографических уловок, как делали Кокто в
«Несносных родителях» и Уэллс в «Макбете», или путем своеобразного «выделения
курсивом» театральной части фильма, как сделал Лоренс Оливье в «Генрихе V».
==182
Совершенно явный возврат к «экранизированному театру»,
который мы наблюдаем за последние десять лет, по существу, тесно связан с
историей развития декорации и раскадровки; эта история представляет собой
историю завоевания реализма. Разумеется, речь идет не о реализме сюжета или
выражения, а именно о реализме пространства, без которого движущаяся фотография
не становится еще кинематографом.
АНАЛОГИЯ
ИГРЫ
Достигнутый
прогресс оказался возможным лишь в силу того, что противопоставление театр —
кино основывается не на антологической категории присутствия, а на психологии
актерской игры. Переход от одной к другой соответствует переходу от абсолютного
к относительному, от антиномии к простому противоречию. Если кинематограф
неспособен вернуть зрителю общинное сознание, характерное для театра, то во
всяком случае известный уровень режиссуры позволяет сохранить мысль и
действенность текста, что является решающим фактором. В наши дни научились
приживлять театральный текст к кинематографической декорации. Остается еще
сознание активного противопоставления между зрителем и актером, которое
составляет существо театральной игры и символом которого является архитектура
сцены. Но даже это сознание нельзя считать абсолютно несовместимым с
психологией кинематографа.
В самом
деле, аргументация Розенкранца по вопросу о «противопоставлении» и
«отождествлении» нуждается в серьезных поправках. В ней есть известная двусмысленность,
которую в свое время оправдывал уровень развития кинематографа; однако
современная эволюция все больше разоблачает ее. Розенкранц, казалось бы,
считает отождествление обязательным синонимом пассивности и ухода от
реальности. Однако кинематограф мифический, родственный сновидениям,
представляет собой фактически лишь один из видов кинопродукции, имеющей ныне
все меньшее и меньшее значение. Не следует смешивать историческую, идущую от
случайного, социологию с неотвратимостью психологии. Это два направления в
движении зрительского сознания, которые сходятся к одной точке, нигде
==183
не соединяясь. Я не могу одинаковым образом отождествлять
себя с Тарзаном и с сельским священником. Единственный общий знаменатель моего
отношения к этим героям заключается в том, что я действительно верю в их
существование и не могу отказаться от соучастия в их приключениях, не рискуя
отказаться от фильма в целом; причем мое сопереживание идет как бы изнутри их
вселенной, «вселенной» не метафорической и вымышленной, а пространственно
реальной. Это соучастие изнутри не исключает во втором случае сознания моего
собственного «я», отличающегося от персонажа, сознания, от которого я в первом
случае готов отстраниться. Эти аффективные по своему происхождению факторы не
являются единственными помехами для пассивного отождествления; такие фильмы,
как «Надежда» или «Гражданин Кейн», требуют от зрителя интеллектуального
напряжения и внимания, совершенно противоположных пассивности. Единственное положение,
которое можно выдвинуть в этой связи, заключается в следующем: психология
кинематографического изображения позволяет естественным образом спускаться к
низшей ступени — к социологии героя, которая характеризуется пассивным
отождествлением; но в искусстве, как и в нравственности, спуски созданы и для
того, чтобы по ним поднимались. В то время как современный театральный режиссер
часто пытается сгладить осознание игры при помощи относительного реализма
постановки (подобно этому любитель ГранГиньоля всячески разыгрывает страх, но
даже в минуту наибольшего ужаса сохраняет сладостное сознание, что его
обманывают) — режиссер фильма изыскивает соответственно средства, чтобы
подстегнуть сознание зрителя и вызвать его на размышление; то есть пытается
найти то, что было бы противопоставлением внутри отождествления. Эта зона
индивидуального сознания, это сохранение собственного «я» на вершинах иллюзии
образуют своего рода индивидуальную рампу. В «экранизированном театре» природе
противопоставляется уже не сценический микрокосм, а зритель, осознающий
происходящее. «Гамлет» и «Несносные родители» не могут и не должны ускользать в
кинотеатре от законов кинематографического восприятия; Эльсинор и фургончик
действительно существуют, но я проникаю в них, оставаясь невидимым, наслаждаясь
==184
той двусмысленной свободой, которую дарят иногда сны. Я
«поддаюсь» обману, но стараюсь соблюдать некоторое расстояние.
Разумеется,
возможность интеллектуального осознания внутри психологического отождествления
не следует смешивать с основополагающим волевым актом, совершаемым в театре;
поэтому столь тщетна попытка Паньоля отождествить сцену и экран. Каким бы умным
и сознательным ни делал меня фильм, он обращается, однако, не к моей воле; в
лучшем случае речь может идти о моей доброй воле. Фильм нуждается в моих
усилиях, чтобы быть понятным и оцененным, а вовсе не для того, чтобы
существовать. Но, как показывает опыт, зона сознания, допускаемая
кинематографом, достаточна, чтобы послужить основой для становления чувства,
вполне эквивалентного специфическому наслаждению, доставляемому театром. Во
всяком случае, она позволяет сохранить самое главное из художественных
достоинств пьесы. Если фильм и не может претендовать на то, чтобы полностью
подменить собой сценическое представление, он, во всяком случае, способен
обеспечить театру вполне достойное художественное бытие, может доставить нам
аналогичное удовольствие. Действительно, речь идет о сложном эстетическом
механизме, в котором исходная театральная сила воздействия почти никогда не
проявляется непосредственно, а передается в консервированном, восстановленном и
преобразованном виде через системы передач (например, «Генрих V») и усилителей
(например «Макбет»), посредством индукции или интерференции. Подлинный
«экранизированный театр» аналогичен не фонографу, а волнам Мартено.
МОРАЛЬ
Таким
образом, практика (достоверная) и теория (вероятная) удавшегося
«экранизированного театра» совершенно отчетливо выявляют причины прежних
неудач. Простая движущаяся фотография театра представляет собой в чистом виде
наивную ошибку, которую распознали уже тридцать лет тому назад и на которой не
стоит останавливаться. Кинематографической «переработке» удавалось скрывать
заключенную в ней ересь значительно дольше; она еще долго будет
==185
вводить многих в заблуждение, однако мы знаем отныне, к чему
она приводит: она ведет к смутным эстетическим пограничным зонам, которые не
принадлежат ни театру, ни кинематографу,— к тому самому «фильмуспектаклю»,
который справедливо осужден как преступление против духа кинематографа.
Намеченное, наконец, верное решение заключается в понимании того, что задача
состоит в переносе на экран не драматического элемента театрального
произведения,— который может в порядке взаимозаменяемости переходить из одного
вида искусства в другое,— а, наоборот, в переносе театральности драмы.
Предметом переработки является не сюжет пьесы, а сама пьеса в ее сценической
специфике. Эта высвобожденная наконец истина позволит завершить наши
рассуждения следующими тремя положениями, кажущаяся парадоксальность которых
превращается по зрелом размышлении в очевидный факт.
1.
ТЕАТР ПОМОГАЕТ КИНЕМАТОГРАФУ
Первое
положение состоит в том, что основанный на правильном понимании «экранизированный
театр» не только не совращает кинематограф с истинного пути, а, наоборот, лишь
обогащает и возвышает его.
Рассмотрим
прежде всего проблему содержания. К сожалению, совершенно очевидно, что средний
уровень кинопродукции стоит в интеллектуальном отношении значительно ниже, если
не современной драматургической продукции (особенно если причислять к ней
творения Жана де Летра и Анри Бернстейна), то, во всяком случае, ниже вечно
живого театрального наследия. Хотя бы просто в силу старшинства последнего. Наш
век в такой же мере является веком Чарли Чаплина, в какой XVII век был веком
Расина и Мольера; только кинематографу всего лишь полстолетия от роду, а
театральной литературе — двадцать пять веков. Чем была бы сегодня французская
сцена, если б она, подобно экрану, служила убежищем продукции всего лишь десяти
последних лет? Едва ли можно сомневаться в том, что кинематограф переживает
острый сюжетный кризис; поэтому он ничем не рискует, привлекая таких
сценаристов, как Шекспир и даже Фейдо. Не будем продолжать — вопрос совершенно
ясен.
==186
Он значительно менее ясен в отношении формы. Если
кинематограф — искусство совершеннолетнее, обладающее своими собственными
законами и своим собственным языком, что же он может выиграть, подчиняясь
законам и языку другого искусства? Очень многое! И выиграет именно в той мере,
в какой действительно готов будет подчиниться и служить им, порвав с пустыми и
наивными ухищрениями. Чтобы полностью оправдать кинематограф в этом отношении,
следовало бы рассмотреть его положение в свете эстетической истории проблемы
влияний в искусстве. Нам кажется, такая историческая перспектива выявила бы
очень важный по своему значению обмен между различными художественными
методами, во всяком случае, на определенной стадии их эволюции. Наше предвзятое
отношение к «чистому искусству» представляет собой сравнительно молодое
критическое понятие. Впрочем, можно обойтись и без ссылок на авторитет
прецедентов. В еще большей мере, чем наши теоретические гипотезы, само
искусство режиссуры, механизмы которого мы попытались раскрыть выше на примере
нескольких больших фильмов, требует от режиссера глубокого понимания
кинематографического языка, равного пониманию самой сущности театра. Если «Film
d'Art» прошлого потерпел провал там, где преуспели Лоренс Оливье и Жан Кокто,
то причина прежде всего заключается в том, что оба режиссера располагали
значительно более развитыми средствами выражения, да и воспользоваться этими
средствами они сумели лучше своих современников. Бессмысленно критическое
утверждение, будто «Неаносные родители» — по всей вероятности, отличный фильм,
но что «это—не кино», ибо шаг за шагом следует за театральной мизансценой. Но
ведь именно в этом и заключается его кинематографичность. А вот «Топаз» (режиссер
Л. Ганье, 1932) Паньоля потому и чужд кинематографу, что перестал быть театром.
В одном лишь «Генрихе V» гораздо больше кинематографа, к тому же самого
великого, чем в девяноста процентах фильмов, снятых по оригинальным сценариям.
Как очень верно подчеркивал Кокто, чистая поэзия — вовсе не та, которая ничего
не хочет сказать. Все примеры, приводимые аббатом Бремоном 14, иллюстрируют
обратное положение: выражение «дочь Миноса и Пасифаи» 15 — представляет собой
лишь формулировку для
==187
регистрации гражданского состояния. Правда, эту строку можно
произнести с экрана и так, что она прозвучит чисто кинематографически (увы,
возможность пока лишь потенциальная), но для этого необходимо наиболее
проникновенное соблюдение ее театральной значимости. Чем больше кино будет
стараться соблюдать верность тексту и подчиняться его театральным требованиям,
тем больше ему придется углублять свой собственный язык. Наилучшим переводом
является тот, который свидетельствует о глубочайшем проникновении в дух обоих
языков и о полнейшем овладении ими.
2. КИНО
СПАСАЕТ ТЕАТР
Именно
поэтому кино, не скупясь, вернет театру все, что оно у него позаимствовало.
Если уже не вернуло.
Ибо
если успех «экранизированного театра» предполагает диалектический прогресс
кинематографической формы, он означает такое одновременное и тем более
значительное укрепление театра. Провозглашаемая Марселем Паньолем идея, будто
кинематограф заменит театр, законсервировав его,— идея совершенно ложная. Кино
не может изжить сцену так, как пианино вытеснило клавесин.
И для
кого, собственно, нужно «заменять театр»? Не для кинозрителей, которые давно
уже покинули его. Насколько мне известно, размолвка между народом и театром
началась не с достопамятного вечера в «Гран кафе» в 1895 году 16. Может быть,
речь идет о меньшинстве привилегированных обладателей культуры и достатка, из
которых складывается в настоящее время публика театральных залов? Но ведь мы
отлично знаем, что Жан де Летра не терпит банкротства, а провинциал, приезжающий
в Париж, не путает бюст Франсуазы Арнуль, знакомый ему по экрану, с грудью
Натали Натье из театра Пале-Рояль, несмотря на то, что последняя прикрыта
легкой вуалью; зато здесь уж она, с позволения сказать, «во плоти и крови». О,
это незаменимое присутствие актера! Что же касается «серьезных театров»,
например театра Мариньи или Театра Франсэ 17, то совершенно очевидно, что по
большей части их посещает публика, которая не ходит в кино; остальной
контингент составляют зрители, которые могут ходить и в кино и в театр, получая
==188
соответственно разное удовольствие здесь и там. И если
действительно происходит захват территорий, то речь идет не о театральном
спектакле, в его современной форме, а, скорее, о захвате пустующего места,
оставшегося от давно умерших форм народного театра. Кинематограф не только не
вступает в серьезную конкуренцию со сценой, а, наоборот, способствует в
настоящее время тому, что публика, утраченная театром, вновь обретает вкус и
чувство театрального *.
Возможно,
«консервированный театр» в определенный момент способствовал прекращению
гастрольных поездок в провинцию. Когда Марсель Паньоль снимает фильм «Топаз»,
он не скрывает своих намерений, состоящих в том, чтобы по сходной цене
(стоимость билета в кино) снабдить провинцию своей пьесой в исполнении актеров
«парижского класса». То же самое часто происходит с пьесами бульварного театра:
после того как сценический успех исчерпан, соответствующий фильм доходит до
тех, кто не смог посмотреть пьесу. Там, где некогда проходили гастроли труппы
Барэ с участием весьма скромных актеров, теперь кинематограф предлагает
возможность увидеть по более доступной цене актеров первоначальной постановки,
да еще в более пышных декорациях. Однако иллюзия сохраняла свою действенность
лишь несколько лет; в наши дни мы стали свидетелями возрождения традиции
гастролей в провинции, правда, улучшенных за счет накопленного опыта. Публика,
с которой сталкиваются ныне гастролеры, пресытилась благодаря кинематографу
роскошью исполнительского состава и мизансцены и, * Успех театра TNP
(Национального народного театра) представляет собой еще один неожиданный и
парадоксальный пример поддержки, оказанной театру кинематографом. Я полагаю,
сам Жан Вилар не стал бы оспаривать тот факт, что кинематографическая слава
Жерара Филипа решающим образом содействовала успеху его театра. Впрочем,
кинематограф, таким образом, просто возвращает театру часть капитала,
заимствованного каких-нибудь сорок лет тому назад, в ту героическую эпоху, когда
кинематографическая промышленность, находившаяся еще в младенчестве и терпевшая
общее презрение, сумела найти среди знаменитостей сцены художественный залог и
престиж, необходимые кинематографу для того, чтобы его стали принимать всерьез.
Правда, времена быстро изменились. Место Сары Бернар заняла в эпоху между двумя
мировыми войнами Грета Гарбо, и теперь уже театр счастлив, когда он может
поместить на своей афише имя кинозвезды.
==189
как говорится, опомнившись, ждет теперь от театра и больше и
в то же время меньше. Со своей стороны организаторы гастрольных турне больше не
могут себе позволять ту децентрализацию по сниженным ценам, к которой их
побуждало прежде отсутствие конкуренции.
То же
самое произошло во взаимоотношениях между фотографией и живописью. Первая
избавила вторую от того, что в эстетическом плане было для нее наименее важным
— от сходства и анекдота. Совершенство, экономность и легкость фотографии
способствовали в конечном итоге повышению ценности живописи, подтвердили всю ее
незаменимую специфичность.
Но и
этим не ограничиваются преимущества их сосуществования. Фотографы не только
были рабами живописцев. По мере того как живопись все лучше осознавала самое
себя, она вбирала в себя фотографию. Именно Дега и Тулуз-Лотрек, Ренуар и Моне
изнутри постигли, что представляет по своей сути такой феномен, как фотография
(и даже пророчески предвидели феномен кинематографический). Столкнувшись с
фотографией, они сумели противопоставить себя ей единственно верным образом — а
именно путем диалектического обогащения живописной техники. Гораздо лучше
фотографов и задолго до кинематографистов поняли они законы нового изображения,
и они-то первыми и применили эти законы.
Но и
это еще не все. В настоящее время фотография оказывает пластическим искусствам
еще более важные услуги. Теперь, когда сфера этих искусств досконально известна
и четко разграничена, автоматическое изображение стало умножать и обновлять
наше познание живописного изображения. Мальро уже сказал об этом все, что
следует. Если живопись сумела стать наиболее индивидуальным, наиболее дорогим,
наиболее независимым от всяческих компромиссов искусством и в то же время
искусством наиболее доступным, то она обязана этим цветной фотографии.
Аналогичное
рассуждение применимо к театру. Плохой, «консервированный театр» помог
подлинному театру осознать свои законы. Кинематограф также способствовал
обновлению концепции театральной мизансцены. Эти достижения отныне прочно
закреплены. Но есть еще третье достижение, которое намечается
К оглавлению
==190
благодаря хорошему «экранизированному театру», а именно —
колоссальный прогресс театральной культуры у широкой публики, прогресс
удивительный как по широте охвата, так и по глубине содержания. Что
представляет собой такой фильм, как «Генрих V»? Прежде всего — это Шекспир для
всех. Кроме того — это в первую очередь ослепительный свет, высветивший
драматическую поэзию Шекспира. Это наиболее действенная, наиболее яркая
театральная педагогика. Шекспир выходит из этого испытания еще более
шекспировским. Переработка драматургического произведения для экрана не только
умножает количество его возможных зрителей, подобно тому как дешевые издания
романов обогащают издателей; дело заключается еще в том, что публика
оказывается гораздо лучше подготовленной, чем прежде, для понимания театра и
для наслаждения им. Несомненно, что «Гамлет» Лоренса Оливье может лишь умножить
число зрителей «Гамлета» Жана-Луи Барро и развить у этой аудитории критическое
восприятие. Подобно тому как между лучшей из современных репродукций
живописного произведения и удовольствием от обладания оригиналом существует
неустранимая разница, так и знакомство с «Гамлетом» на экране не может заменить
исполнение Шекспира, скажем, силами труппы английских студентов. Однако
необходима подлинная театральная культура, чтобы оценить превосходство
«реального» представления даже силами любителей,— иными словами, для того,
чтобы соучаствовать в их игре.
Чем
более удачным оказывается «экранизированный театр», чем больше он углубляет
театр как таковой, чтобы лучше служить ему, тем отчетливее выявляется
неустранимое различие между экраном и сценой. И наоборот, «консервированный
театр», с одной стороны, и посредственный бульварный театр — с другой,
поддерживают существующее смешение понятий. «Несносные родители» не могут
ввести своих зрителей в заблуждение. В фильме нет ни одного плана, который не
был бы более действенным, чем его сценический эквивалент, но нет также ни одного
плана, в котором не содержался бы скрытый намек на то невыразимо большее
удовольствие, которое мне принесло бы реальное представление. Не может быть
лучшей пропаганды настоящего театра, чем хороший «экранизированный театр». Все
==191
эти истины отныне бесспорны, и было бы смешно так долго
останавливаться на них, если бы миф «экранизированного театра» не проявлялся
еще слишком часто в форме предрассудков, недоразумений и предвзятых
мнений.
3. ОТ
«ЭКРАНИЗИРОВАННОГО ТЕАТРА» — К ТЕАТРУ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОМУ
Мое
последнее положение будет, признаюсь, более рискованным. До сих пор мы
рассматривали театр как эстетический абсолют, к которому кинематограф
приближается удовлетворительным образом, оставаясь, однако, в лучшем случае и с
полным правом лишь скромным его слугой. Все же в первой части своего
исследования мы смогли выявить в фильме-бурлеске возрождение таких практически
исчезнувших драматических жанров, как фарс и комедия масок. Некоторые
драматические ситуации, некоторые исторически выродившиеся приемы обрели в кино
прежде всего социальную почву, необходимую для их существования и, что еще
важнее, условия для полного развития их эстетики, которую сцена насильно
удерживала в состоянии врожденной атрофии. Наделяя пространство функциями
действующего лица, экран не изменяет духу фарса, а лишь придает метафизическому
значению палки Скалена ее истинные размеры — размеры Вселенной. Бурлеск
представляет собой по преимуществу, наряду с другими аспектами,
драматургическое выражение терроризма вещей, из которого Бастеру Китону удалось
в большей мере даже, чем Чаплину, построить трагедию Предмета. Правда,
комические формы составляют в истории «экранизированного театра» отдельную
проблему, быть может, потому, что смех позволяет аудитории кинозала утвердиться
в своем самосознании и искать в нем опору, чтобы вновь обрести хоть какой-то
элемент театрального противопоставления. Во всяком случае, операция пересадки
кинематографа на ствол комического театра удалась спонтанно; поэтому мы и не
вдавались в более глубокий ее разбор. Приживление было столь совершенным, что
его плоды всегда считались продуктом кинематографа в чистом виде.
Ныне,
когда экран научился воспринимать, не предавая их, и другие формы театра,
помимо комической,
==192
ничто не мешает полагать, что он также сумеет обновить их,
развив некоторые из свойственных им сценических возможностей. Как мы видели,
фильм не может и не должен быть не чем иным, кроме парадоксальной формы
театральной мизансцены; однако сценические структуры несомненно важны, и далеко
не безразлично, где играть «Юлия Цезаря» — на арене театра под открытым небом в
Ниме или в Парижском театре «Ателье». Тем не менее некоторые, порой даже
значительные драматургические произведения страдают в течение тридцати или
пятидесяти лет от несогласованности между необходимым для них стилем постановки
и современным вкусом. В частности, я имею в виду трагический репертуар. Здесь
трудность связана главным образом с вымиранием породы «великих» трагиков,
таких, как Муне-Сюлли 18 и Сара Бернар 19, которые исчезли в начале нашего века
подобно гигантским пресмыкающимся, пропавшим в конце вторичной эпохи. Ирония
судьбы такова, что именно кинематограф сохранил их ископаемые останки в «Film
d'Art» начала века. Общепринято возлагать на экран ответственность за их
исчезновение, объясняя его двумя направленными к единой цели причинами —
этической и социальной. Экран действительно изменил наше восприятие правдивости
исполнения. Достаточно увидеть один из маленьких фильмов с участием Сары Бернар
или Ле Баржи 20, чтобы понять, что актеры этого типа еще носили подспудно
котурны и маску. Однако маска становится смешной, когда крупный план способен
утопить нас в одной-единственной слезе, а рупор кажется смехотворным, когда
микрофон заставляет грохотать даже самый слабый голос. В результате мы привыкли
к углублению в природу, оставляющему театральному актеру лишь очень
ограниченную возможность стилизации по сию сторону неправдоподобного. Пожалуй,
еще более важное значение имеет социальный фактор — успех и действенность
искусства Муне-Сюлли определялись несомненно его талантом, но поддерживало этот
успех сочувственное согласие публики. Это был феномен «священного монстра»,
почти полностью перенесенный в наши дни в сферу кино. Утверждение, будто
приемные конкурсы в Консерваторию не выявляют больше трагиков, вовсе не значит,
что в наши дни Сара Бернар не могла бы родиться; просто ее данные не
==193
соответствуют больше эпохе. Точно так же Вольтер из сил
выбивался, совершая плагиаты у трагедии XVII века; он думал, что умер один лишь
Расин, в действительности умерла сама трагедия. В наши дни мы не увидели бы
разницу между Муне-Сюлли и скверным провинциальным актеришкой просто потому,
что не сумели бы распознать ее. Для современного молодого человека в «Film
d'Art» остался один монстр, все «связанное» исчезло.
Однако
если кинематограф захватил и использовал в своих интересах эстетику и
социологию «священного монстра» — феномена, благодаря которому трагедия
удерживалась на сцене, то, естественно, возникает мысль, что- кинематограф
может их вернуть, если театр придет за ними. Не возбраняется мечтать о том, чем
бы могла стать «Аталия» 21 с участием Ивонны де Бре в кинематографической постановке
Жана Кокто.
По всей
вероятности, право на существование смог бы вновь обрести на экране не только
стиль трагедийного исполнения. Можно себе представить соответствующее
революционное преобразование самой постановки, которая, соблюдая должную
верность духу театра, принесла бы ему новые структуры, подчиненные современному
вкусу, а главное, доступные необъятным зрительским массам. «Экранизированный
театр» ждет прихода своего Жана Кокто, который превратит его в театр
кинематографический.
Итак,
отныне «экранизированный театр» имеет фактическое и законное эстетическое
обоснование; отныне мы уже знаем, что нет таких пьес, которые независимо от их
стиля не могли бы быть перенесены на экран, лишь бы постановщики сумели
придумать способы преобразования сценического пространства в соответствии с
данными кинематографической мизансцены. Дело, однако, не только в этом; вполне
возможно, что отныне подлинно театральная и современная постановка некоторых
классических произведений будет возможна исключительно лишь в кино. Отнюдь не
случайно, что некоторые из наиболее значительных кинематографистов нашего
времени являются одновременно выдающимися деятелями театра. Уэллс или Лоренс
Оливье пришли в кино вовсе не из цинизма, снобизма или честолюбия, ни даже,
подобно Паньолю, ради популяризации своих театральных усилий. Кинематограф
==194
представляется им лишь дополнительной театральной формой —
возможностью осуществить современную постановку такой, какой они ее чувствуют и
хотят видеть.
«Esprit»,
1951, № 6.
ЖИВОПИСЬ
И КИНО
Фильмы
об искусстве, во всяком случае, те, которые используют оригинальное живописное
произведение в целях кинематографического синтеза, как, например,
короткометражные фильмы Лючано Эммера', «Ван Гог» Алена Рене2, Р. Эссенса и
Гастона Диль, «Ужасы войны» Пьера Каста3 или «Герника» Алена Рене и Р. Эссенса,
подчас вызывают у художников и многих искусствоведов резкие возражения. После
показа фильма «Ван Гог» я слышал критические высказывания даже из уст
генерального инспектора по преподаванию рисования Министерства просвещения.
Эти
возражения в основном сводятся к следующему: обращаясь к живописи, кинематограф
предает ее во всех отношениях. Драматургическое и логическое единство фильма
устанавливает хронологическую последовательность или вымышленные связи между
произведениями, иногда очень далекими друг от друга как во времени, так и по
духу. В фильме «Воители» Эммер доходит до того, что путает между собой
художников; обман, пожалуй, не менее серьезен, когда Пьер Каст использует
фрагменты из «Капричос», чтобы подкрепить логику монтажа в «Бедствиях войны»,
или когда Ален Рене жонглирует различными эпохами творчества Пикассо.
Но даже
если бы кинематографист строго придерживался фактов истории искусства, он все
равно основывался бы в своем творчестве на эстетически противоестественном
приеме. Анализируя произведение, по существу своему синтетическое,
кинематографист разрушает его единство и осуществляет новый синтез, отличный от
того, который был задуман живописцем. Достаточно было бы просто спросить
создателя фильма, по какому праву он это делает.
Но есть
и более серьезные возражения. Преданным оказывается не только живописец, но и
сама живопись,
ибо зритель полагает, что видит реальное живописное
произведение, тогда как его заставляют воспринимать это произведение в
преломлении пластической системы, глубоко его искажающей. Прежде всего зритель
видит черно-белое изображение; но даже и цветной фильм не дает
удовлетворительного решения, ибо его верность оригиналу не абсолютна, а ведь
взаимоотношения между отдельными красками картины отражаются на тональности
каждой из них. С другой стороны, кинематографический монтаж воспроизводит
горизонтальное временное единство, являющееся в некотором роде единством
географическим, тогда как временная характеристика живописного полотна — если
мы признаем существование таковой — развивается геологически, в глубину.
Наконец, что особенно важно (этот более тонкий аргумент обычно не упоминается,
но он тем не менее наиболее существен),— экран решительным образом разрушает
живописное пространство. Благодаря раме, очерчивающей границы картины, живопись
противостоит действительности, особенно той действительности, которую она
изображает; в театре то же самое достигается при помощи рампы и архитектуры
сцены. Разумеется, было бы ошибкой считать, что рама картины несет чисто
декоративную или риторическую функцию. Тот факт, что рама подчеркивает
композицию полотна, есть лишь второстепенное следствие основной функции.
Гораздо более существенная задача состоит в том, что рама подчеркивает
разнородность живописного микрокосмоса и макрокосмоса окружающей природы, в
который включено живописное полотно. Отсюда барочная усложненность традиционной
рамы, на которую возлагается задача установить геометрически непреодолимый
разрыв между картиной и стеной, на которой она висит, то есть между живописью и
реальностью. Отсюда, как показал Ортега-и-Гассет4, и идет владычество
позолоченной рамы, «ибо она сделана из материала, дающего наибольший отблеск, а
отблеск есть тот оттенок цвета и света, который не имеет формы, который
является бесформенной краской в чистом виде».
Иными
словами, рама картины составляет зону пространственной дезориентации.
Пространству природы, активно познаваемому нами на опыте, рама
противопоставляет пространство, ориентированное внутрь,
==196
ибо созерцаемое пространство раскрывается лишь во внутрь
картины.
Границы
киноэкрана не соответствуют, как это, казалось бы, следует из технического
лексикона, рамкам изображения; они представляют собой каше, которое лишь
приоткрывает часть действительности. Картинная рама поляризует пространство во
внутрь, тогда как все показываемое на киноэкране имеет, наоборот, тенденцию
бесконечно продолжаться во вселенной. Рама картины порождает
центростремительность, а экран — центробежен. Следовательно, когда пытаются
изменить направление живописного процесса и втискивают экран в картинную раму,
живописное пространство теряет свою ориентацию и свои границы и предстает перед
нашим воображением как нечто безграничное. Не теряя других пластических
особенностей изобразительного искусства, живописное полотно приобретает
пространственные свойства кинематографа, включаясь в потенциальную живописную вселенную,
захлестывающую его со всех сторон. Именно из этой мысленной иллюзии исходил
Лючано Эммер в своих фантастических эстетических реконструкциях, которые в
значительной степени легли в основу современных фильмов об искусстве и, в
частности, фильма Алена Рене «Ван Гог». В этой ленте режиссер рассматривает все
творчество художника как единое огромное полотно, в пределах которого камера
движется столь же свободно, как при съемках любого документального фильма.
Прямо с «улицы Арле» мы «проникаем» через окно «внутрь» дома Ван Гога и
приближаемся к кровати с красной периной. Точно так же Рене позволяет себе
вставить «встречный план» старой голландской крестьянки, которая входит в дом.
Разумеется,
нетрудно утверждать, что подобная операция коренным образом искажает само
существо живописи, что Ван Гогу, пожалуй, лучше иметь меньше поклонников,
которые зато досконально были бы знакомы с предметом своего восхищения. Можно
также считать, что популяризация культуры, начинающаяся с уничтожения своего
объекта, представляется по меньшей мере странной.
Однако
этот пессимизм не выдерживает критики ни с точки зрения педагогической, ни тем
более с точки зрения эстетической.
==197
Вместо того чтобы упрекать кинематограф за неспособность доподлинно
передать произведение живописи, не лучше ли порадоваться тому, что удалось
наконец найти волшебные слова: «Сезам, откройся», способные раскрыть перед
миллионами зрителей двери сокровищниц искусства? Действительно, умение оценить
картину, эстетическое наслаждение ею почти невозможны без предварительного
посвящения зрителя в существо предмета, без художественного образования,
которое помогло бы зрителю осуществить то усилие абстрагирования, которое
необходимо, чтобы четко отделить бытие живописной поверхности от естественного
внешнего мира. Вплоть до XIX века алиби сходства составляло то реалистическое
заблуждение, на основе которого профан рассчитывал проникнуть в картину, а
драматический сюжет или нравственное значение изображаемого лишь умножали точки
соприкосновения между непросвещенным умом и картиной. Достаточно хорошо
известно, что ныне положение изменилось; на мой взгляд, решительный успех
кинематографических экспериментов Лючано Эммера, Анри Сторка5, Алене Рене,
Пьера Каста и некоторых других в том и заключается, что они сумели, так
сказать, «растворить» живописное произведение в естественном восприятии. В
результате достаточно иметь глаза, чтобы видеть, и не нужны никакая культура,
никакое посвящение, чтобы испытывать непосредственное, можно сказать, почти
насильственное наслаждение живописью, предстающей перед разумом как
естественное явление благодаря структурам кинематографического изображения.
Пусть
художники поймут, что речь идет не о регрессе живописного идеала, не о духовном
насилии над произведением, не о возврате к реалистическому, основанному на
анекдоте пониманию; новый способ популяризации живописи обращен главным образом
вовсе не на сюжет, ни тем более на форму! Художник может продолжать писать, как
ему угодно,— воздействие кинематографа остается внешним, разумеется,
реалистическим, но — ив этом-то заключается колоссальное открытие, которому
должен порадоваться любой художник,— это реализм вторичный, исходящий из
абстракции живописного полотна. Благодаря кинематографу и психологическим
особенностям экрана
==198
абстрактный символ приобретает для всякого сознания
очевидность и весомость физической реальности.
Отсюда
совершенно очевидно, что кинематограф не только не компрометирует другое искусство
и не искажает его естество, а, наоборот, спасает это искусство, привлекая к
нему внимание людей. Изо всех современных искусств живопись служит, пожалуй,
примером наиболее глубокого разрыва между художником и огромным большинством
непосвященной публики. И если мы не хотим открыто признать существование
безысходной замкнутости искусства, нам остается лишь порадоваться тому, что
публике возвращены великие творения живописи ценой экономии на культурной
подготовке зрителя. И если эта экономия шокирует поборников мальтузианства в
области культуры, то пусть они подумают о том, что она может позволить избежать
художественной революции, революции «реализма», которая пользуется совершенно
иными методами, чтобы вернуть народу живопись.
Что
касается возражений чисто эстетического порядка, отличающихся от
педагогического аспекта проблемы, то они, очевидно, исходят из недоразумения,
которое побуждает подспудно требовать от кинематографиста совсем не то, что он
предлагает. Действительно, «Ван Гог» или «Ужасы войны» не представляют собой
попытку по-новому преподнести творчество этих художников, или, во всяком
случае, не ограничиваются только этой задачей. Кино не играет здесь подчиненной
и дидактической роли фотографий в альбоме или диапозитивов, сопровождающих
лекцию. Эти фильмы сами по себе — произведения искусства. Они имеют независимое
значение. Их следует судить не только в соотношении с живописью, которую они
используют, а в связи с анатомией или, вернее, с гистологией того нового
эстетического существа, которое родилось из соединения живописи и кино.
Оговорки, которые я сформулировал выше, представляют собой на самом деле лишь
определение новых законов, возникших на основе этого соединения. Кинематограф
не «служит» живописи, а придает ей новую форму бытия. Фильм о живописи — это
эстетический симбиоз между экраном и живописным полотном, подобно тому как
лишайник есть симбиоз гриба и водоросли. Возмущаться этим столь же абсурдно,
как осуждать оперу во имя театра и музыки.
==199
Надо, однако, признать, что рассматриваемый феномен несет в
себе нечто сугубо современное, не отраженное в приведенном выше традиционном
сравнении. Фильм о живописи не мультипликация. Парадоксальность его состоит в
том, что он использует произведение, совершенно законченное и самодовлеющее. Но
именно потому, что он заменяет оригинал произведением второго порядка,
исходящим из материала, эстетически уже разработанного, фильм озаряет исходное
произведение новым светом. Вероятно, в той мере, в какой фильм представляет
собой совершенно законченное произведение и поэтому, казалось бы, больше всего
предает живопись, именно в этой мере он в конечном итоге вернее всего служит
ей. Я искренне предпочитаю «Ван Гога» или «Гернику» фильмам Хазартса6 «Рубенс»
и «От Ренуара до Пикассо», которые претендуют на сугубую критичность и
поучительность. Дело не только в том, что вольности, допускаемые Аленом Рене,
придают его фильмам двойственность и многозначность истинного творчества, тогда
как критический подход Сторка и Хазартса ограничивает мое восприятие
произведения; дело заключается главным образом в том, что творчество является в
данном случае наилучшей критикой. Именно, изменяя природу живописного
произведения, разрушая его рамки и добираясь до его сокровенной сути, фильм принуждает
это произведение раскрыть некоторые из своих потаенных достоинств.
Действительно, знали ли мы до Рене, что такое Ван Гог «без желтого цвета»?
Разумеется, это очень рискованная попытка, и опасность, таящаяся в ней, видна в
наименее удачных фильмах Эммера — искусственная и механическая драматизация
рискует в конечном итоге подменить живописное полотно анекдотом. Но ведь успех
зависит и от мастерства кинематографиста и от того, насколько глубоко он
понимает творчество живописца. Существует же литературная критика, которая
также есть результат нового акта творения, например критические высказывания
Бодлера о Делакруа, статьи Валери о Бодлере, критические статьи Мальро об Эль
Греко. Не будем же приписывать кинематографу слабости и грехи людей. Когда остынут
удивление и радость открытия нового жанра, тогда фильмы о живописи будут
оцениваться так, как того будут заслуживать их создатели!
К оглавлению
==200
ЖАН ГАБЕН И ЕГО СУДЬБА
В свое
время мы писали, что знаменитость киноэкрана — не только актер, особенно
любимый публикой, но и герой легенды или трагедии, но и «судьба», с которой
сценаристы и режиссеры вынуждены сообразоваться, порой даже бессознательно.
Иначе рассеются чары, возникшие между актером и публикой. Разнообразие
рассказываемых с экрана историй, которые, казалось бы, всякий раз таят в себе
приятный сюрприз новизны, не должно вводить нас в заблуждение. Наоборот, в
постоянном обновлении приключений персонажа мы бессознательно ищем
подтверждения глубокому и основополагающему единству его судьбы. Это со всей
очевидностью проявляется, например, по отношению к Чарли. Весьма интересно
выявить более тонкую и сокровенную иллюстрацию данного положения в судьбе
такого известного актера, как Жан Габен '.
Обратите
прежде всего внимание на то, что почти все фильмы Габена, во всяком случае
начиная с ленты «Человек-зверь» (режиссер Ж. Ренуар, 1938) вплоть до картины «У
стен Малапаги» (режиссер Р. Клеман, 1948), кончаются плохо. Чаще всего они
завершаются насильственной смертью героя (которая, впрочем, обычно принимает
более или менее откровенную форму самоубийства). Не странно ли, что коммерческий
закон хэппи энда, заставляющий стольких продюсеров приклеивать к «печальным»
фильмам искусственный конец, напоминающий финал комедий Мольера, оказывается
бессильным именно по отношению к одному из наиболее популярных и симпатичных
героев, которому мы, казалось бы, должны всякий раз желать, чтобы он был
счастлив, женился и наплодил много детей?
Но
можете ли вы представить себе Габена в качестве будущего отца семейства?
Способны ли вы вообразить, чтобы в финале «Набережной туманов» (режиссер М. Карне,
1938) ему удалось в последний момент вырвать Мишель Морган из когтей Мишеля
Симона и Пьера Брассера и отправиться вместе с ней навстречу будущему и всем
Америкам? Мыслимо ли, чтобы он, обретя наконец здравый смысл, предпочел в
момент, когда «день начинается» (режиссер М. Карне, 1939), отдаться в руки
полиции в расчете на возможное оправдание?
==202
Категорически нет. Не так ли? И публика, которая способна
проглотить и не такое, с полным правом сочла бы, что над ней посмеялись, если
бы сценаристы предложили ей под занавес перспективу счастья Жана Габена.
Доказательство
от противного: пусть-ка попробуют подвести таким же образом к смерти Луиса
Мариано или Тино Росси!2
Как
объяснить этот парадокс, который кажется тем более вопиющим, что он
противоречит одному из священнейших законов кино? Дело в том, что в упомянутых
нами фильмах Габен воплощает не один из многих сюжетов, а всегда одну и ту же
историю — свою собственную, которая может кончиться только плохо, подобно истории
Эдипа или Федры. Габен — трагический герой современного кино. С каждым новым
фильмом кинематограф вновь заводит «адскую машину» его судьбы, подобно тому как
рабочий, герой фильма «День начинается», по привычке заводит в тот
достопамятный вечер будильник, иронический и жестокий звон которого возвестит
на заре час его погибели.
Было бы
нетрудно показать, как под прикрытием хитроумного многообразия сохраняются в
неизменном виде основные элементы механизма. За недостатком места ограничимся
лишь одним примером: до войны рассказывали, будто Габен прежде чем подписать
договор об участии в фильме, требовал, чтобы в сценарии непременно была
предусмотрена большая сцена гнева, которая ему всегда особенно удавалась. Что
это — каприз звезды, кривляние актера, который дорожит выигрышным номером? Быть
может. Однако более вероятно, что за актерским честолюбием скрывалось ощущение,
что данная сцена для него существенно важна, что его нельзя лишить ее, не
нарушив характера его персонажа. Действительно, почти всегда Габен именно в
момент гнева предопределяет свое несчастье, своей собственной рукой
подготавливает роковую западню, которая нанесет ему самому смертельный удар. Не
следует забывать, что в античной трагедии и эпопее ярость рассматривалась не
как психологическое состояние, которое можно охладить ледяным душем или
успокоительной таблеткой, а как некое вторичное
==203
состояние души, священная одержимость, как открытая для
богов брешь в мир людей, через которую проскальзывает судьба. Именно так Эдип
стал творцом своих несчастий, убив в порыве гнева по дороге в Фивы возчика
(своего отца), чья физиономия ему не понравилась. Боги современности,
господствующие над предместными Фивами с их Олимпом из заводов и стальных
чудовищ, тоже подстерегают Габена на повороте роковой судьбы.
Правда,
все сказанное относится главным образом к довоенному Габену, Габену из фильмов
«Человекзверь» и «День начинается». С тех пор Габен изменился, постарел,
белокурые волосы поседели, а лицо обрюзгло. Но в кино,, как мы говорили, не
судьба принимает то или иное лицо, а лицо раскрывает свою судьбу. Лицо Габена
не могло остаться похожим на самого себя, но ему не дано было также ускользнуть
от столь прочно установившейся мифологии.
Знаменательно,
что в фильме «У стен Малапаги» на смену Жансону и Преверу пришли Оранш и Бост3.
Незабываем последний кадр «Пеле Ле Моко» (режиссер Ж. Дювивье, 1937) —
умирающий Габен, вцепившись в решетку алжирского порта, с тоской глядит вслед
уходящему кораблю своих надежд. Фильм Рене Клемана начинается там, где
кончалась лента Дювивье. «Предположим,— могло бы значиться во вступительных
титрах фильма Клемана,—предположим, что Габену повезло, что он смог попасть на
корабль, и вот он теперь — по ту сторону решетки» 4. Этот фильм не что иное,
как возвращение Габена к своей судьбе, почти умышленный отказ от любви и
счастья, признание того, что зубная боль и боги в конечном счете одерживают
верх.
Разумеется,
в «Марии из порта» (режиссер М. Карне, 1950) суровость судьбы притупляется, Габен
вновь становится актером и впервые женится (но будет ли он при этом более
счастлив?). И все же Марсель Карне не смог не отдать должного давнему мифу.
Габен богат, он «преуспел», однако на протяжении всего фильма говорится о
корабле, застрявшем в сухом доке, небольшом траулере, который никогда не
выходит в море и является как бы свидетельством давней мечты Габена, которой не
дано было осуществиться: мечты о невозможном побеге, об освободительном уходе;
==204
таким образом, сомнительное «счастье», скорее материальное,
нежели моральное преуспеяние, Габена представляет собой в конечном итоге лишь
признание поражения, смехотворную плату за отречение: боги милосердны к тем,
кто перестает быть героями.
Социологу
и моралисту (особенно моралисту-христианину, а может быть, и теологу?)
остается, пожалуй, лишь задуматься над глубоким смыслом мифологии, охватывающей
благодаря популярности такого актера, как Габен, десятки миллионов наших
современников. Быть может, мир без Бога становится вновь миром богов и
сопутствующего им рока.
«Radio
— Cinema — Television», 1950, I.X
СМЕРТЬ
ХЭМФРИ БОГАРТА
Кто не
скорбит по Хэмфри Богарту \ скончавшемуся в возрасте пятидесяти шести лет от
рака пищевода и полумиллиона рюмок виски? Исчезновение Джеймса Дина2
взволновало в основном женскую половину человечества в возрасте до двадцати
лет. Смерть Богги огорчает их родителей или по крайней мере их старших братьев,
и траур по нему носят главным образом мужчины. Будучи не столько
привлекательным мужчиной, сколько мужественным соблазнителем, Богарт нравился
женским персонажам в фильмах, а для зрителей он был, по-моему, скорее героем, с
которым хочется отождествить себя, нежели героем, в которого можно влюбиться.
Женщины способны сожалеть о нем, но я знаю мужчин, которые готовы были бы его
оплакивать, не будь чувствительность столь неуместной у могилы этого
«твердокаменного». Ни цветов, ни венков.
Мой
некролог несколько запоздал. О Богарте, о его личности и его мифе написано уже
много. Но, должно быть, никто не сказал о нем лучше, чем Робер Лашене («Cahiers
du Cinema», 1955, № 52), чьи вещие строки, написанные больше года назад, стоит
привести: «Начало каждой фразы приоткрывает неровный ряд зубов. Сжатые челюсти
непреодолимо напоминают оскал веселого трупа, последнее выражение лица
печального человека, который теряет сознание, улыбаясь. Именно такова улыбка
смерти».
==205
Действительно, теперь стало совершенно очевидным, что никто
не смог, как Богарт, воплотить, если можно так выразиться, имманентность
смерти, равно как и ее неминуемость. Не столько смерти, которую несут другим
или принимают сами, сколько смерти отпущенного на побывку трупа, который таится
в каждом из нас. И если смерть его столь волнует нас, если мы принимаем ее
столь близко к сердцу, то причина состоит в том, что смысл его жизни словно
заключался в том, чтобы выжить. Поэтому победа, одержанная над ним смертью,
оказалась двойной победой, ибо смерть восторжествовала не столько над жизнью,
сколько над сопротивлением смерти. Моя мысль станет, может быть, понятнее, если
я противопоставлю его персонаж Габену (с которым во многих других отношениях
его можно было бы сравнить). И тот и другой — герои современной
кинематографической трагедии, однако к Габену (я говорю, естественно, о Габене
из фильма «День начинается» или «Пеле ле Моко») смерть приходит в конце, она
завершает приключение, она неумолимо является на последнее свидание. Судьба
Габена состоит именно в том, чтобы быть обманутым жизнью. А Богарт — это человек,
переживший свою судьбу. Он вступает в фильм тогда, когда уже занимается тусклый
рассвет следующего дня. Он одержал уже смехотворную победу в смертельной
схватке с ангелом, его лицо носит печать увиденного, а походка отягощена всем,
что он познал. Десять раз преодолев собственную смерть, он, наверное, выживет
ради нас еще один раз.
Утонченность
немощности представляет собой одну из самых замечательных черт персонажа
Богарта. Этот «твердокаменный» человек никогда не блистал на экране ни
физической силой, ни акробатической гибкостью. Это не Гэри Купер3 и не Дуглас
Фэрбенкс!4 Своими успехами гангстера или детектива он в первую очередь обязан
исключительной выносливости, а затем проницательности. Действенность удара его
кулака свидетельствует не столько о силе, сколько о быстроте реакции. Конечно,
он наносит удар в нужное место, но, главное,— в нужный момент. Он ударяет
редко, но всегда с наиболее выгодной точки. К тому же есть еще пистолет,
который в его руках становится почти интеллектуальным оружием, последним
решающим доводом. Однако мысль, которую я хотел бы выразить,
==206
заключается в том, что стигматы смерти, которые на
протяжении последних десяти лет все более заметно проступали в этом персонаже,
лишь подчеркивали его врожденную слабость. Становясь все более похожим на
собственную смерть, Богарт словно довершал свой собственный портрет. Мы,
наверное, никогда не сможем достаточно оценить гениальность этого актера,
который сумел заставить нас полюбить и восхищаться в нем образом нашего
собственного разложения. Всякий раз он появлялся словно еще более истерзанный
безжалостными ударами, полученными в предыдущих фильмах ; в цвете он предстал в
виде удивительного существа с постоянной отрыжкой, с желтоватым цветом лица,
выплевывающего собственные зубы, существа, которое, казалось бы, годилось лишь
на съедение пиявкам и тем не менее привело разбитое корыто под названием
«Африканская королева» (режиссер Д. Хастон, 1952) к месту назначения. Вспомните
изможденное лицо свидетеля на процессе офицеров корабля «Каин»: смерть уже
отказалась от возможности поразить извне это существо, которое издавна несло ее
в себе самом.
«Современный»
характер мифа Богарта не раз справедливо подчеркивали; Ж.-П. Виве вдвойне прав,
употребляя это прилагательное в бодлеровском смысле, ибо, глядя на героя
«Босоногой графини» (режиссер Д. Манкевич, 1954), мы восхищаемся высоким
достоинством нашего собственного тления. Я бы хотел, однако, отметить, что
такой широко понимаемой современности, которая определяет глубокую поэтичность
персонажа Богарта и, вероятно, обусловливает легендарность его характера,
соответствует на уровне нашего поколения более конкретная современность. Нет
сомнения, что Богарт — типичный актер-миф военных и послевоенных лет. Я имею в
виду годы с 1940 по 1955-й. В его фильмографии числится около семидесяти пяти
фильмов, снятых начиная с 1930 года. Из них около сорока было снято до «Высокой
Сьерры» (режиссер Р. Уолш, 1941) и «Мальтийского сокола» (режиссер Д. Хастон,
1941). Но он сыграл в них лишь второстепенные роли, и нет никаких сомнений, что
его персонаж как таковой родился с появлением того, что принято называть
криминальным фильмом «черной серии», двусмысленных героев которого ему суждено
было воплотить. Во всяком случае, для нас популярность Богарта
==207
сложилась со времен войны и особенно благодаря фильмам
Хастона. С другой стороны, известно, что 1940—1941 годы послужили началом
второго большого периода в развитии звукового американского кино. 1941 год —
это также год появления «Гражданина Кейна». Несомненно, должна быть какая-то
сокровенная гармония в совпадении этих явлений: конец предвоенных лет,
возникновение определенного романтического стиля в кинематографическом почерке
и торжество самоуглубления и двойственности, воплощаемых Богартом. Во всяком
случае, ясно видно, что Богарт отличается от довоенных героев, прототипом
которых может быть Гэри Купер: красивый, сильный, благородный, выражающий не
столько беспокойство, сколько прежде всего оптимизм и действенность
определенной цивилизации. Даже гангстеры той эпохи принадлежат к
победительному, активному типу — это сбившиеся с пути герои вестерна,
представляющие собой негативную форму предприимчивой дерзости. Быть может, один
лишь Джорж Рафт5 позволил предугадать уже в те времена особую самоуглубленность
— источник двойственности, которую суждено было довести до совершенства герою
фильма «Долгий сон» (режиссер Г. Хоукс, 1946). В картине «Отмель простора»
(режиссер Д. Хастон, 1948) Богарт одерживает в борьбе против Робинсона6 победу
над последним гангстером предвоенных лет; благодаря этой победе в Голливуд,
видимо, проникает наконец нечто от американской литературы; проникает не через
обманчивое посредничество сценариев, а благодаря человечности персонажа.
Пожалуй, Богарт представляет собой первую иллюстрацию на экране «эпохи
американского романа».
Разумеется,
не следует путать самоуглубленность актерской игры Богарта с тем, что было
разработано школой Казана7 и что Марлон Брандо 8 сделал модным еще до появления
Джеймса Дина. Единственная общая для них черта — это реакция против
психологического типа актерской игры; стиль Казана, воплощенный молчаливым
Брандо или бурным Дином, основан на антиинтеллектуальном постулате
непосредственности. Поведение актеров при этом претендует на непредвиденность,
поскольку оно не передает глубокую логику чувств, а выражает мгновенные порывы,
связь которых с внутренней жизнью прочитывается впрямую. Секрет
==208
Богарта совершенно отличен. Осторожное молчание,
флегматичность человека, которому ведома опасность неуместных откровений, а
главное, бездонная тщетность поверхностной искренности — все это идет
несомненно от Конрада. Полный недоверия и усталости, мудрости и скептицизма,
Богги — по природе своей стоик.
В его
успехе меня особенно восхищает то, что он, по существу, ничем не зависел от
характера воплощаемых им персонажей. Действительно, далеко не все его герои
симпатичны. Можно даже допустить, что нравственная двойственность Сэма Спейда в
«Мальтийском соколе» или Филиппа Марло в «Долгом сне» превращается у нас на
глазах в достоинство, но чем оправдать жалкого негодяя из «Сокровища
СиеррыМадре» (режиссер Д. Хастон, 1948) или зловещего капитана из «Бунта на
«Каине» (режиссер Э. Дмитрык, 1954)? На несколько ролей поборника
справедливости или флегматичного рыцаря, отстаивающего благородную цель,
приходится куда больше подвигов, гораздо менее похвальных, если не откровенно
гнусных. Следовательно, постоянство персонажа надо искать где-то вне его ролей,
в отличие, например, от Габена и тем более от Джеймса Дина. Точно так же трудно
себе представить, чтобы Гэри Купер мог претендовать на роль подлеца.
Двойственность, свойственная тем ролям, которые обеспечили первые успехи
Богарта в криминальных фильмах «черной серии», отражается в его фильмографии.
Нравственные противоречия обнаруживаются как во внутреннем звучании ролей, так
и в парадоксальном постоянстве персонажа, разрывающегося между двумя, казалось
бы, несовместимыми амплуа.
Не
служит ли именно это доказательством того, что наша симпатия выходила за
пределы вымышленных биографий и нравственных достоинств героев или от их
отсутствия и обращалась к более глубокой мудрости, к определенному приятию
судьбы человеческой, которая может быть общей для негодяя и смелого человека,
для неудачника и героя? Человека, воплощаемого Богартом, определяют не
случайное уважение или презрение к буржуазным добродетелям, не мужество или
трусость, а в первую очередь жизненная зрелость, которая мало-помалу превращает
жизнь в стойкую иронию, бросающую вызов смерти.
«Cahiers
du Cinema», 1957, № 68
==209
ВЕЛИЧИЕ «ОГНЕЙ РАМПЫ»
Кое-кто
был, возможно, уязвлен в своих симпатиях к «Огням рампы» под впечатлением
своеобразного террора со стороны критики, сопутствовавшего выходу фильма в
Париже. Появлению «Мсье Верду» не предшествовало столь благоприятное предвзятое
мнение, поэтому критика спокойно, безо всякого скандала разделилась в своем
отношении к нему. То же можно сказать и о публике, которая не проявляла
восторга.
Но ведь
тогда Чаплин не приезжал со своим фильмом сам в качестве коммивояжера. Теперь
же его присутствие породило чудовищно двусмысленную ситуацию. Волна симпатии и
любопытства, поднятая личностью автора, захлестнула фильм. Высказывать по
поводу последнего какие-либо оговорки — значило ограничивать почитание
личности. Это смешение понятий достигло апогея во время исторического
просмотра, когда Чаплин показал «Огни рампы» французской кинопрессе и
кинематографистам. То был парадоксальный апофеоз, когда автор представил в виде
зрелища драму своего собственного упадка и смерти. Благодаря кино смерть
Мольера превратилась в четвертый акт «Мнимого больного». Когда зажегся свет,
весь зал в слезах обратился к тому лицу, которое только что угасло на экране,
и, словно вырвавшись из оков ужасного и дивного сна, зрители ликовали, видя его
живым. Мы не способны были разделить в своей душе восхищение фильмом и чувство
облегчения от того, что кончился сладостный страх, за избавление от которого мы
были ему благодарны.
Правда,
эти переживания сначала кажутся чуждыми самому произведению. Возможно, не один
из тех, кто рассыпается в превосходных степенях по адресу «Огней рампы»,
смертельно скучал бы на фильме, не будь влияния общественного мнения. Некоторые
критики, как и многие зрители, несколько более сознательно относящиеся к
увиденному, испытывали по отношению к фильму двойственное чувство: им нравился
тот или иной его аспект и разочаровывал другой. Их раздражало моральное давление,
шантаж, вынуждавший к безраздельному восхищению. На первый взгляд они были
правы. Однако мне хотелось бы оправдать
К оглавлению
==210
удивительное явление снобизма, окружавшее выход «Огней рампы»
на экраны.
Чаплин
решил сопровождать свой фильм по Европе несомненно для того, чтобы обеспечить
ему успех. «Мсье Верду», подвергшийся бойкоту в Америке и прохладно принятый в
Европе, оказался весьма неудачной коммерческой операцией. Хотя «Огни рампы»
были сняты за более короткий срок (всего несколько недель), можно полагать, что
успех этого фильма был жизненно важен для его автора-продюсера. Он не ошибся,
полагая, что его присутствие окажется наилучшей рекламой. События, пожалуй,
оправдали его предосторожность. «Огни рампы» имели в Париже несомненно
исключительный, но не ослепительный успех. Прокатчик с трудом сумел выполнить
контракт-минимум, выражавшийся в огромной цифре пятьсот тысяч зрителей, которую
эксплуатационники рассчитывали достичь с большей легкостью. Если бы не
исключительная реклама, которую пресса устроила в связи с поездкой Чаплина,
если бы не атмосфера благожелательности, созданная в результате вокруг фильма,
можно было бы биться о заклад, что фильм потерпел бы полный провал, учитывая значение,
которое ему придавалось.
В этом
провале не было бы ничего удивительного. С самого начала ясно видно все, что
может разочаровать зрителя, пришедшего на «фильм Чарли»; поводов для
разочарования здесь больше, чем в «Мсье Верду», где все же имелся комический
элемент. Мелодраматический аспект истории также едва ли мог понравиться, будучи
весьма иллюзорным. «Огни рампы»—лжемелодрама. Если первейшим определением
мелодрамы служит отсутствие двойственности в характере действующих лиц, то
Кальверо — само воплощение двусмысленности. Если с драматургической точки
зрения мелодрама предполагает возможность легко предвидеть развитие интриги, то
«Огни рампы» представляют собой как раз тот фильм, в котором происходящее
никогда не соответствует в точности ожидаемому. Сценарий основан на максимально
свободной игре воображения. Однако публика уже не любит откровенные мелодрамы
так, как можно было бы полагать (что вполне доказано пародиями); необходим
минимальный камуфляж, который позволил бы Марго проливать слезы, чувствуя себя
при этом интеллигенткой. Тем более
==211
отрицательна реакция публики на действительно умные фильмы,
облеченные в форму мелодрамы (как было, например, с картиной Жана Гремийона
«Небо принадлежит вам» (1944). «Огни рампы» представляются средоточием
отрицательных факторов, ибо фильм внешне обладает всеми признаками грубой,
слезоточивой мелодрамы и в то же время непрестанно вводит в заблуждение чувства
зрителя. В нем нет и следа иронии или пародии, которые могли бы служить
интеллектуальной точкой преткновения, привлекать как уже знакомый прием (Чаплин
вовсе не пытается обойти мелодраматические условности, как это сделал Кокто в
фильме «Несносные родители» ; наоборот, никогда еще никто не принимал себя
настолько всерьез). Условные поначалу ситуации просто используются с абсолютной
свободой, без малейшей заботы о соответствии с их привычным значением. Словом,
в «Огнях рампы» нет a priori ничего, что могло бы обеспечить фильму симпатии
широкого зрителя, хотя бы в силу некоей двойственности. В таких условиях забота
автора о психологической подготовке к выпуску фильма на экран не кажется
недостойной. На мой взгляд, журналисты могли на сей раз с чистой совестью стать
соучастниками такой операции.
Я готов
пойти дальше. К этому чисто внешнему и скорее нравственному, нежели
эстетическому, оправданию присовокупляется гораздо более важный, на мой взгляд,
критический аргумент. Разумеется, можно с полным правом высказывать оговорки по
поводу того или иного шедевра: можно упрекать Расина за рассказ Тэрамена, можно
ставить Мольеру в вину развязки его пьес, а Корнелю — неумелое обращение с
правилами. Не берусь утверждать, что такие критические замечания ложны или
бесплодны; однако, по-моему, гораздо более плодотворна противоположная позиция
в тех случаях, когда речь идет о художественном творчестве определенного уровня
или, во всяком случае, когда сталкиваешься с гениальностью. Я хочу этим
сказать, что вместо недоуменных попыток избавить произведение от его мнимых
недостатков лучше подходить к этим недостаткам с положительным предвзятым
мнением и рассматривать их, как достоинства, тайну которых мы еще не смогли
раскрыть. Согласен, что такой критический подход может казаться абсурдным, если
заведомо относиться к объекту с сомнениями; эта
==212
позиция основана на своеобразном пари. Необходимо «поверить»
в «Огни рампы», чтобы стать их безоговорочным защитником, но ведь оснований
поверить в этот фильм предостаточно. Тот факт, что эти основания не столь
очевидны для всех, свидетельствует лишь о том, как пишет в журнале «Кайе дю
синема» Николь Вэдрес, что, «если бы все хвалили фильм, это значило бы, что он
явился слишком поздно».
Впрочем,
я, возможно, преувеличиваю. Такая апологетическая критика, вероятно, не была бы
пригодна для всех шедевров, даже если их авторов можно считать гениальными.
Однако она, несомненно, применима к произведениям того типа, к которому
принадлежат именно «Огни рампы» и которые я определил бы как плоды размышления,
а не как «поделки» или «домыслы». Я имею в виду произведения, которые
действительно ни с чем, кроме них самих, нельзя сопоставить, произведения,
внутренний строй которых можно сравнить с наслоением кристаллов вокруг
центрального ядра. Их можно полностью понять, лишь оттолкнувшись именно от
этого центра. Если согласиться с тем, что понимать их надо «изнутри», тогда их
кажущийся беспорядок, даже их несоответствия, преобразуются в необходимый и
совершенный порядок. По отношению к художественному творчеству такого типа никогда
нельзя утверждать, будто художник ошибается; можно лишь говорить, что критика
слишком медлит с пониманием необходимости «недостатков».
Я
убедился в правильности этих рассуждении в тот вечер в театре «Комеди Франсэз»,
когда волей богов были соединены «Дон-Жуан» и Чаплин. Сколько раз мы читали или
слышали, будто эта трагикомедия Мольера — несомненно его самое богатое по
содержанию, но «хуже всего сделанное» создание. Правда, Мольер написал эту вещь
очень быстро, и ее бурлящий беспорядок, распыленность, дробность,
неравномерность звучания являются совершенно естественным результатом. Мы,
разумеется, всегда готовы находить в этих недостатках прелесть, готовы даже
оправдывать их, но мы не ставим под сомнение, что это действительно недостатки.
Большая заслуга постановки Жана Мейера заключалась в том, что «Дон-Жуан» был
сыгран очень быстро, без антрактов, благодаря чему впервые выявилось
совершенство его драматургического
==213
построения. Таковы некоторые движения в природе, которые
глаз неспособен синтезировать и чья дивная гармония раскрывается только при
замедленной киносъемке. По сравнению с «Дон-Жуаном» теперь уже «Проделки
Скапена» казались произведением нестройным, с замедленным темпом.
Я
позволяю себе такое сравнение потому, что между шедевром Мольера и «Огнями
рампы» существует глубокое сходство. Подобно «Дон-Жуану», фильм «Огни рампы»
представляет собой произведение, глубоко продуманное и в то же время написанное
очень быстро; оно, несомненно, выражает самые сокровенные порывы сердца
художника, которые он давно и, может быть, бессознательно вынашивал и которые
наконец вырвались на поверхность с необычайной быстротой, не дающей времени на
поправки и возвраты к сделанному. (Обычно Чаплин делал свои фильмы в течение долгих
месяцев, а иногда целого года.) Быстрота постановки или, скорее, последней
видимой ее фазы, не только не допускает пробелов или слабых мест, а, наоборот,
гарантирует произведению безошибочность гармонии в силу того, что она диктуется
подсознанием. Пусть меня правильно поймут: я вовсе не выступаю здесь в защиту
романтического вдохновения; напротив, я отстаиваю психологию творчества,
предполагающего одновременно наличие гениальности, глубокого размышления и
завершающей спонтанности исполнения. Именно эти условия объединились, на мой
взгляд, в «Огнях рампы».
Поэтому
известная мера предвзятого восхищения кажется мне наиболее осмотрительным
критическим методом по отношению к этому фильму, методом, гораздо более
плодотворным и верным, нежели критика, построенная на множестве «но». Почти все
сходятся на том, что хвалят вторую часть, но многие сетуют по поводу длиннот и
бесконечных разговоров в первой части; однако, будучи искренне взволнованным
последними восьмьюдесятью минутами фильма, нельзя, по-моему, задним числом
иначе представить себе его начало. Становится очевидным, что даже скука,
которую вы могли ощутить, необъяснимым образом включалась в гармонию целого.
Впрочем, что означает здесь слово «скука»? Я видел «Огни рампы» трижды и,
признаюсь, трижды «скучал», но каждый раз в другом месте. Тем
==214
не менее у меня никогда не возникало желания сократить
продолжительность этой скуки. Скорее, это было ослабление внимания, которое
отчасти высвобождало мой разум, позволяя ему отвлекаться,— возникала рассеянная
мечта, связанная с изображениями на экране. Я слышал множество высказываний по
поводу постепенной утраты ощущения длительности в ходе просмотра. Этот
объективно длинный (2 часа 20 минут) и медленный фильм заставил многих зрителей
утратить, подобно мне, чувство времени. В этом явлении мне видится нечто общее
со своеобразной природой моей эпизодической «скуки». Дело в том, что структура
«Огней рампы» носит, по существу, скорее музыкальный, нежели драматический
характер. Подтверждение этой мысли я нашел в английском буклете о фильме,
который на три четверти посвящен музыке «Огней рампы», тому значению, которое
придавал ей Чаплин, и таким любопытным деталям, как, например, следующая: перед
началом репетиции той или иной сцены Чаплин просил проигрывать ее партитуру,
чтобы проникнуться ее музыкальным содержанием. Следовательно, время «Огней
рампы» — это не столько время развития драмы, сколько умозрительная
продолжительность музыки, то есть время, которое требует большего напряжения
ума, в значительной степени освобождая его от зависимости по отношению к
образам, его питающим; время, на которое разум может наносить свои собственные
узоры.
Основной
трудностью, с которой сталкивается благоприятная критика «Огней рампы»,
является, несомненно, глубокая двойственность этого произведения. Пожалуй, нет
ни одного существенного элемента в сценарии этой лжемелодрамы, сугубая
двойственность которого не раскрывалась бы при внимательном анализе.
Рассмотрим, например, личность самого Кальверо. Поскольку мы, естественно,
стремимся увидеть в нем сходство с Чарли, то первоначально не возникает
сомнения в том, что перед нами гениальный клоун, слава которого во времена его
триумфов в прошлом не была преувеличена. Однако в этом нет никакой уверенности.
Подлинная тема, разрабатываемая Чаплином, вовсе не история упадка клоуна под
влиянием старости и неблагодарности публики, а тема, гораздо более тонкая,
рассматривающая соотношение между
==215
ценностью художника и ценностью зрителя. Ничто в фильме не
дает повода усматривать в Кальверо чтолибо большее, нежели известный талант и
традиционный профессионализм. Ни один из его номеров не отличается
оригинальностью (даже номер с укорачивающимися ногами, который Грок поставил,
наверно, после многих предшественников). К тому же, он повторяет номер дважды,
что позволяет предположить, что репертуар его не слишком разнообразен. Да так
ли уж смешны его трюки? Фильм утверждает, будто они были смешными, не пытаясь
доказать, что это качество присуще им объективно, независимо от симпатий
публики. В этом-то и заключается главное. Художественная ценность Кальверо, его
талант или его гениальность представляют собой не объективную реальность,
подверженную удачам и неудачам, а факт, зависящий от самого успеха. Кальверо
как клоун существует лишь «для других». Он познает себя, лишь будучи отраженным
в зеркале зрителя. Чаплин вовсе не хочет доказать обратное тому, что не бывает
непонятых великих артистов и что успех или неуспех представляют собой
единственные реальности театра. Нет, он хочет лишь сказать, что артист без
публики не может быть цельным, что публика не дарит и не отнимает свою симпатию
как предмет, который можно добавить или изъять, а что эта симпатия есть
составная часть театральной личности. Мы так никогда и не узнаем, был ли
Кальверо гениален на самом деле; а сам он способен узнать это еще меньше, чем
мы. Что доказывает апофеоз, устроенный в его честь друзьями, не забывшими его?
Нет ли в нем того самого коллективного переживания, которое весьма напоминает
симпатию, окружающую «Огни рампы» благодаря приезду Чаплина? Чего стоит такое
предвзятое доброе отношение? А если дело не в симпатиях публики, то уже не
опьянение ли всему причиной? Этот вопрос, обращенный к самому себе и гложущий
сердце старого клоуна как актера, Кальверо отвергает и одновременно взывает к
нему. Старея, говорит он, мы начинаем стремиться к самоутверждению. Комедиант —
неполноценный человек, ибо ему нужны окружающие, чтобы стать самим собой, ибо
он всякий раз отдается им на милость.
Мудрость
стареющего Кальверо заключается в том, чтобы достичь безмятежности духа,
перешагнув за
==216
пределы успеха или неуспеха, но не отвергая, однако,
искусства. Жизнь — он это знает и утверждает,— самая простая жизнь — вот высшее
благо. Но тот, кто отмечен печатью искусства, не может от него отречься. «Я не
люблю театра,— говорит Кальверо,— но ведь я не выношу также вида крови, текущей
в моих жилах».
Тема
театра и жизни, взятая во всей ее двойственности, сочетается с фаустовской
темой старости. Вино погубило Кальверо, но именно возраст мешает ему снова
занять место на подмостках, пусть даже самое скромное.
«Огни
рампы» — это не только история упадка знаменитого клоуна, а отношения между
Кальверо и Терезой не сводятся лишь к самоотречению старости перед лицом
юности. Во-первых, нет никакой уверенности в том, что Тереза не любит на самом
деле Кальверо. Скорее, он убеждает ее в невероятности ее чувства. Во всяком
случае, из них двоих именно у него сердце более свободно, именно он меньше
страдает от разлуки; старость ни в коей мере не является бессилием, в ней
таятся большая сила и вера в жизнь, нежели в юности Терезы.
Кальверо
— это анти-Фауст, человек, который умеет стариться и способен отказаться от
Маргариты, увлеченной его возрастом.
И все
же «Огни рампы» — самая волнующая трагедия старости, в чем нельзя усомниться,
стоит лишь вспомнить поразительные кадры, где вся усталость мира отражается в
изможденной маске; я имею в виду сцену в артистической уборной, когда Кальверо
снимает грим, или эпизод, в котором взволнованный старый клоун бродит за
кулисами во время танца.
Если
теперь, подчинившись сюжету фильма, сравнить Кальверо с самим Чаплином, то
окажется, что двойственность фильма возводится в высшую степень. Ибо в конечном
итоге Кальверо — одновременно и Чаплин и его противоположность. Он есть Чаплин
прежде всего из-за неопровержимого внешнего сходства. Не случайно Чаплин
впервые играет здесь с обнаженным лицом и рассказывает историю стареющего
клоуна. В то же время реальность жизни Чаплина составляет полную
противоположность неудачам Кальверо: в своем искусстве, как и в жизни, Чаплин —
это Кальверо,
==217
чья сказочная слава ни на минуту не затмевалась, который в
пятьдесят четыре года женился на восемнадцатилетней девушке, очень похожей на
Терезу и подарившей ему пятерых прекрасных детей; однако сократовская мудрость
Кальверо, удрученного горестями, едва ли сильно отличается от мудрости
господина Чаплина, осыпаемого почестями и проявлениями любви. В образе Кальверо
нельзя не увидеть тень, отбрасываемую Чаплином. Кальверо — есть воплощение
того, чем мог бы стать самый поразительный актер всех времен, если бы его
покинул успех (как он покинул, например, Бастера Китона), если бы Уна оказалась
менее уверенной в себе и решила, подобно Терезе, что ее любовь — всего лишь
большая жалость. В то же время приходится допустить, что при всем своем счастье
Чаплин сумел выковать мудрость, которая позволила бы ему стерпеть судьбу
Кальверо, иначе откуда взял бы эту мудрость Кальверо? И все же невольно
думаешь, что подобная перспектива не раз заставляла Чаплина содрогаться, что
она наполняет страхами его ночи, иначе зачем ему было делать «Огни рампы»?
«Огни
рампы» представляются некиим заклинанием судьбы их автора. Кальверо —
воплощение страхов Чаплина и в то же время его победа над страхом. Победа
двойная — прежде всего потому, что призрак неудачи объективируется в фильме,
воплотившись именно в том, кого он мог бы преследовать; во-вторых, потому, что
потерпевший неудачу герой фильма обретает не только силу, чтобы вернуть себе
спокойствие духа; он находит свое оправдание в успехе другого, молодого
создания, которому суждено продолжить его путь. Когда камера удаляется от
мертвого Кальверо, лежащего за кулисами, она переходит на балерину, танцующую
на сцене, несмотря на свое горе. Движение камеры словно следует за перемещением
души: театр и жизнь продолжаются.
И здесь
мы подходим к основному аспекту, определяющему оригинальность «Огней рампы»,
аспекту «исповеди» или «автопортрета», который кое-кого шокирует. Но ведь в
литературе это явление давно признано! Я имею в виду не только литературные
«дневники», которые открыто ставят своей целью такую исповедь, но и многие
романические произведения, где в той или иной степени транспонируется биография
==218
автора. Впрочем, не всегда наименее личные произведения
оказываются наименее бесстыдными. В статье, опубликованной в журнале «Кайе дю
синема», Ло Дюка приводит по поводу «Огней рампы» следующее высказывание
Витторини из предисловия к сборнику «Беседы на Сицилии»: «Всякое произведение
всегда автобиографично, даже если в нем говорится о Чингисхане или о кладбище в
Новом Орлеане». У Флобера сказано: «Мадам Бовари—это я». Следовательно, этот
факт удивляет или шокирует лишь постольку, поскольку речь идет о кинематографе;
причину такого удивления можно объяснить двояко.
Прежде
всего — относительной новизной самого явления. Хотя, впрочем, творчество
Штрогейма или Жана Виго, во Франции, представляет собой непрерывную
нравственную исповедь. Правда, здесь взаимосвязь не была столь очевидна. Однако
более личный характер признаний Чаплина знаменует собой прогресс и есть
свидетельство зрелости его искусства. Чарли был лишь нравственным силуэтом,
поразительным сочетанием символов, а его совершенно метафизическое бытие
представлялось бытием мифа. «Мсье Верду» предполагал уже диалектическую связь
между мифом и его автором; сознание Чарли оказывалось внешним по отношению к
самому персонажу. На следующей стадии Чаплину оставалось лишь сбросить маску и
разговаривать с нами лицом к лицу. Все, впрочем, согласны, что, глядя на «Огни
рампы», невозможно отвлечься от всего, что мы знаем о Чарли и о Чаплине. Но
ведь это знание, по существу, не отличается от того, к чему стремится
современная критика по отношению к шедеврам, ибо она старается подстегивать
наше восхищение все более подробным знакомством с биографией их авторов. Причем
эта биография не является самоцелью, а позволяет обнаружить новые взаимосвязи,
поясняющие и обогащающие значение творчества в целом. В случае Чаплина процесс
оказывается совершенно обратным. Поразительная популярность этого автора и его
прежнего творчества ставят современного зрителя в привилегированное положение,
которого не будет иметь следующее поколение. Уже сейчас молодежь
пятнадцати-двадцати лет не знает то, что знаем мы, и не может в своих
воспоминаниях сопоставить Кальверо с чаплиновской мифологией. Значит ли это,
что «Огни
==219
рампы» имеют ценность лишь в соотношении с Чарли и Чаплином
и что со временем значение этого произведения исчезнет? Ничуть; точно так же
произведения автобиографического склада не требуют углубленного знания истории
литературы. «Балладу повешенных» Вийона и «Исповедь» Руссо можно читать без
помощи справочников. Зато многие романы или пьесы со скрытым смыслом теперь
позабыты, ибо интерес их заключался лишь в том, что они возбуждали нескромность
и любопытство. В том-то и разница между ними и по-настоящему значительными
произведениями, авторы которых внесли в описание собственных горестей элемент
общечеловеческий- Если бы «Огни рампы» были найдены вновь спустя сто лет, а все
остальные следы Чаплина и его творчества утрачены, то одного этого лица,
глубокой меланхолии этого взгляда было бы достаточно, чтобы понять, что
человек, уже по ту сторону смерти, говорит о себе, призывая нас в свидетели его
собственной жизни, ибо она есть жизнь вообще, а следовательно, и наша жизнь.
Тот
факт, что экран никогда еще доселе не показывал столь яркого примера
транспонированной автобиографии, имеет в основном два объяснения. Первое
состоит в том, что настоящие авторы — редкость в кинематографе; огромное
большинство кинорежиссеров, в том числе и самых крупных, далеко еще не достигли
творческой свободы писателей. Кинематографист, даже будучи собственным
сценаристом, остается прежде всего и главным образом «постановщиком», то есть
мастером, располагающим и организующим объективные элементы. Эти условия работы
достаточны, чтобы служить оправданием художественного творчества и выявлять
индивидуальный стиль, однако они не привели еще к тому абсолютному
отождествлению, к тому биологическому сродству, которое нередко обнаруживается
в других видах искусства, например во взаимосвязи Ван Гога и его живописи,
Кафки и его романов. Клод Мориак очень верно написал о Чаплине, что он
пользуется кинематографом, тогда как другие сами служат ему. Художник в самом
могущественном значении этого слова — тот, кто стоит с Искусством на равной
ноге. И если он выражается посредством кинематографа, то делает это вовсе не
потому, что ощущает особое призвание к этой форме выражения, не потому, что его
К оглавлению
==220
талант и способности подходят к кинематографу больше, чем,
например, к литературе, а потому, что кино — есть наиболее действенный вид
искусства, чтобы передать то, что ему надлежит высказать. Великие художники
конца XVI века были прежде всего живописцами и архитекторами, ибо живопись и
архитектура были искусством их времени. Но это было лишь лучшим способом стать
художником, а не способом служить определенному виду искусства. Именно
благодаря отсутствию смирения не перед искусством вообще, а перед его
специализированными формами (на которые оно разделяется в наши дни) ведущее
искусство Возрождения (я имею в виду живопись) достигло таких успехов. Леонардо
да Винчи был живописцем не больше, чем Микеланджело — скульптором; оба они были
прежде всего художниками. Если бы Чаплин, который сочиняет музыку, порой
философствует и даже немного рисует в свободное время, стал посредственным
музыкантом, жалким философом и художникомлюбителем — это не имело бы никакого
значения: важна не объективная свобода выбора Чаплина в пользу кинематографа, а
субъективная свобода его отношений с ведущим искусством XX века — с кино.
Чаплин, пожалуй, единственный, кто являет собой образец творца, полностью
подчинившего кинематограф тому, что ему надо высказать, не заботясь о
необходимости сообразоваться со специфическими требованиями кинематографической
техники.
Однако
именно в этом и упрекают его некоторые люди, допускающие откровенность
признаний в литературе, где она пропускается сквозь исповедальню языка, но
считающие в то же время непристойной публичную исповедь на экране. Кинематограф
действительно a priori самое бесстыдное из искусств, ибо он представляет собой
искусство зрелища, гиперболизирующее феномен воплощения благодаря чудовищной
физической близости изображения. Именно поэтому он требует максимальной
стыдливости; требует маски и переодевания, которые осуществляются при помощи
стиля, сюжета или грима. В «Огнях рампы» Чаплин наполовину отбросил первые два
аксессуара и полностью отверг третий. Он возглашает: «Человек есмь».
Вероятно,
нужно было обладать его гением, чтобы решиться на столь дерзкую попытку и с
успехом
==221
осуществить ее; причем значение попытки крылось в самой
популярности чаплиновского мифа и, следовательно, таило в себе максимальную
опасность впасть в гордыню и бесстыдство. Карикатуру в этом плане мы имели во
Франции в лице Саши Гитри'. Надо было быть очень уверенным в любви публики,
чтобы говорить о себе с десятками миллионов человек с такой серьезностью и
убеждением; надо было быть очень уверенным в себе, чтобы снять маску,
снискавшую ему любовь публики. Но самое замечательное заключается в ином —
«Огни рампы» стали благодаря этим личным ссылкам тем жгучим и чистым
произведением, которое мы увидели; высший смысл, вложенный автором в свое
произведение, не только не был отягощен его самовоплощением, а, наоборот,
черпал в нем глубочайшую духовную силу.
Величие
«Огней рампы» сливается здесь воедино с величием самого кинематографа; оно
становится наиболее ярким проявлением сути кинематографа, которая есть
абстракция через воплощение. Только исключительность положения Чаплина,
всеобщность и жизненность его мифа (не следует забывать, что он по сей день
разделяется как коммунистическим, так и западным миром) позволили найти
диалектическую меру кинематографа. Чаплин — Кальверо, этот Сократ XX века —
пьет сок цикуты на глазах у публики, Публики с большой буквы. Однако мудрость
его смерти не может быть сведена к словам — прежде всего и главным образом она
заключается в зрелище этой смерти, она дерзает основываться на плотской
двойственности кинематографического изображения: смотрите и знайте!
Говорить
здесь о бесстыдстве смешно; наоборот, надо поражаться тому, что благодаря
кинематографу и гению Чаплина самая простая и самая глубокая истина обретает лицо
— но не просто лицо актера (и, какого актера!), а лицо человека, которого
каждый из нас любит и знает, лицо, которое говорит непосредственно с каждым в
сокровенных глубинах сердца и темноте зала.
Чаплин
— единственный режиссер, творчество которого охватывает сорокалетнюю историю
кино. Тот жанр, в котором он дебютировал и одержал триумфальную победу, жанр
комического бурлеска, переживал упадок еще до появления звукового кино. Звук
==222
доконал Гарри Ленгдона2 и Бастера Китона, которые так и не
смогли пережить жанра, в котором проявилась их гениальность. Жизнь
Штрогейма-режиссера продолжалась всего каких-нибудь пять лет. Средняя
продолжительность творческой жизни кинематографического гения исчисляется
сроком от пяти до пятнадцати лет. Те, кто удерживается дольше, обязаны этим
известной тонкости, которая больше связана с умом и талантом, нежели с
гениальностью. Чаплин один сумел, не скажу, приспособиться к эволюции фильма,
спроста "сумел" по-прежнему быть воплощением кинематографа. Начиная с
«Новых времен», последней из его постановок, непосредственно связанной с
эволюцией примитивного жанра Мак Сеннетта, и в то же время последним из его
фильмов, который был фактически немым, Чаплин не переставал идти в глубь
неизведанного, не переставал изобретать кино по отношению к самому себе. Рядом
с «Огнями рампы» все остальные его фильмы, даже те, которыми мы больше всего
восхищаемся, кажутся условными и традиционными; даже если они есть результат
авторского выражения, даже если они исходят из индивидуального стиля, все равно
их оригинальность в чем-то ограничена. Эта оригинальность сообразуется с
определенными привычками кино, зависит от общепризнанных условностей даже
тогда, когда пытается противостоять им. «Огни рампы» ни на что не похожи, в
первую очередь и главным образом не похожи ни на что, сделанное Чаплином
прежде.
Мало
сказать, что этот шестидесятичетырехлетний человек все еще стоит в авангарде
кино. Он одним разом опередил всех. Больше, чем когда-либо, он остается образцом
и символом творческой свободы в этом наименее свободном из искусств.
«Esprit»,
1953, № 4
КИБЕРНЕТИКА
АНДРЕ КАЙАТТА
Истинная
заслуга независимой критики состоит не в отказе от выгодных компромиссов, как
принято считать согласно избитым штампам; уже давненько никто не подсовывает
под салфетки критиков конверты со
==223
взятками, а за самую хвалебную статью уж не получишь взамен
благосклонность даже захудалой кинозвездочки. Право, критике не приходится
делать особых усилий, чтобы оставаться честной. Искушение следует искать в
ином; хотелось бы судить о произведениях по благородству их намерений, по
значительности их помыслов или по глупости их хулителей, а приходится в
конечном итоге соотносить эти произведения лишь с теми эстетическими
принципами, которые они затрагивают. Как мне ни претит делать серьезные
оговорки по поводу произведений, во многом достойных уважения, а также по
поводу умного, мужественного их создателя, я все же должен выразить известное
несогласие с фильмами Андре Кайатта.
Автор
картины «Перед потопом» (1954) ввел во французскую кинематографию новый тип
социального фильма, который утвердился столь основательно, что вызвал множество
подражаний в различных более или менее скрытых или ловко приспособленных
формах. Такие произведения, как «Правосудие свершилось» и «Все мы убийцы»
(1952), несомненно отразились на формировании французской кинопродукции, и
отклики на них можно найти в таких, например, лентах, как «Раб», «Исцелитель»
или «Во власти плоти» (называю лишь наиболее достойные из фильмов, на которых
сказалось это влияние). В тот же период получила развитие другая тенденция,
которую можно обозначить названием «Восхитительные создания» (режиссер
Кристиан-Жак, 1952) и которая не менее характерна для трех последних лет.
Совершенно
ясно, каким легковесным парадоксом выглядело бы соединение «социального
мужества» Андре Кайатта с улыбчивым цинизмом КристианаЖака и присных, причем
связующим элементом служил бы Шарль Спаак. Мы отказываемся от этого парадокса
не только из моральных соображений, не только потому, что опыт достаточно
убедительно доказал, откуда следует ждать опасности, но также просто ради
интересов кино. Можно многое возразить против принципа, лежащего в основе
фильмов Кайатта, и мы не преминем сделать это ниже, но лишь после того, как
признаем за его фильмами много достоинств, которые было бы слишком легко
игнорировать, высказав a priori оговорки по поводу режиссуры. Форму и
содержание,
==224
искусство и мораль в данном случае не так уж легко
разделить, как можно было бы думать, судя по жанру этих картин. Если «Перед
потопом» породил столько ненависти и вызвал такой взрыв возмущения, если он все
еще служит поводом для коварных маневров со стороны фарисеев, то было бы
ошибкой считать, будто это обусловлено лишь его социальными, нравственными или
политическими последствиями как таковыми. Они вызывают столько возражений лишь
в силу исключительной действенности режиссуры. Фильм поразителен: он потрясает
зрителя, погружая его в состояние необычного, острого недомогания. Равнодушие
здесь невозможно. Нет ничего удивительного, что Бунюэлю фильм так понравился,
хотя, казалось бы, в нем нет ничего, что способствовало бы тайным движениям
мечты. Боюсь, как бы мне не прослыть проводником сюрреалистической критики,
защищая Кайатта с подобной точки зрения; но все же мне кажется, что именно в
этом заключается его наиболее прочное алиби. Дело в том, что в кинофильме
«Перед потопом», так же как в картине «Все мы убийцы», я усматриваю
неподдающееся определению логическое изуверство, жестокость, заключенную в
абстракции, дух террора, заложенный в сцеплении и разумной очевидности фактов,
которые придают этим произведениям мучительные свойства кошмара, сколько бы мы
ни старались зажмуривать глаза, дабы сгладить подробности. Прикрываясь
реализмом, Кайатт преобразовал юридическую риторику в образы экрана. Но мы
увидим дальше, что факты, люди, события — это не отвлеченные идеи. Представляя
их как таковые, Кайатт смещает реальность, подменяя ее миром исключительно
логическим, населенным существами, подобными нам, но в корне отличающимися от
нас тем, что они лишены всякой двойственности. Мир этот, однако, неопровержим,
и его физическая очевидность прикрывает собой логическое построение, в котором
сознание зрителя теряется, как в безжалостной ловушке. С этой точки зрения
«Перед потопом» превосходит картину «Все мы убийцы». Последний фильм был
чрезвычайно убедительным. После просмотра зритель уносил ощущение ужаса и
уверенность в абсурдной чудовищности смертной казни. В этой уверенности
встревоженная совесть находила некоторое успокоение. «Перед потопом» не дает
нам
==225
даже этого последнего убежища. Его логика открыта, подобно
нарезке бесконечного винта. Если подростки невиновны, следовательно, виноваты
их родители; но поскольку каждый из них воплощает определенный метод воспитания
и несет в себе максимум материнской или отцовской доброй воли и в то же время
представляет одну из социальных прослоек, то из этого следует, что вина их не
только бессознательна, но и противоречива; при любом подходе они виноваты в
том, что являются родителями. Сила этого фильма, построенного, казалось бы,
ради доказательства, заключается в том, что он ничего не доказывает и в
конечном итоге оставляет нас в логическом аду, пораженными ужасом при виде тех
кругов его, которые нам удается предугадать. В моей аргументации, возможно,
есть парадоксальность, и я допускаю, что довожу ее до крайности. «Перед
потопом» вовсе не является монументальным нагромождением логического бреда;
однако я убежден, что иду по верному пути, пытаясь найти его действительные
кинематографические достоинства в своеобразном воплощении юридической риторики.
Это воплощение противоестественно, а его несомненная сила основана на том
недомогании, в которое ввергает нас внутреннее противоречие между логикой
рассуждения и противозаконностью его конкретного воплощения.
Я
полагаю, что Андре Кайатту такая защита ни к чему. Однако мне бы не хотелось,
чтобы он думал, будто я издеваюсь над ним или лью воду на мельницу противников
его фильма (я имею в виду тех, кто ссылается на причины нравственного порядка),
ибо прежде всего депутаты партии МРП (Народно-республиканского движения) или
секретари провинциальных муниципалитетов ничего не поймут в моих доводах, а
кроме того, несмотря на все сказанное выше, я совершенно убежден в полезности
его фильмов. Их аргументацию, как и всякую другую, нельзя считать неоспоримой,
однако их чисто интеллектуальная обоснованность имеет в данном случае меньшее
значение, нежели действенность формы, в которую эти фильмы облечены. У
эйфорически настроенной массы публики, пресыщенной кинематографом, Кайатт
вызывает
==226
потрясение, которое самой своей новизной заслуживает
всяческого уважения. Наряду с фильмом-рассказом (чисто драматическим или
романтическим) и фильмом-пропагандой (в хорошем смысле этого слова, например в
стиле «Броненосца «Потемкин»), которые в конечном счете оба основаны на
отождествлении зрителя с героем (в обоих значениях этого слова), то есть на
интеллектуальной пассивности, Кайатт вводит сравнительно новый феномен; он
оправдывает необходимость своего фильма, включая в действие механизмы логического
мышления зрителя. Его произведения — это не только фильмы, построенные на
определенной идее или тезисе, что далеко не ново; они представляют собой весьма
парадоксальную попытку обратить привычные в кинематографии психологические
механизмы против самих себя и направить их на зрителя, заставляя его
способности к логическому мышлению постепенно включаться и функционировать
синхронно со сценарием и режиссурой. Эйзенштейн пользовался изображением и
монтажом, чтобы пробудить чувство, а посредством чувства — заставить принять
идею. После просмотра его фильмов выносишь глубокую убежденность и энтузиазм,
то есть оказываешься в состоянии, совершенно противоположном тому
интеллектуальному беспокойству, в которое нас ввергает Кайатт. По окончании
фильма традиционного типа мы некоторое время смутно ощущаем себя в плену его
персонажей: то ли мир фильма проник в нас, то ли мы ушли в него — мы испытываем
состояние одновременной пассивности и увлеченности. После картины «Перед
потопом» даже самый глупый зритель выходит насильственно поумневшим или по
крайней мере более рассудительным. Фильм запускает в каждом маховик рассудка,
движение интеллектуальной массы которого, постепенно амортизируясь, продолжает
еще некоторое время на лету перемалывать зерна реальности.
Не вижу
причины не считать это результатом воздействия искусства. Правда, режиссура
Кайатта отличается лишь немногими достоинствами, которые обычно принято ценить;
ей недостает тонкости (что вполне понятно), подчас вкуса, работа с актерами
далеко не всегда удовлетворительна. Но должны же в ней быть и положительные
качества, среди которых я выделяю хотя бы силу и четкость; откуда взялась бы
иначе
==227
действенность фильма? Аналогичный вывод напрашивается и в
силу того, что подражатели Кайатта, порой даже более ловкие, чем он сам, всегда
значительно менее убедительны.
И все
же? И все же надо каким-то образом разоблачить это кино (защищая его
одновременно против большинства его противников), надо раскрыть то
недоразумение, которое оно вносит в кинематографическое зрелище. Кайатт
придумал жанр, но это жанр ложный или, точнее, двусмысленный, предающий
одновременно и реализм кино и его способность к абстракции, которые
диалектически взаимосвязаны.
Мне
ясно слышатся доводы Андре Кайатта в свою защиту, и я далеко не равнодушен к
его огорченному удивлению в связи с тем, что мы не стоим целиком на его
стороне'. Я и сам был этим удивлен настолько, что в первый момент принял
горячность своего возмущения против глупости или лицемерия его противников за
эстетическое признание его принципов. Однако по истечении некоторого времени и
по зрелом размышлении, а также после повторного просмотра фильма я не могу
больше себе это позволить. Я вынужден признаться Кайатту, что его аргументы,
скорее, укрепляют мое несогласие с ним.
Прежде
всего отведу наиболее непосредственный довод. В Канне и Кайатт и Спаак изо всех
сил опровергали стереотипные критические замечания, согласно которым «Перед
потопом» — «фильм с заданным тезисом» и «дело рук адвоката».
«Разумеется,—
говорил он,— мне приходилось в жизни выступать в суде в качестве защитника,
хотя главным образом я занимался журналистикой, но мне также доводилось водить
паровозы; почему бы мне тогда не делать фильмы о машинистах? Поскольку в фильме
«Правосудие свершилось» изображен процесс, критики раз и навсегда решили, что я
делаю адвокатские картины, построенные по принципу защитительной речи и
доказывающие заданный тезис».
Если у
кого-либо еще мелькало сомнение по поводу того, остался ли Андре Кайатт в душе
адвокатом, то достаточно было послушать, как он защищал свои фильмы. Однако в
его защите есть то же уязвимое место, что и в его произведениях: его
аргументация слишком убедительна, чтобы быть правильной.
==228
«Я понимаю,— продолжал он,— в чем моя ошибка. Чтобы
рассказать свою историю, я не должен был в качестве алиби использовать судебный
процесс. Но этот способ повествования представлялся мне наиболее удобным, ибо
он позволял избегать повторов. Однако критика, ослепленная моим прошлым юриста,
лишний разрешила усмотреть в этом только махинации адвоката, сочтя, что моя
цель заключалась в оправдании детей и в том, чтобы выдать родителей на суд
зрителей-присяжных. Тогда я снял закадровый комментарий, который предшествовал
эпизоду возврата в прошлое и мог произвести на предубежденные умы впечатление,
будто я кого-либо осуждаю. И вот осталась только история, одна история, которую
без злого умысла никак нельзя отождествить с судебным процессом, служащим лишь
посредствующим звеном».
Пересмотрев
фильм в новом варианте, я, как и многие другие, не почувствовал существенного
значения произведенных купюр. Кайатт думает или делает вид, будто думает, что
его фильму приписывают сутяжнический характер только из-за судебного процесса. Но
ведь суть дела не зависит от того, обвинит ли он в открытую родителей или нет;
в любой момент на протяжении всего развития действия все упирается во
внутреннюю структуру сценария. Несмотря на различия, которые пытается ввести
Кайатт, для фильма «Перед потопом», так же как для обеих предшествующих картин,
характерно, что и персонажи и их поступки исчерпывающе определены мотивами,
ясными и четкими по форме и социальными по сути. Третьи лица и их поведение
есть равнодействующая параллелограмма сил, в котором длинная сторона
соответствует эпохе, обществу, среде, исторической обстановке, а короткая —
методу семейного воспитания. Но разве сами родители, представляющие собой
единственное индивидуальное воплощение этого воспитания, есть что-либо иное,
чем равнодействующая сил своей эпохи, своей среды и своего собственного
воспитания? И так до бесконечности... Невольно вспоминаются современные часы со
стеклянными стенками и циферблатом, по которым не так важно определять время,
как любопытно наблюдать за движением механизма. Вопреки тонким различиям, на
которые ссылается Кайатт, я не вижу никакой разницы между таким «фильмом с
заданным
==229
тезисом, как «Правосудие свершилось», «экранизированным
тезисом»2, как «Все мы убийцы», и просто «историей», как «Перед потопом»; разве
что у последних часов сняты уже и стрелки. Тот факт, что эти часы не указывают
больше время, никак не отражается на механизме — задача по-прежнему заключается
в том, чтобы сводить реальность к понятному, лишенному всякой таинственности
устройству, которым движет пружина логики и который регулируется маятником,
указывающим все «за» и «против».
Больше
всего меня смутил в системе защиты Кайатта аргумент (отброшенный по отношению к
фильму «Перед потопом»), который заключался в следующем: поскольку'«Все мы
убийцы»—есть «экранизированный тезис», постольку критика, требующая для
кинематографа право на новизну и формальную свободу выражения, должна якобы
выступать за такого рода расширение традиционных методов повествования.
Правда,
мы некогда написали на своем щите слова Фейдера о том, что можно создать фильм
на основе «Рассуждении о методе»3, правда и то, что фильмы Кайатта —
произведения глубоко картезианские.
Однако
о чем идет речь? О возможности рассуждать в кинематографе? О том, чтобы
соединять между собой абстрактные идеи, основываясь не на словах, а на том
неопровержимом отражении действительности, каким являются движущиеся
изображения? Мы знаем, что это вполне законная и осуществимая цель, лежащая в
основе многих монтажных фильмов. Наш спор с Андре Кайаттом касается не его
целей, а его средств. Строя фильм в виде сюжетной истории, он тем самым
обязуется перед зрителем соблюдать законы романической действительности. Данные
персонажи существуют, мы должны в них поверить, как в любых других. Однако
реальность отличается от абстракции, событие — от идеи, правдоподобный персонаж
— от простого психологического уравнения; это отличие состоит в ореоле
таинственности и действенности, который не поддается никакому анализу. Нет
такого героя романа, достойного этого имени, который не был бы в какой-то мере
чем-то большим, чем он кажется. Если же исходить из задачи Кайатта и Спаака, то
им нужна, наоборот, вся действительность без остатка,
К оглавлению
==230
которую можно было бы в точности разделить на те первичные
идеи, чьим алиби она является.
Повторяю,
экран вправе и даже должен использовать реализм в интересах чистой идеи, но при
условии, чтобы реальность была сначала разбита и из нее выбраны отдельные
фрагменты. Приведу пример из знаменитых монтажных кинолент серии «За что мы
сражаемся» ; хроникальный план, показывающий отряд союзнических войск,
движущийся слева направо, приобрел в сочетании с соответствующим текстом
значение победоносной атаки независимо от реальных обстоятельств, при которых
были сделаны съемки. В данном случае абстракция заключалась в монтаже и в
соотношении изображения и текста. Иными словами, абстракция в кино узаконена
лишь тогда, когда способ повествования обозначает ее как таковую. Отстаивая
невинность «истории», Кайатт обрекает себя на внутреннее противоречие, которое
— я вполне признаю это — лежит в основе действенности его фильмов и в
значительной мере определяет их парадоксальную привлекательность. В эпоху,
когда критика старается превратить феноменологическое описание в критерий
кинематографического качества, Андре Кайатт предлагает нашему вниманию
юридический и механистический мир, населенный автоматами. Нам остается лишь
ждать восстания роботов.
«Cahiers
du Cinema», 1954
^^^ ВЕСТЕРН,
ИЛИ ИЗБРАННЫЙ ЖАНР АМЕРИКАНСКОГО КИНО
Вестерн
— единственный жанр, истоки которого почти совпадают с истоками самого
кинематографа, единственный жанр, который после неизменного полувекового успеха
по-прежнему полон жизни. Даже если усомниться в том, что с начала тридцатых
годов питавшее его вдохновение и стиль всегда оставались однородными, нельзя
тем не менее не удивляться устойчивости его коммерческого успеха, служащей
термометром здоровья жанра. Конечно, вестерн не смог полностью избежать влияния
эволюции вкуса вообще и
==231
кинематографического вкуса в частности. Он подчинялся и
впредь будет подчиняться посторонним воздействиям (например, романов «черной
серии», полицейской литературы или социальных проблем современности) ;
наивность и чистота жанра не раз нарушались подобными влияниями, о чем можно
сожалеть, но в чем ни в коем случае не следует усматривать признаков настоящего
упадка. В действительности такие влияния сказались лишь на незначительной части
фильмов более высокого уровня и не затронули фильмов «серии Z» 1, в основном
предназначенных для внутреннего потребления. Вместо того чтобы сожалеть о
мимолетных нарушениях чистоты вестерна, следует, скорее, поражаться его
стойкому сопротивлению. Посторонние влияния действуют на него подобно вакцине;
соприкасаясь с ним, микроб теряет свою смертоносную силу.
За
каких-нибудь десять или пятнадцать лет американская комедия исчерпала свои
возможности; она пережила себя благодаря чисто случайным удачам и лишь в той
мере, в какой сумела отойти от канонов, определявших ее довоенные успехи.
Гангстерский фильм начиная с «Подполья» (режиссер Д. Штернберг, 1927) и вплоть
до «Лица со шрамом» (режиссер Г. Хоукс, 1932) завершил цикл своего развития.
Сценарии полицейских фильмов очень быстро видоизменились; и если в наши дни
можно еще обнаружить эстетику насилия в жанре криминальных приключений,
эстетику, роднящую полицейские фильмы с «Лицом со шрамом», то было бы очень
трудно узнать исходных героев этих фильмов в образах частного детектива,
журналиста или полицейского. Впрочем, если и можно говорить о жанре
американского полицейского фильма, то в нем никак нельзя обнаружить
специфичность, характерную для вестерна, ибо литература, существовавшая до
появления полицейского фильма, и теперь не перестала влиять на него, а
последние интересные превращения криминального фильма так называемой «черной
серии» непосредственно исходят именно от этой литературы.
И
наоборот, неизменность героев и драматургических схем вестерна недавно была
доказана телевидением, которое с фантастическим успехом показало серию старых
лент о Хопалонге Кассиди 2,— вестерн и вправду не стареет.
==232
Но еще поразительнее исторической долговечности жанра
оказывается его географическая универсальность. Каким образом, казалось бы,
воспоминания о зарождении Соединенных Штатов Америки, о борьбе Буффало Билла
против индейцев, о прокладке железнодорожных линий и о войне Севера и Юга могут
вол» новать арабские, индийские, латинские, германские и англосаксонские
народы, у которых вестерн всегда имел неослабный успех?
Очевидно,
вестерн таит в себе секрет не только вечной молодости, но даже бессмертия;
секрет, который каким-то образом отождествляется с самим существом
кинематографа.
Нетрудно
утверждать, что вестерн есть «кинематограф по преимуществу», ибо
кинематограф—это движение. Действительно, обычные атрибуты вестерна —
странствия верхом и драки. С этой точки зрения вестерн можно было бы считать
всего лишь одной из многих разновидностей приключенческого фильма. С другой
стороны, темперамент его персонажей, доведенный почти до исступления, неотделим
от окружающей географической среды; при определении вестерна можно было бы
исходить из его декораций (деревянный городок) и пейзажа. Но ведь немало иных
жанров или направлений кино черпали вдохновение в драматической поэзии пейзажа,
как, например, шведский немой кинематограф; однако поэзия, способствовавшая их
величию, не обеспечивала им долговечности. Порой, как, например, в
австралийской картине «Сухопутные странники» (режиссер Г. Уатт, 1946), у
вестерна заимствовали одну из его излюбленных тем — традиционный перегон скота
— и переносили в пейзаж (здесь — в Центральную Австралию), весьма напоминающий
американский Запад. Результат, как известно, получился в данном случае
отличный; впрочем, хорошо, что за ним не последовало попытки как-нибудь
продолжить столь парадоксальный подвиг, успех которого определялся стечением
исключительных обстоятельств. Случалось снимать вестерны и во Франции среди
пейзажей Камарги, в чем следует усматривать дополнительное доказательство
здоровья жанра, которому не страшны поделки, подражания или пародии.
==233
Честно говоря, мне представляются тщетными попытки свести
сущность вестерна к одному из его известных составных элементов. Те же самые
элементы встречаются и в других жанрах, но уже без преимуществ, казалось бы,
неразрывно с ними связанных. Следовательно, вестерн есть нечто большее, чем
одна только форма. Странствия, драки, сильные и мужественные люди среди
сурового, дикого пейзажа — всего этого недостаточно, чтобы определить или
уловить, в чем состоит прелесть жанра.
Формальные
атрибуты, по которым обычно распознают вестерн,— это лишь знаки или символы его
сокровенной реальности, которую составляет не что иное, как миф. Вестерн
родился из соединения мифологии с определенным средством выражения. Сага Дикого
Запада существовала в литературе и в фольклорных формах еще до возникновения
кинематографа. Впрочем, появление множества фильмов не убило литературу
вестерна, которая до сих пор сохранила своего читателя и у которой сценаристы
продолжают заимствовать свои лучшие сюжеты. Однако размеры ограниченного,
сугубо национального круга читателей «рассказов в стиле вестерн» несоизмеримы
со всемирной аудиторией фильмов, черпающих в этой литературе свое вдохновение.
Подобно тому как миниатюры, украшавшие страницы Часослова, послужили в свое
время образцом для искусства ваяния и для создания витражей в соборах, так и
эта литература, освобожденная от оков языка, обрела на экране соответствующий
ей размах, словно размеры изображения слились наконец воедино с
беспредельностью фантазии.
Настоящая
книга * подчеркивает недооцененный аспект вестерна — его историческую
достоверность. Он был недооценен прежде всего из-за нашего невежества, а
главным образом — из-за укоренившегося предвзятого мнения, будто вестерн
способен рассказывать лишь совершенно детские истории, представляющие собой
плод наивной фантазии и не претендующие ни на какое психологическое,
историческое или просто материальное правдоподобие. Действительно, в
* Автор
имеет в виду исследования Ж.-Л. Рьёпейру «Вестерн, или избранный жанр
американского кино» (1953). Эта статья является предисловием к его книге.
(Прим.. ред.)
==234
количественном отношении вестерны, в которых проявляется
забота о соблюдении исторической верности, составляют меньшинство. Правда и то,
что последние не всегда оказываются наиболее удачными в своем жанре. Но было бы
смешно применять археологические мерки к персонажу Тома Микса3 (и тем более к
его волшебному белому коню), или даже к персонажам Уильяма Харта4, или Дугласа
Фербенкса, создавших прекрасные фильмы в период наибольшего расцвета
примитивного вестерна. Впрочем, многие вестерны достаточно высокого уровня,
созданные в последнее время (я имею в виду, например, «Вдоль великого
водораздела», «Желтое небо» или «Полдень»), имеют весьма ограниченные аналогии
с историей. Эти произведения есть прежде всего плод фантазии. Однако было бы в
равной мере неверным игнорировать исторические предпосылки вестерна или
отрицать неограниченную свободу его сценариев. На материале сравнительно
близкой исторической эпохи Ж.-Л. Рьёпейру убедительно доказывает происхождение
эпической идеализации. Возможно все же, что в своем стремлении напомнить о том,
что обычно предается забвению или попросту сбрасывается со счетов,
исследователь придерживается в основном фильмов, иллюстрирующих его исходный
тезис, и невольно оставляет в тени другую сторону эстетической реальности. А
ведь она могла еще более убедительно подтвердить его правоту. Взаимоотношения
исторической реальности и вестерна имеют диалектический, а не прямой и
непосредственный характер. Том Микс — это антипод Авраама Линкольна, но он
по-своему продолжает его культ и чтит его память. В своих наиболее
романтических и наиболее наивных формах вестерн представляет собой полную
противоположность исторической реконструкции. Казалось бы, Хопалонг Кассиди отличается
от Тарзана лишь костюмом и окружением, в котором он совершает свои подвиги. Но
если, не поленившись, сравнить эти прелестные, хоть и неправдопобные, истории,
наложив их друг на друга, подобно тому как современные физиономисты совмещают
несколько негативов разных лиц, то можно увидеть, как сквозь наложение
проступает идеальный вестерн, построенный из постоянных элементов, общих для
той и другой истории, вестерн, состоящий из одних мифов, взятых в чистом
==235
виде. В качестве примера выделим один из них — миф Женщины.
В
первой трети вестерна «славный ковбой» встречает чистую девушку, благонравную и
сильную духом девственницу, в которую без ума влюбляется, причем нетрудно
догадаться, что любовь эта вполне взаимна, несмотря на большое целомудрие.
Перед влюбленными возникают почти непреодолимые преграды. Одним из наиболее
серьезных и чаще всего встречающихся препятствий оказываются родственники
любимой: например, брат — мрачный негодяй, от которого славный ковбой вынужден
избавить общество в рукопашной схватке. Героиня, подобная новоявленной Химене,
изо всех сил старается не поддаваться обаянию убийцы брата. Дабы искупить свою
вину в глазах прекрасной дамы и заслужить ее прощение, наш рыцарь должен пройти
сквозь фантастические испытания. В конце концов он спасает избранницу сердца от
смертельной опасности (смертельной для ее особы, ее добродетели, ее состояния
или для всех трех вместе). Теперь уже — тем более, что фильм идет к концу,—
было бы несправедливым со стороны красотки не отпустить претенденту всех грехов
и не даровать ему надежду на многочисленное потомство.
Эта
схема, на основе которой можно, разумеется, расшить тысячу разных вариантов
(например, заменив войну Севера и Юга угрозой нашествия индейцев или похитителей
скота), немного напоминает построение куртуазных романов тем преимущественным
значением, которое придается роли женщины, и тяжкими испытаниями, которые
должен преодолеть наилучший из героев, чтобы заслужить ее любовь.
Зачастую
история осложняется появлением парадоксального персонажа — девицы из салуна,
как правило, тоже влюбленной в славного ковбоя. Кабы не зоркий глаз сценарного
бога, одна женщина оказалась бы лишней. Но за несколько минут до конца фильма
великодушная проститутка спасает любимого от опасности, жертвуя жизнью и
безнадежной любовью ради счастья своего ковбоя. Тем самым она окончательно
искупает свои прегрешения в глазах зрителей.
Тут
есть над чем призадуматься. Обращает на себя внимание то, что разделение на
добрых и злых существует лишь для мужчин. Женщины, стоящие на любом
==236
уровне социальной лестницы, во всяком случае, достойны любви
или, по меньшей мере, уважения и жалости. Последняя из проституток искупает
свои грехи любовью и смертью, причем в «Дилижансе» (режиссер Д. Форд, 1939),
который известен своими аналогиями с «Пышкой» Мопассана, проститутка даже
избавлена от смерти. Правда, славный ковбой в той или иной мере грешен перед
законом, и, следовательно, между героем и героиней возможен самый что ни на
есть нравственный брак.
Таким
образом, в мире вестерна все женщины хорошие; плохи лишь мужчины. Плохи
настолько, что даже лучшие из них должны в какой-то мере искупить первородную
вину своего пола ценой нелегких испытаний. В земном раю Ева вводит Адама во
искушение. Под влиянием исторических обстоятельств англосаксонское пуританство
перевернуло библейскую ситуацию. Падение женщины всегда оказывается в его
интерпретации следствием похотливости мужчин.
Совершенно
очевидно, что такая гипотеза исходит из самих условий примитивной социологии
Дальнего Запада, где малочисленность женщин и опасности слишком суровой жизни
ставили зарождающееся общество перед необходимостью защищать своих самок и
коней. За кражу коня достаточно повесить на первом суку. Чтобы заставить
уважать женщин, нужно нечто большее, нежели страх потерять такой пустяк, как
жизнь,— нужна позитивная сила мифа. Миф, иллюстрируемый вестерном, посвящает и
утверждает женщину в сане весталки — хранительницы общественных добродетелей, крайне
нужных этому пока еще хаотическому миру. Она несет в себе не только залог
физического продолжения рода в будущем, но, утверждая семейный порядок, к
которому женщина тянется, как корень к земле, она является оплотом его
нравственных устоев.
Эти
мифы, наиболее важный пример которых мы здесь проанализировали (непосредственно
за ним следует миф Коня), вероятно, можно было бы свести к одному еще более
значительному началу. По существу, каждый из них уточняет посредством частной
драматургической схемы великое эпическое манихейство3, противопоставляющее силы
Зла рыцарям, защищающим правое дело. Все эти пейзажи бескрайних прерий,
==237
пустынь и скал, среди которых ютится шаткий деревянный
городок, подобный примитивной амебе цивилизации,— широко открыты для всех.
Населявший их индеец неспособен был установить прядок Человека. Он утвердил
здесь свое господство, лишь слившись воедино с языческой дикостью окружающего.
Наоборот,
белый христианин представляет собой истинного завоевателя, создающего Новый
Свет. Там, где ступил его конь, прорастает трава; он пришел, чтобы установить
свой нравственный и вместе с ним технический порядок, которые неразрывно между
собой связаны, причем первый гарантирует существование второго. Материальная
безопасность дилижансов, защита отрядов федеральных солдат, строительство
больших железнодорожных магистралей — все это, вероятно, менее существенно,
нежели утверждение правосудия и уважения к нему. Отношения между
нравственноетью и законом, превратившиеся для наших древних цивилизаций в некий
академический предмет, были каких-нибудь сто лет тому назад жизненно важной
проблемой для молодой Америки. Только сильные, суровые и мужественные люди
могли покорить эти девственные просторы. Но всякий знает, что близкое
знакомство со смертью не способствует страху перед чистилищем, сомнениям и
моральным рассуждениям. Полиция и судьи нужны только слабым. Именно сила
общества завоевателей составляла его слабость. Там, где индивидуальная
нравственность ненадежна, один закон способен утвердить порядок добра и
добропорядочность. Но закон тем более несправедлив, что он предендует на
укрепление общественной морали, не учитывающей индивидуальные качества тех, кто
составляет общество. Чтобы быть действенным, правосудие должно применяться
людьми, столь же сильными и отважными, как сами преступники. Но мы уже сказали,
что эти достоинства несовместимы с Добродетелью и шериф сам по себе не всегда
лучше тех, кого он велит вздернуть. Таким образом, зарождается и утверждается
необходимое и неизбежное противоречие. Нравственное различие между теми, кто
стоит вне закона, и теми, кто находится в его лоне, зачастую весьма невелико.
Однако звезда шерифа символизирует своего рода посвящение в служители
правосудия, не зависящее от достоинств се носителя.
==238
К этому первому противоречию присовокупляется противоречие
отправления правосудия, которое действенно, лишь будучи чрезвычайным и
безотлагательным,— не настолько, разумеется, как суд Линча,— и которое,
следовательно, вынуждено игнорировать смягчающие обстоятельства и даже алиби,
требующие слишком долгой проверки. Защищая общество, правосудие рискует
оказаться неблагодарным по отношению к самым порой неспокойным, но далеко не
самым бесполезным его сынам, а подчас и наименее заслуживающим наказания.
Никогда
еще необходимость закона не была более близка необходимости установления
нравственности, и никогда также их антагонизм не был более конкретным и
очевидным. Именно он составляет, в комическом ключе, существо «Пилигрима»
(1923) Чарли Чаплина, где мы видим в конце героя, направляющегося верхом на
лошади в сторону границы добра и зла, являющейся одновременно границей Мексики.
«Дилижанс»
Джона Форда, представляющий собой замечательную драматическую иллюстрацию
притчи о фарисее и меняле, доказывает, что проститутка может заслуживать
уважение гораздо большее, нежели ханжи, изгнавшие ее из города, и ничуть не
меньше, чем жена офицера; что распутный игрок способен умереть с достоинством
аристократа; что пьяница-врач готов выполнить свой врачебный долг с полной
самоотверженностью и знанием дела; что преступник, преследуемый за прошлые и,
вероятно, будущие проступки, проявляет честность, благородство, мужество и
деликатность, тогда как солидный и уважаемый банкир скрывается, унося с собой
ящик с деньгами.
Таким
образом, у источников вестерна мы обнаруживаем этику эпопеи и даже трагедии.
Обычно принято считать, что вестерн эпичен благодаря сверхчеловечности своих
героев и легендарному размаху их подвигов. «Кид» Билли6 столь же неуязвим, как
Ахилл, а его револьвер не знает промаха. Ковбой — тот же рыцарь. Характеру
героя соответствует стиль постановки, в которой воздействие эпоса выявляется
уже в композиции кадра, в его склонности к широким горизонтам, большим общим
планам, всегда напоминающим о столкновении человека с Природой. Вестерн
практически игнорирует крупный план, избегает
==239
американского плана, зато предпочитает съемку с движения и
панорамы, которые несут в себе отрицание рамок экрана и воспроизводят всю ширь
пространства.
Все это
так. Однако эпический стиль обретает смысл лишь тогда, когда исходит из морали,
лежащей в его основе и служащей ему оправданием. Это мораль мира, в котором
социальное добро и зло в чистом виде непременно существуют как простые и
основополагающие элементы. Поскольку добро в зачаточном состоянии порождает
закон со всей его примитивной суровостью, эпопея превращается в трагедию, как
только возникает первое противоречие между трансцендентным характером
общественного правосудия и индивидуализацией нравственной справедливости, между
категорическим императивом закона, обеспечивающим порядок будущего Града, и не
менее непримиримым императивом индивидуальной совести.
Вестерн
нередко высмеивали за корнелевскую простоту его сценария. Действительно,
нетрудно заметить аналогию между этими сценариями и, скажем, «Сидом» — тот же
конфликт между чувством долга и любовью, те же рыцарские испытания, лишь по
окончании которых сильная духом девственница сможет предать забвению
оскорбление, нанесенное ее семье. То же целомудрие чувств, исходящее из
концепции любви, подчиненной уважению к социальным и моральным законам. В этом
сравнении таится, однако, двойственность: надсмехаться над вестерном, ссылаясь
на Корнеля, значит признавать его величие, столь же близкое, быть может, к
наивности, как детство близко к поэзии.
Нет
сомнений, что именно это наивное величие признают в вестерне самые простые люди
всех широт — равно как дети,— независимо от языка, пейзажей, нравов и одежд.
Ибо эпические и трагические герои всеобщи. Война Севера и Юга принадлежит
истории XIX века; вестерн превратил ее в троянскую войну наиболее современной
эпопеи. Завоевание Дальнего Запада — это Одиссея нашего времени.
Таким
образом, историчность вестерна ничуть не противоречит явной склонности этого
жанра к чрезвычайным ситуациям, к преувеличению фактов, к божественному
вмешательству — словом, ко всему, что делает его синонимом наивного
неправдоподобия;
К оглавлению
==240
наоборот, историчность вестерна служит основой его эстетики
и психологии. История кино знает лишь еще один пример эпического кино, которое
тоже было историческим...
ЭВОЛЮЦИЯ ВЕСТЕРНА
Накануне
войны вестерн достиг высокой степени совершенства. Год 1940-й был порогом, за
которым неизбежно должна была начаться новая эволюция; ч&тыре года войны
просто задержали ее, затем несколько изменили ее направление, не оказав,
однако, определяющего воздействия.
«Дилижанс»
(1939) представляется идеальным примером зрелости стиля, ставшего классическим.
Джон Форд добился безупречного равновесия между социальными мифами,
историческими реминисценциями, психологической правдой и традиционной тематикой
вестерна. Ни один из этих основных элементов не имег ет в фильме ни малейшего
перевеса. «Дилижанс» напоминает колесо столь совершенное, что оно в любом
положении сохраняет равновесие на своей оси.
Перечислим
несколько имен режиссеров и назвав ний фильмов 1939—1940 годов: Кинг
Видор—«Севе-ро-западный переход» (1940); Майкл Кёртиц— «Тропа Санта-Фе» (1940)
и «Вирджиния-Сити» (1940); Фриц Ланг — «Возвращение Фрэнка Джеймса» (1940) и
«Вестерн-Юнион» (1940); Джон Форд—«Барабаны вдоль. Могаука» (1939); Уильям
Уайлер—«Человек с Запада» (1940); Джордж Маршалл—«Дестри снова в сед-ле» (с
Марлен Дитрих, 1939).
Список
этот весьма показателен. Прежде всего он свидетельствует о том, что заслуженные
режиссеры, которые дебютировали лет двадцать тому назад, мо-жет быть, даже
постановкой серийных и, естественно; анонимных вестернов, достигнув вершины
своей карьеры, приходят или возвращаются именно к вестерну. Этоотносится даже к
Уильяму Уайлеру, чей талант, казалось бы, чужд данному жанру. Подобное явление
объясняется расцветом вестерна в период 1937—1940 годов, чему, возможно,
способствовало предшествовавшее
==241
войне утверждение национального самосознания в эпоху
Рузвельта. Мы склонны так думать постольку, поскольку вестерн вырос на
материале истории американского народа, которую он прославляет в прямой или
косвенной форме.
Во
всяком случае этот период полностью подтверждает тезис Ж.-Л. Рьёпейру
относительно исторического реализма вестерна.
В
результате парадоксального стечения обстоятельств, скорее кажущихся, нежели реальных,
вестерн почти исчез из голливудского репертуара в годы войны. Впрочем, если
внимательно поразмыслить, тут нечему удивляться. По той же причине, по которой
вестерн получил широкое распространение и облагородился за счет других
приключенческих фильмов, военные киноленты должны были хоть на время вытеснить
его из кинорынка.
Как
только наметился возможный победоносный исход войны, даже еще до окончательного
установления мира, вестерн вновь появился и стал бурно размножаться. Эта новая
фаза его истории заслуживает более пристального рассмотрения.
Совершенство
или, если угодно, классический характер, достигнутый жанром, естественно,
требовал введения каких-то новшеств, которые оправдали бы его долговечность. Не
претендуя на то, чтобы все объяснять на основании пресловутого закона
эстетических возрастов, можно все же в данном случае позволить себе обратиться
к нему.
Новые
фильмы Джона Форда, например «Моя дорогая Клементина» (1946) и «Форт Апаче»
(1948), служат достаточно хорошим примером барочного украшательства,
привнесенного в классический стиль «Дилижанса». Однако если понятие барокко
позволяет объяснить известный технический формализм или относительную
манерность тех или иных сценариев, оно, по-моему, не может обусловить более
сложную эволюцию, истолкование которой несомненно следует искать в связи с
совершенством вестерна, достигнутым к 1940 году, а также в зависимости от
событий 1941—1945 годов.
Обозначим
условно термином «сверхвестерн» комплекс форм, принятых рассматриваемым жанром
после войны. Не скрою, что для удобства изложения он будет охватывать явления,
не всегда сопоставимые.
==242
Однако его правомерность может быть основана в соответствии
с принципом доказательства от противного на противопоставлении классицизму 40-х
годов, а главное, на противопоставлении той традиции, завершением которой и
стал этот классицизм.
Скажем,
что «сверхвестерн» — это вестерн, который стыдится быть только самим собой и
пытается оправдать свое существование каким-нибудь дополнительным фактором —
эстетического, социологического, морального, психологического, политического
или эротического порядка... Словом, каким-то достоинством, чуждым жанру и
долженствующим обогатить его. Мы еще вернемся к этим эпитетам, чтобы пояснить
их на примере некоторых фильмов. Однако предварительно следует подчеркнуть
влияние, оказанное войной на развитие вестерна после 1944 года. Вполне
вероятно, что феномен «сверхвестерна» возник бы при любых обстоятельствах, но
содержание его было бы иным. Фактическое влияние войны сказалось в основном
позднее. Значительные фильмы, навеянные ею, естественно, появились после 1945
года. Всемирный конфликт не только обеспечил Голливуд эффектными темами, он
прежде всего дал ему пищу для размышлений на несколько лет вперед. Прежде
история служила лишь материалом для вестерна, отныне она нередко будет его
предметом; таков, в частности, фильм «Форт Апаче», где возникает тема
политической реабилитации индейцев. Эта тема получила развитие во многих
последующих вестернах вплоть до «Бронко-Апаче» Роберта Олдрича (1954) и
прославила «Сломанную стрелу» Делмера Дэйвса (1950). Но все же глубокое влияние
войны сказалось, по-видимому, более косвенным образом, и его следует различать
всякий раз, когда традиционные темы подменяются или подчиняются социальным или
нравственным тезисам. Истоки этого явления восходят к 1943 году, когда был
создан «Случай в Оксбоу» Уильяма Уэллмена, далеким потомком которого стал
впоследствии «Полдень» (отметим, однако, что на фильме Циннемана сказалось
главным образом влияние расцвета маккартизма). Что касается эротики, то ее тоже
можно считать косвенным следствием мирового конфликта, поскольку она связана с
торжеством pin-up girl—«девицы с журнальной обложки». Таков, например, фильм
«Вне закона»
==243
Говарда Хьюза (1943). Любовь сама по себе почти чужда
вестерну («Шейн» построен именно на использовании этого противоречия); тем
более ему чужда эротика, утверждение которой в качестве основной драматической
движущей силы наводит на мысль, что жанр нужен отныне лишь как фон, позволяющий
выгоднее представить сексуальные прелести героини. Подобное намерение
совершенно очевидно в фильме «Дуэль на солнце» (режиссер Кинг Видор, 1946),
зрелищное великолепие которого служит лишь второстепенным, чисто формальным
основанием причислить его к «сверхвестернам».
Описываемая
мутация, обусловленная тем, что жанр полностью осознал и самого себя и пределы
своих возможностей, лучше всего иллюстрируется, конечно, двумя картинами —
«Полдень» и «Шейн».
В
первой из них Циннеман сочетает эффектную моральную драму с эстетизмом
построения кадров.
Я не
принадлежу к тем, кто критически настроен по отношению к «Полдню». На мой
взгляд, это прекрасный фильм, который я, во всяком случае, предпочитаю картине Стивенса.
Необычайная ловкость экранизации Формана состоит несомненно в том, что он
объединил сюжет, который вполне мог бы быть использован в другом жанре с темой,
традиционной для вестерна; иными словами, он подошел к вестерну, как форме,
нуждающейся в содержании. Что касается «Шейна», то он представляет собой
предельное выражение «сверхвестерна». Действительно, Стивене ставит здесь перед
собой задачу оправдать вестерн... вестерном. Другие режиссеры изощрялись,
стараясь выявить сокровенные мифы или откровенные тезисы, а тезисом «Шейна»...
стал миф сам по себе. В своем фильме Стивене объединяет две или три
основополагающих темы жанра, из которых главной оказывается тема рыцаря,
странствующего в поисках Грааля. Дабы никто не ошибся, режиссер одевает героя в
белые одежды.
Прежде,
в манихейском мире вестерна, белизна одежды и коня была чем-то само собой
разумеющимся; теперь же совершенно ясно, что белый костюм Алана Лэдда наделен
тяжеловесным символическим значением, тогда как у Тома Микса белая одежда была
лишь формой добродетели и отваги. Итак, круг замкнулся. Земля — кругла, и
«сверхвестерн» настолько удалился
==244
от собственных пределов, что вновь оказался среди Скалистых
гор.
Если бы
жанру вестерна грозило исчезновение, то «сверхвестерн» действительно выражал бы
его упадок и распад. Однако вестерн и впрямь сделан из иной материи, чем
американская комедия или полицейский фильм. Его превращения не оказывают
глубокого воздействия на само существование жанра. Его корни глубоко ушли в
голливудскую почву, и мы с удивлением видим, как среди соблазнительных, но
бесплодных гибридов, которыми его хотели подменить, пробиваются на поверхность
зеленые, крепкие побеги.
Прежде
всего появление «сверхвестернов» отразилось фактически лишь на самом внешнем
слое кинопродукции — на фильмах класса «А» и суперпостановках. Разумеется, эти
поверхностные потрясения не затронули экономического ядра, центрального массива
ультракоммерческих, музыкальных или скачущих вестернов, популярность которых обрела
благодаря телевидению вторую молодость. Тому свидетельством успех Хопалонга
Кассиди, доказывающий одновременно жизненность мифа в его наиболее примитивных
формах. Признание, завоеванное у нового поколения, гарантирует жанру еще
несколько десятков лет жизни. Однако вестерны «серии» не доходят до Франции, и
об их существовании мы узнаем лишь из специализированной американской прессы.
Если эти фильмы и представляют лишь индивидуально-ограниченный эстетический
интерес, то сам факт их существования имеет решающее значение для общего
процветания жанра. Именно в эти «низшие» слои, чье экономическое плодородие
по-прежнему неиссякаемо, продолжают уходить корнями вестерны традиционного
типа. Действительно, среди всех «сверхвестернов» мы постоянно встречаем фильмы
«серии В», которые даже не пытаются найти для себя какие-либо интеллектуальные
или эстетические алиби. Впрочем, само понятие фильма «серии В» представляется
подчас спорным; ведь все зависит от уровня начала отсчета «серии А». Скажем
попросту, что я имею в виду откровенно коммерческие, несомненно более или менее
дорогостоящие постановки, которые не ищут себе иного оправдания, кроме
известности исполнителя главной роли и крепкого сюжета, не обремененного
интеллектуальными претензиями.
==245
Замечательным примером такого рода симпатичных постановок
является «Наемный стрелок» Генри Кинга (1950) с участием Грегори Пека, фильм,
где классическая тема убийцы, которому опостылело скрываться и который вынужден
продолжать убивать, разрабатывается на прекрасном по своей строгости
драматическом фоне. Упомянем еще «По ту сторону Миссури» Уильяма Уэллмена
(1951) с участием Кларка Гейбла и особенно фильм того же режиссера «Транспорт
женщин» (1951).
С
созданием «Рио Гранде» (1950) даже сам Джон Форд открыто вернулся к
производству полусерийных кинолент и, во всяком случае, к традициям
коммерческого кино (не исключающего романтики). Не удивительно, наконец, что в
этом списке мы находим оставшегося в живых современника героической эпохи —
Аллана Дуэна', который никогда не отступал от стиля «Трайэнгл» 2, даже в
период, когда ликвидация маккартизма, казалось бы, дала ему в руки несколько
современных способов раскрытия давних тем («Груз серебра», 1954).
Остается
отметить несколько важных названий. Однако классификация, которой я
придерживался до сих пор, становится явно недостаточной, и мне придется впредь
отказаться от попыток объяснять эволюцию жанра самим жанром и уделить большее
внимание авторам фильмов, как наиболее решающему фактору.
Читатель,
вероятно, заметил, что в приведенном списке сравнительно традиционных фильмов,
почти не испытавших на себе влияние «сверквестерна», включены имена лишь тех
режиссеров, которые еще до войны прославились, а порой даже специализировались
на создании приключенческих лент, полных бурного движения. Не удивительно, что
именно благодаря им утверждается постоянство жанра и его законов. Говарду
Хоуксу несомненно удалось доказать со всей убедительностью, что в период
наивысшего расцвета «сверхвестерна» можно по-прежнему делать вестерны
настоящие, основанные на старых драматических эффектных темах, без каких-либо
попыток отвлечь внимание зрителя социальным тезисом или равнозначным
пластическим элементом постановки. «Красная река» (1948) и «Большое небо» (1952)
— шедевры вестерна без малейших следов барочности или декадентства. Разум'
==246
ное и сознательное использование кинематографических средств
идеально согласуется здесь с искренностью повествования.
При
прочих равных условиях то же можно сказать и о Рауле Уолш3, чей недавний фильм
«Саскачеван» (1954) основан на совершенно классических заимствованиях из
американской истории. Однако другие работы того же режиссера послужат мне —
пусть даже несколько искусственно — искомой переходной ступенью. В этом смысле
«Преследуемый» (1947), «Территория Колорадо» (1949) и «Вдоль великого
водораздела» (1951) представляют собой идеальные образцы вестернов, стоящих
несколько выше «серии В» и отличающихся симпатично-традиционным драматическим
строем. Во всяком случае, в них нет и следа каких-либо тезисов. Действующие
лица интересны тем, что с ними происходит, но ничего из происходящего с ними не
выходит за рамки тематики вестерна. И все же в них есть «нечто» такое, что даже
при отсутствии малейших указаний о времени производства позволило бы без
сомнения отнести эти ленты к продукции последних лет; именно это «нечто» мне и
хочется попытаться определить.
Я долго
колебался в отношении выбора наиболее подходящего эпитета для этих вестернов образца
«1950». Сначала мне казалось, что следует искать чтолибо близкое к понятиям
«чувство», «чуткость», «лиризм». Во всяком случае, эти слова, пожалуй, не
следует отбрасывать, ибо они достаточно верно характеризуют современный вестерн
по сравнению со «сверхвестерном», которому почти всегда свойственна
интеллектуальность, хотя бы в той мере, в какой он требует от зрителя
размышления, предваряющего восхищение. Почти все названия, приводимые ниже,
будут относиться к фильмам, не скажу менее умным, чем «Полдень», но, во всяком
случае, сделанным без задней мысли, к фильмам, в которых талант всегда служит
самому сюжету, а не его значению. Более подходящим или хотя бы выгодно
дополняющим предложенные выше определения было бы еще слово «искренность». Я
хочу этим сказать, что режиссеры ведут с жанром честную игру даже тогда, когда
сознательно «делают вестерн». Действительно, на нынешнем уровне истории кино
наивность уже немыслима, но там, где «
==247
сверхвестерн» подменял наивность манерностью или цинизмом,
мы теперь видим подтверждение того, что искренность еще может существовать.
Николае Рей, снимая во славу Джоан Кроуфорд фильм «Джонни-Гитара» (1954),
несомненно ведает, что творит. Он, разумеется, сознает риторику жанра не менее
отчетливо, чем Джордж Стивене в «Шейне»; впрочем, его сценарий и постановка
вовсе не чужды юмора. Но режиссер никогда не становится в отстраненную или
отечески покровительственную позу по отношению к своему фильму. Забавляясь, он
далек от насмешки. Априорные рамки вестерна не мешают ему высказывать то, что
он хочет, даже если смысл, вкладываемый режиссером, оказывается в конечном
счете более индивидуальным и тонким, нежели застывшая в своей неизменности
мифология.
В
конечном счете я поставлю выбор своего эпитета в зависимость от стиля
повествования, а не от субъективного отношения режиссера к жанру. О вестернах,
которые мне осталось упомянуть,— на мой взгляд, наилучших — я охотно скажу, что
в них есть нечто «романическое». Я имею в виду, что, не уклоняясь от традиции,
эти фильмы обогащают свою тематику изнутри за счет оригинальности персонажей,
их психологической сочности, некоего увлекательного своеобразия, то есть именно
за счет того, что мы ждем от героя романа. В «Дилижансе», например, ясно видно,
что психологическое обогащение идет от амплуа, а не от самого персонажа; здесь
все остается в рамках априорных категорий ролей, свойственных вестерну,—
банкир, святоша, великодушная проститутка, франт-игрок и т. д. Совершенно иначе
обстоит дело в фильме «Ищи укрытия» (1955). Разумеется, ситуация и персонажи
по-прежнему представляют собой лишь варианты установившейся традиции, но
вызываемый ими интерес гораздо больше зависит от их своеобразия, нежели от их
благородства. Как нам известно, Николае Рей всегда разрабатывает одну и ту же
«свою» тему жестокости и таинственности, свойственных юности.
Лучшим
примером этой «романизации» вестерна изнутри служит фильм Эдварда Дмитрык
«Сломанное копье» (1954), который представляет собой лишь ло'втор в стиле
вестерн картины «Дом чужестранцев». Отметим, однако, что «Сломанное копье» —
вестерн
==248
более тонкий, с несколько более своеобразными персонажами и
более сложными взаимоотношениями, чем обычно, который тем не менее строго
придерживается рамок двух или трех классических тем. Элия Казан разработал с
большой простотой довольно похожий в психологическом отношении сюжет в фильме
«Море травы» (1947) с участием того же Спенсера Трэйси. Естественно, можно себе
представить все промежуточные оттенки, от строго выдержанного вестерна «класса
В» до вестерна романического; и в моей классификации неизбежны несколько
произвольные элементы.
Позволю
себе все же выдвинуть следующую идею. Можно считать Уолша наиболее выдающимся
из ветеранов-традиционалистов, равно как Энтони Манна следовало бы
рассматривать как самого классического из молодых кинематографистов
романического склада. Именно ему мы обязаны лучшими подлинными вестернами
последних лет. Действительно, автор «Обнаженной шпоры» — пожалуй, единственный
из послевоенных американских режиссеров, специализировавшийся в жанре, к
которому другие обращались лишь более или менее эпизодически. Во всяком случае,
каждый его фильм свидетельствует о трогательном чистосердечии по отношению к
жанру, об искренности, позволяющей с легкостью проникать внутрь темы, населять
ее увлекательными персонажами и придумывать захватывающие ситуации. Тот, кто
хочет знать, каков настоящий вестерн, какие свойства мизансцены ему присущи,
должен посмотреть «Врата дьявола» (1950) с участием Роберта Тейлора, «Излучину
реки» (1952) и «Дикую страну» (1955) с Джеймсом Стюартом. За неимением этих
трех лент нельзя по крайней мере не знать лучшей из всех работ Манна — фильма
«Обнаженная шпора» (1953).
В
приведенных мною примерах уже отчетливо выявилось совпадение нового стиля с
новым поколением. Было бы, разумеется, наивным и ошибочным утверждать, будто
«романический» вестерн — дело рук молодых, пришедших к режиссуре после войны.
Мне могли бы с полным основанием возразить, что романическое начало есть,
например, и в «Человеке с Запада», и в «Красной реке», и в «Большом небе». Меня
уверяли даже, будто его немало и в «Ранчо дурной славы» (1952) Фрица Ланга,
хотя я лично этого не почувствовал.
==249
Совершенно очевидно, что превосходный фильм Кинга Видора
«Человек без звезды» (1955) следует в этой перспективе поместить где-то между
Николасом Реем и Энтони Манном. И хотя без сомнения нетрудно подобрать
три-четыре названия фильмов, созданных ветеранами, которые можно было бы
поставить в один ряд с фильмами молодых, мне представляется все же вполне
правомерным утверждение, что именно вновь пришедшие в кино режиссеры главным
образом (если не исключение) увлекаются классическим и одновременно
романическим вестерном. Самой недавней и блестящей иллюстрацией тому был Роберт
Олдрич4 с его фильмами «Бронко-Апаче» и особенно «Вера-Крус».
Остается-
коснуться проблемы «широкого экрана» (синемаскоп); этот формат был использован
в фильмах «Сломанное копье» (режиссер Э. Дмитрык) и «Сад зла» (режиссер Генри
Хэтауэй5 1954), где хороший классический и в то же время романический сценарий
был разработан без особой фантазии, и, наконец, в картине «Парень из Кентукки»
(1955) Берта Ланкастера, чуть не уморившей со скуки Венецианский фестиваль.
Собственно говоря, я знаю лишь один широкоэкранный фильм, в котором формат
добавил нечто существенное к возможностям мизансцены,— я имею в виду «Реку без
возврата» (1954) Отто Преминджера, снятую оператором Джозефом Лашелл. А ведь
сколько раз мы читали (или даже сами писали), будто расширение экрана,
необязательное в других жанрах, сулило по меньшей мере вторую молодость
вестерну, чьи обширные просторы и бесконечные скачки настоятельно требовали
увеличения кадра по горизонтали. Такой вывод слишком правдоподобен, чтобы быть
верным. Наиболее убедительное использование широкого экрана мы видели пока что
лишь в психологических фильмах (например, в картине «К востоку от рая», 1955).
Я не собираюсь настаивать на парадоксальном утверждении, будто широкий экран не
подходит для вестерна и ничего ему не дает, но мне кажется уже очевидным, что
широкий экран не принесет в этой области ничего нового. Будь то в стандартном
формате, на широком или на самом большом экране, вестерн останется вестерном,
таким, каким хотелось бы, чтобы его узнали еще наши внуки.
«Cahiers
du Cinema», 1955
^^^
К оглавлению
==250
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ИТАЛЬЯНСКАЯ ШКОЛА ЭПОХИ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
Историческое
значение фильма Росселлини' «Лайза» (1944—1946) справедливо сравнивали со
значением многих классических шедевров кино. Жорж Садуль, не колеблясь,
упоминал в этой связи «Носферату», «Нибелунгов» или «Алчность». Я лично
полностью разделяю эти похвалы, хотя ссылка на немецкий экспрессионизм,
естественно, соответствует лишь масштабу явления, а не глубокой сущности
рассматриваемых эстетических направлений. Правильнее было бы вспомнить о
появлении в 1925 году «Броненосца «Потемкин». Реализм современных итальянских
фильмов нередко противопоставляли эстетизму американских и отчасти французских
кинолент. Но разве революционность русских фильмов Эйзенштейна, Пудовкина или
Довженко как в искусстве, так и в политике не определялась прежде всего их
стремлением к реализму, что противопоставляло их одновременно и эстетизму
немецкого экспрессионизма и слащавому идолопоклонству голливудским кинозвездам?
Подобно «Потемкину», такие фильмы, как«Пайза», «Шуша» (1946), «Рим—открытый
город» (1944—1946), воплощают новую фазу традиционного противопоставления
реализма и эстетизма на экране. Однако история не повторяется; нам важно сейчас
выявить своеобразие формы, которую принимает в наши дни этот эстетический
конфликт, и новые пути его разрешения, которым итальянский реализм обязан своей
победой в 1947 году.
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Восхищение
оригинальностью итальянской кинопродукции и внезапностью ее появления привело к
пренебрежению необходимостью углубленного изучения причин этого ренессанса, в
котором предпочитали усматривать некое спонтанное самозарождение, подобное рою
пчел, вырвавшемуся из прогнивших трупов фашизма и войны. Освобождение и те
социальные, нравственные и экономические формы, в которые оно вылилось в
Италии, несомненно сыграли решающую
==252
роль в определении характера кинематографической продукции.
Нам еще представится случай вернуться к этому. Лишь наше полное невежество в
отношении итальянского кинематографа могло породить соблазнительную иллюзию
ничем не подготовленного чуда.
Возможно,
в наши дни Италия — страна наиболее развитого кинематографического мышления,
если судить по значительности и качеству итальянских изданий по кино.
Экспериментальный Киноцентр в Риме был создан за несколько лет до нашего
Киноинститута; но главное состоит в том, что интеллектуальные рассуждения о
кинематографе не остаются там без воздействия на практику создания фильмов, как
это имеет место у нас. В итальянском кино не существует коренного разрыва между
критикой и режиссурой, так же как во французской литературе нет разрыва между
теорией и практикой.
Следует
еще отметить, что в отличие от нацизма итальянский фашизм допускал существование
известного художественного плюрализма и проявлял особенное внимание к
кинематографу. Можно делать любые оговорки по поводу связи между Венецианским
фестивалем и политическими интересами дуче, но нельзя оспаривать тот факт, что
сама идея международного фестиваля получила значительное развитие с момента
сво; его возникновения; об ее авторитете можно судить в наши дни хотя бы по
тому, как четыре или пять европейских держав пытаются присвоить себе ее
остатки. Капитализм и фашистское стремление к централизованному руководству
экономикой обеспечили Италию современными киностудиями. Если они и породили
производство нелепых, мелодраматических и пышных фильмов, они тем не менее не
смогли помешать нескольким талантливым людям (оказавшимся достаточно ловкими,
чтобы снимать актуальные сценарии, не заигрывая с существовавшим режимом) в
создании вполне достойных произведений, предварявших их современное творчество.
Если бы в годы войны мы не придерживались с полным на то основанием предвзятого
отношения, мы обратили бы большое внимание на такие фильмы, как «Люди на дне»
или «Белый корабль» (1941) Росселлини. Следует также сказать, что в эпоху,
когда глупость капиталистов или политиканов всемерно поощряла коммерческое
кинопроизводство, все
==253
интеллектуальные, культурные, склонные к экспериментальному
поиску люди находили убежище в специализированных издательствах по искусству,
на конгрессах Синематеки и в постановке короткометражных фильмов. Латтуада2,
режиссер фильма «Бандит», который был в то время директором Миланской
синематеки, чуть не угодил в тюрьму за то, что осмелился показать в 1941 году
полный вариант «Великой иллюзии».
В
целом, история итальянского кино еще мало известна. Наши познания
ограничиваются такими картинами, как «Кабирия» и «Quo vadis?», а в
достопамятной «Железной короне» (режиссер Блазетти, 1941), созданной в
последние годы, мы находим достаточное подтверждение живучести мнимых
национальных особенностей итальянского кино: склонности к декорациям дурного
вкуса, поклонения «звездам», наивной напыщенности игры, гипертрофии режиссуры,
засилия традиционных приемов бельканто и оперы, избито-условных сценариев,
созданных под сильным влиянием драмы, романтической мелодрамы, а также
рыцарских баллад в стиле бульварных романов. Действительно, слишком много
итальянских постановок усердна старалось упрочить такое карикатурное
представление, слишком многие режиссеры, даже из числа наилучших, делали
уступки коммерческим требованиям (правда, не без иронии по отношению к самим себе).
Но ведь именно колоссам типа «Сципиона Африканского» (режиссер К. Галоне,
1937), стоимостью в сотни миллионов лир, был в первую очередь обеспечен
экспорт. Существовало, однако, и другое художественное направление, которое
практически предназначалось лишь для внутреннего национального рынка. В наши
дни, когда от грохота атак Сципионовых слонов остались лишь затихающие вдали
раскаты, мы можем лучше вслушаться в приглушенный, но очаровательный шорох
«Четырех шагов в облаках» (режиссер А. Блазетти, 1942).
Читатель,
во всяком случае, тот, кто видел этот фильм, удивится, наверно, не меньше нас,
узнав, что эта комедия, отличающаяся поэтичностью и тонкостью чувства,
насыщенная социальным реализмом, который явно сродни современному итальянскому
кинематографу, была поставлена в 1942 году, всего лишь через два
==254
года после пресловутой «Железной короны» тем же самым
режиссером Блазетти3, который примерно в то же время снял «Приключение
Сальватора Роза» (1940), а совсем недавно создал «Один день жизни» (1946).
Такие режиссеры, как Витторио Де Сика, автор замечательной картины «Шуша»,
всегда охотно делали очень человечные, исполненные душевной чуткостью и
реализмом комедии, к которым следует отнести картину «Дети смотрят на нас»
(1943). Камерини4 создал уже в 1932 году киноленту «Что за подлецы, мужчины!»,
действие которой происходит на улицах столицы, как и в фильме «Рим—открытый
город»; не менее типично итальянской была картина «Старинный мирок» (режиссер
М. Солдати,1940).
Впрочем,
среди современной итальянской режиссуры не так уж много новых имен. Самые
молодые, как, например, Росселлини, начали снимать в первые годы войны. Старики
вроде Блазетти или Марио Солдати5 были известны уже в первые годы звукового
кино.
Не
следует, однако, впадать в другую крайность и делать вывод, будто «новой»
итальянской школы вовсе не существует. Реалистическая тенденция, сатирическая и
социальная непосредственность, тонкий и поэтический веризм были вплоть до самой
войны лишь второстепенными качествами, этакими скромными фиалками у подножия
гигантских секвой режиссуры. Но после начала войны в этих зарослях из
папье-маше стали исподволь появляться просветы. Даже в «Железной короне» жанр
словно пародирует сам себя. Росселлини, Латтуада, Блазетти начинают создавать
реалистические фильмы международного класса. Но лишь Освобождению суждено было
со всей полнотой выявить эти эстетические устремления и дать им возможность
расцвести в новых условиях, которые все же основательно изменили их смысл и
значение.
ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ, РАЗРЫВ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
Итак,
целый ряд элементов молодой итальянской школы существовал еще до Освобождения —
люди, технические возможности и эстетические тенденции. Однако историческая,
социальная и экономическая обстановка резко ускорила процесс синтеза, в который
были вовлечены и новые своеобразные факторы.
==255
На протяжении последних двух лет источником основных тем для
кино служили движение Сопротивления и Освобождение. Но в отличие от французских,
если уж не говорить об европейских фильмах вообще, итальянские кинокартины не
ограничиваются изображением боевых операций Сопротивления как таковых. У нас
Сопротивление сразу стало легендой; даже будучи еще очень близким нам по
времени, движение Сопротивления стало достоянием истории на следующий же день
после Освобождения. Во Франции с уходом немцев жизнь попросту возобновилась.
Наоборот, в Италии Освобождение означало не возврат к совсем еще недавней
свободе, а политическую революцию, союзническую оккупацию, экономический и
социальный переворот. К тому же Освобождение осуществлялось там медленно, на
протяжении бесконечных месяцев. Оно очень глубоко отразилось на экономической,
социальной и нравственной жизни страны. Таким образом, в Италии Сопротивление и
Освобождение не превратились. подобно Парижскому восстанию, в некие
исторические понятия. Росселлини снимал фильм «Пайза» в эпоху, когда его
сценарий был еще совершенно актуальным. «Бандит» показывает, как расцветали в
арьергардах армии проституция и черный рынок, как разочарование и безработица
привели к гангстеризму освобожденного военнопленного. За исключением нескольких
произведений, являющихся непосредственно фильмами «Сопротивления», как,
например, «Жить в мире» (режиссер Л. Дзампа, 1946) или «Солнце еще восходит»
(режиссер А. Вергано, 1946), итальянский кинематограф характеризуется главным
образом своей приверженностью к событиям текущего момента.
Французская
кинокритика никогда не упускала случая подчеркнуть — будь-то с упреком или
похвалой, но всегда с торжественным удивлением — те немногие точные намеки на
послевоенную обстановку, которыми счел нужным наделить свой последний фильм
Карне б. (Режиссер и сценарист потратили немало усилий, чтобы дать нам это
понять; ведь из двадцати французских фильмов по меньшей мере девятнадцать
нельзя приурочить к определенному периоду с точностью до десяти лет.) Наоборот,
итальянские киноленты представляют собой в первую очередь репортажное
воспроизведение действительности даже тогда, когда сущность
==256
сценария, казалось бы, с ней не связана. Действие
итальянских фильмов не могло бы развиваться в исторически нейтральном
социальном контексте, столь же абстрактном, как трагедийные декорации, что
нередко случается в той или иной мере в американских, французских или
английских лентах.
Из
этого следует, что итальянские фильмы обладают исключительной документальной
ценностью; из них невозможно вырвать сценарий, не удалив вместе с ним ту
социальную почву, в которую он уходит корнями.
Такая
совершенная и естественная связь с современностью объясняется и внутренне
оправдывается духовным родством с эпохой. Разумеется, итальянская история
последних лет необратима. Война воспринимается в ней не как отступление, а как
вывод, как завершение эпохи. В известном смысле Италии всего лишь три года от
роду. Но та же причина могла ведь породить и другие результаты. Смысл, который
приобретает в итальянском кинематографе изображение действительности, неизменно
восхищает и обеспечивает итальянскому кино широчайший нравственный отклик в
странах Запада. В мире, который все еще (и сызнова) одержим страхом и
ненавистью, в мире, где действительность почти никто уже не любит ради нее
самой, где ее отвергают или защищают лишь как политический символ,— в этом мире
итальянский кинематограф, безусловно, оказывается единственным, кто стремится
спасти революционный гуманизм в недрах изображаемой эпохи.
ЛЮБОВЬ
К РЕАЛЬНОМУ И ОТКАЗ ОТ НЕГО
Новейшие
итальянские фильмы по духу своему предреволюционны; все они явно или подспудно
отвергают при помощи юмора, сатиры или поэзии ту социальную действительность,
которая служит им материалом. Но, даже занимая самую отчетливую позицию, они
никогда не рассматривают эту действительность как средство. Осуждение ее вовсе
не подразумевает обязательно недобросовестного к ней отношения. Итальянские
фильмы не забывают, что, прежде чем стать достойным осуждения, мир просто
существует. Быть может, это звучит глупо и столь же наивно, как похвала,
высказанная Бомарше по поводу слез, проливаемых над
==257
мелодрамой; но, признайтесь, разве, уходя после просмотра
итальянского фильма, вы не чувствуете, что стали лучше, разве у вас не
появляется желание изменить порядок вещей, причем изменить его предпочтительно
путем убеждения людей, во всяком случае, тех, кого еще можно убедить и кто
причиняет зло себе подобным лишь под влиянием ослепления, предрассудка или
жизненных неудач. Именно поэтому в кратком изложении сценарии многих
итальянских фильмов кажутся смешными. Будучи сведенными к одной лишь фабуле,
они зачастую оказываются нравоучительными мелодрамами. А на экране все
персонажи наделены потрясающей жизненной правдой. Ни один из них не превращен в
символ или вещь, что позволяло бы преспокойно их ненавидеть без необходимости
предварительно преодолеть двойственность их человеческой сути.
По
существу, я готов усматривать в гуманизме современных итальянских фильмов их
основное положительное качество. Они позволяют нам вкусить, пусть даже с
запозданием, радость революционного настроя, в котором, кажется, нет еще
примеси страха.
СПЛАВ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Естественно,
публику прежде всего поразил превосходный исполнительский состав. «Рим —
открытый город» обогатил мировой кинематограф актрисой высшего класса. Анна
Маньяни — незабываемая молодая беременная женщина; Фабрици — священник; Пальеро
— участник движения Сопротивления — и другие естественно стали в нашей памяти в
один ряд с наиболее волнующими образами, созданными в кино ранее. Репортажи и
сообщения, появившиеся в прессе, конечно, постарались поведать, что «Шуша» была
сделана с участием настоящих уличных мальчишек, что Росселлини снимал
статистов, случайно найденных на месте действия, что героиней первой новеллы в
фильме «Пайза» была безграмотная девушка, встреченная на пристани. Что касается
Анны Маньяни, то это, разумеется, была профессионалка, но пришла она в кино из
кафешантана; Мария Миччи и вовсе была прежде скромной билетершей кинотеатра.
Если
такого рода подбор исполнителей и противоречит обычаям кинематографа, он все же
не
==258
представляет собой совершенно нового метода. Наоборот, его
постоянство на протяжении всего существования «реалистических» форм кино, еще
со времен Луи Люмьера, позволяет усмотреть в нем чисто кинематографическую
закономерность, которую итальянская школа лишь подтверждает и позволяет
сформулировать со всей определенностью. В свое время русский кинематограф
вызывал восхищение своим пристрастием к использованию актеров-непрофессионалов,
которым поручали на экране роли из их повседневной жизни. Вокруг русского
фильма сложилась даже своего рода легенда. На самом деле влияние театра весьма
сильно сказывалось на некоторых важных направлениях советской школы. И если в
первых фильмах Эйзенштейна актеров не было, то в произведении столь
реалистическом, как «Путевка в жизнь», играли уже театральные профессионалы. С
тех пор исполнителями советских фильмов вновь стали, как и повсюду,
профессионалы.
Ни одна
значительная кинематографическая школа с 1925 года — вплоть до современного
итальянского кино — не могла похвастаться отказом от использования актеров,
хотя время от времени какая-нибудь необычная лента напоминала о значительном
интересе такого принципа подбора исполнителей. Подобным фильмом всегда оказывалось
произведение, близкое по характеру именно к социальному репортажу. Упомянем два
из них — «Сьерра де Теруэль» («Надежда») и «Последний шанс» (режиссер
Линдтберг, 1945). Вокруг этих картин тоже возникла легенда. Не все герои фильма
Мальро стали актерами случайно потому лишь, что им было поручено однажды
изобразить персонажей из их повседневной жизни. Это можно сказать о многих, но
не о главных героях. В частности, крестьянина играет очень известный в Мадриде
комический актер. Если в «Последнем шансе» солдат армии союзников играют
настоящие летчики, сбитые в небе Швейцарии, то роль еврейской женщины исполняет
театральная актриса. Наверное, говоря о фильмах без единого профессионального
актера, следует ссылаться на произведения, подобные «Табу» (режиссер Ф. Мурнау,
1931); однако здесь, как и в детском кино, речь идет о совершенно особом жанре,
в котором профессиональный исполнитель почти немыслим. Совсем недавно Рукье
постарался
==259
довести этот принцип до крайности в картине «Фарребик»
(1947). Принимая во внимание его творческую удачу, нельзя все же не отметить,
что это была удача почти исключительная и что проблема фильмов о крестьянстве с
точки зрения исполнительства немногим отличается от фильмов экзотического характера.
«Фарребик» — не столько пример для подражания, сколько исключение, ни в чем не
опровергающее правила, которое я назвал бы «законом сплава». С исторической
точки зрения социальный реализм в кино, равно как и современную итальянскую
школу, характеризует не отсутствие профессиональных актеров, а самое отрицание
принципа ведущего актера и равноценное использование актеровпрофессионалов и
случайных исполнителей. Важно одно — отвлечь профессионала от привычного
амплуа; его отношение к своему персонажу не должно быть для публики связано с
каким бы то ни было априорным представлением. Знаменательно, что крестьянина в
фильме «Надежда» играл театральный комик, Анна Маньяни была прежде певицей
реалистического жанра, а Фабрици — водевильным шутом. Профессионализм ни в коей
мере нельзя считать противопоказанным. Наоборот. Но он сводится к той
необходимой гибкости, которая помогает актеру подчиняться требованиям режиссуры
и лучше проникать в характер своего персонажа. Непрофессионалов, естественно,
выбирают за их соответствие роли, которую им предстоит сыграть,— соответствие
физическое или биографическое. Когда сплав исполнителей удается — причем опыт
показывает, что удача возможна лишь при сочетании некоторых, так сказать,
«нравственных» требований сценария,— тогда-то и достигается поразительное
ощущение правдивости, отличающее современные итальянские фильмы. Кажется, будто
объединяющее исполнителей безоговорочное принятие сценария, который все они
глубоко чувствуют и который требует от них минимума актерской лжи, становится
источником некоей осмотической 7 связи между партнерами. Техническая неумелость
одних опирается на опытность других, тогда как последним идет на пользу общая
атмосфера подлинности.
Столь
плодотворный для кинематографического искусства метод использовался лишь
эпизодически потому, что в нем самом заключалась, к сожалению,
К оглавлению
==260
причина его разрушения. Химическое равновесие сплава пс
природе своей неустойчиво и неизбежно изменяется, пока не восстановится
эстетическая дилемма, которая была при его помощи ненадолго разрешена, а именно
— зависимость от кинозвезд и документальность без актеров. С наибольшей
отчетливостью и быстротой разрушение сказывается в детских кинолентах или в
картинах о туземцах: маленькая Рери из фильма «Табу» кончила, по слухам, свои
дни проституткой где-то в Польше. Общеизвестна судьба детей, которые после
первого фильма становятся «звездами». В лучшем случае из них вырастают всем на
диво молодые актеры, но это случай особый. В той мере, в какой неопытность и
наивность представляют собой необходимые факторы, совершенно очевидно, что они
не могут выдержать испытание временем. Нельзя себе представить, чтобы
«семейство Фарребик» снялось в полудюжине фильмов и в довершение получило
контракт в Голливуде. Что касается актеров-профессионалов, не ставших
«звездами», то здесь процесс разрушения идет несколько иначе. Причиной его
становится публика. Если признанная кинозвезда всегда несет в себе свой
персонаж, то для среднего актера успех той или иной картины связан с риском
утвердиться в роли, сыгранной в данном фильме. Продюсеры с превеликой охотой
готовы повторить первоначальный успех, идя навстречу проверенному вкусу
зрителей, жаждущих увидеть полюбившихся исполнителей в привычных амплуа. Даже
если актер достаточно благоразумен, чтобы не дать заключить себя в рамки одной
роли, тем не менее его лицо, определенные постоянные характеристики его игры
становятся привычными и решительнейшим образом препятствуют образованию сплава
с непрофессиональными исполнителями.
ЭСТЕТИЗМ,
РЕАЛИЗМ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Однако
актуальность сценария и правдивость актера составляют лишь сырье для эстетики
итальянского кино.
Эстетическую
изысканность можно лишь с большой осторожностью противопоставлять неотесанной,
грубой материи или непосредственной силе воздействия реализма,
ограничивающегося показом действительности. На мой взгляд, немалая заслуга
итальянского кино в том
==261
и состоит, что оно лишний раз напомнило, что в искусстве нет
«реализма», который не был бы прежде всего глубоко «эстетическим». Об этом
исподволь догадывались, но отголоски «охоты за ведьмами», которую в наши дни
кое-кто учиняет по отношению к художникам, подозреваемым в сговоре с демоном
искусства для искусства, порождали тенденцию забывчивости. В искусстве и
реальное и вымышленное есть достояние одного лишь художника; плоть и кровь
действительности столь же трудно удержать в сетях литературы или кинематографа,
как самые необузданные взлеты фантазии. Иными словами, даже там, где вымысел и
сложность формы не касаются самого содержания произведения, они все же не
перестают влиять на эффективность выразительных средств...
Прежде
всего следует ясно представить себе, к чему пришло в наши дни кино. Можно
считать, что после исчезновения экспрессионистской ереси, а главное, после
прихода в кино звука кинематограф непрерывно стремился к реализму. Его цель —
грубо говоря — дать зрителю максимально совершенную иллюзию действительности, которая
соответствовала бы логическим требованиям кинематографического повествования и
современным техническим возможностям. Тем самым кинематограф четко противостоит
поэзии, живописи и театру, все более приближаясь к роману. Я не собираюсь
оправдывать здесь эту краеугольную эстетическую тенденцию современного кино
техническими, психологическими и экономическими причинами. Да будет мне на сей
раз позволено рассматривать ее как установленный факт, не предугадывая ни
внутреннее значение этой эволюции, ни ее окончательный характер. Несомненно,
однако, что реализм в искусстве может строиться только на искусственных
приемах. Всякая эстетика неизбежно должна выбирать между тем, что заслуживает
спасения, и тем, что может быть потеряно или отброшено. Но когда ее первейшая
задача, как, например, в кино, состоит в создании иллюзии на основе
действительности, тогда этот выбор становится коренным противоречием,
неприемлемым и в то же время необходимым. Необходимым потому, что искусство
существует лишь благодаря выбору. Если допустить, что уже в наши дни технически
возможен тотальный кинематограф, то без выбора мы попросту вернулись бы к
==262
действительности. Неприемлем он потому, что в конечном итоге
выбор осуществляется именно за счет той самой действительности, которую
кинематограф намеревается полностью воссоздать. Поэтому бесполезно противиться
всем новым техническим достижениям, направленным на усиление реализма кино,—
звуку, цвету, объемности. Фактически кинематографическое «искусство» питается
этим противоречием, максимально используя возможности абстрагирования и
символизации, предоставляемые ему временными пределами экрана. Но использование
последних условностей, не тронутых техникой, может идти либо в ущерб реализму,
либо в его интересах; оно может либо увеличивать, либо нейтрализовать
эффективность элементов действительности, схваченных кинокамерой. Не ставя
перед собой задачу расположения кинематографических стилей в некоей
иерархической последовательности, их можно все же классифицировать в
зависимости от степени передачи действительности, которую они обеспечивают. Мы
будем поэтому называть реалистической всякую систему выразительных средств,
всякий метод повествования, стремящиеся воспроизвести на экране
действительность как можно более полно. «Реальность» не следует, естественно,
понимать в количественном смысле. Одно и то же событие, один и тот же предмет
могут быть воспроизведены несколькими различными способами. Каждый из этих
способов отбрасывает или сохраняет те или иные качества, по которым мы узнаем
предмет на экране, каждый из них вводит во имя дидактических или эстетических
целей более или менее разрушительные абстракции, не позволяющие полностью
сохранить оригинал. В итоге такого неизбежного и необходимого химического
процесса исходная действительность подменяется иллюзией реальности,
складывающейся из совокупности абстракций (черно-белый цвет, плоская
поверхность), условностей (например, законы монтажа) и подлинной
действительности. Подобная иллюзия необходима, но она влечет за собой быструю
утрату чувства самой действительности, отождествляемой в сознании зрителя с ее
кинематографическим воспроизведением. Что касается кинематографиста, то стоит
ему добиться бессознательного сообщничества зрителей, как у него возникает
сильное искушение все больше пренебрегать действительностью. Под
==263
влиянием привычки и лени он вскоре уже сам перестает
различать, где начинается и где кончается обман. Его нельзя упрекнуть во лжи,
ибо его искусство складывается именно из обмана. Ему можно лишь предъявить
упрек в том, что он утрачивает господствующее положение и сам становится
жертвой собственного обмана, мешая, таким образом, всякому дальнейшему
проникновению в действительность.
ОТ
«ГРАЖДАНИНА КЕЙНА» К «ФАРРЕБИКУ»
В самые
последние годы произошла значительная эволюция эстетики кино в реалистическом
направлении. С этой- точки зрения событиями, несомненно отразившимися на
истории кино после 1940 года, были «Гражданин Кейн» и «Пайза». Оба фильма способствовали,
хотя и весьма различными путями, решительному прогрессу реализма. Я упоминаю
фильм Орсона Уэллса прежде, чем заняться анализом стилистики итальянских
фильмов, потому, что это позволит лучше выявить значение последней. Орсон Уэллс
вернул кинематографической иллюзии существеннейшее качество действительности, а
именно ее непрерывность. Согласно Гриффиту, классический монтаж разделял
действительность на последовательные планы, которые представляли собой лишь ряд
логических или субъективных точек зрения на данное событие. Запертый в камере
персонаж ждет прихода палача. Он с ужасом смотрит на дверь. В тот момент когда
палач должен войти, режиссер не преминет дать крупным планом медленно
поворачивающуюся ручку двери; крупный план психологически оправдан
исключительным вниманием жертвы к этому символу своего отчаяния.
Современный
кинематографический язык складывается, собственно, из последовательного ряда
планов, то есть из условного анализа непрерывной действительности.
Следовательно,
раскадровка вводит в действительность элемент явной абстракции. Полностью к ней
привыкнув, мы больше не ощущаем абстракцию как таковую. Революция,
произведенная Орсоном Уэллсом, исходит из систематического использования
необычной глубины кадра. В то время как объектив классической кинокамеры
последовательно фокусируется на
==264
различных точках сцены, камера Орсона Уэллса с равномерной
четкостью охватывает все поле зрения, которое тем самым целиком попадает в
сферу драматического действия. Теперь уже не раскадровка выбирает за нас то,
что надлежит увидеть, придавая таким образом увиденному априорную значимость;
теперь сам разум зрителя вынужден различать свойственный данной сцене
драматический спектр, вглядываясь в своеобразный параллелепипед непрерывной
действительности, сечением которого служит экран. Своим реализмом «Гражданин
Кейн» обязан, следовательно, вдумчивому использованию прогресса, достигнутого в
определенной области. Благодаря глубине поля зрения объектива Орсон Уэллс сумел
вернуть действительности ее ощутимую непрерывность.
Таким
образом, мы ясно видим, какими элементами действительности обогатился
кинематограф; зато в некоторых других отношениях он явно удалился от реальности
или, во всяком случае, приблизился к ней не больше, чем классическая эстетика.
Отказавшись из-за сложности своих технических приемов от обращения к
необработанной действительности, а именно от естественной обстановки, от
натурных съемок, от солнечного освещения и непрофессиональных исполнителей, Орсон
Уэллс тем самым отказался от абсолютно неподдающихся подражанию особенностей
подлинного документа, которые, будучи сами по себе частью действительности,
могли бы тоже послужить основой «реализма».
Если
угодно, «Гражданину Кейну» мы противопоставим «Фарребик», в котором
последовательное стремление использовать только естественные исходные материалы
привело Рукье к потерям в плане технического совершенства.
Таким
образом, наиболее реалистическое из искусств не избегает общей судьбы. Оно не
может полностью уловить действительность, неизбежно ускользающую от него в
каком-нибудь отношении. Несомненно, умелое использование технических достижений
позволяет сузить ячейки сети; тем не менее всегда приходится в большей или
меньшей степени делать выбор между той или иной действительностью. Камера
немного напоминает чувствительную сетчатку глаза. Цвет и интенсивность света
регистрируются различными нервными окончаниями, причем количество одних, как
правило,
==265
обратно пропорционально плотности других; животные,
превосходно различающие ночью форму своей добычи, почти слепы к цвету.
Между
противоположными, но одинаково чистыми формами реализма, которые свойственны
«Фарребику» и «Гражданину Кейну», возможно множество сочетаний. Впрочем,
допустимые потери реального, неизбежные при любом «реалистическом» подходе,
зачастую позволяют художнику умножать убедительность избранной им
действительности за счет эстетических условностей, которые ему удается ввести в
освободившееся в результате этих потерь пространство. Замечательным тому
примером служит новейшее итальянское кино. Не располагая необходимым
техническим оборудованием, режиссеры вынуждены были записывать звук и диалог
после съемки, что приводило к потерям с точки зрения реализма. Получив, однако,
возможность свободно манипулировать камерой, независимо от микрофона, они
воспользовались этим для расширения поля деятельности камеры и увеличения ее
подвижности, что выразилось в немедленном росте коэффициента реальности.
Впрочем,
технические усовершенствования, которые позволят овладеть другими аспектами
действительности,— например, цветное и объемное кино,— лишь увеличат
расхождение между двумя реалистическими полюсами, которые в наши дни с
достаточной точностью располагаются возле «Фарребика» и «Гражданина Кейна».
Качество павильонных съемок будет все больше и больше зависеть от сложного
оборудования. Во имя самой действительности всегда придется жертвовать
каким-либо элементом реальности.
«ПАЙЗА»
Как
определить место итальянского кино в общем спектре реализма? Попытавшись
обозначить географические пределы этого кинематографа, столь проникновенного в
своем социальном бытописании, столь строгого и проницательного в выборе
правдивой и значительной детали, мы можем теперь попытаться понять его
эстетическую геологию.
Совершенно
очевидна иллюзорность попытки свести всю итальянскую кинопродукцию последнего
==266
времени к нескольким общим чертам, достаточно характерным и
одинаково применимым ко всем режиссерам. Мы постараемся лишь выявить наиболее
широко применимые характеристики, ограничиваясь, однако, при необходимости,
рассмотрением самых значительных произведений. Поскольку нам тоже придется
делать выбор, мы сразу оговоримся, что будем преднамеренно располагать
важнейшие итальянские фильмы концентрически вокруг картины Росселлини «Пайза»,
ибо в ней заключено больше всего эстетических секретов; свой анализ мы будем
строить по принципу убывающей значимости фильмов.
ТЕХНИКА
ПОВЕСТВОВАНИЯ
Как и в
романе, эстетику кинематографического произведения можно выявить исходя главным
образом из техники повествования. Фильм всегда предстает как последовательный
ряд фрагментов действительности, запечатленных в плоскостном изображении
прямоугольной формы с точно установленными пропорциями, причем «смысл» его
определяется порядком кадров и продолжительностью их зрительного восприятия.
Объективизм современного романа выявил самую потаенную сущность стиля, сведя к
минимуму собственно грамматический аспект стилистики *. Некоторые свойства
языка Фолкнера, Хемингуэя или Мальро безусловно нельзя передать в переводе, но
самое существо их стиля от перевода ничуть не страдает, ибо у названных
писателей «стиль» почти полностью тождествен технике повествования. Он служит
распределению во времени фрагментов действительности. Стиль становится
внутренней динамикой повествования; в какой-то мере его можно сравнить с
энергией в ее отношении к материи. Если угодно, его можно рассматривать как
начало, определяющее специфическую физику произведения ; именно стиль
располагает раздробленную действительность по линиям эстетического спектра
* Сартр
показал на примере «Постороннего» Камю взаимоотношение между метафизикой
авторского мышления и повторным использованием сложного прошедшего времени,
которое отличается с грамматической точки зрения исключительной скудостью»
форм.
==267
повествования, именно он поляризует металлическую пыль
фактов, не изменяя их химического состава. Фолкнер, Мальро, Дос Пассос обладают
своим собственным миром, который, очевидно, определяется и природой описываемых
ими фактов и законом тяготения, удерживающим эти факты вне окружающего хаоса.
Поэтому стиль итальянского фильма было бы полезно определить исходя из анализа
сценария, его генезиса и обусловливаемых им форм экспозиции.
Если бы
даже мы не располагали свидетельствами самих авторов итальянских фильмов,
достаточно было бы просмотреть несколько их произведений, чтобы убедиться в
том, какое место занимает в итальянском кино импровизация. Создание фильма,
особенно после возникновения звукового кино, требует слишком сложной работы,
поглощает слишком много денег, чтобы можно было допускать малейшие колебания в
процессе его постановки. Можно сказать, что в первый же день съемок фильм потенциально
уже существует в режиссерской разработке, которая все предусматривает.
Материальные
условия постановки фильмов в Италии сразу же после Освобождения, сама природа
разрабатываемых сюжетов, а также, вероятно, некий особый национальный дух
освободили режиссеров от этих оков. Росселлини приступил к работе, имея в своем
распоряжении камеру, пленку и наметки сценария, которые он изменял в
зависимости от вдохновения, материальных или человеческих возможностей, самой
природы и пейзажей... Точно так же действовал Фейад, бродя по улицам Парижа в
поисках продолжения «Вампиров» или «Фантомаса», продолжения, о котором он имел
столь же смутное представление, как и зрители, оставленные на предыдущей неделе
в состоянии напряженной тревоги. Разумеется, степень импровизации может быть
более или менее значительной. И хотя ее по большей части сводят к отдельным
деталям, она тем не менее достаточна, чтобы придать повествованию манеру и тон,
совершенно отличные от того, что мы привыкли видеть на экране. Конечно, сценарий
«Четырех шагов в облаках» построен столь же добротно, как и сценарий
американской комедии; но я готов биться об заклад, что по меньшей мере треть
планов в нем не была точно предусмотрена. Сценарий фильма «Шуша» не кажется
подчиненным строжайшей
==268
драматургической необходимости; фильм завершается ситуацией,
которая вполне могла и не быть последней. Прелестная маленькая картина Пальеро
«Утро вечера мудренее» шутя завязывает и развязывает недоразумения, которые,
наверно, можно было переплести совершенно иначе. К сожалению, демон мелодрамы,
перед которым итальянские кинематографисты не в силах устоять до конца, то и
дело одерживает верх, вводя в фильмы драматургическую необходимость, эффекты
которой заведомо известны. Но это вопрос уже совсем иной. Самое главное состоит
в творческом порыве и в совершенно своеобразном генезисе ситуаций.
Обусловленность повествования носит скорее биологический, нежели
драматургический характер. Повествование дает отростки и разрастается с
правдоподобием и свободой самой жизни *. Из сказанного вовсе не следует, что a
priori этот метод эстетически менее значим, нежели медлительная и тщательная
предварительная подготовка. Однако предубеждение, будто время, деньги и
средства дороги сами по себе, укоренилось столь прочно, что их забывают
соотносить с произведением и художником... Ван Гог по десять раз поспешно
переписывал одну и ту же картину, тогда как Сезанн возвращался к тому или иному
произведению на протяжении многих лет. Некоторые жанры требуют быстроты, так
сказать, безотлагательного хирургического вмешательства. Но хирург должен при
этом действовать с тем большей уверенностью и точностью. Лишь такой ценой
* Почти
во всех титрах итальянских фильмов за надписью «сценарий» следует добрый десяток
фамилий. Такой внушительный коллектив не следует принимать слишком всерьез.
Перечисление имен должно прежде всего послужить продюсеру довольно наивным
политическим алиби: в нем обычно соседствуют фамилии демохристианина и
коммуниста (так же как в самом фильме фигурируют и марксист и священник).
Первый соавтор сценария известен умением строить сюжет; второй специализируется
на придумывании комических трюков, третий пишет хорошие диалоги; четвертый
«хорошо чувствует жизнь» и т. д. и т. д. Результат получается ничуть не лучше и
не хуже того, что мог бы сделать один-единственный сценарист. Однако концепция
итальянского сценария хорошо уживается с таким коллективным отцовством, в
которое каждый вносит свою идею, ничем, впрочем, не обязывая режиссера строго
ее придерживаться. Подобную взаимозависимость импровизации следует скорее
сравнить с комедией масок или даже с современным джазом, нежели с конвейерной
системой работы американских сценаристов.
==269
итальянский фильм приобрел ту репортажную манеру, ту
естественность, которая ближе изустному рассказу, нежели написанному
произведению, ближе наброску, нежели картине. Для этого потребовались
непринужденность и верный глаз Росселлини, Латтуады, Вергано 8 и Де Сантиса. Их
камера обладает тончайшим кинематографическим тактом, поразительно чуткими
«щупальцами», позволяющими мгновенно улавливать именно то, что надо, и так, как
надо. В фильме «Бандит» пленный, возвращающийся из Германии, находит свой дом
разрушенным. От всего жилого квартала сохранилось лишь нагромождение камней,
окруженных разрушенными стенами. Камера показывает лицо персонажа, а затем,
следуя за движением его глаз, панорамирует на 360°, открывая окружающее
зрелище. Эта панорама вдвойне оригинальна: 1) вначале мы находимся в стороне от
актера и смотрим на него глазами камеры. Но по мере того как разворачивается
панорама, мы, естественно, отождествляем себя с ним настолько полно, что по
завершении круга в 360° удивляемся, вновь увидев лицо, охваченное ужасом; 2) темп
этой субъективной панорамы изменчив. Она начинается длинным непрерывным
движением, затем почти останавливается, медленно вглядывается в обшарпанные,
сожженные стены, следуя ритму человеческого взгляда и словно непосредственно
направляемая мыслью персонажа.
Мне
пришлось более подробно остановиться на этом крохотном примере, дабы не
ограничиваться абстрактным определением того, что я называю кинематографическим
«тактом» (в почти физиологическом смысле этого слова). Подобное построение
плана по своей динамике приближается к движению руки, рисующей набросок;
карандаш то оставляет пробелы, то делает несколько легких штрихов, то тщательно
и детально прорисовывает предмет. Вспоминаются замедленные съемки в
документальном фильме о Матиссе, которые выявляют сомнения и колебания руки,
скрытые за единообразной и непрерывной арабеской штриха. При таком монтаже
движение кинокамеры приобретает особое значение. Она должна в равной мере
быстро двигаться и застывать на месте. Проезды и панорамы не носят здесь того
чуть ли не божественного характера, которым наделяют их в Голливуде совершенные
подъемные
К оглавлению
==270
приспособления. Здесь почти все снято на уровне глаза или с
таких совершенно конкретных точек, как крыша или окно. Незабываемая поэзия
прогулки детей верхом на белой лошади в картине «Шуша» технически сводится к
съемке встречными планами под таким углом, который в перспективе придает
наездникам и их коню величественность конной статуи. Кристиан-Жак потратил
немало усилий, снимая в фильме «Колдовство» (1945) призрачного коня. Но,
несмотря на все кинематографические ухищрения, его конь выглядел столь же
прозаично, как жалкая извозчичья кляча. Итальянская кинокамера сохраняет в
какой-то мере человечность репортерского киноаппарата, неразрывно спаянного с
рукой и глазом, почти отождествляющегося с самим оператором и мгновенно
ориентирующегося на то, что привлекает его внимание.
Что
касается чисто фотографической стороны, то в плане выразительности освещение
играет, разумеется, весьма незначительную роль. Прежде всего потому, что
освещение требует работы в павильоне, а итальянцы осуществляют большинство
съемок на натуре или в естественной обстановке; к тому же репортажный стиль
естественно отождествляется с серой тональностью хроникальных лент. Стремление
чрезмерно совершенствовать и отшлифовывать пластические достоинства стиля было
бы здесь бессмысленно.
Наша
попытка обрисовать стиль итальянских фильмов наводит, казалось бы, на мысль,
что независимо от степени своего мастерства, ловкости и чуткости он родствен
полулитературной журналистике, искусству ловкому, живому, симпатичному, даже
волнующему, но по сути своей второстепенному. Порой так оно и есть, хотя в
рамках общей эстетической иерархии этому жанру можно отвести довольно высокое
место. Но было бы несправедливым и ошибочным видеть в нем завершающий этап
данного метода. Подобно тому как в литературе репортаж с его этикой
объективности (пожалуй, правильнее было бы сказать «объективизации») лишь заложил
основы новой эстетики романа*,
* Я не собираюсь ввязываться в исторический спор
относительно источников или прообразов репортажного романа XIX века. У Стендаля
или у натуралистов мы имеем дело не столько с объективностью как таковой,
сколько с откровенностью, смелостью и прозорливостью наблюдения. Факты сами по
себе еще не обладали той онтологической независимостью, которая превратила их в
последовательный ряд замкнутых в себе монад, строго ограниченных своими
внешними проявлениями.
==271
так и метод итальянских кинематографистов приводит в лучших
фильмах и особенно в картине «Пайза» к столь же сложной и оригинальной эстетике
повествования.
Прежде
всего «Пайза» — это, вероятно, первый фильм, представляющий собой точный
эквивалент сборника новелл. До сих пор мы знали только фильмы, построенные из
отдельных скетчей9,— жанр фальшивый и незаконнорожденный. Росселлини
последовательно рассказывает шесть историй из эпохи итальянского Освобождения.
Их единственную общую черту составляет элемент историзма. Три эпизода — первый,
четвертый и последний — связаны с Сопротивлением; остальные представляют собой
забавные патетические или трагические случаи, не имеющие отношения к
наступлению союзников. Материалом для тех и других послужили проституция,
черный рынок и жизнь францисканского монастыря. В фильме нет какой-либо
прогрессии, помимо хронологической последовательности эпизодов, начинающейся с
момента высадки десанта союзников в Сицилии. Однако социальный, исторический и
человеческий фон, на котором разыгрываются все шесть историй, придает им
единство, вполне достаточное для формирования произведения, совершенно
однородного в своем разнообразии. Продолжительность каждого эпизода, его
структура, материя, его эстетическая протяженность во времени впервые дают
точное представление о новелле. Неаполитанский эпизод, в котором мальчишка —
завсегдатай черного рынка — продает одежду пьяного негра, представляет собой
великолепную новеллу по Сарояну. Один из эпизодов напоминает Стейнбека, другой
Хемингуэя, еще один (первый по порядку) выдержан «в духе» Фолкнера. Я имею в
виду не только тон или тему, но и более глубокое сходство — по стилю. К
сожалению, эпизод из фильма нельзя процитировать, взяв в кавычки, как отрывок
из литературного произведения; а литературное описание неизбежно неполно. Тем
не менее я приведу эпизод из последней новеллы (напоминающей мне то Хемингуэя,
то Фолкнера): 1) группа итальянских
==272
партизан и солдат армии союзников получила запас
продовольствия у семейства рыбаков, живущего на одиноком хуторе среди болот в
дельте реки По. Взяв корзину угрей, солдаты уходят; нагрянувший вскоре немецкий
патруль узнает о происшедшем и расстреливает всех обитателей хутора; 2) на
закате американский офицер и партизан шагают по болоту. Вдали раздается
стрельба. Из крайне эллиптического диалога можно понять, что немцы расстреляли
рыбаков; 3) мертвые мужчины и женщины лежат перед хижиной, полуголый младенец
надрывно кричит на фоне закатного неба.
Даже в
столь лаконичном изложении отрывок достаточно ясно показывает значительнейшие
эллипсы, вернее — даже пробелы в повествовании. Довольно сложное действие
сведено к трем или четырем коротким фрагментам, которые уже сами по себе
эллиптичны по отношению к раскрываемой действительности. Оставим в стороне
первый, чисто описательный фрагмент. Во втором — происходящее обозначается при
помощи только тех признаков, которые могут быть известны партизанам,—
раздающиеся вдали выстрелы. Третий фрагмент показан независимо от присутствия
партизан. Нет даже уверенности, что у этой сцены есть какой-либо свидетель.
Ребенок плачет среди мертвых родных — таков факт. Каким образом немцы сумели
узнать о виновности крестьян? Почему еще жив ребенок? Фильму до этого нет дела.
Однако целый ряд событий сцепились воедино, приведя к данному результату.
Разумеется, кинематографист обычно всего не показывает, да это и невозможно,—
однако его выбор и пропуски, которые он делает, направлены на то, чтобы
восстановить логический процесс, в котором разум без труда переходит от причин
к следствиям. Конечно, метод Росселлини сохраняет в определенной степени
понятность чередования фактов, но они не соединены между собой, подобно цепи на
шестерне. Разум принужден перескакивать от одного факта к другому так же, как
человеку приходится прыгать с камня на камень, переправляясь через реку. Иногда
идущий колеблется, выбирая между двумя камнями, порой он промахивается и
скользит. Так и разум. Назначение камней состоит ведь не в том, чтобы
обеспечить путникам возможность пересекать реки, не замочив ног, а ребристый
узор на дынной корке существует вовсе не для
==273
того, чтобы облегчать отцам семейств справедливую дележку.
Факты есть факты; наше воображение использует их, однако их априорная функция
состоит вовсе не в том, чтобы служить нашей фантазии. Согласно обычной
режиссерской разработке (построение которой напоминает процесс классического
романического повествования), камера выхватывает факт, дробит его, анализирует
и воссоздает; разумеется, он не утрачивает при этом полностью своих природных
свойств; однако его естество обволакивается абстракцией, подобно тому как
кирпичная глина оказывается заключенной в отсутствующую пока еще стену. У
Росселлини факты обретают свой смысл не так, как орудие, чья форма заранее
предопределена его функцией. Факты следуют один за другим, и разум вынужден
заметить их сходство, вынужден понять, что, будучи похожими, они в результате
начинают означать то, что было заложено в каждом из них в отдельности и что,
при желании, составляет мораль рассказываемой истории. Мораль, от которой
разуму не уйти именно потому, что она вырастает из самой действительности. Во
«флорентийском эпизоде» через город, еще захваченный немцами и группами фашистов,
пробирается женщина, которая ищет своего жениха, командира партизан. Ее
сопровождает мужчина, разыскивающий жену и ребенка. Камера следует за ними шаг
за шагом, заставляя нас переживать вместе с ними все трудности, встречающиеся
на их пути, все опасности, которым они подвергаются; при этом она смотрит с
одинаково беспристрастным вниманием и на героев истории и на ситуации, которые
им приходится преодолевать. Действительно, все, что происходит в охваченной
порывом Освобождения Флоренции, равно значительно; индивидуальная история двух
персонажей вплетается кое-как в клубок других событий, подобно тому как порой
приходится локтями проталкиваться сквозь толпу, разыскивая потерянного
человека. Мимоходом в глазах людей, уступающих дорогу, можно подметить другие заботы,
другие страсти, другие опасности, рядом с которыми собственные переживания
могут показаться совсем ничтожными.
В конце
женщина случайно узнает от раненого партизана, что тот, кого она искала,—
мертв. Однако фраза, раскрывающая перед ней правду, не предназначена
==274
собственно для нее, она поражает героиню, словно шальная
пуля. Чистота линии развития повествования ничем не обязана классическим
приемам построения, свойственным такого рода рассказам. Внимание ни разу не
привлекается к героине искусственным образом. Камере чужда психологическая
субъективность. Но благодаря этому мы можем лучше проникнуться чувствами
персонажей, ибо о них легко догадаться, а пафос ситуации определяется здесь не
тем, что женщина потеряла любимого, а тем, что ее частная драма стоит в ряду
тысячи других драм, тем, что ее одиночество созвучно драме освобождения
Флоренции. Будто намереваясь сделать беспристрастный репортаж, камера всего
лишь следует за женщиной, разыскивающей мужчину, предоставляя нашему разуму
возможность быть рядом с этой женщиной, понять ее и разделить ее страдания.
В
замечательном финальном эпизоде о партизанах, окруженных среди болот, мутная
вода дельты По, уходящие за горизонт заросли невысоких камышей, среди которых
прячутся люди, пригнувшись в своих плоских лодчонках, плеск волн о деревянные
днища — все это занимает место, почти равноценное месту людей. В этой связи
следует отметить, что драматическая роль болот в значительной мере определяется
преднамеренным использованием некоторых приемов съемки. Так, например, линия
горизонта всегда проходит на одной и той же высоте. Такое постоянство
соотношения во всех планах фильма между пространствами, занимаемыми водой и
небом, выявляет одну из существенных особенностей пейзажа. При заданных
условиях экрана это соотношение служит точным эквивалентом субъективного
ощущения, которое могут испытывать живущие между небом и водой люди, чья жизнь
непрестанно зависит от малейшего смещения точки зрения по отношению к
горизонту. Из этого примера видно, какими еще тонкими выразительными
возможностями располагает камера при натурных съемках, когда она попадает в
руки такого мастера, как оператор фильма «Пайза» 10.
Единицей
кинематографического повествования в «Пайзе» оказывается не «план»,
представляющий собой абстрактную точку зрения на анализируемую
действительность, а «факт». Будучи фрагментом
==275
необработанной действительности, он сам по себе множествен и
двусмыслен, и его смысл выводится лишь логически благодаря другим «фактам»,
связи между которыми устанавливаются умозрительно. Разумеется, режиссер
старательно подбирает эти «факты», сохраняя их целостность как таковых.
Упомянутый выше крупный план дверной ручки был не столько «фактом», сколько
знаком, выявленным кинокамерой априорно и обладавшим не большей семантической
независимостью, чем предлог в грамматическом предложении. Он совершенно
противоположен тому, что было снято на болотах, или картине смерти рыбаков.
Сущность
«изображения-факта» состоит, однако, не только в том, чтобы поддерживать с
другими «изображениями-фактами» связи, придуманные нашим разумом. Эти качества
изображения, дающие возможность строить повествование, имеют в известной мере
центробежный характер. Поскольку каждое изображение само по себе есть лишь
фрагмент действительности, существующий еще до выявления смысла, постольку вся
поверхность экрана должна отличаться равной конкретной насыщенностью. Здесь мы
тоже сталкиваемся с примером, противоположным упомянутой режиссуре в стиле
«дверной ручки», где цвет лака, толстый слой грязи на двери на высоте
протянутой руки, блеск металла, потертость замка воспринимаются как «факты»
совершенно бесполезные, как конкретные паразиты абстракций, которые надлежит
устранить.
В
фильме «Пайза» (подчеркиваю, что я подразумеваю при этом в той или иной мере
большинство итальянских фильмов) крупный план дверной ручки был бы заменен
«изображением-фактом» двери, все конкретные характеристики которой были бы в
равной мере очевидны. По той же причине поведение актеров всегда должно быть
рассчитано таким образом, чтобы их игра не шла вразнобой с окружающей
обстановкой или с игрой других персонажей. Сам по себе человек — это один из
многих фактов, которому не должно быть придано априори никакого преимущественного
значения. Только итальянским кинематографистам удаются сцены в автобусе, на
грузовике или в вагоне, ибо именно такие сцены особенно насыщены деталями
обстановки и людьми; только итальянцы умеют описывать действие, не вырывая его
из материального контекста и не
==276
затушевывая людского своеобразия, с которым это действие
сплетено; тонкость и гибкость движений камеры в тесных и предельно
загроможденных пространствах, естественность поведения всех персонажей,
появляющихся в поле зрения, способствуют тому, что такие сцены оказываются
наиболее блестящими моментами итальянского кино.
РЕАЛИЗМ
ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО И ТЕХНИКА АМЕРИКАНСКОГО РОМАНА
Боюсь,
как бы отсутствие наглядных кинематографических материалов не повредило ясности
моего изложения. Если мне все же удалось удержать до сих пор внимание читателя,
то от него, вероятно, не ускользнуло, что я был вынужден характеризовать стиль
Росселлини в фильме «Пайза» почти в тех же выражениях, что и стиль Орсона Уэллса
в «Гражданине Кейне». Идя диаметрально противоположными в техническом отношении
путями, оба пришли к «режиссерской разработке», которая почти одинаковым
образом старается соблюсти верность действительности. Глубине кадра Орсона
Уэллса соответствует реалистическая предвзятость Росселлини. У того и другого
мы находим одинаковую зависимость актера от окружающей обстановки, одинаковый
реализм исполнительской манеры, равно обязательный для всех персонажей,
находящихся в поле зрения, независимо от их драматургической «значимости».
Больше того: при всем несомненном различии стилевых особенностей само
повествование выстраивается, по существу, одинаковым образом и в «Гражданине
Кейне» и в фильме «Пайза». Ибо при полной технической независимости, при явном
отсутствии малейшего прямого влияния, несмотря на абсолютную несовместимость
темпераментов, Росселлини и Орсон Уэллс преследуют, по сути дела, одну и ту же
основную эстетическую задачу, придерживаются одной и той же эстетической
концепции «реализма».
Мне
представилась возможность попутно сравнивать повествование в картине «Пайза» с
манерой изложения некоторых современных романистов и мастеров новеллы. С другой
стороны, связь между методом Орсона Уэллса и приемами американского романа
(особенно у Дос Пассоса) достаточно очевидна, чтобы я мог
==277
теперь позволить себе раскрыть свой тезис. Эстетика
итальянского кино,— во всяком случае, в ее наиболее разработанных разделах и у
тех режиссеров, которые относятся к используемым ими средствам столь же
сознательно, как Росселлини,— по существу, представляет собой лишь
кинематографический эквивалент американского романа *.
Прошу
понять, что речь идет вовсе не о банальном переложении. Голливуд только и
делает, что непрестанно «перелагает» произведения американских романистов для
экрана. Известно, что сделал Сэм Вуд из романа «По ком звонит колокол», ибо он,
собственно, стремился лишь воспроизвести определенную интригу. Даже если бы он
при этом скрупулезно следовал за каждой фразой, он все равно, строго говоря,
ничего бы не перенес из книги на экран. Можно пересчитать по пальцам обеих рук
немногие американские фильмы, сумевшие перевести в изобразительный ряд хоть
малую толику стиля романистов, то есть самой структуры повествования, самого закона
тяготения, который правит расположением фактов у Фолкнера, Хемингуэя или Дос
Пассоса. Надо было дождаться Орсона Уэллса, чтобы представить себе, каким может
быть кинематограф американского романа.
В то
время как Голливуд умножает экранизации бестселлеров, все больше удаляясь по
духу от американской литературы, именно в Италии совершенно естественно, с
непринужденностью, исключающей даже мысль о сознательном и умышленном
копировании, создается кинематограф американской литературы на основе
совершенно оригинальных сценариев. Разумеется, не следует сбрасывать со счета
при этом популярность американских романистов в Италии, где их произведения
были переведены и получили признание задолго до их появления во Франции; так,
например, * Кинематограф не раз подходил все же очень близко к этим истинам,
например в творчестве Фейада или Штрогейма. В последнее время Мальро совершенно
ясно понял, в чем заключается эквивалентность определенного романического стиля
и кинематографического повествования. И, наконец, благодаря своей гениальности
Ренуар чисто инстинктивно применил уже в «Правилах игры» самую суть принципов
глубинного построения кадра и мизансцены, одновременно распространяемой на всех
актеров. Он разъяснил это в пророческой статье, опубликованной в 1938 году в
журнале «Point».
==278
общеизвестно влияние Сарояна на Витторини. Но вместо того
чтобы ссылаться на эту несколько сомнительную причинно-следственную связь, я
предпочитаю обратить внимание на исключительную близость этих двух цивилизаций,
выявившуюся в ходе союзнической оккупации. Американский «джи-ай» п сразу
почувствовал себя в Италии как дома, а «Пайза» немедленно установил самые
непринужденные отношения с американским солдатом, будь тот черным или белым.
Распространение влияния черного рынка и проституции на американскую армию
нельзя отнести к наименее убедительным примерам симбиоза обеих цивилизаций. Не
случайно также американские солдаты оказываются важными персонажами в
большинстве новейших итальянских фильмов и занимают там свое место с весьма
многозначительной естественностью.
Но даже
если литература или оккупация открыли определенные пути проникновения влияний,
тем не менее речь идет о явлении, не поддающемся объяснению на одном этом
уровне. В наши дни американское кино создается в Италии, но никогда еще
кинематограф Апеннинского полуострова не был более типично итальянским. Система
ассоциаций, которой я здесь придерживался, отдалила меня от других, гораздо
менее спорных сопоставлений, например с традицией итальянского рассказа, с
комедией масок и техникой фресковой живописи. Мы имеем дело не столько с
«влиянием», сколько с истинным созвучием между кинематографом и литературой,
основанным на общих глубоких эстетических принципах, на общем понимании
взаимоотношений между искусством и действительностью. Современный роман
давным-давно осуществил свою «реалистическую» революцию, вобрав в себя
бихевиоризм, технику репортажа и этику насилия. Кинематограф не оказал на эту
эволюцию ни малейшего влияния, как это принято считать. Наоборот, такой фильм,
как «Пайза», доказывает, что кино лет на двадцать отставало от современного
романа. Немалая заслуга новейшего итальянского кино состоит в том, что оно
сумело найти для экрана собственно кинематографические эквиваленты наиболее
значительной современной литературной революции.
«Esprit»,
1948
==279
ДЕ СИКА — РЕЖИССЕР
Должен
признаться, что сомнения парализуют мое перо, столь вескими мне кажутся
причины, которые должны были бы воспретить мне представлять читателю Де Сику.
Прежде
всего, намерение поведать итальянцам чтолибо об их кинематографе вообще и о том
в частности, кто является, пожалуй, самым крупным их режиссером, выглядит
весьма самонадеянным со стороны француза; но главное состоит в том, что к этому
изначальному теоретическому беспокойству присовокупляются в данном случае еще
несколько частных опасений. Когда я опрометчиво принял почетное предложение
представить Де Сику, я руководствовался прежде всего своим восхищением
«Похитителями велосипедов», не зная еще «Чуда в Милане» (1950). Разумеется, мы
видели во Франции фильмы «Шуша» и «Дети смотрят на нас», но сколь бы ни была
прекрасна «Шуша», открывшая нам талант Де Сики, в ней все же наряду с
высочайшими находками ощущалась некоторая неуверенность новичка. В сценарии
порой были заметны уступки мелодраме, а режиссуре свойственны были поэтическое
красноречие и лиризм, которых Де Сика теперь, видимо, остерегается. Словом,
индивидуальный стиль режиссера там еще только нащупывался. Полное и окончательное
мастерство утвердилось в «Похитителях велосипедов», утвердилось настолько, что
этот фильм подытоживает, на наш взгляд, все усилия своих предшественников.
Но
можно ли судить о режиссере по одному фильму? Он в достаточной мере
свидетельствует о таланте Де Сики, но вовсе не о формах, которые ему суждено
обрести в будущем. Как актер Де Сика не новичок в кино. Но его следует считать
«молодым» режиссером, режиссером с будущим. «Чудо в Милане» весьма отличается
по духу и структуре от «Похитителей велосипедов» при всем глубоком сходстве,
которое мы постараемся понять. Каким будет следующий фильм? Не раскроет ли он
перед нами богатство источников, остававшихся в двух предшествующих работах в
тени? Словом, мы собираемся говорить о стиле выдающегося режиссера на основании
всего лишь двух произведений, причем одно из них, казалось бы, опровергает
К оглавлению
==280
направление второго. Для того, кто не смешивает воедино
деятельность критика и пророка, этого мало. Мне нетрудно объяснить свое
восхищение «Похитителями» и «Чудом» ; совсем иное дело — попытаться
экстраполировать на основании этих двух произведений постоянные и окончательные
свойства таланта их автора.
А ведь
по отношению к Росселлини мы охотно сделали бы это, исходя из фильмов «Рим —
открытый город» и «Пайза». То, что мы могли бы при этом сказать (и что мы
действительно писали во Франции), неизбежно должно было бы подвергнуться
каким-то изменениям и поправкам под влиянием последующих фильмов, но не было бы
ими опровергнуто. Ибо стиль Росселлини принадлежит к совершенно иному
эстетическому роду. Он легко раскрывает свои закономерности. Он соответствует
такому видению мира, которое немедленно переводится в постановочные структуры.
Если угодно, стиль Росселлини есть прежде всего взгляд, тогда как стиль Де Сики
— это, в первую очередь, чувство. У первого постановка охватывает свой объект
извне. Разумеется, я не хочу сказать, что это делается без понимания объекта и
без чувственного его восприятия, однако такой внешний подход отражает очень
важный этический и метафизический аспект наших отношений к миру. Чтобы понять
сказанное, достаточно сравнить разработку образа ребенка в фильме «Германия,
год нулевой» и в картинах «Шуша» или «Похитители велосипедов». Любовь
Росселлини к его персонажам окружает их с безнадежным сознанием
некоммуникабельности всего живого, тогда как любовь Де Сики, наоборот,
излучается самими персонажами. Они такие, какие есть, но изнутри они освещены
его нежностью к ним. Таким образом, режиссура Росселлини встает между нами и
разрабатываемой им материей, разумеется, не как искусственное препятствие, а
как непреодолимое онтологическое расстояние, как врожденный порок живого
существа, который эстетически выражается в категориях пространства, в формах и
структурах мизансцены. Тот факт, что она воспринимается как недостаток, как
отказ, как ускользание предметов и, в конечном итоге, как страдание, приводит к
тому, что ее легче осознать и легче свести к формальному методу. Росселлини
ничего не может
==281
изменить, не совершив сначала личную нравственную революцию.
Наоборот,
Де Сика принадлежит к тем режиссерам, у которых, казалось бы, нет иной цели,
кроме верной передачи своего сценария, и чей талант исходит лишь из любви к
своему сюжету и из глубокого его понимания. Мизансцена как бы сама себя
моделирует подобно естественной форме живой материи. Француз Жак Фейдер,
обладавший совершенно иной чувствительностью и проявлявший весьма явный интерес
к проблемам формы, тоже принадлежал к семейству режиссеров, единственный метод
которых заключается будто бы лишь в честном служении своему сюжету. Разумеется
— и -мы к этому еще вернемся,— такая нейтральность иллюзорна, но ее видимое
существование ничуть не облегчает задачу критика, ибо она разделяет все
творчество кинематографиста на отдельные частные случаи, в результате чего
каждый следующий фильм может вновь все поставить под вопрос. Поэтому возникает
сильное искушение увидеть лишь профессионализм там, где следует искать стиль,
лишь благородное смирение умелого специалиста перед требованиями сюжета —
вместо творческого почерка истинного автора.
В
фильме Росселлини режиссура легко выводится методом дедукции из всего
изобразительного ряда, тогда как Де Сика заставляет нас индуктивно обнаруживать
ее в зримом повествовании, в котором ее, казалось бы, вовсе и нет.
И,
наконец, особенно важно то, что творчество Де Сики до сих пор неотделимо от
сотрудничества с Дзаваттини, вероятно, в еще большей мере, нежели творчество
Марселя Карне — от Жака Превера. Пожалуй, в истории кино нет более совершенного
примера симбиоза сценариста и режиссера. Тот факт, что Дзаваттини участвует в
создании многих других фильмов (тогда как Превер написал очень немного
сценариев для других режиссеров, помимо Карне), ничуть но облегчает положения,
и даже наоборот; тут возможен вывод о том, что Де Сика — идеальный режиссер для
Дзаваттини, тот, кто его лучше и глубже всего понимает. Мы знаем примеры работы
Дзаваттини без Де Сики, но не Де Сики — без Дзаваттини. Поэтому весьма
произвольной с нашей стороны была бы попытка выделить элементы, принадлежащие
собственно Де Си
==282
ке; тем более, что мы констатировали выше его смирение, по
крайней мере кажущееся, перед требованиями сценария.
Следовательно,
мы должны отказаться от противоестественного разделения того, что столь прочно
соединено силой таланта. Да простят меня Де Сика и Дзаваттини, а заодно и
читатель, который не интересуется моими угрызениями и только ждет, чтобы я,
наконец, пустился вплавь. Но ради успокоения моей совести да будет принято во
внимание, что я претендую лишь на некий критический подход, который, вероятно,
в будущем окажется под вопросом и который представляет собой только личное высказывание
французского критика, сделанное в 1951 году по поводу весьма многообещающего
творчества, чьи свойства с особым трудом поддаются эстетическому анализу. Это
смиренное признание вовсе не является ораторской предосторожностью или
риторической формулой. Прошу поверить, что оно служит прежде всего мерилом
моего восхищения.
Реализм
Де Сики обретает смысл благодаря поэзии, ибо в искусстве в основе всякого
реализма лежит эстетический парадокс, который требует своего разрешения. Точное
воспроизведение действительности не есть искусство. Нам твердят, что искусство
есть отбор и толкование. Поэтому до сих пор «реалистические» тенденции в кино,
как и в других видах искусства, состояли только в том, чтобы вводить в
произведение как можно больше действительности; но такое добавление
действительности было лишь более или менее эффективным средством, поставленным
на службу совершенно абстрактной цели — драматургической, нравственной или
идеологической. Во Франции «натурализм» как раз соответствует умножению числа
романов и пьес с заданным тезисом. Оригинальность итальянского неореализма по
сравнению с главными предшествовавшими реалистическими школами, включая и
советскую школу, заключается в том, что он не подчиняет a priori
действительность какой-либо точке зрения. Даже теория кино-глаза Дзиги Вертова
использовала необработанную действительность хроники лишь для того, чтобы
расположить ее согласно диалектическому спектру монтажа. С другой стороны,
театр, даже реалистический, распоряжается действительностью в соответствии с
==283
драматургическими и зрелищными структурами. Свои
заимствования у действительности реализм подчиняет трансцендентным требованиям,
служащим интересам либо идеологического тезиса, либо нравственной идеи, либо драматургического
действия. Неореализм признает лишь имманентность. Выводы о смысле и поучениях,
заключенных в живых существах и в мире, он предполагает делать a posteriori на
основании одной их видимости, чисто внешнего облика. Он есть феноменология.
В плане
выразительных средств неореализм противостоит, следовательно, традиционным
категориям зрелища, и прежде всего это касается исполнительского мастерства.
Согласно классической концепции, порожденной театром, актеру надлежит что-то
выражать— чувство, страсть, желание, идею. Своим поведением и мимикой он дает
зрителям возможность читать по его лицу, как по раскрытой книге. В этом плане
между зрителем и актером существует безмолвное соглашение, подразумевающее, что
одни и те же психологические причины вызывают тот же самый физический эффект,
и, следовательно, можно, не впадая в двусмысленность, переходить от одного к
другому. Это, собственно, и называют «игрой».
Отсюда
вытекают структуры постановки; декорации, освещение, угол съемки и раскадровка
будут в зависимости от поведения актера более или менее экспрессионистскими.
Они со своей стороны способствуют утверждению смысла действия. И, наконец,
разбивка сцены на отдельные планы и их последующий монтаж соответствуют
экспрессионизму во времени, воссозданию события согласно искусственной и
абстрактной длительности — длительности драматургической. Нет ни одного из этих
общих элементов кинематографического зрелища, который неореализм не
пересматривал бы заново.
Прежде
всего, элементы игры. Неореализм требует от исполнителя, чтобы он существовал,
прежде чем выражать. Такое требование не связано непременно с отказом от
профессионального актера; но оно вполне естественно стремится подменить актера
человеком с улицы, выбранным исключительно ради его общего поведения; причем
неведение театральной техники представляет собой не столько совершенно
необходимое условие, сколько гарантию против экспрессионизма «
==284
игры». Для Де Сики—Бруно был прежде всего силуэтом, лицом,
походкой.
Затем
элементы декорации и съемки. Естественные декорации соотносятся с декорациями
выстроенными так же, как актер-любитель — с профессионалом. Одно из последствий
использования естественной обстановки состоит в частичном исключении
пластической композиции за счет искусственного освещения, которая становится
возможной при съемке на студии.
Но,
пожалуй, наиболее глубокому потрясению подвергается структура повествования.
Она обязана соблюдать истинную длительность события. Логически необходимые
купюры могут быть, в лучшем случае, только описательными; режиссерская
разработка ни в коей мере не должна что-либо добавлять к существующей
действительности. И если, как у Росселлини, она участвует в раскрытии смысла
фильма, то причина заключается в том, что пустоты, пробелы, части события,
остающиеся скрытыми от нас, по самой природе своей конкретны — это камни,
которых недостает в здании. Ведь и в жизни мы знаем не все, что происходит с
другими. В классическом монтаже эллипсис есть стилистический прием; у
Росселлини он представляет собой пробел в действительности или, скорее, в нашем
знании о ней, которое по природе своей ограничено.
Таким
образом, неореализм есть прежде всего онтологическая позиция, и лишь во вторую
очередь — позиция эстетическая. Поэтому использование его технических приемов в
качестве некоего рецепта вовсе не гарантирует его непременного воссоздания.
Свидетельством тому служит быстрый упадок американского неореализма. И даже в
Италии далеко не все фильмы без актеров, построенные на уличном происшествии и
снятые на натуре, оказываются лучше традиционных и зрелищных мелодрам. И
наоборот, можно назвать неореалистическим такой фильм, как «Хроника любви»
Микельанджело Антониони, ибо, несмотря на профессионализм актеров, произвольный
характер интриги и полицейского сюжета, роскошь некоторых декораций и барочные
костюмы героини, режиссер не прибегает к экспрессионизму, который был бы
внешним по отношению к персонажам; он строит все свои расчеты на их образе
жизни, их манере плакать, ходить и смеяться. Они оказываются в ловушке интриги,
подобно
==285
лабораторным крысам, которых заставляют бегать по лабиринту.
Предвижу
возражения, основанные на разнообразии стилей лучших итальянских
кинематографистов. Знаю также, сколь им не нравится самый термин «неореализм».
Насколько мне известно, только Дзаваттини не стыдится признавать свою
принадлежность к неореализму. А большинство отрицает само существование новой
реалистической итальянской школы, которая охватывала бы их всех. Но это лишь
реакция творческих деятелей против критиков. Будучи художником, режиссер в
значительно большей степени осознает свои отличия, нежели общие черты, роднящие
его с другими. Понятие неореализма было наброшено, подобно сети, на всю
итальянскую послевоенную кинематографию; теперь каждый пытается высвободиться
из силков, в которых его пытаются удержать. Несмотря на эту естественную
реакцию, преимущество которой состоит в том, что она заставляет нас всякий раз
задуматься над слишком удобной критической классификацией, мне тем не менее
кажется, что имеется достаточно веских оснований ее сохранить, даже вопреки
самым заинтересованным лицам.
На
первый поверхностный взгляд может, разумеется, показаться, что приведенное выше
краткое определение неореализма опровергается творчеством Латтуады,
отличающимся расчетливым и утонченно архитектурным видением, или барочной
безудержностью и романтическим красноречием Де Сантиса, или изысканной
театральностью Висконти, который выстраивает самую вульгарную действительность,
словно мизансцену оперы или классической трагедии. Подобные эпитеты общи и
спорны, если рассматривать их в свете других возможных эпитетов, которые
подтверждали бы существование формальных различий и стилистических
противоречий. Упомянутые три режиссера столь же отличаются друг от друга, как и
от Де Сики. Тем не менее их общее родство очевидно, если присмотреться к ним
издали, особенно если перестать их сравнивать между собой и обратиться к
американскому, французскому или советскому кинематографу.
Дело в
том, что неореализм не существует обязательно в чистом виде и его можно
представить себе в сочетании с другими эстетическими тенденциями.
==286
Биологи различают, однако, среди наследственных признаков,
полученных от несхожих родителей, некоторые так называемые доминантные факторы.
Это относится и к неореализму. Подчеркнутая театральность Малапарте * в
«Запрещенном Христе» может быть многим обязана немецкому экспрессионизму, и все
же фильм не становится от этого менее неореалистическим, коренным образом
отличающимся, например, от реалистического экспрессионизма Фрица Ланга2.
Пожалуй,
я слишком отвлекся от Де Сики. Но сделал это лишь для того, чтобы лучше
определить его место в современной итальянской кинематографии. Трудность
критического подхода к создателю «Чуда в Милане» является, по-видимому,
наиболее знаменательным показателем его стиля. Не связана ли невозможность
анализа формальных характеристик этого стиля с тем, что он представляет собой
наиболее чистое выражение неореализма, что «Похитители велосипедов» служат как
бы нулевой точкой отсчета, идеальным центром, вокруг которого вращаются по
своей особой орбите произведения других выдающихся режиссеров. Именно эта
чистота и делает его необъяснимым, ибо ее парадоксальная цель состоит не в
создании зрелища, которое казалось бы реальным, а, наоборот, в превращении
реальности в зрелище — идет по улице человек, и зритель поражен красотой
идущего. До получения более полных данных, до тех пор пока не осуществится
мечта Дзаваттини о том, чтобы снять, не монтируя, девяносто минут из жизни
человека, «Похитители велосипедов» останутся несомненно наивысшим выражением
неореализма.
Было
бы, однако, наивным делать вывод, будто режиссура здесь не существует, лишь
потому, что ее задача состоит именно в самоотрицании, в том, чтобы стать
совершенно прозрачной перед лицом раскрываемой ею действительности. Нет нужды
говорить, что лишь немногие фильмы были столь же тщательно согласованы,
продуманы, столь же старательно разработаны; но вся работа Де Сики направлена
здесь на создание иллюзии случайности, на то, чтобы придать драматургической
необходимости характер случайного совпадения. Больше того, ему удалось
превратить случайность в самую материю драмы. В «Похитителях велосипедов» не
происходит ничего, что не могло бы не
==287
произойти — посреди фильма рабочему могло бы посчастливиться
найти свой велосипед. В зале зажегся бы свет, и Де Сика начал бы извиняться за
доставленное беспокойство; но мы были бы все-таки рады за рабочего.
Замечательный эстетический парадокс фильма состоит в том, что он обладает
строгостью трагедии и в то же время в нем все происходит только случайно.
Именно диалектический синтез противоположных ценностей, присущих
упорядоченности искусства и аморфному беспорядку действительности, и придает
фильму его оригинальность. Нет ни одного кадра, который не нес бы смысловой
нагрузки, который не вонзал бы в сознание острие незабываемой нравственной
истины; и в то же время нет ни одного кадра, который предавал бы ради этого
онтологическую двойственность действительности. Ни один жест, ни одно событие,
ни один предмет не предопределены a priori идеологией режиссера. Они с
неопровержимой ясностью располагаются согласно линиям спектра социальной трагедии
так же, как металлические опилки располагаются вдоль силовых линий магнитного
поля: каждое зернышко само по себе. В результате это искусство, в котором ничто
не является необходимым, ничто не утратило непредвиденного характера
случайности, оказывается вдвойне убедительным и доказательным. Нет ведь ничего
удивительного в том, что романист, драматург или кинематографист заставляют нас
обнаружить ту или иную идею,— они вложили ее заранее в свое произведение и
пропитали ею свою материю. Бросьте в воду пригоршню соли, затем заставьте воду
испариться на огне размышления, и вы найдете на дне соль. Если же вода
почерпнута прямо из источника, значит она солона по самой своей природе.
Рабочий Бруно может найти свой велосипед, равно как может выиграть в лотерее (ведь
даже бедняки выигрывают в лотерее), но такая потенциальная возможность с еще
большей убедительностью подчеркивает ужасающее бессилие бедняка. Если бы он
нашел свой велосипед, безмерность его удачи послужила бы еще более сильному
осуждению общества, превратив возврат к обычному человеческому порядку в некое
бесценное чудо, в безмерную милость; она означала бы, что ему повезло, ибо он
не стал еще беднее.
Совершенно
ясно, как далек этот неореализм от формальной концепции, состоящей в том, чтобы
наряжать
==288
вымысел под действительность. Что же касается собственно
техники, то «Похитители велосипедов», подобно многим другим фильмам, были сняты
на улице, с непрофессиональными актерами, но подлинная заслуга фильма заключается
в ином — в том, чтобы не предавать сущности вещей, в том, чтобы дать им
возможность свободно существовать ради самих себя, в том, чтобы любить их за их
особое своеобразие. «Сестра моя — действительность»,— говорит Де Сика, и
действительность окружает его, подобно птицам, вьющимся вокруг Поверелло.
Иные
сажают ее в клетку и учат говорить, а Де Сика беседует с ней, и мы улавливаем
истинный язык действительности, то неоспоримое слово, которое могло быть
подсказано только любовью.
Следовательно,
чтобы дать определение Де Сике, надлежит обратиться к самим истокам его
искусства, каковыми являются нежность и любовь. Несмотря на кажущиеся в большей
мере, нежели действительные, различия (которые было бы нетрудно перечислить),
общей чертой «Чуда в Милане» и «Похитителей велосипедов» оказывается
неисчерпаемая любовь автора к своим персонажам. Знаменательно, что в фильме
«Чудо в Милане» никто из злодеев, никто даже из гордецов и предателей, не
порождает антипатии. Иуда пустырей, продающий лачуги своих сотоварищей пошляку
Мобби, вовсе не вызывает у зрителя гнева. Он, скорее, забавен в своих отрепьях
мелодраматического «злодея», которые носит неумело и неловко: это «хороший»
предатель. Что касается новичков в стане нищих, пытающихся сохранить в своем
падении спесь обитателей роскошных кварталов, то они представляют собой некую
разновидность человеческой фауны, и поэтому их не исключают из сообщества
бродяг, даже когда они требуют плату в одну лиру за любование солнечным
заходом. Надо в равной мере любить солнечный заход для того, чтобы додуматься
до мысли потребовать плату за такое зрелище, и для того, чтобы согласиться на
столь жульническую сделку. Следует отметить, что и в «Похитителях велосипедов»
ни один из главных персонажей не вызывает неприязни. Даже сам вор. Когда Бруно
удается его наконец схватить, зритель морально готов к совершению суда Линча
(как незадолго до этого толпа была готова линчевать Бруно).
==289
Гениальная находка этой сцены в том именно и состоит, чтобы
заставить нас подавить в себе ненависть в самом зародыше и отказаться от
осуждения так же, как Бруно отказывается подать жалобу. Единственные
антипатичные персонажи в «Чуде в Милане» — это Мобби и его приспешники, но ведь
они по-настоящему даже не существуют, являясь лишь условными символами. Стоит
Де Сике показать их нам немного ближе, и мы уже почти готовы ощутить зарождение
умиленного любопытства по отношению к ним. «Бедные богачи,— так и хочется нам
сказать,— как же они разочарованы». Существует много способов любить, есть даже
любовь Инквизиции. Различным толкованиям этики и политики любви грозят самые
страшные ереси. С этой точки зрения ненависть зачастую гораздо более нежна. Но
привязанность Де Сики к своим созданиям не подвергает их никакому риску. В ней
нет ничего угрожающего или чрезмерного, это вежливая и скромная
благожелательность, свободное великодушие, ничего не требующие взамен. В ней
никогда нет примеси жалости, даже по отношению к самому нищему или самому
несчастному, ибо жалость унижает достоинство того, кто оказывается ее объектом.
Она таит в себе попытку овладеть его сознанием.
Нежность
Де Сики есть свойство совершенно особое, с трудом поддающееся какому бы то ни
было обобщению — нравственному, религиозному или политическому. Двойственность «Чуда
в Милане» и «Похитителей велосипедов» широко использовалась и демохристианами и
коммунистами. Тем лучше. Достоинство истинных парабол заключается в том, чтобы
каждый находил в них свое. Не думаю, что Де Сика и Дзаваттини пытаются кого бы
то ни было разубедить. Не берусь также утверждать, будто душевность Де Сики
«сама по себе» более ценна, нежели третья теологическая добродетель3 или
классовое сознание, однако в скромности его позиции я вижу несомненно
художественное преимущество. Она свидетельствует об истинности его чувств и в
то же время утверждает их всеобщность. Эту склонность к любви следует
рассматривать не столько в нравственном аспекте, сколько с точки зрения
индивидуального и этнического темперамента. Что касается истинности, то она
объясняется счастливым естественным предрасположением, развившимся в
К оглавлению
==290
своеобразной атмосфере Неаполя. Рассматриваемые
психологические корни уходят гораздо глубже тех слоев нашего сознания, которые
подвержены влияниям борющихся идеологий. Благодаря своим особым свойствам и
своей неподражаемой жизненности эти корни, не учтенные в гербариях моралистов и
политиков, ускользают парадоксальным образом от их цензуры, а неаполитанская
благожелательность Де Сики превращается благодаря кинематографу в самую широкую
проповедь любви, которую современность имела счастье услышать со времен
Чаплина. Если кто-либо сомневается в ее значительности, то достаточно
припомнить старания противоборствующих критиков причислить его к своему лагерю;
действительно, какая партия согласится уступить противнику силу любви? Наша
эпоха не терпит свободной любви. Но поскольку каждый может с равным основанием
претендовать на владение ею, постольку истинная простодушная любовь
преодолевает стены идеологических и социальных цитаделей.
Отдадим
должное Дзаваттини и Де Сике за двойственность их позиции и воздержимся от
соблазна усматривать в ней интеллектуальное ловкачество, превращающееся в краю
дона Камилло в пагубное стремление ублаготворить каждого ради получения всех
цензурных разрешений. Наоборот, речь идет о позитивном стремлении к поэзии, об
уловках любящего, который выражается при помощи метафор своего времени,
старательно подбирая их, однако, с тем, чтобы найти доступ ко всем сердцам. И
если «Чудо в Милане» вызвало такое множество попыток политического толкования,
то причина состоит в том, что социальные аллегории Дзаваттини не служат крайним
пределом его символики, ибо сами символы представляют собою лишь аллегорию любви.
Психоаналитики утверждают, что наши сны есть нечто противоположное свободному
возникновению зрительных образов. Они выражают какое-либо сокровенное желание
лишь для того, чтобы вырваться за пределы «сверх-я», маскируясь двойной
символикой, общей и личной. Но цензура эта не имеет негативного характера. Не
будь ее, не будь сопротивления, противопоставляемого ею фантазии, и сон не мог
бы существовать. «Чудо в Милане» следует рассматривать лишь как воплощение
сердечной доброты Витторио Де Сики, перенесенной в плоскость
кинематографического
==291
сновидения и выраженной посредством социальной символики
современной Италии. Это позволит объяснить все, что кажется причудливым и
неорганичным в этом странном фильме, ибо иначе трудно понять и нарушения
драматургической последовательности и пренебрежение всякой повествовательной
логикой.
Отметим
мимоходом, чем обязан кинематограф любви ко всему живому. Нельзя полностью
понять искусство Флаэрти, Ренуара, Виго и особенно Чаплина, не попытавшись
предварительно выяснить, какая разновидность нежности, какая чувственная или
сентиментальная привязанность отражается в зеркале их фильмов. Я думаю, кино
больше, чем любое другое искусство, есть собственно искусство любви. В своих
отношениях с порожденными им персонажами романист нуждается больше в разуме
нежели в любви; его любовь заключается главным образом в понимании. Искусство
Чаплина, перенесенное в литературу, не смогло бы избежать известной
сентиментальности; это дало повод Андре Суаресу, человеку по-преимуществу
книжному и явно невосприимчивому к кинематографической поэзии, говорить о
«низменном сердце» Чарли; а ведь в кино это сердце достигло благородства мифа.
Каждое искусство и каждый этап развития любого вида искусства имеют свою шкалу
специфических ценностей. Нежная и насмешливая чувственность Ренуара,
обостренные чувства Виго обретают на экране особое звучание и интонацию, каких
не могли бы им придать иные выразительные средства. Между подобными чувствами и
кинематографом существует таинственное сродство, в котором порой бывает
отказано даже самым великим. В наши дни никто не может с большим основанием,
чем Де Сика, претендовать на чаплиновское наследство. Мы уже указывали, что он
обладает как актер необычайным даром присутствия и лучезарностью, которые
исподволь преобразуют и сценарий и остальных исполнителей настолько, что рядом
с Де Сикой нельзя играть так, будто его роль мог бы исполнить кто-либо иной. Во
Франции нам не посчастливилось узнать его как блестящего исполнителя фильмов
Камерини. Он должен был прославиться как режиссер, чтобы публика обратила
внимание на его имя. К тому времени он уже не обладал внешностью первого
любовника, но его обаяние сохранилось тем более ощутимо, что стало менее
==292
объяснимым. Участвуя в фильмах других кинематографистов как
простой актер, Де Сика все равно оказывается режиссером, ибо само его
присутствие изменяет фильм, влияя на его стиль. Чаплин сосредоточивает
лучезарный свет своей нежности на себе и в себе, в результате из его мира не
всегда исключена жестокость; наоборот, между ней и любовью устанавливается
необходимая и диалектическая связь, как это можно заметить в «Мсье Верду».
Чарли—сама доброта, спроецированная в мир. Он готов все любить, но мир не всегда
отвечает ему взаимностью. Зато Де Сика — режиссер словно распространяет на
своих исполнителей ту потенциальную любовь, которой он обладает как актер.
Чаплин тщательно подбирает своих исполнителей, однако известно, что он делает
это всегда с учетом собственной личности, дабы представить своего героя в
наилучшем свете. У Де Сики мы находим гуманизм Чаплина, распространенный уже на
всех и вся. Де Сика наделен способностью сообщать другим силу человечности и
удивительную привлекательность лица и жеста, которые своим своеобразием
неотразимо утверждают достоинство человека. Риччи («Похитители велосипедов»),
Того («Чудо в Милане») и Умберто Д. напоминают Чаплина и Де Сику, хотя своим
физическим обликом очень далеки от обоих.
Было бы
ошибкой думать, что любовь, которую Де Сика сам испытывает к человеку и нас
заставляет проявлять к нему, есть некий эквивалент оптимизма. Но если никого
нельзя по существу считать злодеем, если по отношению к отдельному человеку мы
вынуждены отказаться от обвинения, как это сделал Риччи, столкнувшись с тем,
кто его обокрал, тогда следует признать, что зло, все же существующее в мире,
заключено не в сердце человека, а где-то в самом порядке вещей. Можно сказать,
что оно заложено в обществе, и это было бы отчасти верно. В известном смысле
«Похитители велосипедов», «Чудо в Милане» и «Умберто Д.»—обвинительные акты
революционного характера. Не будь безработицы, утрата велосипеда не стала бы
трагедией. Однако совершенно ясно, что такое политическое толкование не
отражает всю полноту драмы. Де Сика возражает против сравнения «Похитителей
велосипедов» с произведениями Кафки на том основании, что отчужденность его
героя носит социальный, а не
==293
метафизический характер. Так оно и есть, но мифы Кафки ничуть
не утрачивают своей значимости, если их рассматривать как аллегории
определенной социальной отчужденности. Нет нужды верить в жестокого бога, чтобы
испытывать виновность господина К. Наоборот, драма заключается в ином — бога не
существует, последняя комната замка пуста. В этом, быть может, состоит
своеобразие трагедии современного мира — в переходе к трансцендентности
социальной действительности, которая сама порождает свое собственное
обожествление. Злоключения Бруно и Умберто Д. вызваны непосредственными и
видимыми причинами, но мы замечаем в них еще некий нерастворимый осадок,
состоящий из психологической и материальной сложности социальных отношений:
оказывается, никакое совершенство общественных институтов, никакая добрая воля
ближнего не в состоянии уничтожить этот осадок. Природа его не становится в
результате менее позитивной и социальной, но его воздействие обусловлено
бессмысленным и неотвратимым роком. Это и составляет, по-моему, величие и
богатство «Похитителей велосипедов». Этот фильм двояко служит интересам
справедливости — посредством неопровержимого изображения бедствий пролетариата,
а также при помощи подразумеваемого в нем постоянного призыва к человечности,
которую общество, каким бы оно ни было, обязано соблюдать. Фильм осуждает мир,
где бедняки, для того чтобы выжить, вынуждены воровать друг у друга (ибо
богачей слишком хорошо защищает полиция). Однако этого необходимого осуждения
недостаточно, ибо речь идет не только о данной исторической организации или
определенной экономической конъюнктуре, а также о врожденном равнодушии
социального организма как такового, к превратностям личного счастья. Иначе
земной рай оказался бы уже в Швеции, где велосипеды днем и ночью спокойно стоят
вдоль тротуаров. Де Сика слишком любит своих собратьев-людей, чтобы не желать
исчезновения всех возможных причин их бедствий, но он напоминает также о том,
что счастье каждого человека, в Милане или в ином месте, есть чудо любви.
Общество, которое не умножает поводов для удушения счастья, разумеется, лучше
общества, сеющего ненависть. Но даже самое совершенное общество неспособно
породить любовь, которая остается явлением
==294
личным, связывающим одного человека с другим. В какой стране
стали бы сохранять лачуги, расположенные на нефтеносном участке? В каком краю
потеря служебной бумаги не вызывала бы такой же тревоги, как похищение
велосипеда? В сферу политики входят разработка и установление объективных
условий индивидуального счастья, а вот соблюдение субъективных его условий ей
по природе не свойственно. Вот тут-то и кроется определенный пессимизм Де Сики,
пессимизм необходимый, за который мы ему бесконечно обязаны, ибо в нем
заключается призыв к раскрытию возможностей, заложенных в человеке,
свидетельство его высшей и неопровержимой гуманности.
Я
говорил о любви, но я мог бы говорить и о поэзии. Эти два слова — синонимы или
по крайней мере дополняют друг друга. Поэзия есть активная и творческая форма
любви, ее проекция в мир. Испорченное и опустошенное социальным неустройством
детство маленьких «шуша» 4 сохранило все же способность преобразовывать свою
нищету в прекрасные мечты. Во французских начальных школах ученикам внушают:
«Кто украл яйцо, украдет и быка» 6. А Де Сика говорит: «Кто крадет яйцо,
мечтает о лошади». Чудодейственная сила Тото, которой его наделила приемная
бабка, заключается в сохраненной с детских лет неисчерпаемой способности к
поэтической защите; наиболее значительным трюком «Чуда в Милане» мне кажется
тот, где Эмма Грамматика бросается к пролитому молоку. Любой другой человек
упрекнул бы Тото в неповоротливости и вытер молоко тряпкой, тогда как цель
стремительного движения доброй старухи состоит лишь в том, чтобы преобразовать
маленькую катастрофу в чудесную игру, увидеть в пролитом молоке— ручеек, который
струится среди соответствующего ему пейзажа. То же относится и к таблице
умножения— этому извечному пугалу детства, которая благодаря старушке
превращается в мечту горожанина. Тото дает названия улицам и площадям: «4Х4=16»
или «9Х Х9=81», ибо для него эти холодные математические символы прекраснее
мифологических имен. И здесь снова приходит на ум Чаплин; он тоже обязан
детству своей удивительной способностью преображать мир ради лучшего. Когда
действительность сопротивляется и он не в силах изменить ее материально, он
==295
преобразует ее смысл. Таков в «Золотой лихорадке» танец
пирожков; таково жаркое из башмаков. Разница состоит лишь в том, что Чарли,
всегда занимающий оборонительную позицию, приберегает этот дар преображения для
себя самого или, в лучшем случае, для любимой женщины. Наоборот, у Тото он
излучается вовне. Тото ни минуты не думает о тех преимуществах, которые голубка
могла бы дать ему. Его собственная радость отождествляется с той, которую он
может распространить вокруг себя. Когда он ничего уже не в силах сделать для
ближнего, у него остается еще способность преображаться самому, принимая
различные облики,— перед хромым он начинает прихрамывать, перед карликом
делается малышом, перед кривым притворяется слепцом. Голубка есть не что иное,
как дополнительная способность к материальному воплощению поэзии; большинство
людей нуждается в дополнительной фантазии, а Тото не знает, что с ней делать,
если не использовать на благо других.
Дзаваттини
сказал мне: «Я похож на художника, остановившегося перед лужайкой в раздумье —
с какой бы травинки начать». Де Сика—идеальный режиссер для воплощения такого
подхода к жизни. Существует искусство живописи, изображающее лужайку в виде
цветных прямоугольников. Но есть также искусство драматургов, разделяющих время
жизни на эпизоды, которые в соотношении с переживаемым мгновением аналогичны
травинке в соотношении с лужайкой. Чтобы нарисовать каждую травинку, надо быть
«Таможенником» Руссо6. А в кино для этого надо обладать любовью Де Сики ко
всему живому.
Эта
статья, написанная в 1952 году, была впервые опубликована на итальянском языке
в издательстве «Гуанда», Парма, 1953.
«ПОХИТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ»
В
настоящий момент меня больше всего поражает в итальянской кинематографии то,
что ей, по-видимому, суждено выйти из эстетического тупика, в который ее,
казалось бы, завел неореализм. Когда прошло ослепление, принесенное 1946 и 1947
годами, возникло опасение, что эта полезная и разумная реакция против
==296
итальянской эстетики пышных постановок и — в более широком
плане — против технической эстетизации, от которой страдал кинематограф всего
мира, не сможет пойти дальше создания своего рода супердокументальных кинолент
или беллетризованных репортажей. Многие принялись утверждать, будто успех
фильмов «Рим—открытый город», «Пайза» или «Шуша» неотделим от известной
исторической конъюнктуры, будто он был обусловлен Освобождением, будто техника
этих фильмов была возвеличена революционной значимостью темы. Подобно тому как
некоторые книги Мальро или Хемингуэя обретают в своеобразной кристаллизации
журналистского стиля именно ту форму повествования, которая наиболее
соответствует трагедии современности, так и фильмы Росселлиня или Де Сики якобы
обязаны тем, что стали выдающимися произведениями и «шедеврами», лишь
случайному соответствию формы и содержания. После того как новизна, а главное,
пикантность технической непосредственности исчерпали эффект неожиданности, что
могло остаться от итальянского неореализма, если он под влиянием обстоятельств
должен был вернуться к традиционным сюжетам — полицейским, психологическим или
даже бытовым? Добро бы только кинокамера, вынесенная на улицу. А как быть с
замечательным непрофессиональным исполнительством? Разве оно не обрекает само
себя на смерть по мере того, как все новые «находки» умножают ряды
международных кинозвезд? Отсюда, естественно, возникало обобщение этого
эстетического пессимизма: «реализм» может занимать в искусстве лишь
диалектическую позицию, будучи скорее реакцией, нежели самодовлеющей истиной.
Оставалось лишь ввести его в ту эстетическую систему, которую ему якобы суждено
было подтвердить своим появлением.
Впрочем,
сами итальянцы не отставали от хулителей своего «неореализма». Нет, кажется, ни
одного итальянского режиссера, включая и самых «неореалистических», кто не
настаивал бы изо всех сил на необходимости покончить с ним.
В
результате французский критик начинал испытывать сомнения. Тем более что
прославленный неореализм довольно скоро стал проявлять заметные признаки
усталости. Появились довольно забавные комедии,. которые с завидной легкостью
принялись разменивать
==297
по мелочам формулу, на которой были основаны «Четыре шага в
облаках» или «Жить в мире». Но самым скверным было возникновение
«неореалистических» суперпостановок, в которых стремление к подлинности
атмосферы, к нравственности поступков, к изображению народной среды, а также
«социальный» фон становились академическим штампом, еще более отвратительным,
чем слоны «Сципиона Африканского». Ибо само собой разумеется, что
неореалистический фильм может обладать любыми недостатками, кроме академизма.
На Венецианском фестивале этого года был представлен фильм Луиджи Кьярини'
«Договор с дьяволом» (1949) — мрачная деревенская любовная мелодрама, явно
пытающаяся найти модное алиби в сюжете, построенном на конфликте между
пастухами и дровосеками. От подобных упреков не избавлена и удавшаяся в
некоторых отношениях картина Пьетро Джерми «Во имя закона» (1949), которую
итальянцы пытались выдвинуть на фестивале Кнокке-ле-Зут. Заметим, между прочим,
в связи с этими двумя примерами, что неореализм уделяет теперь большое внимание
сельской проблематике, быть может предусмотрительно учитывая успехи городского
неореализма. На смену «открытым городам» приходят замкнутые деревни.
Как бы
то ни было, надежды, которые мы возлагали на новую итальянскую школу, начинали
уступать место тревогам и даже скептицизму. Тем более что сама эстетика
неореализма по характеру своему противится повторам или аутоплагиату, которые,
строго говоря, возможны, а порой даже естественны для некоторых других
традиционных жанров (полицейские фильмы, вестерны, фильмы настроения и т. д.).
Мы даже начали обращать свои взоры в сторону Англии, кинематографическое
возрождение которой также является отчасти плодом реализма — реализма
документальной школы, сумевшей до войны и во время нее углубить возможности,
предоставленные социальными и техническими условиями. Вероятно, такой фильм,
как «Короткая встреча» (режиссер Дэвид Лин, 1946), был бы немыслим без
десятилетнего труда Грирсона, Кавальканти или Пола Рота. Англичане сумели, не
порывая с методами и историей европейского и американского кино, соединить
самый изысканный эстетизм с достижениями определенно реалистического плана. Нет
==298
ничего более выстроенного, более согласованного, чем
«Короткая встреча», создание которой немыслимо без самых современных
возможностей киностудии, без умелых и именитых актеров; и все же нельзя себе
представить более реалистического изображения английских нравов и психологии.
Разумеется, Дэвид Лин ничего не выиграл, сделав в этом году «Пылких друзей»
(1948)—подобие новой «Короткой встречи» (фильм был представлен на Каннском
фестивале). Однако его можно упрекнуть лишь в повторении сюжета, а не в
использовании приемов, которые могли бы служить бесконечно *.
Пожалуй,
я достаточно рьяно выступал в защиту неправого дела. Теперь можно и признаться,
что мои сомнения относительно итальянского кино никогда не заходили столь
далеко; тем не менее верно, что все приведенные мною аргументы выдвигались —
особенно в Италии — людьми неглупыми и, к сожалению, выдвигались не без
основания. Правда и то, что эти доводы нередко смущали меня самого и что ко
многим из них я готов присоединиться.
Но
теперь появились «Похитители велосипедов» и два других фильма, которые,
надеюсь, мы скоро узнаем во Франции. Ибо, создав «Похитителей велосипедов», Де
Сика сумел выйти из тупика и вновь оправдать всю эстетику неореализма.
«Похитители
велосипедов» — фильм неореалистический согласно всем принципам, которые можно
найти в лучших итальянских кинолентах начиная с 1946 года. «Народная» и даже
народническая интрига — случай из повседневной жизни рабочего, ничуть не
похожий на те необычайные события, которые происходят с рабочими исключительной
судьбы в духе
* Этот
параграф, прославляющий английский кинематограф». но не делающий чести автору,
я сохраняю как свидетельство критических иллюзий, которые питал не я один по
отношению к послевоенному английскому кино. «Короткая встреча» произвела. в
свое время почти столь же сильное впечатление, как «Рим — открытый город».
Времени предстояло показать, какому из этих: двух фильмов суждено было
настоящее кинематографическое будущее. В конечном счете фильм Ноэля Коуарда и
Дэвида Лина не был столь многим обязан документальной школе Грирсона. (Пометка
Андре Базена, сделанная значительно позднее появления статьи, по-видимому, в
1956 году.)
==299
Габена, В фильме нет преступления, совершенного в состоянии
аффекта, нет грандиозного полицейского совпадения, которое переносило бы в
экзотику пролетарской среды великие трагические схватки, бывшие некогда уделом
лишь обитателей Олимпа. Случай действительно незначительный, даже банальный,—
рабочий проводит целый день, тщетно разыскивая на улицах Рима украденный
велосипед. Велосипед был его орудием труда; если его не удастся отыскать,
владельцу придется, вероятно, снова стать безработным. Вечером, после
многочасовых бесплодных поисков, он сам пытается украсть велосипед; будучи
пойманным, а затем отпущенным на свободу, он оказывается столь же нищим, как
прежде, обретя лишь позор от сознания, что опустился до уровня вора.
Совершенно
ясно, что здесь не наберется материала цаже на уличное происшествие; все дело
не заслуживает и двух строк в рубрике о раздавленных собаках. Но эту историю ни
в коем случае не следует путать с реалистической трагедией в манере Превера или
Цжеймса Казна, где исходное уличное происшествие оказывается в действительности
настоящей адской машиной, подкинутой богами на середину каменной мостовой.
Происшествие само по себе не обладает никакой драматической значимостью. Оно
обретает смысл лишь в зависимости от социального (а не психологического или эстетического)
положения жертвы. Оно осталось бы лишь банальной неудачей, не будь призрака
безрабогицы, точно вписывающего его в итальянское общество 1948 года. Даже сам
выбор велосипеда как ключевого объекта драмы характерен и для итальянских
городских нравов и для эпохи, когда механические средства транспорта были еще
редки и дороги. Не будем больше настаивать — десятки других существенных
деталей умножают связи между сценарием и действительностью и точно обозначают
его как событие политической и социальной истории в таком-то месте, в таком-то
году.
Техника
режиссуры также полностью удовлетворяет самым строгим требованиям итальянского
неореализма. Ни одна сцена не снята в павильоне. Все происходит на улице. Что
касается исполнителей, то ни один из них не имел ни малейшего театрального или
кинематографического опыта. Главного героя играет
К оглавлению
==300
рабочий с завода Бреда, мальчишку нашли на улице, среди
зевак, жена рабочего — журналистка.
Таковы
исходные данные. Как видно, они ничем не обновляют неореализма фильмов «Четыре
шага в облаках», «Жить в мире» или «Шуша». A priori были, пожалуй, даже особые
основания для недоверия. Неприглядность сюжета соответствовала наиболее спорным
тенденциям итальянской истории — известному пристрастию к убогости и
систематическому выискиванию отталкивающих подробностей.
Если
«Похитители велосипедов» — подлинный шедевр, равный по своей строгости фильму
«Пайза», то причиной тому служит целый ряд очень точных обстоятельств, которые
не выявляются ни в простом изложении сценария, ни в поверхностном описании
методов режиссуры.
Прежде
всего имеется сценарий, который дьявольски ловко построен; основываясь на алиби
социальной хроники, он опирается на несколько систем драматургических
координат, поддерживающих его во всех направлениях. «Похитители велосипедов» —
несомненно единственный значительный коммунистический фильм за последние десять
лет именно потому, что он сохраняет свой смысл, даже если отбросить его социальное
значение. Его социальное содержание нельзя выделить, оно есть имманентное
свойство происходящего. Но оно настолько ясно, что никто не может им
пренебречь, ни тем более отвергнуть, ибо оно никогда не проявляется само по
себе. Подразумеваемый фильмом тезис отличается замечательной и ужасающей
простотой — в том мире, где живет этот рабочий, бедняки должны, воровать друг у
друга, чтобы выжить. Но этот тезис никогда не формулируется как таковой;
сцепление событий постоянно отличается строгим и в то же время анекдотическим
правдоподобием. Собственно говоря, к середине фильма рабочий мог бы найти свой
велосипед; но тогда просто не было бы фильма. («Простите за беспокойство,—
сказал бы режиссер,— мы, видите ли, думали, что он его не найдет, но раз уж он
его нашел, все хорошо, тем лучше для него. Вечер окончен, можно зажигать
огни».) Иными словами, пропагандистский фильм пытался бы доказать, что рабочий
не может найти свой велосипед и что он неизбежно заключен в дьявольском кругу
своей нищеты. Де Сика
==301
ограничивается показом того, что рабочий может не найти свой
велосипед и что он, вероятно, из-за этого вновь станет безработным. Но всякому
видно, что именно случайный характер сценария определяет необходимость тезиса,
тогда как малейшее сомнение в необходимости событий в пропагандистском сценарии
сделало бы тезис гипотетическим.
Но если
нам ничего не остается, как на основании злоключений рабочего сделать вывод о
необходимости осуждения определенной
формы взаимоотношений между человеком и его трудом, то сам фильм никогда
не сводит события и действующих лиц к некоему экономическому или политическому
манихейству. Он остерегается нечестности по отношению к действительности, не
только придавая последовательности событий случайную и словно анекдотическую
хронологию, но и рассматривая каждое явление в его феноменологической
целостности. Если мальчишке в разгар погони вдруг хочется помочиться, он это
делает. Если внезапный ливень заставляет отца и сына укрыться в подворотне, нам
тоже приходится прервать поиск, чтобы переждать грозу. События не служат, по
существу, знаками чего-то, символами некоей истины, в которую нас еще надо
заставить поверить; они сохраняют всю свою весомость, все свое своеобразие, всю
свою двойственность факта. Таким образом, если вам не хватает проницательности,
чтобы все увидеть, вы можете приписывать последствия происходящего неудаче и
случаю. То же относится и к людям. Рабочий столь же обездолен и изолирован в
своем профсоюзе, как и на улице или в непередаваемой сцене с католическими
«квакерами», среди которых ему предстоит оказаться; профсоюз создан ведь не для
того, чтобы разыскивать велосипеды, а чтобы изменять мир, в котором утрата
велосипеда обрекает человека на нищету. Поэтому рабочий приходит не для того,
чтобы жаловаться «по профсоюзной линии», а чтобы встретить товарищей, которые
смогут помочь ему найти украденный предмет. Собрание пролетариев, членов
профсоюза, ведет себя по отношению к несчастному рабочему так же, как банда
патерналистски настроенных буржуа. В своей личной беде расклейщик афиш столь же
одинок в профсоюзе, как и в церкви (товарищи тут ни при чем, ведь товарищи —
дело частное). Это сходство необычайно умело исполь
==302
зовано, ибо оно со всей остротой вскрывает контраст.
Равнодушие профсоюза нормально и оправдано, ибо профсоюзы действуют в интересах
справедливости, а не из милосердия. Зато давящий патернализм католических
«квакеров» невыносим, ибо их «милосердие» слепо к личной трагедии и в то же время
ничего не делает, чтобы действительно изменить мир, порождающий ее. Наиболее
удачна с этой точки зрения сцена, когда во время грозы стайка австрийских
семинаристов окружает в подворотне рабочего и его сына. Нет никакого
действительного повода упрекать их в чрезмерной болтливости, ни тем более в
том, что они говорят по-немецки. Но трудно было создать ситуацию объективно
более антиклерикальную.
Совершенно
очевидно — и я мог бы привести двадцать других примеров,— что события и
персонажи никогда не используются ради доказательства социального тезиса.
Однако тезис выявляется во всеоружии и с тем большей неопровержимостью, что
привносится как бы дополнительно. Не фильм, а наш разум сам выявляет и
выстраивает его. Де Сика безошибочно выигрывает ставку, о которой и не
помышлял.
Этот
прием вовсе не нов в итальянском кино; мы обстоятельно доказывали его ценность,
говоря о фильме «Пайза», а несколько ранее—о фильме «Германия, год нулевой».
Однако эти два произведения относились к темам Сопротивления или войны. «Похитители
велосипедов» — первый решающий пример, доказывающий возможность применения
такого «объективизма» для разработки разнородных сюжетов. Де Сика и Дзаваттини
заставили неореализм перейти от Сопротивления — к Революции.
Таким
образом, тезис фильма скрывается за совершенно объективной социальной
действительностью, а она в свою очередь отходит на задний план нравственной и
психологической драмы, которая сама по себе могла бы оправдать фильм. Образ
ребенка — гениальная находка; причем неизвестно, принадлежит ли она в конечном
счете сценарию или режиссуре, настолько это различие утрачивает здесь свой
смысл. Именно ребенок придает событиям, переживаемым рабочим, их этическое
значение и обогащает драму, которая могла бы иметь лишь социальный смысл,
открывая в ней индивидуальную нравственную глубину. Удалите
==303
ребенка, и сюжет останется, казалось бы, неизменным;
доказательство состоит в том, что его пересказ строился бы по-прежнему.
Мальчишка ограничивается, собственно, тем, что следует за отцом, семеня рядом с
ним, Но он оказывается интимным свидетелем, эдаким «персональным» хором,
сопровождающим трагедию. В высшей степени искусный ход состоит в том, что роль
жены сведена почти на нет, благодаря чему личный характер драмы воплощается в
ребенке. Сообщничество, устанавливающееся между отцом и сыном, отличается
чрезвычайной тонкостью, проникающей до самых корней нравственной жизни. Именно
восхищение ребенка отцом и отцовское осознание этого восхищения придают финалу
фильма трагическое величие. Общественный позор рабочего, которого на глазах у
всех разоблачают и бьют по щекам, несоизмерим со стыдом, испытываемым от
сознания, что сын был всему свидетелем. Когда отцом овладевает искушение
украсть велосипед, молчаливое присутствие мальчишки, угадывающего мысль отца,
почти непристойно жестоко. Отец приказывает сыну уехать на трамвае, пытаясь
избавиться от него, но это равноценно тому, как обитатели тесного жилища
отправляют в нужный момент ребенка посидеть часок на лестнице. Лишь в лучших
фильмах Чаплина можно найти ситуации, столь же глубоко потрясающие своей
лаконичностью. Заключительный жест мальчика, снова протягивающего отцу руку,
часто неправильно истолковывали в этом плане. Было бы недостойным фильма
усматривать здесь уступку чувствительности публики. Де Сика дает зрителям это
удовлетворение лишь потому, что оно соответствует логике драмы. Пережитое
должно стать решающим этапом в отношениях между отцом и сыном, знаменуя как бы
наступление зрелости. До сих пор отец был для сына богом; их отношения
строились под знаком восхищения. Поступок отца их подорвал. Слезы, которые оба
проливают, шагая бок о бок с опущенными руками,— воплощение отчаяния из-за
утраченного рая. Но ребенок возвращается к отцу, несмотря на его падение;
отныне он будет его любить по-мужски, со всем его позором. Рука, которую он
просовывает в руку отца,— вовсе не знак прощения или детского утешения; это
совершенно серьезный жест, который определяет отношения между отцом и сыном,—
он делает их равными.
==304
Наверное, было бы слишком долго перечислять многочисленные
второстепенные функции мальчишки в фильме как с точки зрения построения сюжета,
так и в отношении самой режиссуры. Следует отметить по крайней мере изменение
тона (почти в музыкальном смысле этого термина), которое вносит в картину его
присутствие. Бесцельные скитания мальчика и рабочего заставляют нас перейти из
плоскости социально-экономической в плоскость частной жизни; ложная тревога
из-за падения мальчика в воду, благодаря которой отец вдруг осознает
относительную незначительность своих злоключений, создает в самом центре
истории некий драматический оазис (сцена в ресторане), оазис, разумеется,
иллюзорный, ибо реальность этого интимного счастья в конечном счете зависит от
пресловутого велосипеда. Таким образом, ребенок представляет собой некий
драматургический резерв, который в зависимости от обстоятельств служит то
контрапунктом, то аккомпанементом, то, наоборот, выступает на передний план
развития мелодии. Впрочем, эта внутренняя по отношению к сюжету функция
отчетливо проявляется в оркестровке ходьбы мальчика и мужчины. Прежде чем
остановить свой выбор на этом ребенке, Де Сика заставил его сделать не пробы
игры, а одни лишь пробы ходьбы. Он хотел добиться, чтобы рядом с волчьей
походкой мужчины возникли семенящие шаги мальчонки, ибо гармония этого
несоответствия имеет сама по себе решающее значение для понимания всей
режиссуры. Не будет преувеличением сказать, что «Похитители велосипедов» — это
история прохода отца и сына по улицам Рима. Где бы ни был мальчишка — спереди,
сзади, рядом или, наоборот, как в эпизоде, когда он дуется из-за пощечины, в
мстительном отдалении,— сам факт его местонахождения никогда не является
незначительным. Наоборот, он составляет феноменологию сценария.
Трудно
себе представить при столь удачном подборе этой пары — рабочего и его сына,—
что Де Сика мог бы обратиться к известным актерам.
Отсутствие
профессиональных актеров не внове. Но и в этом «Похитители велосипедов»
превосходят все предшествующие фильмы. Отныне кинематографическая девственность
исполнителей не зависит более от особой смелости, удачи или некоего счастливого
==305
сочетания сюжета, эпохи и нации. Весьма возможно, что
этническому фактору придавалось до сих пор чрезмерное значение. Разумеется,
итальянцы, как и русские,— от природы наиболее театральный народ. В Италии
последний уличный мальчишка стоит Джекки Кугана2, а повседневная жизнь есть
непрерывная комедия масок. И все же мне кажется мало вероятным, что миланцы,
неаполитанцы, крестьяне, живущие вдоль реки По, или сицилийские рыбаки в равной
мере наделены актерскими талантами. Если кто-нибудь вознамерился бы приписать
естественность итальянских исполнителей только их этническим особенностям, то
помимо расовых различий нашлось бы достаточно исторических, лингвистических,
экономических и социальных контрастов, чтобы опровергнуть этот тезис. Нельзя
себе представить, чтобы столь различные по теме, звучанию, стилю и технике
фильмы, как «Пайза», «Похитители велосипедов», «Земля дрожит» и даже «Небо над
болотами» (режиссер А. Дженина, 1949), были наделены одним общим качеством
исключительного исполнительского мастерства. Можно еще допустить, что
итальянец-горожанин в большей мере обладает даром «спонтанного актерства», но
уже крестьяне в фильме «Небо над болотами» — поистине пещерные люди по
сравнению с селянами из картины «Фарребик». Достаточно одного лишь упоминания
фильма Рукье рядом с произведением режиссера Дженина, чтобы свести опыт француза
— во всяком случае, в этом отношении — к уровню умилительной попытки
благотворительного любительства. Половина диалогов в фильме «Фарребик» строится
на закадровом тексте, потому что режиссеру не удавалось удержать крестьян от
смеха при более длительных репликах. Дженина в фильме «Небо над болотами» и
Висконти в картине «Земля дрожит» работают с десятками крестьян или рыбаков,
доверяя им психологически крайне сложные роли, заставляя их произносить
длиннейшие тексты в сценах, в ходе которых камера вглядывается в лица столь же
безжалостно, как на американской киностудии. При этом мало сказать, что эти
импровизированные актеры хороши или даже совершенны; они попросту стирают самое
представление об актерах, об игре, о персонажах. Кино без актеров? Разумеется! Но
первоначальный смысл этой формулы оставлен далеко позади; следовало бы
==306
уже говорить о кино без исполнительства, о кино, в котором
больше не может быть речи о том, что статист играет более или менее хорошо,—
настолько человек отождествляется со своим персонажем.
Мы не
отклонились, как может показаться, от «Похитителей велосипедов». Де Сика очень
долго искал исполнителей и выбрал их в соответствии с точными характеристиками.
Естественное благородство, характерная для народа чистота черт лица и
походки... Он месяцами колебался, выбирая того или иного, снял сотни проб,
прежде чем принять окончательное решение, и принял его в одно мгновение,
совершенно интуитивно, заметив силуэт, встреченный где-то на углу улицы. В этом
нет никакого чуда. Выдающееся исполнение рабочего и мальчика зависит не от их
необычайных способностей, а от всей эстетической системы, в которую они были
включены. В поисках продюсера Де Сика вынужден был наконец согласиться на то,
что роль рабочего должна была быть поручена Кэри Гранту3. Достаточно так
сформулировать проблему, чтобы сразу выявить всю абсурдность подобной
постановки вопроса. Разумеется, Кэри Грант превосходен в ролях такого рода, но
ведь совершенно ясно, что здесь речь шла не о том, чтобы сыграть роль, а о том,
чтобы исключить самую мысль о ней. Тут требовалось, чтобы рабочий был
одновременно столь же совершенным, анонимным и объективным, как его велосипед.
Такая
концепция актера не менее «артистична», чем ее противоположность. Исполнение
этого рабочего требует не меньше физических данных, ума и понимания указаний
режиссера, как и исполнение заслуженного актера. До сих пор фильмы, снятые
полностью или частично без актеров (например, «Табу», «Quevivo Mexico»,
«Мать»), воспринимались, скорее, как удачи, либо совершенно исключительные,
либо ограниченные определенным жанром. Наоборот, ничто, кроме мудрой
осторожности, не мешает Де Сике сделать хоть пятьдесят таких фильмов, как
«Похитители велосипедов». Отныне все понимают, что отсутствие профессиональных
актеров не связано с каким-либо ограничением в смысле выбора сюжетов. Анонимное
кино окончательно завоевало свое право на эстетическое существование. Из
сказанного вовсе не следует, будто кинематограф будущего должен обходиться без
актеров; Де Сика первым
==307
возразил бы против этого — он, являющийся, между прочим,
одним из лучших актеров мира. Просто для определенных тем, разрабатываемых в
определенном стиле, нельзя больше использовать профессиональных актеров;
итальянское кино окончательно утвердило эти условия работы столь же просто, как
и подлинность обстановки. Именно переход от замечательного, но, быть может,
случайного достижения к точной и безошибочной технике знаменует собой решающий
этап становления итальянского неореализма.
Исчезновению
понятия актера, растворившегося в совершенстве, казалось бы, столь же
естественном, как сама жизнь, соответствует исчезновение режиссуры. Объяснимся:
фильм Де Сики готовился очень долго, и все в нем было тщательнейшим образом
предусмотрено, как в суперпостановке, снятой в павильоне (что, впрочем, и
сделало возможными импровизации, возникшие в последний момент); однако я не
упомню ни одного плана, в котором драматический эффект был порожден
«раскадровкой» как таковой. Она кажется здесь столь же нейтральной, как в
картине Чаплина.
Тем не
менее анализ фильма позволяет обнаружить в нем значительное количество таких
планов, которые мало чем отличают «Похитителей велосипедов» от обычной
киноленты. Но выбор их направлен лишь на то, чтобы наиболее ясно выявить
значимость события при минимальном коэффициенте преломления, обусловленном
стилем. Такого рода объективность весьма отличается от объективности Росселлини
в картине «Пайза», хотя и вписывается в рамки единой эстетики. К ней можно
отнести то, что Андре Жид и особенно Мартен дю Гар говорили о романической
прозе, которая, по их мнению, должна стремиться к самой нейтральной
прозрачности. Подобно тому как исчезновение актера есть результат достижения
высот, выходящих за пределы исполнительского стиля, так и исчезновение
режиссуры есть плод диалектического прогресса в отношении стиля повествования.
Если событие настолько самодовлеюще, что режиссеру не нужно высвечивать его,
используя различные точки съемки и специальные установки камеры,— значит, оно
достигло той совершенной ясности, которая позволяет искусству сбросить маску с
природы, ставшей наконец на него
==308
похожей. Именно поэтому «Похитители велосипедов» постоянно
производят впечатление полнейшей правды.
Если
наивысшая естественность и ощущение случайного наблюдения за событиями во время
их свершения представляют собой результат целой эстетической системы, которая
существует, будучи невидимой, то в конечном итоге это становится возможным
благодаря исходной концепции сценария. Исчезновение актера, исчезновение
режиссуры? Да, несомненно, но причина состоит в том, что у истоков «Похитителей
велосипедов» лежит исчезновение сюжета.
Это
положение двусмысленно. Я, конечно, понимаю, что в фильме есть история, но по
природе своей она отлична от тех, которые мы обычно видим на экране; именно
поэтому Де Сика не мог найти продюсера. Когда Роже Леенхардт вопрошал, облекая
свой вопрос в пророчески критическую формулу: «Зрелище ли кинематограф?»—он тем
самым хотел противопоставить драматический кинематограф романической структуре
киноповествования. Первый заимствует у театра его скрытые движущие силы; сколь
бы специфически экранной ни была интрига драматического кинематографа, она все
же представляет собой алиби действию, которое по существу своему тождественно
классическому театральному действу. В этом плане кинематограф — зрелище так же,
как сценическое представление. С другой стороны, своим реализмом и тем
равенством, которое он устанавливает между человеком и природой, кинематограф
эстетически родствен роману.
Не
углубляясь в теорию романа, которая, впрочем, всегда спорна, скажем в общих
чертах, что романическое повествование или то, что ему родственно, противостоит
театру в силу первичности события по отношению к действию, последовательности —
по отношению к причинности, разума — к воле. Если угодно, для театра характерна
соединительная частица «следовательно»; для романа такой частицей служит союз
«тогда». Столь постыдно приблизительное определение справедливо, может быть, в
том смысле, что оно достаточно верно характеризует два разных вида движения
мысли — у читателя и зрителя. Пруст может заставить нас замереть, обливаясь
слезами, тогда как драматургу грозит неудача, если каждая его реплика не
нацеливает наше внимание на следующую реплику. Поэтому роман
==309
можно откладывать в сторону и вновь раскрывать, тогда как
пьеса неделима. Временное единство спектакля есть составная часть его существа.
Поскольку кинематограф воплощает физические требования зрелища, он, видимо, не
может ускользнуть и от его психологических законов, но в то же время он
располагает и всеми средствами романа. Таким образом, кинематограф, видимо,
гибрид от рождения; он таит в себе противоречие. Совершенно очевидно, что
прогрессивное развитие кино идет по пути углубления его романических
возможностей. Мы вовсе не против «экранизированного театра», но следует
согласиться с тем, что кинематограф» может в определенных условиях развивать и как
бы полнее раскрывать театр лишь за счет некоторых специфически сценических
особенностей и в первую очередь за счет физического присутствия актера.
Наоборот, роману нечего терять в кино (во всяком случае, в идеале). Фильм можно
представить себе как суперроман, написанная форма которого была бы лишь
неполноценным и временным вариантом.
Что же
сказать, исходя из этой слишком краткой посылки, о том, чем может стать в
современных условиях кинематографическое зрелище? Практически невозможно
игнорировать на экране требования зрелищного и театрального порядка. Остается
искать способ разрешения данного противоречия.
Прежде
всего приходится констатировать, что во> всем мире только современное
итальянское кино осмелилось сознательно отбросить требования зрелищности.
«Земля дрожит» и «Небо над болотами» — фильмы без «действия», развитие которых
(отличающееся несколько эпической романтичностью) не делает никаких уступок
законам драматической напряженности. События возникают здесь в свое время, одно
за другим, и каждое из них одинаково весомо, а если некоторые и несут большую
смысловую нагрузку, то это выявляется лишь a posteriori. Мы вольны мысленно
подставить союз «следовательно» вместо «тогда». В этом отношении «Земля
дрожит» — совершенно «проклятый» фильм, почти непригодный для
коммерческого проката без предварительных купюр, которые делают его
неузнаваемым.
В
том-то и состоит заслуга Де Сики и Дзаваттини. Их «Похитители велосипедов»
построены как
К оглавлению
==310
трагедия, добротно замешанная на извести и песке. Нет ни
одного кадра, который не был бы насыщен исключительной драматической силой, но
нет и такого, который не мог бы нас заинтересовать, независимо от его
драматического продолжения. Фильм развивается в плане чистых случайностей:
дождь, семинаристы, католические «квакеры», ресторан... Все эти события,
казалось бы, взаимозаменяемы; не чувствуется воли, которая. располагала бы их в
соответствии с определенным драматическим спектром. Показательна сцена в
воровском квартале. Мы постепенно теряем уверенность в том, что человек, за
которым гонится рабочий, и есть похититель велосипеда; мы так никогда и не
узнаем, был ли его эпилептический припадок подлинным или притворным. Поскольку
он ни к чему не приводит, этот эпизод был бы бессмысленным как часть
«действия», если бы его романический интерес и его ценность как факта не
наделяли его дополнительно драматической значимостью.
На
самом деле действие развивается вне происходящего и параллельно ему не в результате
нарастания напряжения, а как «суммация» событий. Будучи, если угодно,
зрелищем,— да еще каким! — «Похитители велосипедов» ничуть не зависят от
математических данных драмы. Действие драмы не задано как некое предшествующее
начало; оно вытекает из предварительного бытия повествования, оно есть
«интеграл» действительности. Наивысшая удача Де Сики, к которой другие
режиссеры до сих пор лишь в той или иной степени приближались, состоит в том,
что он сумел найти кинематографическую диалектику, способную подняться над
противоречием между зрелищным действием и событием. Благодаря этому «Похитители
велосипедов» стали одним из первых образцов чистого кино. Ни актеров, ни
сюжета, ни режиссуры; словом, в идеальной эстетической иллюзии действительности
— никакого кино.
«Esprit»,
ноябрь,1949
^^^
==311
ВЫДАЮЩЕЕСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ «УМБЕРТО Д.»
В
противоположность «Похитителям велосипедов», которые были встречены всеобщим
энтузиазмом, «Чудо в Милане» вызвало лишь разногласия; оригинальность сценария,
смесь фантастики с повседневностью, современное пристрастие к политической
криптографии создали этому необычному произведению скандальный успех (механизм
которого досконально раскрыла с безжалостным юмором Мишлин Виан в превосходной статье,
опубликованной в журнале «Temps moderns»).
Вокруг
«Умберто Д.» складывается заговор молчания. Его упрямо и недовольно
замалчивают; в результате даже то хорошее, что было написано, словно обрекает
фильм на лишенное отзвука почтение. В то же время глухая неприязнь и презрение
(не высказываемые ввиду славного прошлого его авторов) тайно подогревают
враждебность многих критических статей. По поводу «Умберто Д.» не будет даже
боя.
А ведь
это один из наиболее революционных, наиболее смелых фильмов не только
итальянского кино, но и всей европейской кинематографии за последние два года.
Это чистейший шедевр, который, несомненно, будет освящен историей кино, если
окажется, что непонятная рассеянность или ослепление любителей кино дадут ему в
настоящий момент затонуть среди обыденности, сдержанного и бесплодного
почтения. Пусть широкая публика стоит в очередях, чтобы попасть на
«Восхитительные создания» или «Запретный плод», чему, быть может, способствует
закрытие домов терпимости. Но должно же найтись в Париже хоть несколько
десятков тысяч зрителей, ждущих от кинематографа иных радостей. Неужели
«Умберто Д.» сойдет с афиш раньше времени, к стыду парижской публики?
Основная
причина недоразумений, вызванных «Умберто Д.», состоит в сравнении с
«Похитителями велосипедов». С известной долей справедливости могут сказать, что
после поэтически-реалистического отступления, сделанного в картине «Чудо в
Милане», Де Сика «возвращается к неореализму». Так оно и есть, если к этому
добавить, что совершенство «Похитителей велосипедов» было лишь отправной
точкой, тогда как в нем
==312
усматривали некое завершение. Появление «Умберто Д.» было
необходимо, чтобы понять, какие элементы реализма в «Похитителях велосипедов»
были еще уступкой классической драматургии. «Умберто Д.» сбивает с толку прежде
всего отказом от всяких аналогий с традиционным кинематографическим зрелищем.
Если
говорить лишь о теме фильма, ее, разумеется, можно свести чисто внешне к
псевдонародной мелодраме с социальными претензиями, к обличению условий жизни
средних классов общества: доведенный до нищеты пенсионер отказывается от
самоубийства, не сумев пристроить свою собаку и не найдя мужества убить ее
вместе с собой. Но этот финальный эпизод не служит патетическим завершением
драматической цепи событий. Если классическая идея «построения» еще сохраняет
здесь хоть какой-то смысл, тем не менее последовательность фактов, рассказанных
Де Сикой, соответствует требованиям, не имеющим ничего общего с драматургией.
Какую причинную связь можно установить между простейшей ангиной, от которой
Умберто Д. лечится в больнице, решением квартирной хозяйки выбросить его на
улицу и мыслью о самоубийстве?
В
квартире ему было отказано независимо от ангины. «Автор-драматург» постарался
бы сделать из этой ангины серьезную болезнь, дабы установить логическую и
патетическую связь между обоими событиями. Здесь же, наоборот, пребывание в
больнице практически не находит объективного оправдания в состоянии здоровья
Умберто Д. и вместо того, чтобы заставить нас печалиться по поводу его судьбы,
превращается, скорее, в забавный эпизод. Впрочем, дело вовсе не в этом. Умберто
Д. приходит в отчаяние не от материальной нужды, хотя она тому решительным
образом способствует, позволяя ему постичь свое одиночество. Скудных услуг, в
которых нуждается Умберто Д., оказывается достаточно, чтобы оттолкнуть его
немногочисленных знакомых. Если говорить о средних классах общества, то фильм в
равной мере обличает сокровенную нищету, и их эгоизм, и отсутствие
солидарности. Герой шаг за шагом погружается в свое одиночество: самое близкое
ему существо, единственная, кто относится к нему с истинной нежностью, это
служаночка в доме квартирохозяйки. Но ее симпатию и добрую волю заглушают
собственные заботы будущей матери-одиночки. В
==313
результате и эта единственная привязанность оказывается
лишним поводом для отчаяния.
Что же
это я, однако, вновь оказался в плену традиционных критических понятий, говоря
о фильме, чью оригинальность мне хотелось бы доказать? Лишь задним числом,
взглянув на рассказанную в фильме историю с расстояния, в ней можно обнаружить
некую драматургическую географию, общую эволюцию персонажей и некоторую
конвергенцию событий. Единицей построения повествования в фильме служит не
эпизод, не событие, не внезапный поворот, не характеры персонажей, а
последовательность конкретных мгновений жизни, ни об одном из которых нельзя
сказать, что оно важнее других — их онтологическое равенство в самой основе
уничтожает драматическую категорию как таковую. Напомню поразительный эпизод,
который сохранится навсегда как одно из высших достижений кино и который в то
же время служит идеальной иллюстрацией такой концепции повествования, а
следовательно, и режиссуры,— это утреннее пробуждение служаночки, за чьими
мелкими утренними заботами наблюдает камера; совсем еще сонная, она бродит по
кухне, обливает водой муравьев, заполнивших раковину, мелет кофе... Кино
становится здесь полной противоположностью «искусства эллипсиса», с которым, по
легковесному убеждению многих, оно неразрывно связано.
Эллипсис
— есть логический и, следовательно, абстрактный прием повествования,
предполагающий анализ и отбор, выстраивающий факты в соответствии с
драматургическим замыслом, которому они должны подчиниться. Наоборот, Де Сика и
Дзаваттини стремятся разбить целое событие на мелкие части, а эти последние —
на еще более мелкие события. И так до предела возможности нашего восприятия
длительности происходящего. В классическом фильме, например, «единицей-событием»
стало бы «пробуждение служанки» — для его обозначения было бы достаточно
двухтрех коротких планов. Де Сика заменяет эту единицу повествования рядом
более мелких событий — пробуждением, проходом по коридору, борьбой с муравьями
и т. д. Рассмотрим теперь одно из этих событий. Мы видим, как факт помола кофе
в свою очередь делится на серию автономных моментов — например, движение
==314
кончика вытянутой ноги, чтобы закрыть дверь. Камера,
приближаясь, следует за движением ноги, и в конце концов предметом изображения
в кадре становятся пальцы ноги, ощупывающие деревянную поверхность.
Говорил
ли я уже, что мечта Дзаваттини состоит в том, чтобы снять непрерывный фильм о
девяноста минутах жизни человека, с которым ничего не происходит? Именно в этом
и заключается для него неореализм. Два или три эпизода из «Умберто Д.» не
только дают представление о том, каким мог бы стать подобный фильм, но являются
уже, по существу, его фрагментами. Не будем, однако, заблуждаться относительно смысла
и широты концепции реализма. Для Де Сики и Дзаваттини задача, видимо,
заключается в превращении кинематографа в асьмптоту действительности. С тем,
чтобы в итоге сама жизнь преобразовалась в зрелище, чтобы благодаря этому
чистому зеркалу нам было, наконец, дано увидеть в ней поэзию. То есть увидеть
ее такой, какой ее в конечном счете сделает кинематограф.
«France
Observateur», октябрь, 1952
^^^ «ЗЕМЛЯ
ДРОЖИТ»
Сюжет
фильма «Земля дрожит» (1948) ничем не связан с войной. В нем идет речь о
попытке рыбаков маленького сицилийского поселка восстать против экономического
гнета местного судовладельца. Мне думается, что можно дать довольно точное
представление о фильме, определив его как своего рода «супер-Фарребик» малого
каботажа. Аналогии с произведением Рукье многочисленны — прежде всего почти
документальный реализм и, так сказать, внутренняя экзотика сюжета или
подспудный человечески-географический аспект (для сицилийской семьи надежда
высвободиться из лап судовладельца означает то же, что «электричество» — для
семейства Фарребик). Хотя в картине «Земля дрожит» (сделанной коммунистом)
события касаются всего поселка в целом, сам сюжет раскрывается на материале
одной семьи, от деда до внуков. На роскошном приеме, устроенном кинофирмой «
==315
Универсалия» в венецианском отеле «Эксельсиор», это
семейство немногим отличалось от семьи Фарребик, привезенной на парижские
коктейли. Висконти тоже не захотел обращаться к профессиональным исполнителям,
отказавшись даже от «сплава» в духе Росселлини. Его рыбаки — рыбаки настоящие,
найденные на месте действия. Впрочем, можно ли называть это действием,
поскольку здесь, как и в картине «Фарребик», налицо сознательный отказ от
драматургических ухищрений — история развивается при полном пренебрежении
законами драматической напряженности; как и в жизни, в ней нет никаких уловок,
помимо непосредственного интереса к происходящему как таковому. Этими
аспектами, скорее негативными, чем позитивными, и ограничивается сходство между
фильмами «Фарребик» и «Земля дрожит», ибо по стилю они предельно далеки друг от
друга.
Висконти
стремился к парадоксальному синтезу между реализмом и эстетизмом и несомненно
добился его. Сказанное относится в равной мере к Рукье, однако в «Фарребике»
поэтическая транспозиция достигалась в основном за счет монтажа (вспомните
эпизоды зимы и весны); наоборот, у Висконти она ничем не обязана эффекту
сближения кадров. Здесь каждое изображение несет свой смысл в себе и полностью
выражает его. Поэтому фильм «Земля дрожит» можно лишь отчасти сравнивать с
советским кинематографом 20—30-х годов, в котором существенную роль играл
монтаж. Добавим, что сокровенный смысл раскрывается здесь не за счет символики
изображения, к которой постоянно обращался Эйзенштейн (и Рукье). Эстетика изображения
у Висконти всегда строго пластична, она остерегается малейшей эпической
транспозиции. Флотилия лодок, выходящих в море, может быть потрясающе красива,
но это всего лишь местная рыбачья флотилия, а не символ «энтузиазма» и
поддержки жителей Одессы, посылающих к «Броненосцу «Потемкин» свои ялики, чтобы
доставить восставшим продовольствие. Может возникнуть вопрос: где же искать
искусству убежища после столь аскетически реалистического постулата? Да
повсюду. Прежде всего в самом качестве фотографического изображения. Наш
соотечественник Альдо', не сделавший прежде ничего значительного и известный
лишь как студийный фотограф, создал
==316
глубоко оригинальный стиль изображения, с которым можно
сравнить, пожалуй, лишь стиль шведских короткометражных лент Арне Суксдорфа2.
Ради краткости позволю себе напомнить, что в статье «Кинематографический
реализм и итальянская школа эпохи Освобождения» я исследовал некоторые аспекты
современного кинематографического реализма и пришел к выводу, что фильмы
«Фарребик» и «Гражданин Кейн» соответствуют двум полюсам реалистической
техники. Первый добивается реальности в самом предмете, второй — через
структуры его воспроизведения. В «Фарребике» все—подлинно; в «Гражданине Кейне»
все воспроизведено в павильоне, но сделано это лишь потому, что при натурных
съемках нельзя было бы получить необходимую глубину кадра и строгую композицию
изображения. При сравнении с этими двумя крайностями «Пайза» оказывается в
изобразительном плане, пожалуй, ближе фильму «Фарребик», ибо в ней
реалистическая эстетика проникает между глыбами действительности благодаря
своеобразной концепции повествования. В картине «Земля дрожит» изображение
самым удивительным и парадоксальным образом сочетает документальный реализм
«Фарребика» с эстетическим реализмом «Гражданина Кейна». Здесь впервые если не
в абсолютном смысле, то, во всяком случае, впервые совершенно сознательно,
глубина кадра используется вне павильона, при натурных съемках под открытым
небом, в дождь, даже среди ночи, а также в интерьерах, в «подлинной» обстановке
рыбацких хижин. Не стану еще раз подчеркивать техническую виртуозность этих
съемок, но хочу лишь обратить особое внимание на то, что глубина кадра
естественно привела Висконти (равно как и Уэллса) не только к отказу от
монтажа, но буквально к переосмыслению принципов раскадровки. Его «планы», если
здесь еще можно говорить о таковых, безмерно длинны и длятся иногда по
три-четыре минуты; в них естественно развивается одновременно несколько
действий. Создается впечатление, будто Висконти систематически стремился к
тому, чтобы строить изображение на основе происходящего. Рыбак скручивает
цигарку? От нас ничто не будет скрыто, мы увидим всю операцию полностью. Она не
будет, как это обычно делается при помощи монтажа, сведена к своему
драматическому или символическому
==317
значению. Планы зачастую неподвижны, причем людям и
предметам предоставляется возможность свободно входить в кадр и располагаться в
нем; Висконти использует также весьма своеобразный прием панорамирования, очень
медленно перемещая камеру по обширному сектору. Это единственное движение
аппарата, которое он допускает, полностью исключив всякие проезды и,
разумеется, всякие необычные углы съемки.
Невероятная
скупость подобной раскадровки сглаживается лишь ее поразительным пластическим
равновесием, представление о котором может дать лишь фотографическая
репродукция. Создатели фильма проявляют глубокое постижение своего предмета,
выходящее далеко за -рамки подвижной композиции кадра как таковой. Это особенно
относится к интерьерам, которые до сих пор никак не удавались кинематографу.
Поясню свою мысль. Трудности освещения и съемки почти исключают возможность
использования естественной обстановки в интерьере. Такие съемки иногда
осуществлялись, однако, как правило, их эстетический уровень был гораздо ниже
того, что удавалось достичь при съемках на натуре. Здесь же мы впервые видим
целый фильм, который по стилю раскадровки, по игре актеров и по своим фотографическим
качествам совершенно одинаков как в интерьерных эпизодах, так и в эпизодах,
снятых вне помещения. Висконти оказался на уровне новизны этого достижения.
Несмотря на бедность, а может быть, именно благодаря обыденности рыбацкого
жилища, его изображение отличается столь необычной поэтичностью, интимной и в
то же время социальной.
Однако,
пожалуй, наибольшего восхищения заслуживает мастерство, с которым Висконти
направляет игру своих исполнителей. Кинематограф, разумеется, не впервые
использует актеров-непрофессионалов, но никогда еще — за исключением, быть
может, экзотических фильмов, где эта проблема носит особый характер,— они не
сливались столь полно с наиболее эстетическими элементами фильма. Рукье не
сумел руководить своими исполнителями так, чтобы не ощущалось присутствия
камеры. Неловкость, сдержанный смешок, застенчивость умело прячутся в его
фильме при помощи монтажа, который вовремя срезает реплику. У Висконти
действующее лицо остается в кадре иногда
==318
в течение нескольких минут, разговаривая, передвигаясь,
действуя совершенно естественно, более того — с удивительной грацией. Висконти
пришел из театра и сумел научить своих исполнителей не только естественности,
но и стилизации жеста, представляющей собой вершину актерского мастерства.
Показанное им поразительно. Не будь жюри фестивалей тем, что они есть, приз за
лучшее исполнение должен был быть присужден в Венеции анонимно — рыбакам из
фильма «Земля дрожит».
Совершенно
ясно, что благодаря Висконти итальянский неореализм 1946 года оказался во
многом превзойденным. Иерархическое деление в искусстве, как правило, весьма
бесплодно, однако кинематограф слишком молод, слишком неотделим от своего
развития, чтобы позволить себе длительные повторения; для кинематографа пять
лет равноценны целому поколению в литературе. Заслуга Висконти состоит в том,
что он диалектически сочетает приобретения итальянского кинематографа последних
лет с более широкой, более разработанной эстетикой, в которой сам термин
«реализм» не имеет уже большого значения. Мы не утверждаем, будто «Земля
дрожит» стоит выше, чем «Пайза» или «Трагическая охота», но заслуга этого
фильма состоит хотя бы в том, что он исторически перерос их. Лучшие итальянские
фильмы 1948 года вызывали ощущение повторяемости, которая неизбежно должна была
исчерпать себя.
«Земля
дрожит» — единственный оригинальный эстетический выход из тупика, по крайней
мере гипотетически чреватый надеждой.
Следует
ли из сказанного, что надежде суждено осуществиться? К сожалению, у меня нет
такой уверенности, ибо «Земля дрожит» противоречит все же некоторым
кинематографическим принципам, над которыми Висконти предстоит в дальнейшем
одержать более убедительную победу. В частности, его упорное нежелание чем-либо
пожертвовать ради драматургических категорий приводит к совершенно явному и
вескому результату — публика начинает скучать. При крайне ограниченном действии
фильм длится свыше трех часов. К тому же диалог идет на сицилийском наречии,
причем фотографический стиль изображения исключает возможность субтитров; в
итоге даже сами итальянцы
==319
не понимают ни слова. Совершенно ясно, что «Земля дрожит» —
зрелище по меньшей мере суровое, имеющее весьма незначительную коммерческую
ценность. Я был бы рад, если полублаготворительный характер кинофирмы
«Универсалиа» в сочетании с огромным личным состоянием Лукино Висконти дали
возможность завершить намеченную трилогию (в которой «Земля дрожит» должна быть
лишь первым эпизодом). В результате получится некий кинематографический монстр,
глубоко социальная и политическая тема которого будет все же недоступна широкой
публике. В кино всеобщее признание не является критерием, обязательным для
любого произведения, при условии, что причина зрительского непонимания может быть
в конечном итоге чем-то компенсирована. Иными словами, непонятность или
эзотеризм произведения не должны быть решающими факторами. Если эстетике фильма
«Земля дрожит» суждено послужить эволюции кинематографа, то совершенно
необходимо, чтобы она могла быть использована в драматургических целях. В
противном случае она останется лишь великолепным тупиком.
В этом
произведении есть также опасная склонность к эстетизму, которая меня беспокоит
гораздо больше в отношении того, что можно ожидать от самого Висконти. Этот
изысканный аристократ, художник до мозга костей, исповедует, с позволения
сказать, синтетический коммунизм.
Фильму
«Земля дрожит» недостает внутреннего огня. Он наводит на мысль о великих
художниках Возрождения, которые с чистым сердцем способны были создавать
замечательнейшие религиозные фрески, будучи глубоко равнодушны к христианству.
Я вовсе не сомневаюсь в искренности коммунистических взглядов Висконти. Но что
такое искренность? Разумеется, речь вовсе не идет о патернализме по отношению к
пролетариату. Патернализм есть порождение буржуазной социологии, а Висконти —
аристократ. Но, может быть, мы сталкиваемся здесь с некиим эстетическим
соучастием в историческом развитии. Как бы то ни было, этому произведению очень
далеко до захватывающей убедительности «Броненосца «Потемкин», или «Конца
Санкт-Петербурга», или даже аналогичного сюжета у Пискатора3. Фильм Висконти
имеет чисто объективную
К оглавлению
==320
пропагандистскую ценность; он наделен документальной силой,
не поддержанной, однако, какой-либо эмоциональной выразительностью. Совершенно
ясно, что Висконти именно этого добивался, и в принципе его предвзятость не
лишена привлекательности. Однако такая позиция связана с известным риском, и
нет уверенности в том, что она оправдается, во всяком случае, в кино. Будем
надеяться, что в дальнейшем творчество Висконти сумеет нас убедить в его
правоте. Это возможно лишь при условии, если оно удержится от падения в том
направлении, в котором, как нам кажется, уже намечается опасный крен.
«Esprit»,
декабрь, 1948
^^^ «ДОРОГА
НАДЕЖДЫ»
Это
один из самых прекрасных послевоенных итальянских сценариев на сугубо эпическую
и потому кинематографическую тему о паломничестве к Земле Обетованной. Сицилийские
горняки, оставшиеся без работы после закрытия серных копей, отправляются вместе
со своими семьями во Францию, где им посулил работу жуликоватый вербовщик. Путь
долог, через снега Этны и Сен-Готарда. Брошенные проводником, преследуемые
полицией, изгнанные батраками, чью забастовку они по неведению сорвали ради
жалкого заработка в несколько лир, последние оставшиеся в живых участники этой
незаконной эмиграции увидят наконец Обетованную Землю с высот Альпийского
перевала, который им помогает преодолеть сочувствующий офицер отряда горных
стрелков. Столь «европейский» Хэппи энд не может ввести в заблуждение
относительно истинного конца, к которому должен был бы привести фильм. Будучи
Сизифами своей нищеты и своего отчаяния, они могут лишь снова оказаться отброшенными
к символическим склонам Этны под действием абсурдного социального неустройства.
А пресловутая Земля Обетованная является, по сути дела, жалким раем, в котором
могут созревать лишь гроздья гнева.
Можно
лишь пожалеть о некоторых уступках и нерешительности, проявленной Пьетро Джерми
при
==321
разработке этого замечательного сюжета, к которому он не
всегда подходит с должной строгостью. Жалкое приключение с бандитами и
сентиментальными перепетиями без нужды приукрашивает его, на радость
чувствительным зрительницам разных стран. Единственным и почти убедительным
оправданием служит молчаливая красота Елены Варци, на чьем упрямом лбу остается
шрам от сабельного удара судьбы.
Пьетро
Джерми — режиссер молодой. Некоторые итальянские критики возлагают на него
большие надежды. Возможно, эти надежды оправдаются, если его не поглотят
формализм и отголоски эйзенштейновской риторики, опасным свидетельством которых
служат не только «Дорога надежды», но в еще большей мере «Во имя закона» и
особенно недавний «Бандит Такка дель Лупо».
Но если
«Дорогу надежды» нельзя даже приблизительно сравнить с шедеврами неореализма,
тем не менее у этого фильма есть заслуга, заключающаяся в том, что он
отчетливее других показал, каким образом могли произойти перемены в итальянском
кино, каким образом военный неореализм («Рим — открытый город», «Пайза», «Шуша»
и другие фильмы, источником вдохновения которых были Освобождение и его
последствия) преобразился, так сказать, в неореализм мирного времени,
незабываемым вступлением к которому стали «Похитители велосипедов».
Дело в
том, что послевоенная итальянская социальная действительность по существу
своему остается драматической, или, точнее говоря, трагической. В жизни народа
страх перед нищетой в результате безработицы играет роль роковой угрозы. Жить —
значит обмануть судьбу. Работать и благодаря работе сохранять простое
человеческое достоинство и минимальное право на счастье и любовь — вот в чем
состоит единственная и краеугольная забота героев и «Двух грошей надежды», и
«Дороги надежды», и «Похитителей велосипедов». Об этой основной теме, которую
сценаристы вольны расцвечивать на тысячи ладов, можно сказать, что она подобна
своеобразному негативу темы, лежащей у истоков, пожалуй, большей части американского
кино. В самом деле, многие сценарии, в том числе большинство сценариев
американских комедий, строятся на погоне за богатством или, по меньшей мере, на
==322
одержимости удачей, что для женщины означает завоевание
сердца прекрасного принца, наследника промышленного магната. Наоборот,
неореалистический герой вовсе не заботится о самоутверждении путем
удовлетворения своего честолюбия. Он думает лишь о том, как бы устоять перед
нищетой. Именно потому, что безработица может его повергнуть в прах, ему
достаточно «двух грошей надежды», чтобы оплатить свое счастье. Как можно было
догадаться, документальная ткань итальянского неореализма может подняться до
высот искусства лишь постольку, поскольку она способна находить в самой себе
великие драматические прототипы, которые служат и всегда будут служить основой
нашего сочувствия.
«Cahiers
du Cinema», 1952, № 20
«ДВА
ГРОША НАДЕЖДЫ»
Итальянская
критика говорила о неореализме, что он не существует, а французская — что он
долго не протянет. Мне кажется, только Дзаваттини и Росселлини, не стыдясь,
претендовали на этот эпитет, придавая ему, впрочем, различный смысл. Если же вы
захотели бы огорчить любого другого итальянского кинематографиста, для этого
было бы достаточно поздравить его с вкладом, внесенным в неореализм. Итальянцы
в гораздо большей мере раздражены, нежели восхищены успехом, выпавшим на их
долю под этим общим ярлыком; причем каждый защищает себя, по существу, от
унификации, которая заключена в данном термине. В этом недоверии можно,
по-видимому, обнаружить две взаимосвязанных причины. Первая, сугубо
психологическая, вполне понятна: она обусловлена раздражением всякого
осознающего свою неповторимость художника, которого критики подводят под
какую-то рубрику исторической классификации. Неореализм сует всех кошек и собак
в один мешок.
Между
Латтуадой, Висконти и Де Сикой столь же большая разница, как, скажем, между
Карне, Ренуаром и Беккером. Дело в том, что, прибегая к эпитету «неореализм»,
критика словно подразумевала
==323
зачастую, будто итальянское кино существует скорее как некое
движение, как некий коллективный гений, нежели состоит из отдельных
индивидуальностей. Реакцию последних вполне можно понять.
Однако
решающее значение имеют, по-моему, не эти естественные реакции художнического
самолюбия, а предубеждение против реализма. Восхищаясь неореализмом, все в
первую очередь хвалили то, что в нем есть документального, и особенно чувство
социальной действительности,— словом, все, что роднило его с репортажем.
Итальянские кинематографисты с полным основанием усмотрели опасность,
заключающуюся в таких похвалах. Чары документализма могут быть лишь случайными
и незначительными. Будь успех итальянского кино основан только на реализме, он
не выдержал бы испытания временем после того, как потускнел бы эффект экзотики
и угасло благосклонное предрасположение к подлинному документализму,
сложившееся в результате войны. Поэтому-то искусство и ставит перед собой цель
вырваться за пределы действительности, а не воспроизводить ее. Это тем более
справедливо в отношении кинематографа с его техническим реализмом. Вот почему
итальянские режиссеры отчаянно отбиваются, когда критика пытается навесить им
на шею этакий мельничный жернов.
Во
Франции нередко восхищались удачами итальянской кинопродукции 1946—1947 годов,
как некиим чудом или по крайней мере как ослепительным результатом
благоприятной, но мимолетной конъюнктуры, выразившейся во внезапном
оплодотворении давнишней и второстепенной тенденции итальянского кино под
действием Освобождения. Но этот неожиданный блеск рассматривался, как
своеобразная вспышка новых звезд, чей свет недолговечен. Следовательно,
кинематограф, отдающий предпочтение материи перед сюжетом, живописной детали —
перед повествованием,— словом, претендующий на отказ от вымысла ради
действительности,— такой кинематограф должен был рано или поздно слиться в
общем ряду с остальными.
«Похитители
велосипедов» оказались первым шедевром, существование которого доказывало, с
одной стороны, что неореализм может прекрасно обойтись без тематики,
обусловленной Освобождением, что в сюжетном плане он никак не связан с войной
или ее
==324
последствиями, а с другой,—что отсутствие «истории»,
интриги, событий ни в коей мере не свидетельствует о более низком уровне по
сравнению с классическими структурами киноповествования. Фильм Де Сики и
Дзаваттини обладает совершенно непроизвольной свободой, как жизнь, увиденная из
окна, и в то же время в нем есть мощь античной трагедии.
Для
того, кто еще сомневался бы в силе и жизненности неореализма, «Два гроша
надежды» Ренато Кастеллани', получившие в этом году «Гран при» на Каннском
фестивале, должны стать новым неопровержимым доводом. Этот истинный шедевр,
выдержанный, однако, в совершенно иной манере, чем «Похитители велосипедов»,
еще раз доказывает, что итальянское кино сумело найти новое соотношение между
реалистическим призванием кинематографа и вечными требованиями драматургической
поэзии.
«Два
гроша надежды» — история безработного Ромео. Зовут его Антонио; он отбыл срок
воинской повинности и возвращается в свою деревню, где застает мать и сестренок
в той же нищете, в какой оставил их. Он полон энергии и отчаянно ищет работу.
Но жизнь трудна, а безработица стала уделом многих его сверстников. Поскольку
он готов на все и не брезгует самым неблагодарным трудом, ему время от времени
все же удается найти работу, чаще всего очень кратковременную, но порой с
надеждой на большую продолжительность.
В
фильме есть и Джульетта. Ее имя Кармела, ей пятнадцать или шестнадцать лет, она
дочь уважаемого владельца мастерской по производству бенгальских огней, который
и слышать не хочет о зяте без положения. Собственно говоря, Антонио не слишком
интересуется этой влюбленной девчонкой, о которой он позабыл в армии. Он
пытается отделаться от нее, поскольку в данный момент ему хватает забот со
своей ненасытной семьей. Но Кармела цепляется за него с невероятным терпением и
лукавством, пользуясь любым случаем, чтобы спровоцировать Антонио и
скомпрометировать его в глазах всей деревни и родных. Ее происки в основном
приводят к тому, что Антонио теряет всякий раз работу, найденную с таким
трудом, в том числе и необычную должность частного донора, снабжающего кровью
анемичного младенца состоятельной
==325
неаполитанской дамы. В результате Кармела не только отбивает
у Антонио всякую охоту полюбить ее, но своими нескромными домогательствами все
больше подрывает возможность брака, о котором она мечтает, ибо без работы
Антонио и думать не может о создании семьи.
И все
же любовная стратегия Кармелы приводит к парадоксальным последствиям. Имея все
основания возненавидеть ее, Ромео в конце концов привязывается к ней. Нельзя же
допустить, чтобы о нем говорили, будто он позволил нелюбимой девушке отравлять
ему жизнь. Такое средоточие неприятностей заслуживает, чтобы на нем женились.
Но папаша-фейерверкер отказывается дать свое благословение; он обвиняет Антонио
в том, что тот хочет втереться в почтенную и довольно состоятельную семью.
Самолюбие Антонио уязвлено, и он в ярости заставляет Кармелу раздеться на
деревенской площади. Он возьмет ее в чем мать родила, с единственным приданым в
виде двух грошей надежды, позволяющих людям жить.
Эта
история не имеет трагического финала «Ромео и Джульетты», и все же поневоле
вспоминается их любовь не только из-за некоторых явных аналогий, в частности
из-за семейной вражды, но главным образом из-за удивительной поэзии и
совершенно шекспировской причудливости страстей и чувств.
В этом
замечательном фильме можно отлично уловить, как и почему неореализм сумел
преодолеть свое эстетическое противоречие. Кастеллани не относится к тем, кого
раздражает этот ярлык, и все же его фильм точно соответствует канонам
неореализма — это великолепный репортаж о сельской безработице в современной
Италии, и в частности в окрестностях Везувия. Все персонажи, естественно, взяты
на месте действия (например, мать Антонио — поразительная беззубая сплетница,
крикливая и симпатично лукавая). Типична и техника построения сценария. Эпизоды
следуют друг за другом без причины или по крайней мере без драматургической
необходимости. Повествование носит характер рапсодии; фильм мог бы длиться еще
два часа без малейшего нарушения его равновесия. Ибо события не расставлены a
priori в соответствии с некоей драматургической структурой — они цепляются друг
за друга чисто случайно, как в действительности. Но, разумеется, эта
действительность есть действительность
==326
поэзии, а драматургические требования уступают место более
сокровенным и вольным гармониям сказки. Слово «сказка» я понимаю в его
восточном значении. В результате Кастеллани прекрасно удается редкий парадокс —
он дарит нам одну из самых прекрасных, самых чистых любовных историй кино, и в
то же время эта история, напоминающая Мариво и Шекспира, оказывается самым
точным свидетельством, самым безжалостным обвинительным актом против
итальянской сельской безработицы 1951 года.
«France-Observateur»,
июль,1952
^^^ «ДОРОГА»
Жизненность
итальянского кино еще раз подтверждена замечательным фильмом Федерико Феллини.
Весьма утешительно, что кинематографическая критика в целом почти единогласно
воздавала ему хвалы. Не будь этой поддержки, которая дополнительно привлекла на
его сторону снобов, фильму «Дорога» пришлось бы, вероятно, с известным трудом
добиваться признания невнимательной и дезориентированной публики.
Федерико
Феллини создал один из тех редчайших фильмов, которые заставляют забывать, что
они принадлежат кинематографу, и воспринимаются просто как произведения
искусства. Знакомство с «Дорогой» запоминается, как большое эстетическое
переживание от встречи с неожиданным миром. Перед нами не столько фильм,
сумевший достичь известной интеллектуальной или нравственной высоты, сколько
сугубо личное высказывание, для передачи которого кинематограф служит,
разумеется, необходимым и естественным посредником, но которое, в общем,
существовало потенциально и до него. Это не фильм, носящий название «Дорога»,
это «Дорога», которая является фильмом. И тут мне приходит на ум картина, во
многом отличающаяся, а именно последнее произведение Чаплина. О фильме «Огни
рампы» тоже можно было сказать, что кинематограф был для него единственным
адекватным воплощением, что его немыслимо было создать
==327
какими-либо иными выразительными средствами, и тем не менее
все в нем выходило за рамки приемов одного отдельного вида искусства. В этом
плане «Дорога» по-своему подтверждает критическое допущение, согласно которому
кинематограф достиг такой стадии развития, когда форма ничего уже не
определяет, когда язык не оказывает больше сопротивления и даже, наоборот,
будучи языком, не подсказывает художнику, пользующемуся им, никаких
стилистических эффектов. Можно, вероятно, настаивать на том, что только
кинематограф мог, например, придать удивительному мотофургончику Дзампано силу
конкретного мифа, присущую этому необычному и в то же время банальному
предмету; но здесь как раз ясно видно, что фильм ничего не преобразует и ничего
не истолковывает. Ни лиризм изображения, ни лиризм монтажа не пытаются
направить наше восприятие; я сказал бы даже, что этого не делает и режиссура,
во всяком случае, никакая специфическая кинематографическая режиссура. Экран
ограничивается тем, что показывает фургончик лучше и объективнее, чем могли бы
сделать художник или романист. Нельзя сказать, что камера бесхитростно
сфотографировала его, ибо само слово «фотография» здесь излишне; камера просто
его показывает, или, вернее, позволяет его увидеть. Было бы, наверно,
крайностью утверждать, будто в кино ничто не может возникнуть благодаря силе
его языка, жестокости его воздействия на реальность. Не касаясь таких почти
нетронутых областей, как цвет и, пожалуй, широкий экран, следует отметить, что соотношение
сил между техническими возможностями и разрабатываемой темой отчасти зависит от
личности режиссера. Так, например, Орсон Уэллс всегда строит свои выдумки на
основе техники. Можно, однако, с уверенностью считать, что отныне уже нет
больше обязательной связи между прогрессом кинематографа и оригинальностью
выражения, пластической организацией отдельного кадра или сочетанием кадров
между собой. Точнее, если «Дорога» и обладает какой-либо формальной
оригинальностью, то ее оригинальность состоит в том, чтобы всегда оставаться по
сию сторону кинематографа. Ничто из того, что открывает нам Феллини, не обязано
дополнительным смыслом самой манере показа. И все же это откровение существует
лишь на экране. Ибо здесь кинематограф
==328
полностью осуществляет свое предназначение, которое состоит
в том, чтобы быть искусством действительности. Становится, конечно, очевидным,
что Феллини — большой режиссер, которому чуждо жульничество по отношению к
действительности. Нет никакого обмана ни в камере, ни на пленке. Во всяком
случае, нет ничего, чему бы он ни придал предварительно полноту бытия. Поэтому
«Дорога» ничуть не отходит от итальянского неореализма.
Все,
разумеется, зависит от исходного определения неореализма, которое послужит нам
отправной точкой. Мне лично кажется, что «Дорога» ничуть не противоречит
фильмам «Пайза» или «Рим — открытый город», ни тем более «Похитителям
велосипедов». Правда, Феллини шел иным путем, чем Дзаваттини. Вместе с
Росселлини он сделал ставку на неореализм личности. Первые фильмы Росселлини
смешивали нравственное и социальное воедино, ибо такое совмещение
соответствовало духу эпохи Освобождения. Фильм «Европа-51» (1952) как бы
пронзил толщу социального слоя, чтобы выйти в сферу духовных судеб. В этих
произведениях от неореализма сохранилась эстетика режиссуры, которую можно даже
рассматривать как одно из его возможных достижений. Эту режиссуру аббат А.
Айфре весьма разумно определил термином «феноменологическая».
В
«Дороге» ничто и никогда не раскрывается изнутри персонажей. Точка зрения
Феллини полностью противоположна психологическому неореализму, который требовал
бы сначала анализа, а затем описания чувств. В этом мнимошекспировском мире все
возможно. Джельсомина и Матто окружены ореолом чуда, который раздражает и
сбивает с толку Дзампано, но в этом чуде нет ничего сверхъестественного,
беспричинного или даже «поэтического»; оно воспринимается как вполне допустимое
природное свойство. Если обратиться, впрочем, к психологии, то вся суть
персонажей фильма в том и состоит, что у них нет никакой психологии или, во
всяком случае, она столь примитивна, столь рудиментарна, что ее описание могло
бы в лучшем случае иметь патологический интерес. Зато у них есть душа. И
«Дорога» есть не что иное, как осознавание души и раскрытие этой души перед
нами. Джельсомина узнает от Матто, что она существует на свете.
==329
Она, идиотка, никому не нужная уродина, в один прекрасный
день обнаруживает благодаря канатоходцу, что она вовсе не жалкий хлам или
никчемная рухлядь; больше того, она, оказывается, незаменима, у нее есть
судьба, заключающаяся в том, чтобы быть нужной Дзампано. Самая потрясающая
находка фильма — это глубокий упадок, который охватывает Джельсомину после
того, как Дзампано убивает Матто. Отныне ее всегда будет преследовать его
агония, в ней всегда будет живо мгновение, когда тот, кто фактически подарил ей
бытие, перестал существовать. Легкие стоны и мышиные вскрики неудержимо
срываются с ее губ. «Матто—больно, Матто—больно». Дзампано, тот не «думает».
Эта грубая и упрямая скотина не способна ни осознать, насколько ему нужна
Джельсомина, ни тем более понять высокую духовность уз, их связывающих. В ужасе
перед страданиями несчастной, вне себя от раздражения и страха, он покидает ее.
Но так же как смерть Матто сделала невозможной жизнь Джельсомины, решение
покинуть Джельсомину, а затем ее смерть мало-помалу выявляют духовное начало в
этой груде мускулов. В результате Дзампано совершенно уничтожен отсутствием
Джельсомины; его душат не угрызения совести и даже не любовь, а ужас и
непонятное страдание, которое, быть может, и есть проявление его души, лишенной
Джельсомины.
Таким
образом, «Дорогу» можно рассматривать как феноменологию души и, может быть,
даже как феноменологию соединения святых или по крайней мере — взаимосвязи
судеб. У этих «нищих духом» невозможно спутать высшие проявления души с
проявлениями ума, страсти, наслаждения или красоты. Душа раскрывается за
пределами психологических или эстетических категорий, и раскрывается тем лучше,
если ее уже нельзя приукрашивать сокровищами сознания. Соль душевных слез,
которые Дзампано впервые в своей жизни проливает на берегу, столь любимом
Джельсоминой, похожа на соль, растворенную в бесконечном море, которое уже не
может в этой земной юдоли остудить его муки.
«Esprit».
май,1955
^^^
К оглавлению
==330
«МОШЕННИЧЕСТВО», ИЛИ СПАСЕНИЕ ДУШИ ПОД ВОПРОСОМ
После
просмотра фильма в Венеции я услышал, как один из моих коллег сказал в дверях
другому, ехидно ухмыляясь: «Ну и мошенничество!». Право, в эту минуту у меня не
было оснований особенно гордиться своим положением французского критика.
Впрочем, эти «вольнодумцы» были менее строги, чем большинство итальянских
критиков; я слышал, как наиболее уважаемые из них заявляли, будто
«Мошенничество» решительным образом доказало, что восторженные поклонники
«Дороги» поддались на обман.
Признаюсь,
сам я был в растерянности после венецианского просмотра, так как не понял
итальянского диалога. Некоторые длинные эпизоды показались мне спорными. Но
вместо того чтобы поставить под сомнение мое восхищение «Дорогой», фильм
«Мошенничество» (1955) подтверждал, на мой взгляд, гениальность, проявленную в
«Дороге». Даже, будучи относительно неудачным, последнее произведение Феллини
все же заключало в себе силу воображения, поэтическое и нравственное видение,
ничуть не уступавшие тому, что ощущалось в «Дороге» или хотя бы в «Маменькиных
сынках».
Однако
«Мошенничество» вовсе нельзя считать неудавшимся фильмом. Я отчетливо понимаю
это сегодня, просмотрев в третий раз фильм, наконец субтитрованный и
освобожденный от нескольких действительно излишних сцен. Впрочем, нельзя
сказать, что с известной точки зрения они не были оправданы, фильм, собственно,
даже слишком короток, ибо Феллини первоначально предполагал развить некоторые
линии, полезные для понимания происходящего или существенные для судьбы
персонажей, но в конечном итоге отказался от них. Упомянутые сцены повисли,
таким образом, в пустоте, и лучше было вырезать больше, нежели вырезать лишь
наполовину. Во всяком случае, это нельзя сравнить ни с теми искажениями,
которым в какой-то момент подверглась копия «Дороги», ни с теми купюрами, о
которых, говорят, помышлял французский прокатчик. Он, кажется, собирался всего
лишь полностью изменить смысл развязки.
==331
Герой фильма Аугусто гибнет из-за того, что по пытался
«обмануть» своих дружков, притворившись, будто его разжалобила парализованная
девочка, родителей которой банда мошеннически обобрала. На самом деле он хочет
присвоить все деньги себе, чтобы помочь дочери продолжать учение. Разоблаченный
и брошенный, он корчится в агонии у подножия той самой горной дороги, на
которой бандиты свели с ним счеты. Разумеется, если бы он дал себя растрогать
бедной крестьяночке, Аугусто искупил бы свою вину и умер очищенным,
ублаготворив тем самым манихейство, обуславливающее «счастливые» коммерческие
концовки.
Каков
же он, добрый или злой? К счастью, Феллини никогда не становится на уровень
этой нравственной психологии. Его мир — это драматургия поставленного под
вопрос спасения души. Люди есть то, что они есть, и то, чем они становятся, а
не то, что они делают; поступки их судятся равно объективно и субъективно, по
тому злу или добру, которое они творят, или по чистоте их помыслов. Чистота
человека заложена более глубоко, и для Феллини она определяется главным образом
прозрачностью или непроницаемостью души или, если угодно, определенной
готовностью к восприятию благодати.
Естественно,
существа, совершенно прозрачные и открытые для любви к ближнему, хотят и, как
правило, творят добро (хотя это «добро» зачастую лишь очень отдаленно связано с
нравственностью), и в этом случае все решается в плане следствий, а не причин.
Таким образом, мы можем считать, что Аугусто, как и Дзампано, спасен, ибо он по
крайней мере умирает с тревогой в душе, хотя до самого конца творил зло и даже
желал его. Разговор с парализованной девочкой ничуть не растрогал его в
психологическом смысле слова. Вместо того чтобы заставить его осознать всю
постыдность обмана детского доверия, этот разговор, наоборот, придал ему,
видимо, смелости и решимости обмануть своих сообщников; но в то же время он
вселил тревогу в его душу и заставил увидеть не столько случайную ложь его
поступков, сколько постоянный обман, каким была вся его жизнь.
Наоборот,
Пикассо (рассказ о котором сокращен в окончательном варианте) — это милое,
нежное,
==332
чувствительное существо, всегда исполненное добрыми
намерениями и готовое умиляться по поводу других или самого себя; но и его
судьба, вероятно, тоже безнадежна. Он ворует, потому что «похож на ангела», а
чело веку с таким лицом, как у него, любой, не колеблясь доверит все царство
небесное. Неспособный по-настоящему взять себя в руки, неспособный подняться из
глубин внутреннего падения, Пикассо обречен вечно прозябать во тьме и в
конечном счете погибнуть, несмотря на всю свою привлекательность и любовь к
жене и ребенку. Пикассо — не злодей, но он безнадежно потерян, тогда как
Аугусто, столь чуждый жалости, по-видимому, будет спасен.
Я
пользуюсь христианским лексиконом отнюдь не произвольно, хотя христианские
мотивы в творчестве Феллини не вызывают сомнения; просто этот лексикон лучше
всего передает те категории действительности. которые составляют предмет
подобного фильма. Понятия спасения души или благодати, темноты или прозрачности
души так и просятся на бумагу в качестве метафор или метафизических истин, ибо
они точнее всего выражают пограничные состояния человека, которые определяют
течение нашей жизни.
Феллини
сказал, кажется, о своих «мошенниках». что—это постаревшие «маменькины сынки».
Такая формулировка отлично определяет этих мелких жуликов, все искусство
которых ограничено воображением и краснобайством уличного торговца и которые
неспособны даже разбогатеть, подобно своему бывшему приятелю, взявшемуся за
торговлю наркотиками и пригласившему их на Новый год в свою роскошную квартиру.
Этот поразительный эпизод, в котором мы вновь сталкиваемся с одной из основных
тем современного кино, с темой оргии, представляется кульминацией фильма. В той
мере, в какой можно говорить о символизме там, где реализм достигает наибольшей
остроты, Феллини, видимо, хотел создать картину ада, слишком жаркого, впрочем, для
его жалких героев, которые не могли бы долго выдержать его пламя.
Я вижу,
что не рассказал самой «истории». Но читатель, наверное, уже неоднократно читал
краткое содержание фильма. А главное, фильм и не требует такого пересказа.
Предельно насыщенный необычными и забавными эпизодами, он интересен, однако, не
их
==333
красочностью. Увлекшись ею, мы рисковали бы ограничиться
разговором лишь о побочных аспектах.
Фильм
«Мошенничество» построен, или, вернее, создан, как роман; он исходит изнутри
персонажей. Несомненно, Феллини никогда не задумывал какую-либо ситуацию ради
ее логики — и того меньше — ради ее драматургической необходимости. События
возникают совершенно непредвиденно, и тем не менее они необходимы, равно как
были бы необходимы иные события, которыми Феллини мог бы их подменить.
Если бы
мне предстояло искать сравнение с какимлибо известным миром романа, то,
вероятно, несмотря на все различия в деталях, я думал бы о мире Достоевского. У
Феллини, как и у русского романиста, события всегда служат лишь совершенно
случайными инструментами для поисков души; и никогда ничто существенное не
происходит здесь, не отразившись коренным образом на спасении души.
В этой
перспективе добро и зло, счастье и страдание оказываются лишь весьма
относительными категориями по сравнению с абсолютной альтернативой, в которой
заключены герои и которую приходится хотя бы метафорически назвать
альтернативой спасения души.
«France-Observateur»,
март, 1956
^^^ ГЛУБОКАЯ
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ «МАМЕНЬКИНЫХ СЫНКОВ»
Лишь
немногие фильмы за всю историю кино сумели с большой тонкостью проникнуться
своей эпохой и оказать на нее влияние.
Фильмы
Чаплина воздействовали на зрителей посредством поразительно универсального
персонажа Чарли. Другие, как, например, «Трехгрошовая опера» (режиссер Г.
Пабст, 1931), обязаны своей популярностью среди широкой аудитории и
неизгладимым следом, оставленным в памяти целого поколения, исключительно
счастливому сочетанию музыки и кино. Наоборот, в «Маменькиных сынках», казалось
бы, ничто не могло поразить память зрителя — здесь нет ни знаменитых актеров,
ни даже, как в «Дороге», поэтически
==334
оригинального и необычного персонажа, вокруг которого
строится фильм, здесь почти полностью отсутствует сюжет. И тем не менее
прозвище «Маменькины сынки» стало нарицательным — оно обозначает в наши дни
международный человеческий тип, и каждый год появляется несколько картин из
числа наилучших, которые напоминают нам произведение Феллини (совсем недавний,
например, фильм «Мальчишник»).
На днях
я пересмотрел «Маменькиных сынков» и был поражен прежде всего тем, что,
несмотря на некоторые неудачные детали, фильм не только не устарел, а словно
созрел за истекшее время, как будто вложенный в него смысл не мог в свое время
целиком раскрыться во всей своей полноте, как будто нужно было время, чтобы
оценить его значительность. Правда, с тех пор появились три других фильма
Феллини, которые уточнили и углубили его, выявив богатство нюансов. Мне
думается, однако, что в «Маменькиных сынках» все уже было заложено и утверждено
с совершенной гениальностью.
О
смысле этого произведения и о его нравственном и духовном значении написано
много; поэтому я бы предпочел подчеркнуть, каким образом этот смысл отразился
не столько на форме (ибо никогда отличие формы от содержания не было более
искусственным, чем здесь), сколько на самой концепции кинематографического
зрелища.
На мой
взгляд, глубокая оригинальность «Маменькиных сынков» заключается с этой точки
зрения в отрицании привычных норм экранного повествования. Большая часть
существующих фильмов привлекает, по существу, наш интерес не только интригой и
действием, но также и характером персонажей, и связями между этим характером, и
сцеплением событий.
Правда,
неореализм уже кое-что изменил, сумев обратить наше внимание на ничтожно малые
события, казалось бы лишенные всякого драматического значения («Похитители
велосипедов», «Умберто Д.»). Но в этом случае действие подвергалось как бы
предельному дроблению, а персонажи наделялись заданным или обусловленным
социальной средой характером, который эволюционировал в направлении развязки.
У
Феллини все иначе. Его герои не «эволюционируют». Они созревают. То, что они на
наших глазах
==335
совершают на экране, не только не имеет зачастую
драматической значимости, не только не играет никакой логической роли в
развитии повествования, а, скорее всего, оказывается лишь пустым беспокойством,
полной противоположностью действию — глупое шатание вдоль пляжей, нелепое
расхаживание взад и вперед, пустяковое бахвальство... Но именно эти, казалось
бы, побочные жесты и поступки, которые в большинстве фильмов как раз
отбрасываются, здесь раскрывают перед нами самую интимную сущность персонажей.
Они не
открывают нам то, что принято называть «психологией». Феллиниевский герой—это
не «характер», а способ существования, образ жизни, поэтому режиссер может
полностью определить героя, показав его поведение: походку, манеру одеваться,
стрижку, усы, черные очки. И все же этот антипсихологический кинематограф идет
гораздо дальше и глубже психологии, проникая в душу героя.
Вот
почему этот кинематограф души столь исключительно внимателен к внешним
проявлениям, вот почему для него наибольшее значение имеет взгляд. Феллини
окончательно уничтожил определенную аналитическую и драматическую традицию в
кино, подменив ее чистой феноменологией человеческого существа, в свете которой
самые банальные жесты человека могут оказаться знаком его судьбы и его
спасения.
«Radio—Cinema—Television».
октябрь, 1957
^^^ В ЗАЩИТУ
РОССЕЛЛИНИ
ПИСЬМО
ГУИДО АРИСТАРКО, ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «ЧИНЕМА НУОВО»
Дорогой
Аристарко!
Я уже
давно хочу написать эту статью, но из месяца в месяц откладываю ее, отступая
перед важностью проблемы и ее многочисленными последствиями. Дело заключается
еще и в том, что я сознаю свою недостаточную теоретическую подготовку при виде
той серьезности и настойчивости, которые проявляет итальянская левая критика,
исследуя и углубляя неореализм. Хоть
==336
я приветствовал итальянский неореализм с момента его
появления во Франции и с той поры, мне кажется, непрестанно уделял ему
неослабное критическое внимание, тем не менее я не могу претендовать на то,
чтобы противопоставить Вашим взглядам сколько-нибудь стройную теорию и столь же
точно, как это делаете Вы, определить место неореализма в общем контексте
истории итальянской культуры. Если к сказанному присовокупить известное
опасение показаться смешным, поучая итальянцев относительно их собственного
кино, то Вы поймете основные причины, заставлявшие меня медлить с ответом на
Ваше предложение включиться на страницах «Чинема нуово» в дискуссию по поводу
критических позиций, занимаемых Вами и Вашими коллегами по отношению к
некоторым произведениям последнего времени.
Прежде
чем углубиться в эту дискуссию, я хотел бы напомнить Вам, что даже между
критиками одного поколения, которых, казалось бы, столь многое сближает,
нередко возникают расхождения национального порядка.
Мы
столкнулись с этим, когда английские критики, сотрудники журнала «Сайт энд
саунд», выступили у нас в «Кайе дю синема»; признаюсь без стыда, что именно
очень высокая оценка, данная Линдсеем Андерсоном' фильму Жака Беккера «Золотой
шлем» (1952), потерпевшему во Франции полный провал, заставила меня
пересмотреть мое собственное мнение и обнаружить в этом произведении скрытые
достоинства, сначала от меня ускользнувшие. Правда, зарубежные оценки бывают
подчас ошибочными из-за неведения контекста, в который вписывается та или иная
постановка. Таков, например, явно основанный на недоразумении успех за
пределами Франции некоторых фильмов Дювивье и Паньоля. В этих фильмах
иностранцев восхищает своеобразное изображение Франции, которое представляется
им характерным; в результате экзотика заслоняет собой истинные
кинематографические качества фильма. Согласен, что расхождения оценок такого
рода совершенно бесплодны; должно быть, успех за рубежом некоторых итальянских
фильмов, справедливо презираемых Вами, обусловлен подобным же недоразумением.
Не думаю, однако, что, по существу, это относится к тем отдельным фильмам, в
==337
оценках которых мы расходимся, или к неореализму в целом.
Прежде
всего. Вы, наверное, признаете, что французская критика не ошиблась, встретив с
самого начала более восторженно, чем итальянская, фильмы, которые ныне
составляют Вашу неоспоримую славу по обе сторону Альп. Мне самому лестно
сознавать, что я был одним из немногих французских критиков, всегда
отождествлявших возрождение итальянского кино с неореализмом, даже в те
времена, когда считалось признаком хорошего тона утверждать, будто этот термин
ничего не означает; и ныне я продолжаю считать, что это слово наиболее точно
подходит для определения всего самого лучшего и самого плодотворного в
итальянской школе.
Именно
поэтому меня беспокоит то, как Вы его защищаете. Осмелюсь ли сказать Вам,
дорогой Аристарко, что суровость, проявляемая журналом «Чинема нуово» по
отношению к некоторым тенденциям, рассматриваемым Вами как признаки инволюции
(то есть обратного развития) неореализма, заставляет меня опасаться, что Вы,
сами того не ведая, наносите удар по наиболее жизненной и плодотворной ткани
Вашего кинематографа. Я лично восхищаюсь итальянским кино весьма эклектично, но
все же готов согласиться с некоторыми резкими суждениями итальянской критики.
Мне понятно, что Вас раздражает успех во Франции такого фильма, как «Хлеб,
любовь и ревность» (режиссер Л. Коменчини, 1954); это немного напоминает мою
собственную реакцию на успех фильмов Дювивье о Париже. Зато, когда я вижу, как
Вы ищете блох в лохмотьях Джельсомины или стираете в порошок последнее
произведение Росселлини, я поневоле чувствую, что, прикрываясь требованиями
теоретической целостности, Вы способствуете стерилизации некоторых наиболее
жизненных и многообещающих ветвей того, что я упорно продолжаю называть
неореализмом.
Вы
удивлены парижским успехом «Путешествия в Италию» (1953) и особенно почти
единодушным энтузиазмом французской критики. Что касается «Дороги», то ее триумф
Вам тоже известен. Но эти два фильма весьма кстати оживили не только интерес
французской публики, но и уважение интеллигенции к итальянскому кино, которое
за последний год или два утрачивало
==338
свои позиции. Судьба обеих кинокартин по многим причинам
различна. Мне кажется, однако, что обе они не только не были восприняты у нас
как показатель разрыва с неореализмом и еще менее как признак его регресса, а,
наоборот, породили здесь ощущение творческого взлета, точно соответствующего
духу итальянской школы. Попытаюсь объяснить, почему это так.
Должен
прежде всего признаться, что мне претит мысль о неореализме, определяемом
исключительно по отношению лишь к одному из его сиюминутных аспектов, ибо это
ограничивало бы возможности его будущего развития. Быть может, такое отношение
объясняется тем, что мне недостает теоретического склада ума. Но, пожалуй,
скорее, оно обусловлено заботой о предоставлении искусству его естественной
свободы. В периоды бесплодия искусства теория щедра на анализ причин засухи и
старается организовать условия его возрождения; но когда на нашу долю выпадает
счастье быть в течение десяти лет свидетелем замечательного расцвета
итальянского кино, то не может ли оказаться, что теоретическая исключительность
таит в себе больше опасностей, нежели преимущества? Я вовсе не хочу сказать,
что не надо быть строгим; наоборот, требовательность и критическая строгость
кажутся мне особенно необходимыми, но они должны быть направлены на
разоблачение коммерческих компромиссов, демагогии, снижения уровня
художественных требований, а не стремиться навязывать творческим деятелям
априорные эстетические рамки. Мне лично кажется, что режиссер, чей эстетический
идеал близок Вашим концепциям, но который в принципе готов включить этот идеал
лишь на десять или двадцать процентов в свои коммерческие сценарии, выходящие
на экран, имеет меньше заслуг, чем тот, кто с грехом пополам снимает фильмы,
строго соответствующие его собственному идеалу, даже если его концепция
неореализма отличается от Вашей. Вы же ограничиваетесь по отношению к первому
из этих режиссеров тем, что объективно отмечаете в его работе ту часть, которая
незапятнана компромиссом, и оцениваете его фильмы в своих критических рецензиях
двумя звездочками; а второго — безоговорочно обрекаете на эстетический ад.
Наверно,
Росселлини был бы в Ваших глазах менее виноват, если бы снял не «Жанну д'Арк на
костре»
==339
(1954) или «Страх» (1954), а нечто равнозначное «Вокзалу
Термины» (режиссер Де Сика, 1952) или «Пляжу» (режиссер А. Латтуада, 1953)). Я
вовсе не собираюсь защищать автора «Европы-51» в ущерб Латтуаде или Де Сике;
путь компромиссов может быть оправдан до известного предела, который я вовсе не
собираюсь здесь устанавливать. Но мне все же представляется, что независимость
Росселлини придает его творчеству, что бы об этом ни говорили, такую
целостность стиля, такое нравственное единство, которые чрезвычайно редки в
кинематографе и которые вызывают в первую очередь даже не восхищение, а
глубокое уважение.
Однако
я рассчитываю защищать его на совершенно иной методологической почве. Моя
защита будет затрагивать самое существо спора. Был ли Росселлини в самом деле
неореалистом и остается ли он им попрежнему? Мне кажется, Вы признаете, что он
был таковым. Как можно, действительно, усомниться в роли, которую сыграли «Рим
— открытый город» и «Пайза» в становлении и развитии неореализма? Но уже в
фильме «Германия, год нулевой» Вы обнаруживаете у Росселлини ощутимую
«инволюцию», которая, по Вашему мнению, становится решающей начиная с таких
фильмов, как «Стромболи» и «Франциск, менестрель божий» (1949), и оказывается
катастрофической в «Европе-51» и «Путешествии в Италию». Какой же, по существу,
упрек выдвигается против этого пути эстетического развития? Прежде всего, его
порицают за все более явную потерю интереса к социальному реализму и
документальной хронике, которые уступают место все более и более выраженному
нравственному содержанию; в зависимости от степени неприязненного к нему отношения
это содержание можно отождествить с одним из двух основных направлений
итальянской политики. Я сразу же отказываюсь вести нашу дискуссию на этой
слишком богатой случайностями почве.
Даже
если бы Росселлини симпатизировал демохристианам (что, насколько мне известно,
никогда не проявлялось ни в публичном, ни в частном порядке), это отнюдь не
исключало бы для него как художника всякую возможность творчества в духе
неореализма. Но оставим это.
Можно,
разумеется, с полным правом отвергать нравственный или духовный постулат,
который стано
К оглавлению
==340
вится все более явственным в творчестве Росселлини, но такое
неприятие могло бы повлечь за собой отказ от эстетики, в рамках которой
воплощается определенное идейное содержание лишь в том случае, если бы
Росселлини создавал фильмы с заданным тезисом, то есть фильмы, которые
сводились бы к драматургическому оформлению априорных идей. Но в том-то и дело,
что среди итальянских режиссеров нет никого, чье творчество меньше поддавалось
бы попытке отделить замысел от формы. Именно исходя из этого мне и хотелось бы
охарактеризовать неореализм Росселлини.
Если
признать, что термин «неореализм» имеет смысл, то независимо от любых
разногласий в его толковании, мне кажется, что попытки достичь минимальной
договоренности должны исходить из того, что неореализм прежде всего коренным
образом противостоит не только традиционным системам драматургии, но и
различным известным аспектам реализма — как в литературе, так и в кино,—
противостоит посредством утверждения определенной глобальности реального. Эта
формулировка, которая мне кажется правильной и удобной, заимствована мной у
аббата Айфре (см. «Кайе дю синема», № 17). Неореализм есть глобальное описание
действительности, осуществляемое глобальным сознанием. Под этим я подразумеваю,
что неореализм противостоит предшествовавшим ему реалистическим эстетическим
направлениям, и в частности натурализму и веризму, в том плане, что его реализм
направлен не столько на выбор сюжетов, сколько на процесс их осознания. Если
угодно, в фильме «Пайза» реалистическим является итальянское Сопротивление, а
неореалистическим — режиссура Росселлини, его манера эллиптической и в то же
время синтетической передачи событий. Иными словами, неореализм по природе
своей отказывается от анализа (политического, нравственного, психологического,
логического, социального или какого вам угодно) персонажей и их действий. Он
рассматривает действительность как единое целое, неделимое, но, разумеется, доступное
пониманию. Вот почему, в частности, неореализм не следует считать непременно
искусством антизрелищным (хотя зрелищность ему действительно чужда), но, во
всяком случае, он категорически антнтеатрален в той мере, в какой игра
==341
театрального актера предполагает психологический анализ
чувств и физический экспрессионизм, символизирующий целый ряд нравственных
категорий.
Это
вовсе не означает, что неореализм сводится к некоему объективному
документализму, наоборот даже. Росселлини любит повторять, что в основе его
концепции режиссуры лежит любовь не только к персонажам, но и к
действительности как таковой и что именно эта любовь не позволяет ему разобщать
то, что этой действительностью соединено, то есть персонаж и его окружение.
Неореализм не означает, следовательно, отказ от четкой позиции по отношению к
миру или отказ от возможности судить этот мир, но предполагает, по существу,
некое душевное к нему отношение; он всегда являет действительность, пропущенную
сквозь призму восприятия художника, преломленную его сознанием — именно
сознанием в целом, а не разумом, или страстью, или верованиями в отдельности —
и затем восстановленную на основе раздробленных элементов. Я бы сказал, что
традиционный художник-реалист (например, Золя) анализирует действительность, а
затем вновь синтезирует ее в соответствии со своей нравственной концепцией
мира, тогда как сознание режиссера-неореалиста словно фильтрует эту
действительность. Несомненно, его сознание, подобно всякому сознанию, не
пропускает всю реальность целиком, но его отбор не подчинен ни логическим, ни
психологическим критериям. Это выбор онтологический в том смысле, что
изображение действительности, которое возвращается к нам, остается глобальным;
точно так же, если прибегнуть к метафоре, черно-белая фотография не есть
изображение действительности, которая сначала была разложена на составные
части, а затем воссоздана, но уже «без цвета»; нет, это настоящий отпечаток
реальности, некий световой муляж, в котором просто не выявляется цвет. Между
предметом и его фотографией существует онтологическое тождество.
Попробую
пояснить свою мысль на примере, позаимствованном именно из «Путешествия в
Италию». Публика быстро разочаровывается в фильме постольку, поскольку Неаполь
показан в нем очень неполно и отрывочно. Эта действительность составляет в
самом деле лишь тысячную долю того, что можно было показать. Но то немногое,
что мы видим,— несколько статуй в
==342
музее, беременные женщины, раскопки в Помпее, эпизод
процессии в честь святого Януария — все обладает тем глобальным характером,
который представляется мне наиболее существенным. Это Неаполь,
«отфильтрованный» сознанием героини, и если пейзаж кажется скудным и
ограниченным, то он таков из-за редкостной духовной скудости сознания самой
героини, заурядной мещанки. Показанный здесь Неаполь отнюдь не фальшив (что не
всегда скажешь об ином трехчасовом документальном фильме), он представляет
собой умозрительный пейзаж, объективный, как чистая фотография, и в то же время
субъективный, как чистое сознание. Совершенно понятно, что отношение Росселлини
к своим персонажам и к их географической и социальной среде соответствует на
некотором высшем уровне отношению его героини к Неаполю, с той лишь разницей,
что его сознание есть сознание художника, обладающего большой культурой и, на
мой взгляд, редкостной духовной жизненностью.
Прошу
простить мне пристрастие к метафорам, которое объясняется тем, что я — не
философ и не могу объясняться более непосредственно. Поэтому я позволю себе
привести еще одно сравнение. О классических формах искусства и о традиционном
реализме можно сказать, что они строят произведения, как дома — из кирпичей или
строительного камня. Никто не собирается оспаривать ни полезность домов, ни их
возможную красоту, ни идеальное соответствие кирпичей своему предназначению ;
но нельзя не согласиться с тем, что реальная сущность кирпича определяется не
столько его составом, сколько его формой и прочностью. Никому не придет на ум
определять кирпич как кусок глины, поскольку важно не его минеральное
происхождение, а удобство его размеров. Кирпич есть элемент дома. Это
сказывается даже на его внешнем виде. То же рассуждение справедливо, например,
по отношению к строительному камню, из которого складывают мосты. Такие камни
превосходно можно подогнать друг к другу, чтобы выложить свод. Зато каменные
глыбы, разбросанные поперек брода, есть и будут глыбами, и на их сущности камня
никак не отразится, что я пользуюсь ими, перепрыгивая с одного на другой, чтобы
пересечь реку. Если они мне и послужили временно для той же цели, что и мост,
то так случилось лишь потому, что я
==343
сумел дополнить случайность их расположения силой моего
воображения, а также своим движением, которое, не изменяя природу и внешний вид
камней, придало им на время смысл и полезность.
Точно
так же неореалистический фильм обретает смысл a posteriori, поскольку он
позволяет нашему сознанию переходить от одного факта к другому, от одного
фрагмента действительности к другому, тогда как в классическом художественном
построении смысл заложен a priori — весь дом содержится уже в одном кирпиче.
Если
мой анализ точен, из него следует, что термин «неореализм» никогда не следовало
бы применять как существительное, за исключением тех случаев, когда он должен
обозначать всех режиссеров-неореалистов в целом. Неореализм не существует сам
по себе; есть лишь режиссеры-неореалисты, независимо от того, кто они —
материалисты, христиане, коммунисты или кто угодно. Висконти—неореалист в
фильме «Земля дрожит», призывающем к социальному бунту. А Росселлини —
неореалист в картине «Франциск, менестрель божий», которая иллюстрирует
действительность чисто духовного порядка. Я отказал бы в этом эпитете лишь
тому, кто, пытаясь убедить меня, сумел бы разделить то, что объединено
действительностью.
Таким
образом, я утверждаю, что «Путешествие в Италию» — произведение гораздо более
неореалистическое, чем, например, «Золото Неаполя» (режиссер В. Де Сика, 1954),
которым я глубоко восхищаюсь, но которое основано на психологическом, изощренно
театральном реализме, несмотря на все реалистические детали, которыми нас
пытаются ввести в заблуждение. Более того, мне кажется, что из всех итальянских
режиссеров именно Росселлини пошел дальше всего в разработке эстетики
неореализма. Я уже говорил, что не существует чистого неореализма.
Неореалистический подход — это идеал, к которому удается в большей или меньшей
мере приблизиться. Во всех так называемых неореалистических фильмах есть еще
остатки традиционного зрелищного, драматического или психологического реализма.
Их анализ показывает, что они состоят из документально достоверной
действительности плюс еще что-то «другое», причем этим «другим» может быть в
каждом данном случае либо пластическая
==344
красота изображения, либо обостренное социальное чувство,
либо поэзия, либо комизм и т. д. Тщетной была бы попытка отделить по такому
принципу у Росселлини событие от желаемого эффекта. У него нет ничего литературного
или поэтического, нет, пожалуй, даже ничего «красивого» в самом похвальном
смысле слова — его режиссура строится лишь на фактах. Его персонажи будто
одержимы демоном движения — маленькие монахи Франциска Ассизского не знают
иного способа славить бога, кроме стремительного бега. А невероятный проход
мальчика навстречу смерти в фильме «Германия, год нулевой» (1948)! Для
Росселлини самая суть человеческого естества заключена в жесте, в изменении, в
физическом движении. Она заключена также в продвижении сквозь окружающую
обстановку, каждая деталь которой мимоходом оставляет свой след в душе
персонажа. Мир Росселлини — это мир действий в чистом виде, которые, будучи
сами по себе незначительны, словно исподволь, без ведома самого бога,
подготавливают внезапное ослепительное раскрытие своего сокровенного смысла.
Таково, например, «чудо» в «Путешествии в Италию», которое остается невидимым и
для обоих героев и почти даже для кинокамеры; впрочем, оно весьма двусмысленно
(Росселлини вовсе не претендует на то, что надо именно так, он передает лишь
сочетание криков и толкотни, обычно обозначаемое словом «чудо»); но
столкновение этого «чуда» с сознанием персонажей неожиданно выявляет их любовь.
Мне кажется, никто не сумел в большей мере, чем автор «Европы-51», передать
средствами режиссуры события, чья эстетическая структура была бы более жесткой
и более целостной и в чьей совершенной прозрачности нельзя было бы различить
ничего, кроме самого события как такового. Точно так же физическое тело может
предстать либо в аморфном, либо в кристаллическом состоянии.
Искусство
Росселлини заключается в умении придать фактам их наиболее насыщенную и в то же
время наиболее изящную структуру; пусть не самую привлекательную, но зато самую
острую, самую непосредственную или самую пронизывающую. Благодаря ему
неореализм естественным образом вновь обретает стиль и возможности абстракции.
Уважение к действительности состоит, собственно, не в том, чтобы нагромождать
==345
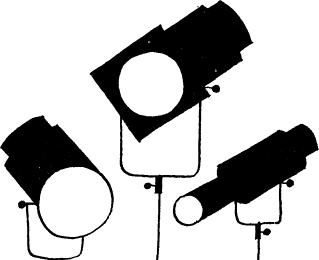
==346
внешние,
кажущиеся ее проявления, а, наоборот, в том, чтобы очистить реальное от всего
несущественного, в том, чтобы стараться достичь полноты в простоте. Искусство
Росселлини кажется линейным и мелодичным. Многие его фильмы действительно
напоминают эскиз, в котором отдельный штрих не столько рисует, сколько
намечает. Следует ли принимать четкость штриха за скудость или нерадивость? С
тем же успехом в этом можно было бы упрекать Матисса. Быть может, Росселлини,
по существу, в большей мере рисовальщик — нежели живописец, новеллист — нежели
романист; но ведь иерархия искусства заключается не в жанрах, а лишь в самих
художниках.
Я не
надеюсь, дорогой Аристарко, что сумел Вас убедить. Ведь доводами убедить,
собственно, нельзя. Подчас гораздо важнее убежденность, вкладываемая в них. Я
был бы счастлив, если моя убежденность, в которой Вы услышите отзвуки
восхищения нескольких критиков, моих друзей, смогла хотя бы поколебать Вашу
непреклонность.
«Cinema
Nuovo»
==347
ОНТОЛОГИЯ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА
1
Онтология — термин, введенный в XVIII веке немецким мыслителем X. Вольфом и
обозначающий ту часть философских систем, где излагается учение о бытии,
независимом от субъекта. Согласно Вольфу, «во всякой вещи определения, которые
не зависят от другой вещи или друг от друга, составляют ее сущность», то есть
образуют ее онтологию. Марксизм «последовательно проводит линию на снятие
онтологии как обособленной части философии», полагая, «что никакие философские
вопросы не могут решаться в чисто онтологической форме, то есть внутри
обособленного и замкнутого учения об абстрактных, «чистых» определениях
сущности бытия как такового вне и до исследования человеческой деятельности,
общественной культуры, социальной природы познания и т. п.» («Философская
энциклопедия», т. 4, М., 1967, стр. 142). Часто встречающееся у комментаторов и
критиков Базена утверждение, что онтологией фотографического образа является
документальность, несет в себе противоречие. Ибо если ставится вопрос об
онтологии предмета, то есть вопрос о качествах, отделяющих этот предмет от
других, то фотография как вещь документальная, лишь верно воспроизводящая
предмет, не имеет права на собственную онтологию. Подобное снятие проблемы
сущности представлялось бы самому Базену неприемлемым. Ниже, в этой же статье,
он с сомнением относится к творческой практике сюрреалистов, которые, по мнению
Базена, не видят различий между предметом и его изображением.
2
«Смерть — это всего лишь победа времени. Искусственно закрепить телесную
видимость существа — значит вырвать его из потока времени, «прикрепить» его к
жизни». В первом предложении для определения времени Базен пользуется понятием
«Le temps», во втором — понятием «La duree». Подобная терминологическая
двойственность, а также смысл, вкладываемый Базеном в оба понятия, доказывают,
что он основывает свои теоретические построения на концепции времени,
разработанной французским философом-идеалистом Анри Бергсоном (1859—1941).
Время—«temps», по Бергсону, характеризует процесс, когда совершаются лишь
пространственно-количественные изменения. «Duree», то есть длительность,
определяемая еще как время «конкретное» или «психологическое», знаменует собой
поток качественных изменений. По Бергсону, аспектами длительности являются
память, инстинкт, сознание, дух, но процесс этого распространяется также и на
материю. Понятие длительности — одно из самых основополагающих в доктрине
Бергсона. Для его философского метода характерно, что Бергсон — в
противоположность диалектическому материализму — отрицает возможность перехода
количественных изменений в качественные, то есть перехода времени в
длительность.
Исходя
из этого временного дуализма, Базен и определяет онтологию фотоснимка. Предмет
изображенный — по Базену — тождествен предмету реальному и все же кардинально
отличается от него, ибо существует в ином времени. Материальный объект ввергнут
в процесс длительности, но изображение подобному процессу неподвластно. Базен
многократно подчеркивал этот факт: «Теперь... речь идет... о создании
идеального мира, подобного
==348
реальному, но обладающего автономным существованием во
времени» (стр. 41), «...потребность заменить предмет даже не копией, а самим
этим предметом, но освобожденным от власти преходящих обстоятельств» (стр. 45);
в старых фотографиях «заключено волнующее присутствие отошедших жизней,
остановленных во времени, вырванных из-под власти судьбы» (стр. 45) и т. д.
Следовательно, фотография воздействует на зрителя не только онтологией самого
изображенного предмета, но и онтологией снимка, каковая заключается в полнейшем
отрицании длительности.
3
«Перспектива была первородным грехом западной живописи».— Здесь Базен
обращается к иной, заимствованной у Бергсона антиномии — к противоположности
интуиции интеллекту. Интеллект у Бергсона отождествляется с «логическими
играми» рационального мышления. При помощи его можно достичь лишь частичного
знания о предмете, поскольку интеллект дает возможность понять отношения вещей,
но не сами вещи. Этот второй, высший тип знания способна дать лишь интуиция, то
есть — по Бергсону — «род интеллектуальной симпатии, посредством которой
переносятся внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что есть в нем единственного
и, следовательно, невыразимого» (А. Бергсон, Собр. соч., т. 5, Спб., 1914—1915,
стр. 6). Наиболее пригодной областью для реализации интуитивного мышления
является художественное творчество. Это явствует из положения, высказанного
Бергсоном в статье, посвященной философу-идеалисту Ф. Равессону: «В глазах
настоящего философа созерцание античного мрамора может вызвать больше
концентрированной истины, чем ее содержится в растворенном виде в целом
философском трактате» (цит. по кн. Люсьен Сэв, Современная французская
философия, М., 1968, стр. 105).
Базен
полностью наследует Бергсонову иррациональную, спиритуалистскую концепцию акта
познания. Учение о перспективе, разработанное художниками Ренессанса,
представляется Базену первым ударом по интуитивному мышлению художника.
Перспектива может дать знание о пространственных соотношениях предметов, но
отнюдь не приближает к постижению онтологии вещей. По мнению Базена, творческое
проникновение в предмет перспектива заменяет сводом безличных правил и приемов,
следовательно, она механистична и антиинтуитивна. В наступлении на интуицию —
неискупимый грех перспективы. С антиномией интуиции и дискурсивного мышления у
Базена связано также различение реализма истинного и реализма ложного,
характеризующегося «иллюзорной похожестью форм». Первый из них является
реализмом «интуитивным», второй — возникает из рациональных, следовательно, по
Базену, абстрактных, логических построений.
4
«...кино предстает перед нами как завершение фотографической объективности во
временном измерении... Впервые изображение вещей становится также изображением
их существования во времени и как бы мумией происходящих с ними перемен».
Смысл
этого положения становится более отчетливым, если принять во внимание
бергсоновскую терминологию Базена, употребляемую для обозначения времени. В
этих фразах он сталкивает два различных понятия—в первой говорит о
"«temps», во второй—о «duree». В связи с терминологической
==349
двойственностью взаимоотношения обоих искусств у Базена
оказываются гораздо более сложными, чем восполнение в кинематографе недостатков
фотографии, в первую очередь — ее статичности. Согласно концепции возмещения,
кино должно пониматься как способное выразить качественные трансформации вещей,
то есть выразить их длительность, и в этом оно будет превосходить фотографию,
существующую только в линейном времени («temps»).
Подобная
упрощенная трактовка Базена не привлекает, но акцентирует существенный для его
взглядов факт — длительность вещей в кинематографе не совпадает с их реальной
длительностью. Кинематограф изображает, фиксирует длительность, то есть любая
трансформация вещи в кино уже не является преходящим состоянием, напротив, она
«увековечивается», мумифицируется. Иначе говоря, вместо реальной длительности
кинематограф предлагает только некое гибридное время, где отрезки, кванты
реальной длительности помещены в линейное время («temps»). Поэтому кино, по
Базену, не является отрицанием временной застылости фотографии, но есть
логическое завершение этой застылости. Еще более категорично о временной условности
кинематографа Базен говорит в статье «Театр и кино»: «Все происходит так, будто
из двух определяющих присутствие параметров, Время — Пространство, кинематограф
воспроизводит лишь ослабленную протяженность во времени, уменьшенную, но не
сведенную к нулю, и восстанавливает равновесие психологического уравнения за
счет умножения пространственного фактора».
Практический
вывод Базена из положения об условности времени в кино таков: «ослабленная», но
«не сведенная к нулю» длительность есть некое среднее состояние. От него
возможно движение в двух направлениях — в сторону еще большей условности, то
есть к еще большему дроблению, сокращению квантов длительности или, напротив, в
сторону их расширения, укрупнения, приближения кинематографической длительности
к длительности реальной. На противопоставлении этих двух возможностей движения
построено большинство последующих статей сборника.
5 «С
другой стороны, кино—это язык».— Заключительная фраза статьи свидетельствует,
что «Онтология фотографического образа» выдержана в духе полемики с Андре
Мальро, в частности с его очерком «Заметки о психологии кино» (1940), на
который Базен выше ссылался. Последняя фраза этого очерка такова: «Кроме того,
кино является также индустрией». Базен выстраивает «Онтологию фотографического
образа» на тех же категориях, что и Мальро свою «Психологию», то есть на
категориях «правдоподобия», «схожести», которые оба автора в полном согласии
между собой считают категориями психологии, но не эстетики. Базен, как и
Мальро, рассматривает кинематограф в контексте развития живописного реализма
(или, точнее,— все возрастающего жизнеподобия в изобразительных искусствах).
Именно у Мальро Базен заимствует идею о кинематографе — освободителе живописи
от «наваждения» правдоподобия,— идею, за которую столь часто упрекали Базена
его оппоненты. Несмотря на такое количество точек соприкосновения, обе статьи
кардинально
К оглавлению
==350
отличаются друг от друга. Основной тезис Мальро заключается
в следующем: история живописи — это стремление к жизнеподобию, понимаемому как
тождество изображения с моделью. Кино является завершением живописных поисков,
поскольку способно передать движение, то есть кино выполнило ту задачу, которую
ставило перед собой, но не могло разрешить искусство барокко. Кино способно
передать внешнее физическое движение, но, чтобы передать движение внутреннее,
движение авторской мысли, кинематографист должен прибегнуть к некиим
искусственным монтажным построениям. Следовательно, концепция Мальро открывала
путь абстракциям, рациональному мышлению, ценность которого сомнительна для
интуитивиста Базена. Основной его тезис формулируется иначе: кино без сомнения
может объективно, адекватно воспроизвести предмет, но не может адекватно передать
его существование во времени, то есть передать длительность предмета. Само же
существование объекта, качественные трансформации, которые он испытывает, полны
глубокого смысла и значения.
Таким
образом, задача кинематографа состоит в том, чтобы бережно передать этот смысл
и значения, приблизиться к ним, сделать их явственными, а не замещать их
искусственными построениями, родившимися в мозгу художника.
МИФ
ТОТАЛЬНОГО КИНО
1
«...идея \кинематографа] существовала в совершенно готовом. виде в человеческом
мозгу — как на платоновском небе, и более всего нас поражают не те импульсы,
которые воображение исследователей получало от технических изобретений, но
упорное сопротивление материи идее».— Сделав некоторый реверанс в сторону
Платона, родоначальника той философской линии, к которой принадлежит Бергсон,
Базен все же полностью остается в кругу идей создателя интуитивизма. По крайней
мере в вышеприведенной фразе присутствует бергсоновское противопоставление
косной материи и «жизненного порыва» — источника движения, находящегося вне
материи. В этой статье «жизненный порыв» принимает форму мифа, точнее — мифа о
тотальном воспроизведении реальности или, как говорит Базен, «мифа
интегрального реализма, воссоздающего мир и дающего такой его образ, который
неподвластен ни свободной интерпретации артиста, ни необратимому ходу времени»
(стр. 51). Миф здесь тоже понимается, по Бергсону, как компенсация, возмещение
определенных устремлений человеческого сообщества, не находящих удовлетворения
в реальности. Миф тотального кино требует, чтобы повседневную действительность,
находящуюся под властью необратимого времени, заменила иная реальность, внешне
тождественная первой, но времени уже не подчиняющаяся.
Любопытно,
что совершить эту трансформацию одной реальности в иную, превратить продукт
сверхсознания — миф — в нечто наличное, существующее способна кинокамера, то
есть машина. Ведь еще в начале 20-х годов чрезвычайно распространено было
противопоставление духовного и машинного начал. У Базена же в «Мифе тотального
кино» «машинное» является
==351
вием осуществления «духовного», оба начала не
антагонистичны, но взаимодополняемы. Однако подобный симбиоз возможен лишь
потому, что Базен перетолковывает само понятие «машинного». Кинематограф как
система аппаратов, по Базену, не является продуктом рационального мышления:
«...кино почти ничем не обязано духу научного исследования. Не ученые являются
его отцами» (стр. 48); «вряд ли можно объяснить открытие кино, исходя из его
технических предпосылок. Его создали люди, склонные к интуитивному мышлению,—
одержимые, чудаки, изобретатели-кустари или, самое большее, изобретательные
предприниматели».
Статья
«Миф тотального кино» имеет для доктрины Базена первостепенное значение.
Кинотворчество, как и всякое творчество у Базена,— есть процесс интуитивный;
теоретик стремится доказать, что даже инструменты, посредством которых этот
процесс реализуется, являются плодом интуиции. Иначе говоря, кинематограф как
средство выражения создан интуицией, отсюда можно с уверенностью надеяться, что
кинематограф станет выразителем той силы (или той способности), которая его
создала. Именно этой задачей определяется внутренний пафос статьи Базена.
ПО
ПОВОДУ ФИЛЬМА «ПОЧЕМУ МЫ СРАЖАЕМСЯ?»
1
«Esprit» («Дух») — журнал, основанный в 1932 году Эмманюэлем Мунье и Жаном
Лакруа, выходящий до сих пор. Журнал является органом французского
персонализма, понимаемого как общественное движение и философская доктрина,
центральной фигурой которого и являлся Э. Мунье (1905—1950). Согласно
«Философской энциклопедии» (т. 4, 1967, стр. 242—244), персонализм — это
«теистическое направление современной буржуазной философии, признающее личность
первичной творческой реальностью, а весь мир — проявлением творческой
активности верховной личности — бога» (стр. 242). Французский персонализм
отрицает свое родство с американским персонализмом (Боун, Калкинс, Брайтмен и
другие) и близок «русскому персонализму» (Бердяев, Шестов). При множественности
влияний на доктрину французского персонализма воздействие на нее Бергсона,
осуществляемое через Шарля Пеги и деятелей католического модернизма,—
несомненно. Характерной чертой французского персонализма явилась проповедь
«персоналистской и общинной революции», «которая должна быть одновременно и
духовной и экономической, создать условия для расцвета личности и
бесконфликтности в обществе...» («ФЭ», т. 4, стр. 244). В 1957 году редакция
«Эспри», возглавлявшаяся после смерти Мунье Ж.-М. Доменаком, заявила об отказе
от идеи «персоналистской и общинной революции». Вазен пытался установить
контакты с редакцией «Эспри» еще до войны. В период оккупации один из ведущих
сотрудников журнала Пьер-Эме Тушар основал «Мэзон де леттр» (нечто вроде клуба
молодых интеллектуалов) и поручил Базену руководить здесь кинематографической
секцией. После войны Базен печатался в «Эспри» почти регулярно.
==352
усл«СМЕРТЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
1
Мириам (полное имя — Мириам Борсуцкая) — известный монтажер французского кино.
Начинала свою деятельность в парижском филиале фирмы «Парамаунт» (1930).
Сотрудничала д®лгие годы в качестве монтажера и ассистента режиссера с Саша
Гитри. Кроме монтажных фильмов «Париж 1900» (1947) и «Вой быков» (1951)
смонтировала также картину личного друга Вазена — Роже Леенхардта «Последние
каникулы» (1947). «Бой быков» указывается во французских справочниках как
последняя работа Мириам.
2 «Речь
идет о чем-то совсем ином, чем возвращение к преобладанию монтажа над
раскадровкой... Цель монтажа состоит здесь не в том, чтобы устанавливать
абстрактные и символические отношения между кадрами, как то делал Кулешов в
своем знаменитом опыте...» — «Антимонтажность» Базена, заявленная здесь и
неоднократно афишированная на всем протяжении его критической деятельности,
связана не с отказом от дробления представленной реальности на отдельные
отрезки, но с бергсонианской антиномией интуитивного и дискурсивного мышления.
Дискурсивное, рациональное мышление, способное дать частичное знание об
отношениях вещи с другими вещами, в кинематографе трансформируется в монтаж
20-х годов, который является собранием «планов», то есть «абстрактных точек
зрения на анализируемую действительность». Вместо априорного рассмотрения
реальности, осуществляемого в монтаже, интуитивное мышление должно придерживаться
принципа имманентности, то есть исходить не из абстракции, но из самого
целостного события или предмета. Поэтому «плану» Базен противопоставляет «факт»
— «фрагмент необработанной действительности», который «сам по себе множествен и
двусмыслен и его «смысл» выводится лишь логически, благодаря другим «фактам»,
связь между которыми устанавливается умозрительно», но главное — связь эта
возникает a posteriori. Следовательно, Базен не полностью «антимонтажен», или,
употребляя его термин, не «тотально» антимонтажен, но отрицает способность кино
передать ход дискурсивного мышления, поскольку само это мышление для Вазена
лишено ценности.
3
«Камера-перо» — термин, введенный во французскую кинокритику Александром
Астрюком. Астрюк впервые употребил его в статье «Рождение нового авангарда —
камера-перо», опубликованной в «Экран франсэ» (1948, 30 марта, № 144). Автор
писал: «Побывав поочередно ярмарочным аттракционом, развлечением, аналогичным
бульварному театру, или средством консервирования образов данной эпохи, кинематограф
мало-помалу становится языком... То есть формой, в которой и благодаря которой
художник может выразить свою мысль, какой бы абстрактной она ни была, или
передать свои страсти, как он может это сделать благодаря эссе или роману.
Именно поэтому я называю новый век веком камеры-пера. Это образное выражение
имеет точный смысл. Оно означает, что кинематограф мало-помалу освобождается от
тирании визуального, от «образа ради образа»,
==353
от нехитрой фабулы, от конкретного, чтобы стать средством
письма столь же гибким и тонким, как литературный язык...»
4
«...кино формирует свое эстетическое время исходя из пережитого времени, из
бергсонианской «длительности», необратимой и качественной по самому своему
существу».— О концепции времени у Базеиа см. комментарий к статье «Онтология
фотографического образа» (стр. 353—354). Знаменательно, что Базен здесь прямо
указывает источник этой концепции, так же как это делает и в другой своей
статье — «Бергсоновский фильм: «Тайна Пикассо», не вошедшей в настоящий
сборник. С антиномией длительности и количественного времени связан в настоящей
статье и вопрос об изображении смерти на экране. На основе этой проблемы Базен
с наибольшей остротой говорит об условности кинематографа, о неспособности его
адекватно передать реальность и в первую очередь — качественное время.
Условность же эта, если не принимать ее в расчет, способна низвести кино до
уровня «метафизической непристойности». Смерть, по Базену, «является абсолютным
отрицанием объективного времени, качественным мгновением в чистом виде». В
подобной трактовке смерти Базен верен персонализму, в частности Мунье, который
писал: «Личность» существует лишь ценой потери. Ее богатство — это то, что ей
остается, когда она лишается всего, чем она обладает, то, что ей остается в час
смерти» («ФЭ», т. 4, стр. 244). В час смерти «личность» обладает лишь пережитым
временем своей жизни, уместившимся в одно мгновение. Кинематограф, изображающий
это мгновение извне, неспособный «пройти все фазисы самого чувства и занять ту
же самую длительность» (Бергсон), переводит это трагическое событие в иное —
количественное, линейное, объективное — время, тем самым лишая событие его
онтологии, отчуждая это неподвластное времени и неотчуждаемое достояние».
ВВЕДЕНИЕ!
К СИМВОЛИЧЕСКОМУ ИСТОЛКОВАНИЮ ОБРАЗА ЧАРЛИ
1
«Высшая свобода от биографического и социального времени, уносящего нас своим
течением и порождающего у нас сожаления и беспокойство, выражается у Чарли- с
помощью великолепного и обыденного жеста...» — Настоящая статья существенна для
концепции Базена и знаменательна тем, что онтологические свойства кинозрелища
(гибридность времени и целостность «факта») он пытается рассматривать как
категории драматические, как категории сюжетного действия, то есть онтологию
пытается превратить в язык. Система значащих моментов в фильмах Чаплина
идеально соотносится с онтологическими свойствами, отмеченными выше,— такой
вывод напрашивается по прочтении статьи. Существованию квантов длительности во
времени линейном, во времени бесконечного механического повторения
соответствует у Чаплина «высшая свобода от биографического и социального
времени». Время в картинах действительно распадается на кванты, не имеющие
продолжения: «Чарли всегда удовлетворяется временным решением, словно будущее
для него не существует»; у Чарли есть «тенденция: не выходить за рамки текущего
мгновения» ; традиционный для Чарли пинок ногой «выражает посто
==354
янное стремление... разорвать связь с прошлым, сжечь за собою
мосты». Ограниченные настоящим, фрагменты действия способны автоматизироваться,
имеют склонность бесконечно повторяться — Чарли впадает в грех «повторяемости».
Здесь драматургически, сюжетно использована способность кино «мумифицировать»
отдельный отрезок какого-нибудь процесса. Но автоматизм, повторяемость действия
приходит в столкновение с социальным временем среды, то есть с длительностью; в
подобной коллизии Базену видится один из основных источников драматического
напряжения в картинах Чаплина. Ограниченность во времени приводит и к тому, что
«действия Чарли слагаются из последовательности отдельных моментов, каждый из
которых замкнут в себе самом» — отсюда мы закономерно приходим к «факту» (см.
примечание к статье «Смерть после полудня...»), к целостному явлению, а также к
идее об имманентном рассмотрении предмета.
2
«...категория священного для него [Чарли'1 просто не существует, он не может
себе ее представить, как не может представить себе розу человек, слепой от
рождения».—Обращение Базена к категории мифа уже отмечалось. В данном случае
миф трактуется Базеном как элемент содержания («Чарли — персонаж-миф»), но
элемент, несущий в себе определенные социологические функции. Выявляются же эти
функции исходя из социологических функций мифа вообще, понимаемого у Базена
бергсониански. Советский философ В. Н. Кузнецов излагает взгляды Бергсона
относительно мифа следующим образом: «...разумный человек осознает себя в
качестве личности, а это, по мнению Бергсона, вызывает искушение заботиться в
первую очередь о себе и пренебрегать интересами других людей. Тогда в
противовес эгоизму индивида выдвигается религиозный миф, в котором социальные
обязанности представлены священными. Развитие индивидуального разума создает,
согласно Бергсону, и другую опасность: человек, в отличие от животных, осознает
неизбежность своей смерти. Миф о загробном существовании Бергсон толкует как
противовес обескураживающему страху смерти...» и т. д. («Французская буржуазная
философия XX века», М., 1970, стр. 72). Миф у Бергсона выступает в двоякой роли
— как нравственный регулятор и как фактор, компенсирующий недостатки
реальности.
Для
каждого зрителя, погруженного в поток «биографического» и «социального
времени», в поток, который рождает «сожаления и беспокойство», свобода Чарли от
этого потока является определенной компенсацией и утешением, как является ею и
органическая свобода Чарли по отношению ко всевозможным табу я запретам,
установленным обществом. Но, прямо связывая результат личного решения — свободу
Чарли от категорий «священного» — со «свободой от социального и биографического
времени», то есть с явлением недостижимым, сказочным, Базен, по существу,
притупляет антибуржуазность Чарли. Следует заметить, что, изобразив Чарли
свободным от регулирующей мифологии общества, Базен отнюдь не отрицает
необходимость самой этой мифологии. Именно эту функцию мифа Базен акцентирует в
статье «Вестерн, или избранный жанр американского кино» (ч. Ш настоящего
сборника).
==355
ГОСПОДИН ЮЛО И ВРЕМЯ
1 «...господин
Юло — это только метафизическое воплощение беспорядка...» — Данная статья, как
и предыдущая, посвящена трансформации онтологии в язык, то есть рассматривает
проблему превращения онтологических свойств кинозрелища в драматургический,
сюжетный материал. Господин Юло есть новый вариант взаимоотношений со временем,
в чем герой Тати существенно отличается от Чарли. Чарли был свободен по
отношению к «социальному и биографическому времени», господин Юло, напротив,
персонифицирует собой определенное время, а именно — длительность, поскольку
ему присущи характерные черты этой стихии. Герой Тати, по мнению Базена,
является совершенным и законченным отрицанием всякого порядка, то есть
реальности застывшей, бесконечно повторяющейся в своих проявлениях; с другой
стороны, господин Юло, как пишет автор статьи, «не решается обрести полноту
существования», он как бы вечно незавершен, вечно находится в становлении.
Перечисленными здесь понятиями можно исчерпывающим образом описать и саму
бергсонианскую длительность.
Герою
Тати, как и Чарли, противостоит окружающая среда, но если у Чаплина она была
фактором динамическим или, во всяком случае, источником сюрпризов, сбивающим
автоматизм действий Чарли, то для господина Юло окружение — это царство
статичности, или, как пишет Базен, здесь установилось «Время, состоящее из
повторения ненужных жестов, едва ползущее и совсем замирающее... Но также —
Время ритуальное, которому задает ритм литургия условных удовольствий...».
Среда противостоит господину Юло так же, как объективное, количественное время
противостоит длительности.
Подобная
чистота (или полнота) воплощения временных стихий в реальности невозможна,
недостижима, поэтому господин Юло обязательно должен быть фигурой условной,
мифологической, и Базен специально подчеркивает его мифичность: «Можно
представить себе, что господин Юло попросту исчезает на десять месяцев в году и
возникает «наплывом» 1 июля, когда часы перестают шевелить своими стрелками».
ЭВОЛЮЦИЯ
КИНОЯЗЫКА
1
«Раскадровка» (decoupage) — термин, означающий разбивку действия на монтажные
планы («номера»), производимую режиссером в техническом сценарии. У Вазена этот
технологический термин получает более широкое значение, обнимая собой не только
композиционное членение фильма во времени (то есть разбивку сцен на эпизоды, а
эпизодов на планы), но и организацию пространства внутри кадра (собственно
мизансцена, или, как говорил Эйзенштейн, мизанкадр}. Более того, у Базена
понятие «раскадровки» в ряде случаев наполняется метафизическим содержанием
(чему способствует этимология французского слова decoupage, по первоначальному
значению—«выделение», «вырезывание» (части из целого) и «разрезание» (на
части), обозначая еам принцип субъективного отбора, классификации и
иерархязации элементов реальности.
==356
2 «...я предлагаю... различать... две большие
противоборствующие тенденции — одна из них представлена теми режиссерами,
которые верят в образность, другая — теми, кто верит в реальность. Под
«образностью» я понимаю все то, что приобретает изображаемый предмет благодаря
своему изображению на экране».— При внешней близости к антиномии интеллекта и
интуиции, заимствованной у Бергсона, данное положение Базена имеет своим
источником иное философское учение — доктрину немецкого философа-идеалиста Э.
Гуссерля (1859—1938), введенную во Франции в научный обиход экзистенциалистами.
В связи с широким распространением экзистенциализма в послевоенной Франции
(экзистенциалистскую проблематику разрабатывали и персоналисты), исходное для
этого философского направления учение не могло не оказать влияния и на Базена.
И действительно, у него можно отметить оживленный Гуссерлем и гуссерлианцами
интерес к онтологии, частое употребление термина «чистый» (чистая сущность,
чистое кино и т. д.). Приведенное положение также непосредственно следует из
понятия «феноменологической редукции», введенного Гуссерлем. Советский философ
Н. В. Мотрошилова так пишет об этом понятии: «Редукция, по мнению Гуссерля,—
это способ, при помощи которого действительный субъект с его обычным, стихийным
мышлением «освобождается» от природных, социальных определенностей, от связи с
реальной наукой. Она сводится к постепенному исключению, «вынесению за скобки»,
«воздержанию» от всяких высказываний, которые относились бы к конкретным природным
и социальным факторам человеческого существования, которые были бы взяты из
обычного мышления или реально развивающейся науки» (Сб. «Современный
субъективный идеализм», М., 1953, стр. 138—139). В полном соответствии с
гуссерлевской редукцией Базен и выделяет режиссеров, стремящихся представить
«чистую» реальность, и противопоставляет им режиссеров, не воздержавшихся от
высказываний «о природных и социальных факторах человеческого существования»,
то есть включивших эти высказывания в изображенную действительность.
3 «В их
фильмах монтаж практически не играет никакой роли, если не считать чисто
негативной функции неизбежного отбора в слишком обильной реальности».—Базен
столь категоричен потому, что допускает определенное жонглирование понятиями.
Вначале он определяет монтаж как «организацию кадров во времени». На следующей
странице под монтажом он понимает уже «передачу смысла, который не содержится в
самих кадрах, а возникает лишь из сопоставления». Конечно, оба определения не
противоречат друг другу, но второе является только частным случаем первого.
Поэтому, настаивая, что в фильмах Штрогейма, Мурнау или Флаэрти «монтаж
практически не играет никакой роли», Вазен заставляет подозревать, что в этих
картинах не только отсутствуют те значения, которые «возникают... из
сопоставления кадров», но отсутствует также и «организация кадров во времени».
В дальнейшем изложении Базен уточняет, какой тип монтажа он имеет в виду, но
этим отнюдь не доказывает, что кинематограф Флаэрти «безмонтажен», а доказывает
только то, что монтаж у Флаэрти отличается от монтажа у Эйзенштейна. Применив
общий термин («монтаж») к одному роду явлений,
==357
описываемых этим термином («параллельный», «ускоренный»,
«монтаж аттракционов»), Вазен вынужден изобрести понятие, которое определяло бы
те явления, на которые новый, урезанный термин не распространяется и на которые
распространялся старый. В этом причина появления понятия «раскадровка»,
чрезвычайно многозначного, и одна из функи;ий раскадровки — именно «организация
кадров во времени», та функция, которую у всех теоретиков выполняет монтаж.
Высоко оценив линию Штрогейм — Мурнау — Флаэрти, Базен отнюдь не отменил
монтаж, ибо сейчас же возродил его под именем «раскадровки».
4 Базен
явно перепутал «Броненосец «Потемкин»-с.-«КонцомСанкт-Петербурга».
5 Так
Базен называет эпизод, снятый единым планом.
6 Слово
«ambigute» имеет у Базена много оттенков значения; в зависимости от контекста
оно может переводиться, как «двусмысленность», «двойственность» или
«многозначность».
УИЛЬЯМ
УАЙЛЕР, ЯНСЕНИСТ МИЗАНСЦЕНЫ
1
Янсенизм — реформаторское движение во французском и голландском католицизме
XVII—XVIII веков, ведущее свое начало от ипрского епископа Корнелиуса Янсена
(1585—1638). Янсенизм, имевший вначале характер чисто теологического спора с
иезуитами, в основном — с этическим учением этого ордена, быстро приобрел
общественный размах, поскольку буржуазные круги тогдашней Франции, оппозиционно
настроенные по отношению к иезуитам и королевской власти, увидели в учении
ипрского епископа возможность продемонстрировать свое недовольство. Идеологами
янсенизма являлись Блез Паскаль, известный философ и математик, и П. Кенель,
автор труда «Моральные размышления над Новым Заветом». Неоднократно
осуждавшийся под давлением иезуитов, янсенизм был окончательно запрещен в 1703
году буллой папы Клементия XI «Унигенитус».
Основным
пунктом спора янсенистов с иезуитами был центральный вопрос так называемой
«религиозной антропологии» — спасение души. На всем протяжении христианства
этот вопрос не находил однозначного решения, поскольку различные теологические
школы и доктрины по-разному понимали проблему участия в деле спасения личной
воли человека и божественной благодати. Фаталистические тенденции в теологии
полагали, что бог, одаряя верующих благодатью или отказывая в ней, заранее
предназначил одних к спасению, других на вечные муки (Августин, Лютер,
Кальвин). Представители противоположных тенденций (в том числе и янсенисты)
ограничивали роль благодати, выдвигая на первый план свободную волю человека. С
этим у янсенистов связана и проповедь строгой и нравственной жизни,
самоограничения, аскетизма, ибо эти качества не увеличивают первородный грех,
наследуемый каждым человеком.
Нравственную
проповедь янсенизма Базен как бы переносит в «этику кинорежиссуры». По
существу, пафос статьи об Уайлере заключается в восхищении скромностью,
самоограничением,
==358
аскетизмом этого режиссера перед лицом изображаемой
действительности. На основе подобного «этического» критерия Базен
противопоставляет Уайлера Уэллсу, ибо тот, по мнению критика, склонен порой к
самоцельной игре техническими достижениями кинематографа. Однако аскетизм,
столь высоко оцененный здесь, не следует отождествлять с пассивностью художника,
с его полнейшей безынициативностью. Свою программу в этом плане Базен отчетливо
сформулировал в статье 1949 года о фильме Де Сики «Похитители велосипедов»:
«Если событие настолько самодовлеюще, что режиссеру не нужно высвечивать его,
используя различные точки съемки и специальные установки камеры, значит, оно
достигло той совершенной ясности, которая позволяет искусству сбросить маску с
природы, ставшей наконец на него похожей». Следовательно, художник, по Базену,
не пассивен, он не просто воспроизводит реальность, но трудится над тем, чтобы
природа, взятая в своей целостности, стала так же красноречива и значима, как
искусство. Именно труду Уайлера-режиссера посвящены лучшие страницы этой
статьи.
2
Здесь, как и в других местах, автор называет героев фильма именами актеров,
играющих эту роль.
3
«...усвоить ту особую этику мизансцены, результаты которой наиболее очевидны, в
«Лучших годах нашей жизни».—Упомянутый здесь и неоднократно повторяющийся
термин «этика» имеет первостепенное значение для теоретических взглядов Базена
и связан с бергсонианским осуждением разума, которое унаследовали персоналисты.
По Бергсону, рационально мыслящий человек противопоставляет себя обществу тем,
что возносится над ним, осознает себя в качестве индивидуума, отличного от общества.
В силу этого, если режиссер придерживается монтажного метода, то есть, по
Базену, заменяет реальность собственными абстрактными построениями — он
безнравствен. И критик осуждает не приемы художника, не его методику, не
эстетику, а именно этику, позицию по отношению к «другим», к зрителям.
Подобной
позиции персонализм противопоставляет такую, когда «я» неразрывно связано с
«ты», так что подлинно первичной является общность сознании в виде «мы». По
выражению персоналистов, имеет место «обоюдность сознании» (аналог марселевской
«интерсубъективности»): в восприятии «я» всегда присутствует восприятие
«другого» (В. Н. Кузнецов, Французская буржуазная философия XX века, М., 1970,
етр. 214). Это нравственное требование трансформируется у Базена в идею о изображенной
реальности, столь же красноречивой, как искусство. Он пишет: «...любовь Де
Сики... излучается самими персонажами. Они такие, какие есть, но изнутри они
освещены его нежностью к ним».
Этика
режиссуры заключается в том, что «я» художника нашло связь с «ты» персонажа в
метафизически понятом чувстве любви, более того — через персонаж, «освещенный
нежностью», художник сливается с «ты» каждого зрителя.
4
«Симультанная» мизансцена, по терминологии Базена — это такое построение
эпизода, когда в одном кадре, на разном
==359
удалении от камеры, одновременно развертываются два
независимых друг от друга действия.
5 «Кино
не есть некое особое вещество, которое мы могли бы получить в виде кристаллов.
Скорее, это эстетическое качество материала,
модальность рассказа-зрелища».—Принципиальное нежелание Базена
определять специфику кино через «какуюлибо манеру», через «какие-либо
субстанциализированные формы» и стремление понять эту специфику как «состояние
материала», как особый способ передачи содержания оказывается чрезвычайно
родственным со взглядами ученых, пытающихся применить современную теорию
информации к анализу искусства. Читаем у М. Бенсе («Teorie textu», Praha, 1967,
р. 34): «Эстетическое» нуждается в «носителе», только на основе его оно может
быть создано и воспринято. «Носитель» конституируется материально и предметно.
Само «эстетическое», таким образом, не является ни" предметом, ни
субстанцией, не обозначает определенное сущее. Можно сказать, что «эстетическое»
обозначает состояние, эстетическое состояние, реальность взаимосвязей,
эстетическую реальность». Аналогичную мысль находим у А. Моля («Теория
информации и эстетическое восприятие», М., 1966, стр. 204): «...эстетическая
информация неразрывно связана с каналом, по которому она передается, она
существенно изменяется при переходе от одного канала к другому: симфония не
может «заменить» мультипликационный фильм, они различны по своей сущности».
ЗА
«НЕЧИСТОЕ» КИНО
1 В
1907 году французские предприниматели, братья Лаффит, основали кинокомпанию
«Film a'Art», художественными руководителями которой стали известные
театральные актеры Шарль Ле Баржи и Андре Кальметт. Новая компания ставила
перед собой задачу создания кинематографа, «достойного высокой культуры» в противовес
простонародному балаганному зрелищу. «Film d'Art» знаменует собой переход от
примитивного ярмарочного кино к буржуазному кинематографу. Стремясь завоевать
более требовательную публику, «Film d'Art» (то есть художественное кино)
обратилось к «благородным» сюжетам, заимствованным у литературы и театра, а
также к сюжетам историческим, мифологическим и библейским. К созданию фильмов
были привлечены ведущие актеры «Комеди Франсэз», такие знаменитости, как Сара
Вернар, Муне-Сюлли, Ле Баржи, известные писатели, драматурги, академики. Первый
фильм «Убийство герцога Гиза» по сценарию писателя Анри Лаведана был с успехом
показан в декабре 1908 года.
Однако
очень скоро стало очевидным, что стремление к академизму и ретроградные попытки
задержать развитие нового молодого киноискусства, направив его по пути
застывших театральных традиций, несостоятельны.
2 Андре
Мальро (род. в Париже 3. XI 1901) — крупный французский писатель и общественный
деятель. К числу его наиболее известных романов относятся: «Искушение Запада»
(1926),
К оглавлению
==360
«Завоеватели» (1928), «Королевский путь» (1930), «Условия
человеческого существования» (1933), «Пора презрения», «Надежда» (1937),
«Орешник Альтенбурга» (1943).
Как
сценапист и режиссер он созлал по мотивам своего романа фильм «Надежда» (или
«Сьерра Теруэль»), который вошел в историю кино, как выдающееся произведение
искусства.
Автор
ряда искусствоведческих работ, в том чтоле интересного исследования «Заметки о
психологии кино» (1940).
После
окончания второй мировой войны был министром культуры (до 1969 г.) в
правительстве де Голля.
3
«Фантомас» (Франция, 1913—1914, режиссер Луи Фейад) — многосерийный фильм (5
серий), снятый по весьма популярному роману «с продолжениями» Пьера Сувестра и
Марселя Аллена.
4
«Вампиры» (Франция, 1915—1916, режиссер и сценарист Луи Фейад) — многосерийный
фильм (10 серий) с участием знаменитой актрисы-«вамп» Мюзидоры.
5
«Бихевиоризм» — широко распространенное направление современной американской
психологии, основанное на идеалистической, механистической концепции.
Бихевиоризм трактует все психические процессы как простые органические реакции.
6 Эжен
Фромантен (1820—1876) и Поль Бурже (1852—1935) — французские писатели, чьи
романы строились на тщательном психологическом анализе.
7 Анри,
Бордо (под. 1870) и Пьер Венца (род. 1886) — современные писатели, члены
Французской Академии, авторы многочисленных романов, положенных в основу
кинофильмов.
8 По
роману Грэма Грина «Могущество и слава» Джоном Фордом был поставлен фильм
«Беглец» (1947).
9
«Эллипсис» — риторическая фигура, заключающаяся в пропуске какого-либо члена
предложения или легко подразумеваемого слова; передает напряженную смену
действия. «Литота» — стилистическая фигура, обратная «гиперболе» и намеренно
преуменьшающая размеры описываемого.
10 Под
термином «экранизированный театр» — «Theatre filшё» — автор понимает
кинематографическую транспозицию самых разнообразных драматургических
произведений, написанных для театра.
"
Исидор Дюкасс, писавший под псевдонимом граф Лотреамон (1846—1870) —
французский поэт, который считается одним из предшественников сюрреализма.
Винсент Ван Гог (1853— 1890) — крупнейший голландский живописец.
12
Термином «комедия затрещин» или «слэпстик» обозначают жанр первых комических
лент, основоположником которого был Мак Сеннетт, ,
==361
ТЕАТР И КИНО
1
Марсель Паньоль (род. в Обани 28. II 1895) — известный французский драматург,
который начиная с 30-х годов неоднократно обращался к кино. По его пьесам
поставлены многочисленные фильмы: «Мариус» (реж. Александр Корда, 1931),
«Фанни» (реж. Марк Аллегре, 1932), «Топаз» (реж. Луи Ганье, 1933), «Цезарь»
(реж. Марсель Паньоль, 1936). Как режиссер Паньоль поставил ряд фильмов, в том
числе: «Жена булочника» (1939), «Прекрасная мельничиха» (1948), «Письма с моей
мельницы» (1954). Выходец с юга Франции, Паньоль привел в кино плеяду
талантливых актеров с ярко выраженным «южным (провансальским) акцентом» — Рэмю,
Фернанделя, Мопи и других.
2 Андре
Бертомье (род. в Руане 16. II 1903 — ум. в Париже 10. IV 1960) — один из
наиболее плодовитых французских «режиссеров-ремесленников». Начал работать в
кино в эпоху расцвета «Film d'Art». Дебютировал как режиссер в 1927 году
постановкой комедии «Он вовсе не глуп». Всего снял свыше семидесяти фильмов
(нередко с участием таких известных актеров, как Бурвиль, Робер Ламуре, Жан
Ришар), но тем не менее не оставивших по себе никакого следа. Много лет был президентом
профсоюза киноработников и Ассоциации авторов кино.
По
словам критика Роже Буссино, «Бертомье в течение тридцати лет воплощал почти
карикатурную фигуру «профессионального кинорежиссера», наделенного некоторым
чувством юмора, крепким профессионализмом, стремлением заработать самому, но
дать заработать и продюсерам».
3
«Путешественник без багажа» — фильм, поставленный в 1943 году известным
французским драматургом Жаном Ануем по его же одноименной пьесе. Ануй,
завоевавший популярность как автор большого числа так называемых «черных» пьес,
неоднократно обращался к кино и в качестве сценариста и в качестве режиссера.
4
Адольф Цукор (род. 1873 в Венгрии) — крупнейший американский продюсер,
основатель одной из ведущих американских кинокомпаний «Парамаунт»,
контролирующей как производство, так и прокат фильмов.
5
Онезим — комический персонаж большой серии короткометражных лент (около ста),
созданных во Франции в 1912— 1914 годах режиссером Жаном Дюран. Дюран сам писал
сценарии своих фильмов, в которых снимались комик Эрнест Бурбон и «труппа
Пюик». Эти комические ленты оказали большое влияние на творчество Мак Сеннетта,
а позднее Рене Клера.
6
Педоморфоз — форма развития некоторых низших животных форм, при которой
размножение осуществляется на личиночной стадии партеногенетически (то есть без
оплодотворения).
7
Амбивалентность — понятие, обозначающее двойственность противоположных чувств,
вызываемых одним и тем же явлением (например, чувство любви и ненависти или
дружбы и зависти по отношению к одному и тому же человеку).
==362
8 Консервированный театр — выражение Марселя Паньоля,
самонадеянно утверждавшего в своих теоретических высказываниях, что искусство
кино умерло с появлением звука и что кинематограф есть лишь техническое
средство «для консервирования театра».
9 Андре
Антуан (род. в Лиможе 31. I 1858 — ум. в Пулигене 19. Х 1943) — выдающийся
французский театральный деятель, актер и кинорежиссер. Основал в 1887 году
«Свободный театр» (преобразованный в 1897 году в «Театр Антуана»). Крупнейший
теоретик реалистического театрального искусства, последовательно
придерживавшийся принципов натуралистической литературной школы, он увидел в
кино замечательное средство «захватить природу врасплох». Он первым поставил (в
теоретическом и практическом плане) важнейший вопрос о соотношении между
правдой фактов и обманом искусства.
За
период 1914—1924 годов создал около десяти фильмов, в том числе: «Виновный»
(1921), «Братья-корсиканцы» (1917), «Мадемуазель де ля Сельер» (1920) и др. В
них он предвосхитил многие «находки» современного «синема-верите»: съемки «в
естественкой обстановке», скупость актерских приемов и др.
10
Гиньоль — персонаж народного французского кукольного театра, аналогичный
русскому Петрушке.
11 В
фильме, как и в пьесе Кокто, фигурируют пять персонажей : молодой человек —
актер Жан Маре; его мать Софи — актриса Ивонна де Бре; его невеста Мадлен —
актриса Жозетт Дэй; его отец — актер Марсель Андре; его тетка — актриса
Габриэль Дорзиа.
12 Жан
Гюго — французский декоратор и художник кино, вместе с Германом Варм создал
замечательные декорации для фильма «Страсти Жанны д'Арк».
13
Кристиан Бэрар (род. 1902 — ум. 13. II 1949 в Париже) — крупнейший французский
художник театра (1935—1949), принимавший активное участие в оформлении трех
фильмов Кокто: «Красавица и чудовище», «Двуглавый орел», «Несносные родители».
14
Аббат Анри Времон (1855—1933) — французский критик, член Французской Академии,
автор «Литературной истории религии во Франции».
15
Федра — дочь Критского царя Миноса и его супруги Пасифаи — героиня одноименной
трагедии Расина, откуда взята эта строка.
16 В
парижском «Гран кафе» состоялось 28 декабря 1895 года первое публичное
представление «Кинематографа» братьев Люмьер. Эта дата считается днем рождения
нового искусства — кино.
17
«Театр Мариньи» и «Театр Франсэ» — драматические театры, придерживавшиеся
классического репертуара.
==363
18 Муне-Сюлли. (1841—1916) — французский трагический актер,
представитель академического направления в актерском искусстве, связанного с
традициями классицизма.
19 Сара
Бернар (1844—1923) — знаменитая французская актриса, принадлежавшая к актерской
школе «представления». Будучи прославленной на весь мир театральной актрисой,
она начала сниматься в 1900 году в фильме «Дуэль Гамлета» (режиссер Клеман
Морис). В эпоху расцвета «Film d'Art» она вновь вернулась в кино, приняв
участие в фильмах «Дама с камелиями» (режиссер Анри Пукталь, 1911), «Елизавета,
Королева Английская» (1912), «Адриенна Лекуврер» (1913), поставленных Луи
Меркантоном. Она скончалась в 1923 гвду в возрасте 79 лет во время съемок
фильма Меркантона «Ясновидящая».
20
Шарль Ле Баржи (1858—1936) — французский трагедийный актер, добившийся
известности на сцене театра «Комеди Франсэз». Вместе с братьями Лаффит был
основателем кинокомпании «Film d'Art». Поставил в 1908 году нашумевший в свое
время фильм «Убийство герцога Гиза», в котором сыграл главную роль. К числу
фильмов, созданных Ле Баржи, относятся также «Возвращение Одиссея» (1909),
«Угрызения Иуды», «Мадам де Рекамье». В своей деятельности Ле Баржи стремился
привить простонародному молодому киноискусству буржуазный вкус и свести его к
нормам официального признанного искусства.
21
«Аталия» — трагедия Жана Расина.
ЖИВОПИСЬ
И КИНО
1
Лючано Эммер (род. в Милане 19. II 1918) — итальянский режиссер. В период с
1941 по 1949 год работал над короткометражными фильмами об искусстве (о
творчестве Босха, Карпаччо, Бианки Пасколи и других). Поставил также ряд
полнометражных фильмов: «Августовское воскресенье» (1949), «Париж—всегда будет
Парижем» (1951), «Двоеженец» (1955), «Девушка в витрине» (1960).
2 Ален
Рене (род. в г. Ванн 3. VI 1922) — крупнейший современный французский
кинорежиссер. Дебютировал в короткометражном кино, создав такие шедевры, как
«Ван Гог» (1948), «Герника» (1950), «Статуи тоже умирают» (1952), «Ночь и
туман» (1956). В художественном кино дебютировал фильмом «Хиросима, любовь моя»
(1959), «В прошлом году в Мариенбаде» (1961), «Мюриель» (1963), «Война
окончена» (1968), «Я люблю, я люблю» (1969).
3 Пьер
Каст (род. в Париже 22. ХП 1920) — французский режиссер, долгое время
работавший в области короткометражного кино. Снял фильмы «Прелести бытия»
(1949), «Бедствия войны» (1949, совм. с Гремийоном), «Леду—непризнанный архитектор».
Полнометражные фильмы — «Карманная любовь» (1957), «Прекрасный возраст» (1960),
«Мертвая пора любви» (1961) и др.
==364
4 Хосе Ортега-и-Гассет (род. 9. V 1883 в Мадриде — ум. 18.
X. 1955 там же) — испанский философ и теоретик искусства, чьи труды во многом
близки экзистенциализму.
5 Анри
Сторк (род. в Остенде 5. IX 1907) — бельгийский режиссер-документалист. В 30-е
годы, следуя принципам Дзиги Вертова, начал создавать монтажные фильмы —
«Неизвестный солдат» (1932) — и фильмы в духе «киноков» — «Идиллия на пляже»
(1931). Сотрудничал с И. Ивенсом в фильме «Боринаж» (1934). Создал
многочисленные фильмы по искусству, экспериментальные киноленты,
документальные, научно-популярные и биографические фильмы.
6 Поль
Хазартс (род. в Бооме 15. II 1901) — бельгийский режиссер, специализировавшийся
в области фильмов по искусству. Создал ряд выдающихся кинолент, в том числе «От
Ренуара до Пикассо» (1948), «Рубенс» (1948), «Посещение Пикассо» (1949),
«Золотой век» (1953) и др.
ЖАН
ГАБЕН И ЕГО СУДЬБА
1 Жан
Габен (род. в Мериель 17. V 1904) — один из наиболее популярных актеров
французского кино. Снялся в первой значительной роли в фильме «Мари Шапделен»
(реж. Жюльен Дювивье, 1934). К числу его наиболее известных фильмов относятся
«Пепе ле Моко» (реж. Жюльен Дювивье, 1937), «Великая иллюзия» (реж. Жан Ренуар,
1936), «Набережная туманов» (реж. Марсель Карне, 1938), «Человек-зверь» (реж.
Жан Ренуар, 1938), «День начинается» (реж. Марсель Карне, 1939), «У стен
Малапаги» (реж. Рене Клеман, 1948), «Через Париж» (реж. Клод Отан-Лара, 1956) и
другие. Всего он снялся примерно в восьмидесяти фильмах, сыграв в шестидесяти
пяти из них ведущую роль. Основал совместно с Фернанделем в 1963 году
кинокомпанию «Гафер».
2 Луис
Мариано и Тино Росси — очень популярные в 30—40 годы актеры, снимавшиеся в
слащавых (как правило, музыкальных) мелодрамах.
3 Анри
Жансон (род. 6. Ill 1900) — сценарист и кинокритик. Автор сценариев многих
выдающихся французских фильмов, в том числе довоенных картин «Пепе ле Моко»
(реж. Жюльен Дювивье, 1937) с участием Жана Габена, «Отель дю Нор» (реж.
Марсель Карне, 1938) и др.
Жак
Превер (род. 4. П. 1900) — французский поэт, один из лучших авторов
французского поэтического реалистического кино. Его перу принадлежит сценарий
довоенных фильмов «Набережная туманов» (реж. Марсель Карне, 1938), «День
начинается» (реж. Марсель Карне, 1939), в которых снимался Жан Габен.
Жан
Оранш (род. 11. IX 1904) и Пьер Бост (род. 5. IX 1901) принадлежат к числу
лучших сценаристов послевоенного французского кино. Их творчество в основном
связано с Клодом ОтанЛара. Авторы сценариев «У стен Малапаги» (реж. Рене
Клеман, 1948, с участием Жана Габена), «Запрещенные игры» (реж. Рене
Клеман,1952)и др.
==365
4 Игра слов, основанная на французском прокатном названии
фильма «У стен Малапаги» — «По ту сторону решетки».
СМЕРТЬ
ХЭМФРИ БОГАРТА
1
Хэмфри. Богарт (род. в Нью-Йорке 25.XII 1900 — ум. в ЛосАнджелесе 14. I 1957) —
один из наиболее крупных американских киноактеров, творческая деятельность
которого характеризуется следующими цифрами: 13 лет в театрах на Бродвее, 22
года в Голливуде (73 фильма).
Его
высокая принципиальность, резкость и независимость по отношению к правителям
американской киноиндустрии, готовность помочь начинающим талантливым актерам и
режиссерам снискали ему особую популярность и уважение среди американских
кинематографистов.
2
Джеймс Дин (род. в г. Мэрион в. и iy,sl — ум. а0. IX 1955) — молодой
американский киноактер, пользовавшийся колоссальной популярностью у молодых
зрителей 50-х годов и ставший своеобразным воплощением этого «сердитого
поколения». С большим успехом сыграл в фильмах: «К Востоку от рая» (реж. Элиа
Казан, 1954), «Бунтарь без причины» (реж. Николае Рэй, 1955), «Гигант» (реж. Джордж
Стивене, 1956); фильм вышел после его смерти). Погиб в автомобильной
катастрофе.
3 Гэри
Купер (род. 7. V 1901 — ум. 13. V 1961 в Голливуде) — популярный американский
киноактер, сыгравший главные роли в 96 фильмах, преимущественно комических,
приключенческих и ковбойских, в которых он обычно играл роли хладнокровных,
неторопливых героев, без промаха поражавших противников и завоевавших женские
сердца.
4
Дуглас Фэрбенкс (род. в г. Дьюэр 23. V 1883 — ум. в СантаМонака 12. XII 1939) —
знаменитый американский киноактер немого кино, прославившийся своей
акробатической ловкостью, стремительностью и жизнерадостностью. Вместе со своей
женой, кинозвездой Мари Пикфорд, Дэвидом Гриффитом и Чарли Чаплином основал в
1917 году кинокомпанию «Юнайтед Артисте».
5
Джордж Рафт (род. в Нью-Йорке 27. IX 1895) — американский киноактер, начавший
свою карьеру как танцор, много снимался в детективных фильмах, в которых, как
правило, играл гангстеров. Наиболее известен фильм «Лицо со шрамом» (1932, реж.
Говард Хоукс). Играл также в танцевальных фильмах.
6
Эдвард Робинсон (род. в Бухаресте 12. XII 1893) — американский киноактер,
создавший во множестве фильмов типичный образ гангстера.
7 Под
школой Казана автор подразумевает знаменитую ньюйоркскую школу драматического
искусства «Actors Studio», основанную в 1947 году последователем школы
Станиславского режиссером Ли Страсбергом и режиссером, драматургом и писателем
Элиа Казаном. Эта школа выросла из театральной труппы «Group
==366
Theatre», основанной Ли Страсбергом в 1931 году совместно с
Гарольдом Клерманом и Черил Кроуфорд. С деятельностью «Group Theatre», который
был предшественником современного авангардистского театра «Оф-Бродвей», и
позднее с «Actors Studio» связано формирование и начало творческой деятельности
крупнейших американских драматургов, таких, как Уильям Сароян, Артур Миллер,
Теннесси Уильяме, Уильям Индж, театральных и кинорежиссеров — Элиа Казан,
Сидней Люмет, Джошуа Логан, Мартин Ритт, актеров — Джон Гарфилд, Франчот Тон,
Марлон Брандо, Джеймс Дин, Энтони Куинн, Мэрилин Монро и многие другие. Следуя
теории Станиславского, «Actors Studio» проповедует максимальное стремление к
психологическому и социальному реализму исполнения. При этом от актеров
требуется предельное напряжение творческого воображения и сознания наряду с
использованием ресурсов подсознания и механизмов глубинных инстинктов.
8
Марлон Брандо (род. в Омахе 3. IV 1924) — один из наиболее известных
американских актеров послевоенных лет. М. Брандо сформировался в «Actors
Studio». В кино дебютировал в фильме «Мужчины» (реж. Фред Циннеман, 1950).
Наибольшую славу и признание ему принесло исполнение главных ролей в фильмах
«Трамвай «Желание» (1951) и «Вива Запата!» (1952) режиссера Э. Казана. В
последние годы наряду с актерской деятельностью большое место в творчестве М.
Брандо занимает режиссура. Его первая постановка — «Одноглазый Джек» (1960).
Брандо известен своими прогрессивными политическими взглядами и, в частности,
решительной поддержкой американских негров за гражданские права.
ВЕЛИЧИЕ
«ОГНЕЙ РАМПЫ»
1 Саша
Гитри (род. в Петербурге, 1885 — ум. в Париже 14. VII 1957) — французский
актер, драматург и режиссер.
2 Гарри
Ленгдон (род. В. Каунсил Блаффс 15. VI 1884 — ум. в Голливуде 22. XII 1944) —
американский актер немого кино, много снимавшийся в комических лентах Мак
Сеннетта. Особенно удачными были два его фильма, снятые Франком Капрой: «Силач»
(1926) и «Длинные штаны» (1927).
КИБЕРНЕТИКА
АНДРЕ КАЙАТТА
1
Подразумевается редакция журнала «Кайе дю синема», руководителем и
вдохновителем которого был А. Базен.
2
Французские термины: «film a these» и «these filmee».
3
«Рассуждения о методе» — философский трактат Декарта (1637), в котором изложены
его теории.
==367
ВЕСТЕРН, ИЛИ ИЗБРАННЫЙ ЖАНР АМЕРИКАНСКОГО КИНО
1 В
американском кинопроизводстве установлено четкое разделение на суперпостановки,
фильмы серии «А», «В» — вплоть до «Z»,— в зависимости от размеров бюджета,
строго определяющего сроки съемки, возможности приглашения более или менее
известных исполнителей и т. п.
2
Хопалонг Кассиди — чрезвычайно популярный персонаж бесконечной серии
американских вестернов, в роли которого с неизменным успехом снимался с 1935 по
1952 год актер Уильям Бойд, перешедший впоследствии (вместе со своим
персонажем) на телевидение.
3 Том
Микс (род. в Микс Раи 6. I 1880 — погиб 12. X 1940 в автомобильной катастрофе)
— популярный актер американского немого кино, прославившийся исполнением ролей
сурового шерифа, блюстителя закона, в бесчисленном множестве вестернов.
Неизменным его спутником и верным другом во всех приключениях был белый конь по
прозвищу Тони. Большую часть своих фильмов Том Микс ставил сам как режиссер и
продюсер. Интересно, что в молодости (до 1913 года, когда началась его карьера
в кино) Том Микс был настоящим ковбоем и профессиональным шерифом.
4
Уильям Серрей Харт (род. в Ныо-Бург 6. XII 1870 — ум. в Лос-Анджелесе 23. VI
1946) — знаменитый актер американского немого кино, создавший образ
бесстрашного ковбоя. Начал сниматься в фильмах Томаса Инса в 1913 году.
5
Манихейство — религиозно-философское учение, возникшее в III веке н. э. и
основанное на представлении о существовании двух начал — «добра» и «зла»,
борьба которых составляет суть бытия.
6 «Еид»
Вилли — легендарный персонаж множества американских фильмов, прообразом
которого был знаменитый бандит Уильям Буни, по прозвищу «Кид», чьи похождения
связаны с эпохой завоевания Дальнего Запада.
ЭВОЛЮЦИЯ
ВЕСТЕРНА
1 Аллан
Дуэн (род. 3. IV 1885) — чрезвычайно плодовитый американский режиссер, который
по некоторым данным сделал за пятьдесят лет свыше 1500 фильмов. Снял несколько
сот лент для компании «Эссеней» (1909—1916), затем работал с Гриффитом в
компании «Траэнгл». Вершина его творчества относится к 1916—1923 годам, когда
он работал с Дугласом Фербенксом.
2
«Трайэнгл» — название американской кинокомпании, возникшей в 1916 году в
результате слияния трех фирм: «Кистоун», «Кэй Би» и «Фаин Артс».
==368
3 Рауль Уолш (род. в Нью-Йорке 11. Ill 1892) — американский
режиссер, принадлежащий к плеяде ветеранов, положивших начало Голливуду. Был
ассистентом Д.-У. Гриффита. На его счету свыше ста фильмов самых различных
жанров — от вестерна до мелодрамы, полицейского фильма и постановки на
библейские темы.
4 Роберт
Олдрич (род. в Кранстоне, Род-Айленд 9. VIII 1918) — американский режиссер.
Начал работать в кино в 1942 году; был ассистентом таких мастеров, как Жан
Ренуар, Уильям Уэллман, Льюис Майлстоун, Чарльз Чаплин. Снял фильмы:
«Вера-Крус» (1954), «Апач» (1954), «Рассерженные холмы» (1959), «Что случилось
с Беби Джейн?» (1963) и др.
5 Генри
Хэтауэй (род. в Сакраменто 13. Ill 1898) — американский режиссер, дебютировал в
кино в 1922 году в качестве ассистента режиссера. В 1932 году начал
самостоятельно снимать вестерны «серии В». Создал ряд известных фильмов: «Жизнь
бенгальских улан» (1935), «Питер Иббетсон» (1935), «Джонни Апполло» (1940),
«Ниагара» (1953, с Мерилин Монро), «Сад зла» (1954, с Гэри Купером), одну из
новелл в фильме «Как был завоеван Запад» (1962), «Величайший в мире цирк»
(1964).
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ
РЕАЛИЗМ И ИТАЛЬЯНСКАЯ ШКОЛА ЭПОХИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
1
Роберто Росселлини (род. в Риме 8. VI 1906) — выдающийся итальянский режиссер,
один из основателей школы неореализма. Начал с работы в документальном кино:
«Дафния» (1936), «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна» (1937—1938),
«Подводная фантазия» (1939), «Белый корабль» (1941). После окончания второй
мировой войны создал значительнейшие произведения итальянского неореализма:
«Рим—открытый город» (1944—1946), «Пайза» (1946), «Германия, год нулевой»
(1948), «Стромболи» (1949—1950), «Европа-51» (1952), «Индия» (1958), «Генерал
делла Ровере» (1959), «В Риме была ночь» (1960) и др.
2
Альберта Латтуада (род. в Милане 13. XI 1914) — итальянский режиссер. Начал
свою деятельность в кино как создатель Миланской синематеки и популяризатор
кино. Первые фильмы — «Джакомо-идеалист» (1942), «Стрела в бок» (1943—1945).
Автор выдающихся неореалистических фильмов: «Бандит» (1946), «Без жалости»
(1948), «Мельница на реке По» (1948), «Шинель» (1951)и др.
3
Алессандро Блазеттй (род. в Риме 3. VII 1900). Начал свою деятельность в кино
как критик. Поставил фильмы: «Солнце» (1929), «Нерон» (1930), «Воскресенье» и
«Мать-земля» (1931), «Трапеза бедных» (1932), «Год 1860-й» и «Старая гвардия»
(1933), «Графиня Пармская» (1937), «Этторе Фьерамоска» (1938), «Приключение
Сальватора Роза» (1940), «Железная корона» (1941), «Четыре шага в облаках»
(1942), «Один день жизни» (1946),
==369
«Другие времена» (1952), «Жаль, что ты — негодяй» (1954),
«Европа ночью» (1959), «Я люблю, ты любишь» (1960) и др.
4 Марио
Камерини (род. в Риме 6. II 1895) — по мнению Ж. Садуля, наряду с Блазетти —
лучший итальянский режиссер 30-х годов, специализировавшийся на создании
нескольких меланхолических комедий, героями которых были простые маленькие
люди. Способствовал формированию Де Сики. Поставил фильмы «Джолли, цирковой
клоун» (1923), «Мачисте против шейха» (1926), «Кифф Теби» (1927), «Рельсы»
(1929), «Фигаро и день его величия» (1931), «Что за подлецы мужчины!» (1932),
«Треуголка» (1934), «Дам миллион» (1935), «Но это не серьезно» (1936),
«Господин Макс» (1937), «История одной любви» (1942), «Два анонимных письма»
(1945), «Капитанская дочка» (1947), «Герои воскресного дня» (1952), «Улисс»
(1953) и др.
5 Марио
Солдат (род. в Турине 17. XI 1906) — итальянский режиссер и писатель. По словам
Ж. Садуля, «во многом способствовал возрождению итальянского кино в 1940—1944
годах как один из мастеров-«каллиграфов». Снял фильмы: «Маленький старинный
мирок» (1940), «Призрак» (1942), «Провинциалка» (1952) и др.
6 Автор
имеет в виду фильм Марселя Парне «Врата ночи».
7 Осмос
— в химии закономерность, регулирующая процесс проникновения жидкости через
полупроницаемые перепонки.
8 Альдо
Вергано (род. в Риме 27. VIII 1894 — ум. в Риме 21. IX 1957) — итальянский
режиссер, принадлежащий к числу тех, кто подготовил расцвет неореализма. В 1946
году создал один из первых шедевров неореализма — «Солнце еще восходит».
9
Термином «Фильм, построенный из отдельных скетчей» в западном киноведении
обозначаются фильмы, которые у нас принято называть «фильмами из отдельных
новелл». Тем самым подчеркивается, как нам кажется, преимущественно
развлекательный характер таких лент, определяемый главным образом чисто
внешними эффектами.
10
Оператор «Пайзы» Отелло Мартелли (род. в Риме 19. V 1902) был, по словам Жоржа
Садуля, «самым знаменитым оператором своей страны». «Начал работать в немом
кино в 1916 году. В 1928 году снимал экспедицию Нобиле на Северный полюс. С 1934
года начал работать с Алессаядро Блазетти в звуковом кино (фильм «Старая
гвардия»). После войны был оператором фильмов: «Пайза» (1946), «Трагическая
охота» (1947), «Горький рис» (1948), «Стромболи» (1949), «Рим, 11 часов»
(1951), «Маменькины сынки» (1953) и др.
11
«Джи-ай»—обозначение солдата на американском армейском жаргоне.
К оглавлению
==370
ДЕ СИКА — РЕЖИССЕР
1
Курцио Малапарте (род. в Прато 9. VI 1898 — ум. в Риме 19. VII 1957) —
итальянский писатель, журналист, драматург. Создал один-единственный фильм
«Запрещенный Христос», который был его авторским произведением в буквальном
смысле.
2 Фриц
Ланг (род. в Вене 5. XII 1890) — выдающийся немецкий, а впоследствии американский
кинорежиссер. Немецкий период творчества Ланга (1919—1933) неразрывно связан со
становлением и расцветом экспрессионизма в кино. К наиболее значительным
фильмам этого периода относятся: «Нибелунги» (1923), «Доктор Мабузе-игрок»
(1922), «Метрополис» (1926), «М» (1931), «Завещание д-ра Мабузе» (1932). После
прихода нацистов к власти Ланг эмигрирует в США. Американский период творчества
режиссера отличается сугубо реалистическим характером. Ф. Ланг создает фильмы
самых различных жанров: от социальной драмы до вестерна, полицейского фильма и
психологической драмы. Наиболее известны: «Ярость» (1936), «Ты живешь только
раз» (1937), «Ты и я» (1938), «Возвращение Фрэнка Джеймса» (1940),
«ВестернЮнион» (1941), «Палачи тоже умирают» (1943), «Женщина в окне» (1944),
«Ранчо дурной славы» (1951), «Когда город спит» (1955). По возвращении в
Германию поставил фильм «Тысяча глаз д-ра Мабузе» (1960) и др.
3
Теологические добродетели: вера, надежда, любовь.
4
«Шуша» — прозвище уличных мальчишек — чистильщиков сапог в послевоенной Италии
(от английского слова «Shoe» — башмак). Отсюда название знаменитого фильма Де
Сики.
5
Французская поговорка «Qui vole un oeuf vole un bceuf» строится на ритмическом
созвучии слов: ceuf (яйцо) и boeuf (бык). Перефразируя ее, автор вкладывает в
уста Де Сики слова о том, кто «мечтает о лошади», тем самым явно намекая на
эпизод с катанием мальчишек верхом на белой лошади в фильме «Шуша».
6 Анри
Руссо, прозванный «Таможенник» (1844—1910)— известный французский
художник-примитивист.
«ПОХИТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ»
1
Луиджи Кьярини (род. в Риме 20. VI 1900) — видный итальянский теоретик кино,
основатель и долголетний директор Экспериментального Киноцентра в Риме
(1934—1950), директор Венецианского кинофестиваля (1961—1968). Автор многих
теоретических трудов по кино: «Режиссура» (1942), «Кино и проблемы искусства»
(1949), «Кино — пятая сила» (1954). Основал теоретические киножурналы: «Бьянко
э неро» (1937) и «Ривиста дель чинема итальяно» (1952). Режиссер нескольких
фильмов «каллиграфического» характера: «Жизнь пяти лун» (1942), «Спящая
красавица» (1942), «Хозяйка гостиницы» (1943), «Последняя любовь» (1946),
«Договор с дьяволом» (1949).
==371
2 Джекки Куган (род. в Лос-Анджелесе 26. Х 1914) —
американский киноактер, прославившийся исполнением роли Малыша в одноименном
фильме Чаплина (1920).
3 Кэри
Грант (род. в Бристоле 18. I 1904) — популярный американский киноактер. К числу
его наиболее удачных работ относятся фильмы: «Белокурая Венера» (реж. Джоаеф
Штернберг, 1932), «Ужасная правда» (реж. Лео Мак-Карей, 1937), «Ганга Дин»
(реж. Джордж Стивене, 1939), «Только у ангелов есть крылья» (реж. Говард Хоукс,
1934), «Мышьяк и старые кружева» (реж. Франк Капра, 1944), «Дурная слава» (реж.
Альфред Хичкок, 1955), «Шарада» (реж. Стэнли Донен, 1962).
«ЗЕМЛЯ
ДРОЖИТ»
1 ж. Р.
Альдо (Альдо Грациати) (род. в Скорые 1. I 1902 — ум. в Падуе 14. XI 1953) —
выдающийся итальянский кинооператор. В течение 25 лет был фотографом на
различных французских киностудиях. Свою деятельность как кинооператор начал
лишь в 1949 году, сняв фильм «Последние дни Помпеи» (реж. Марсель Л'Эрбье).
После этого он был оператором ряда значительнейших итальянских фильмов: «Небо
над болотами» (реж. Аугусто Дженина, 1949), «Земля дрожит» (реж. Лукино
Висконти, 1950), «Чудо в Милане» (реж. Витторио Де Сика, 1951), «Отелло» (реж.
Орсон Уэллс, 1951), «Умберто Д.» (реж. Витторио Де Сика, 1952), «Вокзал
Термини» (реж. Де Сика, 1953), «Провинциалка» (реж. Марио Солдати, 1953),
«Чувство» (реж. Лукино Висконти, 1953).
2 Арне
Суксдорф (род. в Стокгольме 3. II 1917) — выдающийся шведский
кинодокументалист. Начиная с 1939 года снял серию короткометражных
документальных лент о природе Швеции, которая принесла ему мировое признание. К
числу созданных им фильмов относятся: «Рог трубит на Севере» (1950, по заказу
ЮНЕСКО), «Индийское селение» (1951), «Ветер и река» (1951), «Большое
приключение» (1951), «Ритм города» (1956), «Мальчик на дереве» (1961), «Мой дом
— Копакабана» (1965) (последние два фильма полуигровые).
3 Эрвин
Пискатор (род. в Ульме, 17. XII 1893) — выдающийся немецкий театральный
режиссер, расцвет творчества которого приходится на период между 1925—1932
годами. В своих театральных постановках
неоднократно использовал кино. В 1934 году снял в СССР фильм
«Восстание рыбаков».
«ДВА
ГРОША НАДЕЖДЫ»
1Ренато
Кастеллани (род. в Финале Лигуре, 4. IX 1913) — итальянский кинорежиссер,
принадлежащий, по словам Ж. Садуля, к числу самых блестящих
стилистов-«каллиграфов» итальянского кино. Поставил фильмы: «Выстрел из
пистолета» (1941), «Заза» (1942). После войны примкнул к неореализму, создав:
«Под солнцем Рима» (1948), «Весна» (1949), «Два гроша надежды» (1952), «Ромео и
Джульетта» (1954), «Мечты в ящике» (1957), «Ад в городе» (1958), «Бандит»
(1961), «Бурное море» (1963) и др.
==372
«В ЗАЩИТУ РОССЕЛЛИНИ»
1
Линдсей Андерсон (род. в индийском городе Бангалор 17. IV 1923 г.) — известный
английский критик, теоретик кино и режиссер. Вдохновитель движения «свободного
кино», положившего начало (1957) возрождению английского кинематографа.
Постоянно сотрудничал как кинокритик в журналах и газетах «Сайт энд саунд»,
«Тайме», «Нью Стейтсмен», «Лефт ревью», «Обсервер».
Как
режиссер поставил начиная с 1948 года несколько короткометражных репортажных
фильмов, в 1963 году художественный фильм «Спортивная жизнь», в 1969
году—«Если» («Гран-при» Каннского фестиваля).
==373