Л.С.ВЫГОТСКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ
Главный редактор
A. В. ЗАПОРОЖЕЦ
Члены редакционной коллегии:
Т. А. ВЛАСОВА
Г. Л. ВЫГОДСКАЯ
B. В. ДАВЫДОВ
А. Н. ЛЕОНТЬЕВ
А. Р. ЛУРИЯ
А. В. ПЕТРОВСКИЙ
A. А. СМИРНОВ
B. С. ХЕЛЕМЕНДИК
Д. Б. ЭЛЬКОНИН
М. Г. ЯРОШЕВСКИИ
Секретарь редакционной коллегии
Л. А. РАДЗИХОВСКИИ
МОСКВА
ПЕДАГОГИКА
1982
АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР
Л. С. ВЫГОТСКИЙ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ВТОРОЙ
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
Под редакцией В. В. ДАВЫДОВА
МОСКВА
ПЕДАГОГИКА
1982
Печатается по решению Президиума Академии педагогических наук СССР
Рецензент:
доктор психологических наук, профессор А. Н. Соколов
Составитель Г. Л. Выгодская
Автор послесловия А. Р. Лурия
Автор комментариев Л. А. Радзиховский
ВЫГОТСКИЙ Л. С.
Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2. Проблемы общей психологии / Под ред. В. В. Давыдова. — М.: Педагогика, 1982. — 504 с, ил. — (Акад. пед. наук СССР).
1 р. 70 к.
Во второй том Собрания сочинений Л. С. Выготского включены работы, содержащие основные психологические идеи автора. Сюда входит известная монография «Мышление и речь», представляющая итог творчества Выготского. В том включены также лекции по психологии.
Данный том непосредственно продолжает и развивает круг идей, изложенных в первом томе Собрания сочинений.
Для психологов, педагогов, философов.
© Издательство «Педагогика». 1982 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ1
Настоящая работа представляет собой психологическое исследование одного из труднейших, запутаннейших и сложнейших вопросов экспериментальной психологии — вопроса о мышлении и речи. Систематическая экспериментальная разработка этой проблемы, сколько нам известно, вообще не предпринималась никем из исследователей. Решение задачи, стоявшей перед нами, хотя бы с первичным приближением, могло быть осуществлено не иначе, как рядом частных экспериментальных исследований отдельных сторон интересующего нас вопроса, например, исследованием экспериментально образуемых понятий, исследованием письменной речи и ее отношения к мышлению, исследованием внутренней речи и т. д.
Помимо экспериментальных исследований мы неизбежно должны были обратиться к теоретическому и критическому исследованию. С одной стороны, нам предстояло путем теоретического анализа и обобщения большого накопившегося в психологии фактического материала, путем сопоставления, сличения данных фило- и онтогенеза наметить отправные пункты для решения нашей проблемы и развить исходные предпосылки для самостоятельного добывания научных фактов в виде общего учения о генетических корнях мышления и речи. С другой стороны, нужно было подвергнуть критическому анализу самые идейно мощные из современных теорий мышления и речи для того, чтобы оттолкнуться от них, уяснить пути собственных поисков, составить предварительные рабочие гипотезы и противопоставить с самого начала теоретический путь нашего исследования тому пути, который привел к построению господствующих в современной науке, но несостоятельных и потому нуждающихся в пересмотре и преодолении теорий.
В ходе исследования пришлось еще дважды прибегать к теоретическому анализу. Исследование мышления и речи с неизбежностью затрагивает целый ряд смежных и пограничных областей научного знания. Сопоставление данных психологии речи и лингвистики, экспериментального изучения понятий и психологической теории обучения оказалось при этом неизбежным. Эти попутно встречающиеся вопросы, нам казалось, всего удобнее разрешать в чисто теоретической постановке, без анализа самостоятельно накопленного фактического материала. Следуя это-
6[1]
му правилу, мы ввели в контекст исследования развития научных понятий разработанную нами в другом месте и на другом материале рабочую гипотезу об обучении и развитии. И наконец, теоретическое обобщение, сведение воедино всех экспериментальных данных оказалось последней точкой приложения теоретического анализа к нашему исследованию.
Таким образом, наше исследование оказалось сложным и многообразным по составу и строению, но вместе с тем каждая частная задача, стоявшая перед отдельными отрезками нашей работы, была настолько подчинена общей цели, настолько связана с предшествующим и последующим отрезком, что работа в целом — мы смеем надеяться на это — представляет собой в сущности единое, хотя и расчлененное на части, исследование, которое целиком, во всех своих частях направлено на решение основной и центральной задачи — генетического анализа отношений между мыслью и словом.
Сообразно с основной задачей определилась программа нашего исследования и настоящей работы. Мы начали с постановки проблемы и поисков методов исследования. Затем мы попытались в критическом исследовании подвергнуть анализу две самые законченные и сильные теории развития речи и мышления — теорию Ж. Пиаже и В. Штерна, с тем чтобы с самого начала противопоставить нашу постановку проблемы и метод исследования традиционной постановке вопроса и традиционному методу и тем самым наметить, что, собственно, следует нам искать в ходе нашей работы, к какому конечному пункту она должна нас привести. Далее, нашим двум экспериментальным исследованиям развития понятий и основных форм речевого мышления мы должны были предпослать теоретическое исследование, выясняющее генетические корни мышления и речи и тем самым намечающее отправные точки для нашей самостоятельной работы по изучению генезиса речевого мышления. Центральную часть всей книги образуют два экспериментальных исследования, из которых одно посвящено выяснению основного пути развития значений слов в детском возрасте, а другое — сравнительному изучению развития научных и спонтанных понятий ребенка. Наконец, в заключительной главе мы пытались свести воедино данные всего исследования и представить в связном и цельном виде процесс речевого мышления, как он рисуется в свете этих данных.
Как и в отношении всякого исследования, стремящегося внести нечто новое в разрешение изучаемой проблемы, и в отношении нашей работы, естественно, возникает вопрос, что она содержит в себе нового и, следовательно, спорного, что нуждается в тщательном анализе и дальнейшей проверке. Мы можем в немногих словах перечислить то новое, что вносит наша работа в
7
общее учение о мышлении и речи. Если не останавливаться на несколько новой постановке проблемы, которую мы допустили, и в известном смысле новом методе исследования, примененном нами, новое в нашем исследовании может быть сведено к следующим пунктам: 1) экспериментальное установление того факта, что значения слов развиваются в детском возрасте, и определение основных ступеней в их развитии; 2) раскрытие своеобразного пути развития научных понятий ребенка по сравнению с развитием его спонтанных понятий и выяснение основных законов этого развития; 3) раскрытие психологической природы письменной речи как самостоятельной функции речи и ее отношения к мышлению; 4) экспериментальное раскрытие психологической природы внутренней речи и ее отношения к мышлению. В этом перечислении новых данных, которые содержатся в нашем исследовании, мы имели в виду прежде всего то, что может внести настоящее исследование в общее учение о мышлении и речи в смысле новых экспериментально установленных психологических фактов, а затем уже те рабочие гипотезы и теоретические обобщения, которые неизбежно должны были возникнуть в процессе истолкования, объяснения и осмысления этих фактов.
Не право и не обязанность автора, разумеется, входить в оценку значения и истинности этих фактов и этих теорий. Это дело критики и читателей.
Настоящая книга представляет собой результат почти десятилетней непрерывной работы автора и его сотрудников над исследованием мышления и речи. Когда эта работа начиналась, нам еще не были ясны не только ее конечные результаты, но и многие возникшие в процессе исследования вопросы. Поэтому в ходе работы нам неоднократно приходилось пересматривать ранее выдвинутые положения, многое отбрасывать и отсекать как неверное, другое перестраивать и углублять, третье, наконец, разрабатывать и писать совершенно заново. Центральная линия нашего исследования все время неуклонно развивалась в одном основном, взятом с самого начала направлении, и в этой книге мы попытались развернуть explicite многое из того, что в предыдущих наших работах содержалось implicite, но вместе с тем и многое из того, что нам прежде казалось правильным, исключить из настоящей работы как прямое заблуждение.
Отдельные ее главы были использованы нами ранее в других работах и опубликованы на правах рукописи в одном из курсов заочного обучения (глава пятая). Другие главы были опубликованы в качестве докладов или предисловий к работам тех авторов, критике которых они посвящены (главы вторая и четвертая) . Остальные главы, как и вся книга в целом, публикуются впервые.
8
Мы отлично сознаем неизбежное несовершенство того первого шага в новом направлении, который мы пытались сделать в настоящей работе, но мы видим свое оправдание в том, что этот шаг, по нашему убеждению, продвигает нас вперед в исследовании мышления и речи по сравнению с тем состоянием этой проблемы, которое сложилось в психологии к моменту начала нашей работы, раскрывая проблему мышления и речи как узловую проблему всей психологии человека, непосредственно приводящую исследователя к новой психологической теории сознания. Впрочем, мы затрагиваем эту проблему лишь в немногих заключительных словах нашей работы и обрываем исследование у самого ее порога.
ПРОБЛЕМА И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
1
Проблема мышления и речи принадлежит к кругу тех психологических проблем, в которых на первый план выступает вопрос об отношении различных психических функций, различных видов деятельности сознания. Центральным моментом всей этой проблемы является, конечно, вопрос об отношении мысли к слову. Все остальные вопросы, связанные с этой проблемой, как бы вторичны и логически подчинены этому первому и основному вопросу, без разрешения которого невозможна даже правильная постановка каждого из дальнейших и более частных вопросов. Между тем именно проблема межфункциональных связей и отношений, как это ни странно, является для современной психологии почти совершенно неразработанной и новой проблемой.
Проблема мышления и речи — столь же древняя, как и сама наука психология, — именно в этом пункте, в вопросе об отношении мысли к слову, наименее разработана и наиболее темна. Атомистический и функциональный анализ, который господствовал в научной психологии на всем протяжении последнего десятилетия, привел к тому, что отдельные психические функции рассматривались в изолированном виде, метод психологического познания разрабатывался и совершенствовался применительно к изучению этих отдельных, изолированных, обособленных процессов, в то время как проблема связи функций между собой, проблема их организации в целостной структуре сознания оставалась вне поля внимания исследователей.
Что сознание представляет собой единое целое и что отдельные функции связаны в деятельности друг с
другом в неразрывное единство, —
эта мысль не представляет чего-либо нового для современной психологии. Но единство сознания и связи между отдельными функциями в психологии
обычно скорее постулировались, чем
служили предметом исследования. Больше того, постулируя функциональное единство сознания, психология наряду с этим бесспорным допущением клала в
основу своих исследований молчаливо
всеми признаваемый, хотя явно не сфор-
10
мулированный, совершенно ложный постулат, заключающийся в признании неизменности и постоянства межфункциональных связей сознания, и предполагала, что восприятие всегда и одинаковым образом связано с вниманием, память всегда и одинаковым образом связана с восприятием, мысль — с памятью и т. д. Из этого, конечно, вытекало, что межфункциональные связи представляют собой нечто такое, что может быть вынесено за скобки в качестве общего множителя и что может не приниматься в расчет при производстве исследовательских операций над оставшимися внутри скобок отдельными и изолированными функциями. Благодаря всему этому проблема отношений является, как сказано, наименее разработанной частью во всей проблематике современной психологии.
Это не могло не сказаться самым тяжким образом и на проблеме мышления и речи. Если просмотреть историю изучения проблемы, можно легко убедиться, что от внимания исследователя все время ускользал центральный пункт об отношении мысли к слову и центр тяжести всей проблемы смещался и сдвигался в какой-либо другой пункт, переключался на какой-либо другой вопрос.
Если попытаться в кратких словах сформулировать результаты исторических работ над проблемой мышления и речи в научной психологии, можно сказать, что решение этой проблемы, которое предлагалось различными исследователями, колебалось всегда и постоянно — от самых древних времен и до наших дней — между двумя крайними полюсами — между отождествлением, полным слиянием мысли и слова и между их столь же метафизическим, столь же абсолютным, столь же полным разрывом и разъединением. Выражая одну из этих крайностей в чистом виде или соединяя в своих построениях обе эти крайности, занимая как бы промежуточный пункт между ними, но все время двигаясь по оси, расположенной между этими полярными точками, различные учения о мышлении и речи вращались в одном и том же заколдованном кругу, выход из которого не найден до сих пор. Начиная с древности, отождествление мышления и речи через психологическое языкознание, объявившее, что мысль — это «речь минус звук», и вплоть до современных американских психологов и рефлексологов, рассматривающих мысль как заторможенный рефлекс, не выявленный в своей двигательной части, проходит единую линию развития одной и той же идеи, отождествляющей мышление и речь. Естественно, что все учения, примыкающие к этой линии, по самой сущности своих воззрений на природу мышления и речи оказывались всегда перед невозможностью не только решить, но даже поставить вопрос об отношении мысли к слову. Если мысль и слово совпадают, если это одно и то же, никакое отношение между ними
11
не может возникнуть и не может служить предметом исследования, как невозможно представить себе, что предметом исследования может явиться отношение вещи к самой себе. Кто сливает мысль и речь, тот закрывает сам себе дорогу к постановке вопроса об отношении между мыслью и словом и делает заранее эту проблему неразрешимой. Проблема не разрешается, но просто обходится.
С первого взгляда может показаться, что учение, ближе стоящее к противоположному полюсу и развивающее идею о независимости мышления и речи, находится в более благоприятном положении относительно интересующих нас вопросов. Те, кто смотрят на речь как на внешнее выражение мысли, как на ее одеяние, те, которые, подобно представителям вюрцбургской школы2, стремятся освободить мысль от всего чувственного, в том числе и от слова, и представить связь между мыслью и словом как чисто внешнюю связь, действительно не только ставят, но и по-своему пытаются решить проблему отношения мысли к слову. Однако подобное решение, предлагающееся самыми различными психологическими направлениями, всегда оказывается не в состоянии не только решить, но и поставить эту проблему, и если не обходит ее, подобно исследователям первой группы, то разрубает узел вместо того, чтобы развязать его. Разлагая речевое мышление на образующие его элементы, чужеродные друг по отношению к другу — на мысль и слово, — эти исследователи пытаются затем, изучив чистые свойства мышления как такового, независимо от речи, и речь как таковую, независимо от мышления, представить себе связь между тем и другим как чисто внешнюю механическую зависимость между двумя различными процессами.
В качестве примера можно было бы указать на попытки одного из современных авторов изучить с помощью такого приема разложение речевого мышления на составные элементы, связь и взаимодействие обоих процессов. В результате этого исследования он приходит к выводу, что речедвигательные процессы играют большую роль, способствующую лучшему протеканию мышления. Они помогают процессам понимания тем, что при трудном словесном материале внутренняя речь выполняет работу, содействующую лучшему запечатлению и объединению понимаемого. Далее, эти же самые процессы выигрывают в своем протекании как известная форма активной деятельности, если к ним присоединяется внутренняя речь, которая помогает ощупывать, охватывать, отделять важное от неважного при движении мысли. Наконец, внутренняя речь играет роль способствующего фактора при переходе от мысли к громкой речи.
Мы привели этот пример только для того, чтобы показать, что, разложив речевое мышление в качестве известного единого
12
психологического образования на составные элементы, исследователю не остается ничего другого, как установить между этими элементарными процессами чисто внешнее взаимодействие, будто речь идет о двух разнородных, внутри ничем не связанных между собой формах деятельности. Это более благоприятное положение, в котором оказываются представители второго направления, заключается в том, что для них во всяком случае становится возможной постановка вопроса об отношении между мышлением и речью. В этом их преимущество. Но их слабость заключается в том, что сама постановка этой проблемы неверна и исключает всякую возможность правильного решения вопроса, ибо применяемый ими метод разложения единого целого на отдельные элементы делает невозможным изучение внутренних отношений между мыслью и словом. Таким образом, вопрос упирается в метод исследования, и нам думается, что, если с самого начала поставить перед собой проблему отношений мышления и речи, необходимо также заранее выяснить, какие методы должны быть применимы при исследовании этой проблемы, которые могли бы обеспечить ее успешное разрешение.
Нам думается, что следует различать двоякого рода анализ, применяемый в психологии. Исследование всяких психических образований необходимо предполагает анализ. Однако этот анализ может иметь две принципиально различные формы. Из них одна, думается нам, повинна во всех тех неудачах, которые терпели исследователи при попытках разрешить эту многовековую проблему, а другая является единственно верным начальным пунктом для того, чтобы сделать хотя бы самый первый шаг по направлению к ее решению.
Первый способ психологического анализа можно назвать разложением сложных психических целых на элементы. Его можно сравнить с химическим анализом воды, разлагающим ее на водород и кислород. Существенным признаком такого анализа является то, что в результате его получаются продукты, чужеродные по отношению к анализируемому целому, — элементы, которые не содержат в себе свойств, присущих целому как таковому, и обладают рядом новых свойств, которых это целое никогда не могло обнаружить. С исследователем, который, желая разрешить проблему мышления и речи, разлагает ее на речь и мышление, происходит совершенно то же, что произошло бы со всяким человеком, который в поисках научного объяснения каких-либо свойств воды, например, почему вода тушит огонь или почему к воде применим закон Архимеда, прибег бы к разложению воды на кислород и водород как к средству объяснения этих свойств. Он с удивлением узнал бы, что водород сам горит, а кислород поддерживает горение, и никогда не сумел бы из свойств этих элементов объяснить свойства, присущие
13
целому. Так же точно психология, которая разлагает речевое мышление на отдельные элементы в поисках объяснения его самых существенных свойств, присущих ему именно как целому, тщетно потом будет искать эти элементы единства, присущие целому. В процессе анализа они испарились, улетучились, и ему не остается ничего другого, как искать внешнего механического взаимодействия между элементами, для того чтобы с его помощью реконструировать чисто умозрительным путем пропавшие в процессе анализа, но подлежащие объяснению свойства.
В сущности говоря, такого рода анализ, который приводит нас к продуктам, утратившим свойства, присущие целому, не является с точки зрения той проблемы, к решению которой он прилагается, анализом в собственном смысле этого слова. Скорее, мы вправе его рассматривать как метод познания, обратный по отношению к анализу и в известном смысле противоположный ему. Ведь химическая формула воды, относящаяся одинаково ко всем ее свойствам, в равной мере относится вообще ко всем ее видам, в одинаковой степени к Великому океану так же, как и к дождевой капле. Поэтому разложение воды на элементы не может быть путем, который приведет нас к объяснению ее конкретных свойств. Это, скорее, есть путь возведения к общему, чем анализ, т. е. расчленение в собственном смысле этого слова. Так же точно анализ этого рода, прилагаемый к психологическим целостным образованиям, тоже не является анализом, способным выяснить нам все конкретное многообразие, всю специфику тех отношений между словом и мыслью, с которыми мы встречаемся в повседневных наблюдениях, следя за развитием речевого мышления в детском возрасте, за функционированием речевого мышления в его самых различных формах.
Этот анализ тоже по существу дела в психологии превращается в свою противоположность и вместо того,
чтобы привести нас к объяснению
конкретных и специфических свойств изучаемого целого, возводит это целое к директиве более общей, к директиве такой, которая способна нам объяснить
только нечто, относящееся ко всей
речи и мышлению во всей их абстрактной всеобщности,
вне возможности постигнуть конкретные закономерности, интересующие нас. Более того, непланомерно применяемый психологией анализ этого рода приводит
к глубоким заблуждениям, игнорируя
момент единства и целостности изучаемого процесса
и заменяя внутренние отношения единства внешними
механическими отношениями двух разнородных и чуждых друг другу процессов. Нигде результаты этого анализа не сказались с такой очевидностью, как
именно в области учения о мышлении
и речи. Само слово, представляющее собой живое
единство звука и значения и содержащее в себе, как живая клеточка, в самом простом виде основные свойства, прису-
14
щие речевому мышлению в целом, оказалось в результате такого анализа раздробленным на две части, между которыми затем исследователи пытались установить внешнюю механическую ассоциативную связь.
Звук и значение в слове никак не связаны между собой. Оба эти элемента, объединенные в знак, говорит один из важнейших представителей современной лингвистики, живут совершенно обособленно. Не удивительно поэтому, что из такого воззрения могли произойти только самые печальные результаты для изучения фонетической и семантической сторон языка. Звук, оторванный от мысли, потерял бы все специфические свойства, которые только и сделали его звуком человеческой речи и выделили из всего остального царства звуков, существующих в природе. Поэтому в обессмысленном звуке стали изучать только его физические и психические свойства, т. е. то, что является для этого звука не специфическим, а общим со всеми остальными звуками, существующими в природе, и, следовательно, такое изучение не могло объяснить нам, почему звук, обладающий такими-то и такими-то физическими и психическими свойствами, является звуком человеческой речи и что его делает таковым. Так же точно значение, оторванное от звуковой стороны слова, превратилось бы в чистое представление, в чистый акт мысли, который стал изучаться отдельно в качестве понятия, развивающегося и живущего независимо от своего материального носителя. Бесплодность классической семантики и фонетики в значительной степени обусловлена именно этим разрывом между звуком и значением, этим разложением слова на отдельные элементы.
Так же точно и в психологии развитие детской речи изучалось с точки зрения разложения ее на развитие звуковой, фонетической стороны речи и ее смысловой стороны. До деталей тщательно изученная история детской фонетики, с одной стороны, оказалась совершенно не в состоянии объединить, хотя бы в самом элементарном виде, проблему относящихся сюда явлений. С другой стороны, изучение значения детского слова привело исследователей к автономной и самостоятельной истории детской мысли, между которой не было никакой связи с фонетической историей детского языка.
Нам думается, что решительным и поворотным моментом во всем учении о мышлении и речи, далее, является переход от этого анализа к анализу другого рода. Этот последний мы могли бы обозначить как анализ, расчленяющий сложное единое целое на единицы. Под единицей мы подразумеваем такой продукт анализа, который в отличие от элементов обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и который является далее неразложимыми живыми частями этого единства. Не химическая формула воды, но изучение молекул и молекулярного
15
движения является ключом к объяснению отдельных свойств воды. Так же точно живая клетка, сохраняющая все основные свойства жизни, присущие живому организму, является настоящей единицей биологического анализа.
Психологии, желающей изучить сложные единства, необходимо понять это. Она должна заменить методы разложения на элементы методами анализа, расчленяющего на единицы3. Она должна найти эти неразложимые, сохраняющие свойства, присущие данному целому как единству, единицы, в которых в противоположном виде представлены эти свойства, и с помощью такого анализа пытаться разрешить встающие конкретные вопросы.
Что же является такой единицей, которая далее неразложима и в которой содержатся свойства, присущие речевому мышлению как целому? Нам думается, что такая единица может быть найдена во внутренней стороне слова — в его значении.
Эта внутренняя сторона слова до сих пор почти не подвергалась специальным исследованиям. Значение слова так же растворялось в море всех прочих представлений нашего сознания или всех прочих актов нашей мысли, как звук, оторванный от значения, растворялся в море всех остальных существующих в природе звуков. Поэтому так же точно, как в отношении звука человеческой речи, современная психология ничего не может сказать такого, что было бы специфическим для звука человеческой речи как такового, так же точно в области изучения словесного значения психология не может сказать ничего, кроме того, что характеризует в одинаковой мере словесное значение, как и все прочие представления и мысли нашего сознания.
Так обстояло дело в ассоциативной психологии4, так же принципиально обстоит оно в современной структурной психологии. В слове мы всегда знали лишь одну его внешнюю, обращенную к нам сторону. Другая, его внутренняя сторона — его значение, как другая сторона Луны, оставалась всегда и остается до сих пор неизученной и неизвестной. Между тем в этой, другой стороне и скрыта как раз возможность разрешения интересующих нас проблем об отношении мышления и речи, ибо именно в значении слова завязан узел того единства, которое мы называем речевым мышлением.
Для того чтобы выяснить это, нужно остановиться в нескольких словах на теоретическом понимании психологической природы значения слова. Ни ассоциативная, ни структурная психология не дают, как мы увидим в ходе нашего исследования, сколько-нибудь удовлетворительного ответа на вопрос о природе значения слова. Между тем экспериментальное исследование, излагаемое ниже, и теоретический анализ показывают,
16
что самое существенное, самое определяющее внутреннюю природу словесного значения лежит не там, где его обычно искали.
Слово всегда относится не к одному какому-нибудь отдельному предмету, но к целой группе или к целому классу предметов. В силу этого каждое слово представляет собой скрытое обобщение, всякое слово уже обобщает, и с психологической точки зрения значение слова прежде всего представляет собой обобщение. Но обобщение, как это легко видеть, есть чрезвычайный словесный акт мысли, отражающий действительность совершенно иначе, чем она отражается в непосредственных ощущениях и восприятиях.
Когда говорят, что диалектический скачок является не только переходом от немыслящей материи к ощущению, но и переходом от ощущения к мысли, то этим хотят сказать, что мышление отражает действительность в сознании качественно иначе, чем непосредственное ощущение. По-видимому, есть все основания допустить, что это качественное отличие единицы в основном и главном есть обобщенное отражение действительности.
В силу этого мы можем заключить, что значение слова, которое мы только что пытались раскрыть с психологической стороны, его обобщение представляет собой акт мышления в собственном смысле слова. Но вместе с тем значение представляет собой неотъемлемую часть слова как такого, оно принадлежит царству речи в такой же мере, как и царству мысли. Слово без значения есть не слово, но звук пустой. Слово, лишенное значения, уже не относится более к царству речи. Поэтому значение в равной мере может рассматриваться и как явление, речевое по своей природе, и как явление, относящееся к области мышления. О значении слова нельзя сказать так, как мы это раньше свободно говорили по отношению к элементам слова, взятым порознь. Что оно представляет собой? Речь или мышление? Оно есть речь и мышление в одно и то же время, потому что оно есть единица речевого мышления. Если это так, то очевидно, что метод исследования интересующей нас проблемы не может быть иным, чем метод семантического анализа, метод анализа смысловой стороны речи, метод изучения словесного значения. На этом пути мы вправе ожидать прямого ответа на интересующие нас вопросы об отношении мышления и речи, ибо само это отношение содержится в избранной нами единице, и, изучая развитие, функционирование, строение, вообще движение этой единицы, мы можем познать многое из того, что разрешит нам выяснить вопрос об отношении мышления и речи, вопрос о природе речевого мышления.
Методы, которые мы намерены применить к изучению отношений между мышлением и речью, обладают тем преимуществом, что они позволяют соединить все достоинства, присущие
17
анализу, с возможностью синтетического изучения свойств, присущих какому-либо сложному единству как таковому. Мы можем легко убедиться в этом на примере еще одной стороны интересующей нас проблемы, которая также всегда оставалась в тени. Первоначальная функция речи коммуникативная. Речь есть прежде всего средство социального общения, средство высказывания и понимания. Эта функция речи обычно также в анализе, разлагающем на элементы, отрывалась от интеллектуальной функции, и обе функции приписывались речи как бы параллельно и независимо друг от друга. Речь как бы совмещала в себе и функцию общения, и функцию мышления, но в каком отношении стоят эти обе функции друг к другу, что обусловило наличие обеих функций в речи, как происходит их развитие и как обе структурно объединены между собой — все это оставалось и остается до сих пор неисследованным.
Между тем значение слова представляет в такой же мере единицу этих обеих функций речи, как и единицу мышления. Что непосредственное общение душ невозможно — это является, конечно, аксиомой для научной психологии. Известно и то, что общение, не опосредованное речью или другой какой-либо системой знаков или средств общения, как оно наблюдается в животном мире, возможно только самого примитивного типа и в самых ограниченных размерах. В сущности это общение с помощью выразительных движений не заслуживает названия общения, а, скорее, должно быть названо заражением. Испуганный гусак, видящий опасность и криком поднимающий всю стаю, не столько сообщает ей о том, что он видел, сколько заражает ее своим испугом.
Общение, основанное на разумном понимании и на намеренной передаче мысли и переживаний, непременно требует известной системы средств, прототипом которой была, есть и всегда останется человеческая речь, возникшая из потребности общаться в процессе труда. Но до самого последнего времени дело представлено сообразно с господствовавшим в психологии взглядом в чрезвычайно упрощенном виде. Полагали, что средством общения является знак, слово, звук. Между тем это заблуждение проистекало только из неправильно применяемого к решению всей проблемы речи анализа, разлагающего на элементы.
Слово в общении главным образом только внешняя сторона речи, причем предполагалось, что звук сам по себе способен ассоциироваться с любым переживанием, с любым содержанием психической жизни и в силу этого передавать или сообщать это содержание или это переживание другому человеку.
Между тем более тонкое изучение проблемы общения, процессов понимания и развития их в детском возрасте привело ис-
18
следователей к совершенно другому выводу. Оказалось, что так же, как невозможно общение без знаков, оно невозможно и без значения. Для того чтобы передать какое-либо переживание или содержание сознания другому человеку, нет другого пути, кроме отнесения передаваемого содержания к известному классу, к известной группе явлений, а это, как мы уже знаем, непременно требует обобщения. Таким образом, оказывается, что общение необходимо предполагает обобщение и развитие словесного значения, т. е. обобщение становится возможным при развитии общения. Итак, высшие, присущие человеку формы психического общения возможны только благодаря тому, что человек с помощью мышления обобщенно отражает действительность.
В самом деле, стоит обратиться к любому примеру, для того чтобы убедиться в этой связи общения и обобщения — этих двух основных функций речи. Я хочу сообщить кому-либо, что мне холодно. Я могу дать ему понять это с помощью ряда выразительных движений, но действительное понимание и сообщение будет иметь место только тогда, когда я сумею обобщить и назвать то, что я переживаю, т. е. отнести переживаемое мною чувство холода к известному классу состояний, знакомых моему собеседнику. Вот почему целая вещь является несообщаемой для детей, которые не имеют еще известного обобщения.
Дело тут не в недостатке соответствующих слов и звуков, а в недостатке соответствующих понятий в обобщений, без которых понимание невозможно. Как говорит Л. Н. Толстой, почти всегда непонятно не само слово, а то понятие, которое выражается словом (1903, с. 143). Слово почти всегда готово, когда готово понятие. Поэтому есть все основания рассматривать значение слова не только как единство мышления и речи, но и как единство обобщения и общения, коммуникации и мышления.
Принципиальное значение такой постановки вопроса для всех генетических проблем мышления и речи совершенно неизмеримо. Оно заключается прежде всего в том, что только с этим допущением становится впервые возможным каузально-генетический анализ мышления и речи. Мы начинаем понимать действительную связь, существующую между развитием детского мышления и социальным развитием ребенка только тогда, когда научаемся видеть единство общения и обобщения. Обе эти проблемы, отношение мысли к слову и отношение обобщения к общению, и должны явиться центральным вопросом, разрешению которого посвящены наши исследования.
Мы, однако, хотели бы, для того чтобы расширить перспективы нашего исследования, указать еще на некоторые моменты в проблеме мышления и речи, которые не могли, к сожалению,
19
явиться предметом непосредственного и прямого исследования в настоящей работе, но которые, естественно, раскрываются вслед за ней и тем самым придают ей ее истинное значение.
На первом месте мы хотели бы поставить здесь вопрос, отставляемый нами почти на всем протяжении исследования в сторону, но который сам собой напрашивается, когда речь идет о проблематике всего учения о мышлении и речи, — именно об отношении звуковой стороны слова к его значению. Нам думается, что тот сдвиг в этой области, который мы наблюдаем в языкознании, непосредственно связан с интересующим нас вопросом об изменении методов анализа в психологии речи. Поэтому мы кратко остановимся на этом вопросе, так как он позволит нам, с одной стороны, лучше выяснить защищаемые нами методы анализа, а с другой — раскрыть одну из важнейших перспектив для дальнейшего исследования.
Традиционное языкознание рассматривало, как уже упомянуто, звуковую сторону речи в качестве совершенно самостоятельного элемента, не зависящего от смысловой стороны речи. Из объединения этих двух элементов затем складывалась речь. В зависимости от этого единицей звуковой стороны речи считался отдельный звук; но звук, оторванный от мысли, теряет вместе с этой операцией и все то, что делает его звуком человеческой речи и включает в ряды всех остальных звуков. Вот почему традиционная фонетика была ориентирована преимущественно на акустику и физиологию, но не на психологию языка, и поэтому психология языка была совершенно бессильна перед разрешением этой стороны вопроса.
Что является самым существенным для звуков человеческой речи, что отличает эти звуки от всех остальных звуков в природе?
Как правильно указывает современное фонологическое направление в лингвистике5, которое нашло самый живой отклик в психологии, существенным признаком звуков человеческой речи является то, что звук, носящий определенную функцию знака, связан z известным значением, но сам по себе звук как таковой, незначащий звук, не является действительно единицей, связующей стороны речи. Таким образом, единицей речи оказывается в звуке новое понимание не отдельного звука, но фонемы, т. е. далее неразложимой фонологической единицы, которая сохраняет основные свойства всей звуковой стороны речи в функции означения. Как только звук перестает быть значащим звуком и отрывается от знаковой стороны речи, так сейчас же он лишается всех свойств, присущих человеческой речи. Поэтому плодотворным и в лингвистическом и в психологическом отношении может явиться только такое изучение звуковой стороны речи, которое будет пользоваться методом расчленения ее на
20
единицы, сохраняющие свойства, присущие речи, как свойства звуковой и смысловой сторон.
Мы не станем здесь излагать те конкретные достижения, которых добились лингвистика и психология, применяя этот метод. Скажем только, что эти достижения являются в наших глазах лучшим доказательством благотворности того метода, который по своей природе совершенно идентичен с методом, применяемым настоящим исследованием и противопоставленным нами анализу, разлагающему на элементы.
Плодотворность этого метода может быть испытана и показана еще на целом ряде вопросов, прямо или косвенно относящихся к проблеме мышления и речи, входящих в ее круг или пограничных с ней. Мы называем только в самом суммарном виде общий круг этих вопросов, так как он, как уже сказано, позволяет раскрыть перспективы, стоящие перед нашим исследованием в дальнейшем, и, следовательно, выяснить его значение в контексте всей проблемы. Речь идет о сложных отношениях речи и мышления, о сознании в целом и его отдельных сторонах.
Если для старой психологии вся проблема межфункциональных отношений и связей была совершенно недоступной для исследования областью, то сейчас она становится открытой для исследователя, который хочет применить метод единицы и заменить им метод элементов.
Первый вопрос, который возникает, когда мы говорим об отношении мышления и речи к остальным сторонам сознания, — это вопрос о связи между интеллектом и аффектом. Как известно, отрыв интеллектуальной стороны нашего сознания от его аффективной, волевой стороны представляет один из основных и коренных пороков всей традиционной психологии. Мышление при этом неизбежно превращается в автономное течение себя мыслящих мыслей, оно отрывается от всей полноты живой жизни, от живых побуждений, интересов, влечений мыслящего человека и либо оказывается совершенно ненужным эпифеноменом, который ничего не может изменить в жизни и поведении человека, либо превращается в какую-то самобытную и автономную древнюю силу, которая, вмешиваясь в жизнь сознания и в жизнь личности, непонятным образом оказывает на нее влияние.
Кто оторвал мышление с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления, потому что детерминистский анализ мышления необходимо предполагает вскрытие движущих мотивов мысли, потребностей и интересов, побуждений и тенденций, которые направляют движение мысли в ту или другую сторону. Так же точно, кто оторвал мышление от аффекта, тот заранее сделал невозмож-
21
ным изучение обратного влияния мышления на аффективную, волевую сторону психической жизни, ибо детерминистское рассмотрение психической жизни исключает как приписывание мышлению магической силы определить поведение человека одной своей собственной системой, так и превращение мысли в ненужный придаток поведения, в его бессильную и бесполезную тень.
Анализ, расчленяющий сложное целое на единицы, снова указывает путь для разрешения этого жизненно важного для всех рассматриваемых нами учений вопроса. Он показывает, что существует динамическая смысловая система, представляющая собой единство аффективных и интеллектуальных процессов. Он показывает, что во всякой идее содержится в переработанном виде аффективное отношение человека к действительности, представленной в этой идее. Он позволяет раскрыть прямое движение от потребности побуждений человека к известному направлению его мышления и обратное движение от динамики мысли к динамике поведения и конкретной деятельности личности.
Мы не будем останавливаться на других проблемах, так как они, с одной стороны, не могли войти в качестве непосредственного предмета исследования в нашу работу, а с другой — будут затронуты нами в заключительной главе настоящей работы при обсуждении открывающихся перед ней перспектив. Скажем лишь, что применяемый нами метод позволяет не только раскрыть внутреннее единство мышления и речи, но и плодотворно исследовать отношение речевого мышления ко всей жизни сознания в целом и к его отдельным важнейшим функциям.
Нам остается еще только в заключение этой главы наметить в самых кратких чертах программу нашего исследования. Наша работа представляет собой единое психологическое исследование чрезвычайно сложной проблемы, которая необходимо должна была составиться из ряда частных исследований экспериментально-критического и теоретического характера. Мы начинаем нашу работу с критического исследования той теории речи и мышления, которая знаменует собой вершину психологической мысли в этом вопросе и которая вместе с тем является полярно противоположной избранному нами пути теоретического рассмотрения этой проблемы. Это первое исследование должно привести нас к постановке всех основных конкретных вопросов современной психологии мышления и речи и ввести их в контекст живого современного психологического значения.
Исследовать такую проблему, как мышление и речь, для современной психологии означает в то же время вести идейную борьбу с противостоящими ей теоретическими воззрениями и взглядами,
22
Вторая часть нашего исследования посвящена теоретическому анализу основных данных о развитии мышления и речи в филогенетическом и онтогенетическом плане. Мы должны наметить с самого начала отправную точку в развитии мышления и речи, так как неправильное представление о генетических корнях мышления и речи является наиболее частой причиной ошибочной теории в этом вопросе. Центр нашего исследования занимает экспериментальное изучение развития понятий в детском возрасте. Исследование распадается на две части: в первой — мы рассматриваем развитие экспериментально образованных, искусственных понятий, во второй — пытаемся изучить развитие реальных понятий ребенка.
Наконец, в заключительной части нашей работы мы пытаемся подвергнуть анализу на основе теоретических и экспериментальных исследований строение и функционирование процесса речевого мышления в целом.
Объединяющим моментом всех этих отдельных исследований является идея развития, которую мы пытались применить в первую очередь к анализу и изучению значения слова как единства речи и мышления.
Глава вторая
ПРОБЛЕМА РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ РЕБЕНКА В УЧЕНИИ Ж. ПИАЖЕ
Исследования Ж. Пиаже6 составили целую эпоху в развитии учения о речи и мышлении ребенка, о его логике и мировоззрении. Они отмечены историческим значением.
Ж. Пиаже впервые с помощью разработанного и введенного им в науку клинического метода исследования детской речи и мышления с необычайной смелостью, глубиной и широтой подверг систематическому исследованию особенности детской логики в совершенно новом разрезе. Сам Пиаже, заканчивая второй том своих работ, точно и ясно, путем простого сравнения отмечает значение сделанного им поворота в изучении старых проблем.
Мы можем не останавливаться сейчас подробно на выяснении того, в чем именно заключается поворот, сделанный Пиаже в его исследованиях, — поворот, открывший новые пути и новые перспективы в изучении речи и мышления ребенка. Это превосходно сделано в предисловии Э. Клапареда7 к французскому
23
изданию книги. «В то время, — говорит он, — как из проблемы детского мышления сделали проблему количественного порядка, Пиаже поставил ее как проблему качественную. В то время как в прогрессе детского ума раньше видели результат известного числа сложений и вычитаний (обогащение новыми данными опыта и исключение некоторых ошибок, объяснение чего наука и считала своей задачей), нам теперь показывают, что этот прогресс зависит прежде всего от того, что ум ребенка понемногу меняет самый свой характер» (1932, с. 60).
Эта новая постановка проблемы детского мышления как качественной проблемы привела Пиаже к тому, что можно было бы назвать в противоположность господствовавшей прежде тенденции позитивной характеристикой детского ума. В то время как в традиционной психологии детское мышление получало обычно негативную характеристику, составляющуюся из перечня тех изъянов, недостатков, минусов детского мышления, которые отличают его от взрослого мышления, Пиаже попытался раскрыть качественное своеобразие детского мышления с его положительной стороны. Прежде интересовались тем, чего у ребенка нет, чего ему недостает по сравнению со взрослым, и определяли особенности детского мышления тем, что ребенок не способен к абстрактному мышлению, к образованию понятий, к связи суждений, к умозаключению и пр. и пр.
В новых исследованиях в центр внимания было поставлено то, что у ребенка есть, чем обладает его мышление в качестве отличительных своих особенностей и свойств.
В сущности, то, что сделал Пиаже нового и великого, настолько обыденно и просто, как, впрочем, многие великие вещи, что может быть выражено и охарактеризовано с помощью старого и банального положения, которое приводит и сам Пиаже в своей книге со слов Ж.-Ж. Руссо и которое гласит, что ребенок вовсе не маленький взрослый человек и ум его вовсе не маленький ум взрослого. За этой простой истиной, которую в приложении к детскому мышлению раскрыл и обосновал фактами Пиаже, скрывается тоже простая в сущности идея — идея развития. Эта простая идея освещает великим светом все многочисленные и содержательные страницы исследований Пиаже.
Но глубочайший кризис, переживаемый современной психологической мыслью, не мог не сказаться и на новом направлении в исследовании проблем детской логики. Он наложил печать двойственности на эти исследования, как на все выдающиеся и действительно прокладывающие новые пути психологические произведения эпохи кризиса. В этом смысле книги Пиаже тоже могут быть с полным основанием сравнены с работами З. Фрейда, Ш. Блонделя8 и Л. Леви-Брюля9. Как те, так и эти — детище кризиса, охватившего самые основы нашей науки, знамену-
24
ющего превращение психологии в науку в точном и истинном значении этого слова и проистекающего из того, что фактический материал науки и ее методологические основания находятся в резком противоречии.
Кризис в психологии есть прежде всего кризис методологических основ этой науки. Корнями своими он уходит в ее историю. Сущность его заключается в борьбе материалистических и идеалистических тенденций, которые столкнулись в этой области знания с такой остротой и силой, с какой они сейчас не сталкиваются, кажется, ни в какой другой науке.
Историческое состояние нашей науки таково, что, говоря словами Ф. Брентано10, существует много психологии, но не существует единой психологии. Мы могли бы сказать, что именно потому и возникает много психологии, что нет общей, единой психологии. Это значит, что отсутствие единой научной системы, которая охватывала бы и объединяла все современное психологическое знание, приводит к тому, что каждое новое фактическое открытие в любой области психологии, выходящее за пределы простого накопления деталей, вынуждено создавать свою собственную теорию, свою систему для объяснения и понимания вновь найденных фактов и зависимостей, вынуждено создавать свою психологию — одну из многих психологии.
Так создали свою психологию Фрейд, Леви-Брюль, Блондель. Противоречие между фактической основой их учений и теоретическими конструкциями, возведенными на этой основе, идеалистический характер этих систем, принимающий глубоко своеобразное выражение у каждого из авторов, метафизический привкус в целом ряде их теоретических построений — это все — неизбежное и роковое обнаружение той двойственности, о которой мы говорили выше как о печати кризиса. Эта двойственность проистекает из того, что наука, делая шаг вперед в. области накопления фактического материала, делает два шага назад в его теоретическом истолковании и освещении. Современная психология почти на каждом шагу являет печальнейшее зрелище того, как новейшие и важнейшие открытия, составляющие гордость и последнее слово науки, положительно вязнут в донаучных представлениях, в которые обволакивают их ad hoc[2] созданные полуметафизические теории и системы.
Ж. Пиаже стремится избежать этой роковой двойственности очень простым способом: он хочет замкнуться в узком кругу фактов. Кроме фактов, он ничего не хочет знать. Он сознательно избегает обобщений, тем более выхода за собственные пределы психологических проблем в смежные области — логики, теории познания, истории философии. Самой надежной кажется ему почва чистой эмпирики. «Эти исследования, — говорит Пиаже о своих работах, — являются прежде всего собранием фактов и
26
материалов. Не определенная система изложения, а единый метод сообщает единство различным главам нашей работы» (1932, с. 64).
Это самое ценное в интересующих нас сейчас работах. Добывание новых фактов, научная культура психологического факта, его тщательный анализ, классификация материалов, умение слушать, что они говорят, по выражению Э. Клапареда, — все это составляет, несомненно, сильнейшую сторону в исследованиях Пиаже.
Море новых фактов, крупных и мелких, первой и второй величины, открывающих новое и дополняющих известное раньше, хлынуло в детскую психологию со страниц Пиаже.
Добыванием новых фактов, их золотой россыпи Пиаже обязан в первую очередь новому методу, который он ввел, — клиническому методу, сила и своеобразие которого выдвигают его на одно из первых мест в методике психологического исследования и делают незаменимым средством при изучении сложных, целостных образований детского мышления в их изменении и развитии. Этот метод придает действительное единство всем разнообразнейшим фактическим исследованиям Пиаже, сведенным в связные, жизненно полноценные клинические картины детского мышления.
Новые факты и новый метод их добывания и анализа рождают множество новых проблем, из которых значительная часть вообще впервые поставлена перед научной психологией, а другая часть поставлена если не вновь, то в новом виде. Стоит назвать для примера проблему грамматики и логики в детской речи, проблему развития детской интроспекции и ее функционального значения в развитии логических операций, проблему понимания вербальной мысли между детьми и многие другие.
Но Пиаже не удалось избежать, как и всем остальным исследователям, той роковой двойственности, на которую обрекает современный кризис психологической науки даже лучших ее представителей. Он пытался укрыться от кризиса за надежной, высокой стеной фактов. Но факты ему изменили и предали его. Они привели к проблемам. Проблемы — к теории, пусть неразвитой и неразвернутой, но тем не менее подлинной теории, которой так стремился избегнуть Пиажё. Да, в его книгах есть теория. Это неизбежно, это — судьба.
«Мы просто старались, — рассказывает Пиаже, — следить шаг за шагом за фактами в том их виде, в каком их нам преподнес эксперимент. Мы, конечно, знаем, что эксперимент всегда определяется породившими его гипотезами, но пока мы ограничили себя только лишь рассмотрением фактов» (там же). Но кто рассматривает факты, неизбежно рассматривает их в свете той или иной теории.
26
Факты неразрывно переплетены с философией, особенно те факты развития детского мышления, которые открывает, сообщает и анализирует Пиаже. И кто хочет найти ключ к этому богатому собранию новых фактов, должен раньше всего вскрыть философию факта, его добывания и осмысливания. Без этого факты останутся немы и мертвы.
Мы поэтому не станем в настоящей главе, посвященной критическому рассмотрению исследований Пиаже, останавливаться на отдельных проблемах. Надо попытаться свести к единству, обобщить все эти разнообразные проблемы детского мышления, нащупать их общий корень, выделить в них основное, главное, определяющее. Но тем самым наш путь должен проходить в направлении к критике теории и методологической системы, лежащих в основе тех исследований, ключ к пониманию и оценке которых мы ищем. Фактическое должно нас занимать лишь постольку, поскольку оно поддерживает теорию или конкретизирует методологию исследований.
Таков должен быть путь нашего критического исследования проблемы речи и мышления ребенка в работах Пиаже.
Для читателя, который хотел бы охватить единым взглядом все сложное построение, лежащее в основе многочисленных и содержательных исследований Пиаже, непригоден тот путь, которым ведет его автор, излагая ход и результаты своих исследований. Пиаже сознательно и намеренно избегает системы в своем изложении. Он не боится упреков в недостаточной связности своего материала, который для него является чистым изучением фактов. Он предостерегает от преждевременной попытки охватить единой системой все изложенное многообразие конкретных фактических особенностей детского мышления. Он принципиально, по собственным словам, воздерживается от слишком систематического изложения и тем более от всяких обобщений, выходящих за пределы психологии ребенка. Он убежден, что для педагогов и всех тех, чья деятельность требует точного знания ребенка, анализ фактов важнее теории. Лишь в самом конце целого ряда своих исследований Пиаже обещает попытаться дать синтез, который без этого был бы постоянно стесняем изложением фактов и постоянно стремился бы, в свою очередь, к искажению этих последних.
Таким образом, попытка строго отделить теорию от анализа фактов, синтез всего материала в целом от изложения конкретных исследований и стремление следить шаг за шагом за фактами, как их преподносит эксперимент, отличают этот путь, избранный Пиаже.
Как уже сказано, мы не можем последовать по этому пути за автором, если хотим охватить единым взглядом все его построение в целом и понять определяющие его принципы —
27
краеугольные камни здания. Мы должны попытаться найти центральное звено в этой цепи фактов, от которого протягиваются соединительные связи к остальным звеньям и которое поддерживает все это построение, взятое в целом. В этом отношении нам помогает сам автор. В заключении своей книги, в кратком резюме ее содержания, он пытается сделать такой общий обзор всех исследований в целом, привести их к известной системе, наметить связь между отдельными найденными в исследовании фактическими результатами и свести это сложное многообразие фактов к единству.
Первый вопрос, который возникает здесь, — это вопрос относительно объективной связи всех тех особенностей детского мышления, которые устанавливаются исследованиями Пиаже.
Представляют ли собой все эти особенности отдельные, независимые друг от друга явления, не сводимые к общей причине, или они представляют собой известную структуру, известное связное целое, в основе которого лежит некоторый центральный факт, обусловливающий единство всех этих особенностей? В этих исследованиях затрагивается целый ряд особенностей детского мышления, например эгоцентризм речи и мышления ребенка, интеллектуальный реализм, синкретизм, непонимание отношений, трудность осознания, неспособность к самонаблюдению в детском возрасте и т. д. Вопрос и заключается в том, «составляют ли эти явления некоторое бессвязное целое, т. е. обязаны ли они своим существованием ряду случайных и отрывочных причин, не имеющих связи между собой, или они образуют связное целое и таким образом представляют собой особую логику» (Ж. Пиаже, 1932, с. 370). Положительный ответ на этот вопрос, который дает автор, естественно заставляет его перейти из области анализа фактов в область теории и обнаруживает, в какой мере сам анализ фактов (хотя в изложении авра[3] он предшествует формулировке теории) на самом деле определяется этой теорией^
В чем же заключается это центральное звено, позволяющее свести к единству все отдельные особенности детского мышления? Оно заключается, с точки зрения основной теории Пиаже, в эгоцентризме детского мышления. Это — основной нерв всей его системы, это — краеугольный камень всего его построения. «Мы старались, — говорит он, — свести к эгоцентризму большую часть характерных черт детской логики» (там же, с. 371). Все эти черты образуют комплекс, определяющий логику ребенка, а в основе этого комплекса лежит эгоцентрический характер детского мышления и детской деятельности. Остальные особенности детского мышления вытекают из этой основной особенности, и вместе с ее утверждением или отрицанием укрепляются или падают и все остальные нити, с помощью которых те-
28
оретическое обобщение пытается осмыслить и осознать, связать в единое целое отдельные черты детской логики. Например, автор прямо говорит относительно одной из центральных особенностей детского мышления, относительно синкретизма[4], что он является прямым результатом детского эгоцентризма.
Таким образом, и нам предстоит раньше всего посмотреть, в чем заключается этот эгоцентрический характер детского мышления и в какой связи он стоит со всеми остальными особенностями, составляющими в совокупности качественное своеобразие детской мысли по сравнению с мыслью взрослого человека,
Пиаже определяет эгоцентрическую мысль как переходную, промежуточную фирму мышления, располагающуюся с генетической, функциональной и структурной точек зрения между аутистической мыслью и направленным разумным мышлением. Это, таким образом, переходная ступень, связующее генетическое звено, промежуточное образование[5] в истории развития мышления[6].
Это различение разумной, или направленной, мысли и мысли ненаправленной, которую Э. Блейлер11. предложил назвать аутистической мыслью, Пиаже заимствует из теории психоанализа12. «Мысль направленная, — говорит он, — сознательная, т. е. она преследует цели, которые ясно представляются уму того, кто думает. Она разумна, т. е. приспособлена к действительности и стремится воздействовать на нее. Она заключает истину или заблуждение, она выражается речью.
Аутистичеекая мысль подсознательна, т. е. цели, которые она преследует, или задачи, которые она себе ставит, не представляются сознанию. Она не приспособляется к внешней действительности, а создает сама себе воображаемую действительность, или действительность сновидения. Она стремится не к установлению истины, а к удовлетворению желания и остается чисто индивидуальной. Как таковая она не может быть выражена непосредственно речью, она выявляется прежде всего в образах, а для того чтобы быть сообщенной, должна прибегать к косвенным приемам, вызывая посредством символов и мифов чувства, которые ее направляют» (там же, с. 95).
Первая форма мышления социальна. Она по мере развития все больше и больше подчиняется законам опыта и чистой логики. Мысль же аутистическая[7], как показывает самое ее название, индивидуальна и подчиняется сумме специальных законов, точно определять которые здесь нет нужды.
Между этими двумя крайними формами мысли «есть много разновидностей в отношении степени их сообщаемости. Эти промежуточные разновидности должны подчиняться специальной логике, которая, в свою очередь, является промежуточной между логикой аутизма и логикой разума. Мы предлагаем назвать
29
мыслью эгоцентрической главнейшую из этих промежуточных форм, т. е. мысль, которая, так же как и мысль наших детей, старается приспособиться к действительности, не будучи сообщаема как таковая» (там же, с. 96).
Еще яснее это положение относительно промежуточного характера эгоцентрической детской мысли Пиаже формулирует в другом месте, говоря: «Всякая эгоцентрическая мысль по своей структуре занимает промежуточное место между аутистической мыслью (которая не направлена, т. е. витает по прихоти, как мечта) и направленным пониманием» (там же, с. 229).
Не только структура, но и функция этой формы мышления заставляет поместить ее в генетическом ряду между аутистическим и реальным мышлением. Как сказано выше, функция этого мышления заключается не столько в приспособлении к действительности, сколько в удовлетворении собственных потребностей.
Это мышление не столько направлено на действительность, сколько на удовлетворение желания. Это роднит эгоцентрическую мысль с аутистической, но вместе с тем есть существенные черты, которые их разделяют. Сюда относятся новые функциональные моменты, которые сближают эгоцентрическую мысль с направленной на действительность реальной мыслью взрослого человека и выдвигают ее далеко вперед по сравнению с логикой сновидения, мечты или грезы.
«Мы назвали мысль ребенка эгоцентрической, — говорит Пиаже, — желая этим сказать, что эта мысль остается еще аутистической по своей структуре, но что ее интересы уже не направлены исключительно на удовлетворение органических потребностей или потребностей игры, как при чистом аутизме, но направлены также и на умственное приспособление, подобно мысли взрослого» (там же, с. 374).
Таким образом, и со стороны функциональной намечаются моменты как сближающие, так и разделяющие эгоцентрическую мысль от других двух крайних форм мышления. Рассмотрение этих моментов снова приводит к тому выводу, который составляет основную гипотезу Пиаже, что «мысль ребенка более эгоцентрична, чем наша, и что она представляет собой средину между аутизмом в строгом смысле слова и социализированной мыслью» (там же, с. 376).
Может быть, следует с самого начала заметить, что в этой двойственной характеристике эгоцентрической мысли Пиаже подчеркивает все время моменты, скорее сближающие эгоцентрическую мысль с аутизмом, чем разделяющие их. В одном из заключительных параграфов книги он со всей решительностью напоминает ту истину, что «для эгоцентрической мысли игра в общем является верховным законом»[8] (там же, с. 401).
30
Особенно заметно проявляется это подчеркивание сближающих, а не разделяющих моментов в характеристике одного из основных проявлений эгоцентрической мысли — синкретизма. Пиаже рассматривает синкретизм и другие черты детской логики как прямой результат детского эгоцентризма. Вот что говорит он об этой едва ли не центральной особенности детской логики: «При чтении результатов наших работ можно, пожалуй, подумать, что эгоцентрическая мысль, производящая явления синкретизма, ближе к аутистической мысли и к сновидению, чем к логической мысли. Факты, которые мы только что описали, действительно представляют различные аспекты, роднящие их со сновидением или с мечтами» (там же, с. 173).
Однако и здесь Пиаже склонен рассматривать механизм синкретической мысли как посредующий момент между логической мыслью и тем, что психоаналитики назвали смелым словом — «символизм» сновидений. З. Фрейд, как известно, показал, что в сновидении действуют две основные функции, управляющие возникновением образов сновидения: сгущение, которое заставляет сливаться несколько различных образов в один, и перемещение, которое переносит с одного предмета на другой принадлежащие первому признаки.
Ж. Пиаже, следуя за К. Д. Ларсоном, полагает, что «между этими функциями сгущения и перемещения и функциями обобщения (которое является видом сгущения) должны иметься промежуточные звенья. Синкретизм как раз и является самым существенным из этих звеньев» (там же, с. 174). Мы видим, таким образом, что не только эгоцентризм как основа детской логики, но и его главнейшие проявления, как синкретизм, рассматриваются в теории Пиаже в качестве промежуточных переходных форм между логикой сновидения и логикой мышления.
Синкретизм, говорит он в другом месте, по самому своему механизму является промежуточным звеном между аутистической мыслью и логической, как, впрочем, и все другие проявления эгоцентрической мысли. Ради этого последнего сравнения мы и остановились на примере синкретизма. Как видим, то, что Пиаже утверждает в отношении синкретизма, он распространяет и на все прочие особенности, на все другие проявления детской эгоцентрической мысли.
Для выяснения центральной для всей теории Пиаже идеи об эгоцентрическом характере детского мышление остается обрисовать третий и основной момент, именно генетические отношения, в которых стоит эгоцентрическая мысль к логике сновидения, к чистому аутизму, с одной стороны, и к логике разумного мышления, с другой. Мы видели уже, что в структурном и функциональном отношениях эгоцентрическая мысль рассматривается Пиаже как промежуточное соединительное звено между
31
этими двумя крайними ступенями в развитии мышления. Так же точно решает Пиаже вопрос и относительно генетических связей и отношений, объединяющих эти три группы в развитии мышления.
Исходной, основной идеей всей его концепции развития мышления в целом и источником генетического определения детского эгоцентризма является положение, заимствуемое им из теории психоанализа, именно положение о том, что первичный, обусловленной самой психологической природой ребенка формой мышления является аутистическая форма; реалистическое же мышление является поздним продуктом, как бы навязываемым ребенку извне с помощью длительного и систематического принуждения, которое оказывает на ребенка окружающая его социальная среда.
Умственная деятельность — исходит из этого Пиаже, — не является всецело деятельностью логической. Можно быть умным и в то же время не очень логичным» (там же, с. 372).
Различные функции ума вовсе не связаны друг с другом необходимо таким образом, чтобы одна не могла встречаться без другой или раньше другой. «Логическая деятельность — это доказывание, это искание истины, нахождение же решения зависит от воображения, но самая нужда, самая потребность в логической деятельности возникает довольно поздно» (там же).
«Это запаздывание, — говорит Пиаже, — объясняется двумя причинами: во-первых, мысль идет на службу непосредственному удовлетворению потребностей гораздо раньше, чем принуждает себя искать истину. Наиболее произвольно возникающее мышление — это игра или, по крайней мере, некое миражное воображение, которое позволяет принимать едва родившееся желание за осуществимое. Это наблюдали все авторы, изучавшие детские игры, детские показания и детскую мысль.
То же самое с убедительностью повторил и Фрейд, установив, что принцип наслаждения предшествует принципу реальности. А ведь мысль ребенка до 7—8-летнего возраста проникнута тенденциями игры, иначе говоря — до этого возраста чрезвычайно трудно различить выдумку от мысли, принимаемой за правду» (там же).
Таким образом, аутистическое мышление представляется с генетической точки зрения ранней, первичной формой мышления, логика возникает относительно поздно, и эгоцентрическая мысль занимает с генетической точки зрения среднее место, образует переходную ступень в развитии мышления от аутизма к логике.
Для того чтобы выяснить во всей полноте эту концепцию эгоцентризма детской мысли, нигде, к сожалению, не сформулированную автором в связном, систематическом виде, но являющу-
32
юся определяющим фактором всего его построения, мы должны остановиться еще на одном моменте, именно на вопросе о происхождении этого эгоцентрического характера детского мышления и на его, если можно так выразиться, объеме, или охвате т. е. (на границах, на пределах) этого явления в различных сферах детского мышления. Корни эгоцентризма Пиаже видит в двух обстоятельствах. Во-первых, вслед за, психоанализом, в асоциальности ребенка и, во-вторых, в своеобразном характере его практической[9] деятельности.
Ж. Пиаже много раз говорит, что его основное положение относительно срединного характера эгоцентрической мысли является гипотетическим. Но эта гипотеза так явно близка к здравому смыслу, представляется столь очевидной, что факт детского эгоцентризма представляется ему едва ли оспоримым[10]. Весь вопрос, которому посвящена теоретическая часть этой книги, заключается в том, чтобы определить, эгоцентризм ли влечет за собой те трудности выражения и те логические явления, которые рассматриваются Пиаже, или дело происходит наоборот.
«Однако ясно, что с точки зрения генетической, — считает Пиаже, — необходимо отправляться от деятельности ребенка для того, чтобы объяснить его мысль. А эта деятельность, вне всякого сомнения, эгоцентрична и эгоистична. Социальный инстинкт развивается в ясных формах поздно. Первый критический период в этом отношении следует отнести к 7—8 годам» (там же, с. 377). К этому же возрасту Пиаже относит и приурочивает первый период логического размышления, а также первые усилия, которые делает ребенок, чтобы избегнуть последствий эгоцентризма.
В сущности говоря, эта попытка вывести эгоцентризм из позднего развития социального инстинкта и из биологического эгоизма детской натуры содержится уже в самом определении эгоцентрической мысли, которая рассматривается как индивидуальная мысль в противоположность социализированной мысли, которая для Пиаже совпадает с мыслью разумной, или реалистической.
Что касается второго вопроса относительно объема или охвата сферы влияния эгоцентризма, то надо сказать, что Пиаже склонен придавать универсальное значение, абсолютизировать это явление, считая его не только основным, первичным, коренным для всего детского мышления и поведения, но и всеобщим. Так, мы видели, что все решительно проявления детской логики во всем их богатстве и многообразии, Пиаже рассматривает как прямые или отдаленные проявления детского эгоцентризма. Но этого мало — влияние эгоцентризма распространяется не только вверх, по линии следствий, вытекающих из этого факта, но и вниз, по линии причин, которые обусловили его возникновение.
33
Пиаже, как уже сказано, эгоцентрический характер мышления ставит в связь с эгоистическим характером деятельности ребенка, а эту последнюю — с асоциальным характером всего развития ребенка до 8-летнего возраста.
В отношении отдельных, наиболее центральных, проявлений детского эгоцентризма, например в отношении синкретизма детской мысли, Пиаже прямо и недвусмысленно говорит, что перед нами особенности, отличающие не ту или иную сферу детского мышления, но определяющие собой мышление ребенка в целом.
«Синкретизм, — говорит он, — пронизывает, таким образом, всю мысль ребенка» (там же, с. 390). «Детский эгоцентризм, — говорит он в другом месте, — представляется нам значительным до возраста 7—8 лет, когда начинают устанавливаться навыки социализированной мысли. Но до 7½ лет следствия эгоцентризма, и в частности синкретизм, пронизывают всю мысль ребенка, как чисто словесную (словесное понимание), так и направленную на непосредственное наблюдение (понимание восприятий).
После 7—8 лет эти черты эгоцентризма не исчезают мгновенно, но остаются кристаллизованными в наиболее отвлеченной части мысли, которую очень трудно оперировать, а именно в плане чисто словесной мысли» (там же, с. 153).
Последнее не оставляет сомнений в том, что сфера влияния эгоцентризма, по Пиаже, до 8 лет совпадает непосредственно со всей областью детского мышления и восприятия в целом. Своеобразие того перелома, который проделывает развитие детского мышления после 8 лет, заключается как раз в том, что этот эгоцентрический характер мысли сохраняется лишь в известной части детского мышления, лишь в сфере отвлеченного рассуждения. Между 8 и 12 годами влияние эгоцентризма ограничено одной сферой мысли, одним ее участком. До 8 лет оно безгранично и занимает всю территорию детской мысли в целом.
Таковы в общих чертах основные моменты, характеризующие концепцию эгоцентрической мысли в теории Пиаже, концепцию, имеющую, как уже сказано, центральное, определяющее значение для всех его исследований, являющуюся ключом к пониманию анализа фактических материалов, содержащихся в книге.
Естественным выводом из этой концепции является положение Пиаже, гласящее, что эгоцентрический характер мысли настолько необходимо внутренне связан с самой психологической природой ребенка, что он проявляется всегда закономерно, неизбежно, устойчиво, независимо от детского опыта. «Даже опыт, — говорит Пиаже, — не в силах вывести из заблуждения настроенные таким образом детские умы; виноваты вещи, дети же — никогда.
Дикарь, призывающий дождь магическим обрядом, объясняет свой неуспех влиянием злого духа. Согласно меткому выра-
34
жению, он непроницаем для опыта. Опыт разуверяет его лишь в отдельных, весьма специальных технических .случаях (земледелие, охота, производство), но этот мимолетный частичный контакт с действительностью нисколько не влияет на общее направление его мысли. И не то ли бывает у детей и еще с большим основанием, ибо все их материальные нужды предупреждены заботой родителей, так что, пожалуй, только в ручных играх ребенок знакомится с сопротивляемостью вещей?» (там же, с. 372—373).
Эта непроницаемость ребенка для опыта связывается для Пиаже с его основной идеей, заключающейся в том, что детскую мысль нельзя изолировать от факторов воспитания и от всех тех влияний, которым взрослый подвергает ребенка, но эти влияния не отпечатываются на ребенке, как на фотографической пленке, они ассимилируются, т. е. деформируются живым существом, которое им подвергается, и внедряются в его собственную субстанцию. Вот эту-то психологическую субстанцию ребенка, иначе говоря, эту структуру и функционирование, свойственное детской мысли, мы и старались описать и в известной мере объяснить » (там же, с. 408).
В этих словах раскрывается основная методологическая установка всего исследования Пиаже, пытающегося изучить психологическую субстанцию ребенка, которая ассимилирует влияния социальной среды и деформирует их согласно своим собственным законам. Этот эгоцентризм детской мысли и рассматривает Пиаже, коротко говоря, как результат деформации социальных форм мышления, внедряющихся в психологическую субстанцию ребенка, — деформации, совершающейся по законам, по которым живет и развивается эта субстанция.
Мы подошли вплотную, затронув эту последнюю и как бы вскользь брошенную автором формулировку, к вскрытию философии всего исследования Пиаже, к проблеме социальных и биологических закономерностей в психическом развитии ребенка, к вопросу о природе детского развития в целом.
Об этой методологически наиболее сложной стороне дела, остающейся в высшей степени мало раскрытой в изложении автора, мы будем говорить особо и дальше. Нас прежде должны интересовать рассмотрение и критика изложенной концепции детского эгоцентризма по существу, с точки зрения теоретической и фактической состоятельности этой концепции.
2
Но аутистическое мышление, рассматриваемое с точки зрения филогенетического и онтогенетического развития, не является первичной ступенью в умственном развитии ребенка и чело-
35
вечества. Оно вовсе не является примитивной функцией, исходной точкой всего процесса развития, начальной и основной формой, из которой берут начало все остальные.
Даже рассматриваемое с точки зрения биологической эволюции и с точки зрения биологического анализа поведения младенца, аутистическое мышление не оправдывает основного положения, выдвинутого Фрейдом и принятого Пиаже, — положения, гласящего, что аутизм является первичной и основной ступенью, над которой надстраиваются все дальнейшие ступени в развитии мышления, что наиболее рано возникающее мышление, это, говоря словами Пиаже, некое миражное воображение, что принцип удовольствия, управляющий аутистическим мышлением, предшествует принципу реальности, управляющему логикой разумного мышления[11]. И самое замечательное, что к этому выводу приходят как раз биологически ориентированные психологи, и, в частности, автор учения об аутистическом мышлении Э. Блейлер.
Совсем недавно он указал на то, что самый термин «аутистическое мышление» дал повод для очень многих недоразумений. В это понятие стали вкладывать содержание, сближающее аутистическое мышление с шизофреническим аутизмом, его стали отождествлять с эгоистическим мышлением и т. д. Поэтому Блейлер предложил сейчас называть аутистическое мышление ирреалистическим, противополагая его реалистическому, рациональному мышлению. Уже за этой вынужденной переменой наименования скрывается в высшей степени важное изменение содержания самого понятия, которое обозначается этим именем[12].
Это изменение прекрасно выразил сам Блейлер в исследовании, посвященном аутистическому мышлению (1927). В этом исследовании он со всей прямотой ставит вопрос о генетическом соотношении аутистического и разумного мышления. Он указывает на то, что обычно аутистическое мышление принято помещать на генетически более ранней ступени, чем мышление рациональное. «Так как реалистическое мышление, функция реальности, удовлетворение сложных потребностей действительности нарушаются под влиянием болезни гораздо легче, нежели аутистическое мышление, которое выдвигается вследствие болезненного процесса на первый план, то французские психологи во главе с П. Жанэ13 предполагают, что реальная функция является наиболее высокой, наиболее сложной. Однако ясную позицию занимает в этом отношении только Фрейд. Он прямо говорит, что в ходе развития механизмы удовольствия являются первичными. Он может представить себе такой случай, что грудной ребенок, реальные потребности которого полностью удовлетворяются матерью без его помощи, и развивающийся в яйце
36
цыпленок, отделенный скорлупой от внешнего мира, живут еще аутистической жизнью. Ребенок «галлюцинирует», по всей вероятности, об удовлетворении его внутренних потребностей и обнаруживает свое неудовольствие при нарастающем раздражении и отсутствии удовлетворения моторной реакцией в форме крика и барахтанья, затем переживает галлюцинаторное удовлетворение» (там же, с. 55—56).
Как видим, Блейлер формулирует здесь то же самое основное положение из психоаналитической теории детского развития, на которое опирается и Пиаже, определяя эгоцентрическое детское мышление как переходную ступень между этим первичным, изначальным аутизмом (который Пиаже в другом исследовании, посвященном психологии младенческого возраста, называет совершенно последовательно эгоцентризмом), доведенным до логического предела, т. е. солипсизмом[13], и рациональным мышлением.
Против этого положения Блейлер выдвигает, нам думается, несокрушимые с генетической точки зрения аргументы. «С этим, — говорит он, — я не могу согласиться. Я не вижу галлюцинаторного удовлетворения у младенца, я вижу удовлетворение лишь после действительного приема пищи, и я должен констатировать, что цыпленок в яйце пробивает себе дорогу не с помощью представлений, а с помощью физически и химически воспринимаемой пищи.
Наблюдая более взрослого ребенка, я также не вижу, чтобы он предпочитал воображаемое яблоко действительному. Имбецил и дикарь являются настоящими, реальными политиками, а последний (точно так же, как и мы, стоящие на вершине мыслительной способности) делает свои аутистические глупости лишь в тех случаях, когда его разум и его опыт оказываются недостаточными: в его представлениях о космосе, о явлениях природы, в его понимании болезней и других ударов судьбы, в защитных мероприятиях от них и других сложных для него соотношениях.
У имбецила аутистическое мышление упрощено так же, как и реалистическое. Я нигде не могу найти жизнеспособное существо или даже представить себе такое существо, которое не реагировало бы в первую очередь на действительность, которое не действовало бы совершенно независимо от того, на какой бы низкой ступени развития оно ни стояло; и я не могу себе представить также, чтобы ниже определенной ступени организации могли существовать аутистические функции. Для этого необходимы сложные способности к воспоминанию. Таким образом, психология животных (за исключением немногих наблюдений над высокостоящими животными) знает только реальную функцию.
37
Однако это противоречие легко разрешимо: аутистическая функция не является столь примитивной, как простые формы реальной функции, но в некотором смысле она более примитивна, чем высшие формы последней в том виде, в каком они развиты у человека. Низшие животные обладают лишь реальной функцией. Нет такого существа, которое мыслило бы исключительно аутистически; начиная с определенной ступени развития, к реалистической функции присоединяется аутистическая и с этих пор развивается вместе с ней»[14] (там же, с. 57—58).
Действительно, стоит только от общих положений о примате принципа удовольствия, логики мечты и сновидения над реалистической функцией мышления обратиться к рассмотрению реального хода развития мышления в процессе биологической эволюции, чтобы убедиться в том, что первичной формой интеллектуальной деятельности является действенное, практическое мышление, направленное на действительность и представляющее одну из основных форм приспособления к новым условиям, к изменяющимся ситуациям внешней среды.
Допустить, что функция мечты, логика сновидения первичны с точки зрения биологической эволюции, что мышление возникло в биологическом ряду и развивалось при переходе от низших, животных форм к высшим и от высших к человеку как функция самоудовлетворения, как процесс, подчиненный принципу удовольствия, является нонсенсом именно с биологической точки зрения. Допустить изначальность принципа удовольствия в развитии мышления — значит сделать биологически необъяснимым процесс возникновения той новой психической функции, которую мы называем интеллектом или мышлением.
Но и в онтогенетическом ряду допустить галлюцинаторное удовлетворение потребностей в качестве первичной формы детского мышления — значит игнорировать тот неоспоримый факт, что, говоря словами Блейлера, удовлетворение наступает лишь после действительного приема нищи; игнорировать то, что и более взрослый ребенок не предпочитает воображаемое яблоко действительному.
Правда, основная генетическая формула Блейлера, как мы постараемся показать ниже, не разрешает вопроса относительно генетических связей, существующих между аутистическим и реалистическим мышлением, со всей полнотой, но в двух моментах она нам кажется бесспорной. Во-первых, в указании на относительно позднее возникновение аутистической функции и, во-вторых, в указании на биологическую несостоятельность представления о первичности и изначальности аутизма.
Мы не станем проводить дальше той схемы филогенетического развития, в которой Блейлер пытается наметить и связать главнейшие этапы в процессе возникновения этих двух форм
38
мышления. Скажем только, что возникновение аутистической функции он относит лишь к четвертому этапу развития мышления, когда понятия комбинируются вне стимулирующего действия внешнего мира, соответственно накопленному опыту в логические функции и выводы, распространяющиеся с уже пережитого на еще неизвестное, с прошедшего на будущее, когда становится возможной не только оценка различных случайностей, не только свобода действия, но и связное мышление, состоящее исключительно из картин воспоминания, без связи со случайными раздражениями органов чувств и с потребностями.
«Лишь здесь, — говорит он, — может присоединиться аутистическая функция. Лишь здесь могут существовать представления, которые связаны с интенсивным чувством удовольствия, которые создают желания, удовлетворяются их фантастическим осуществлением и преобразовывают внешний мир в представлении человека благодаря тому, что он не мыслит себе (отщепляет) неприятное, лежащее во внешнем мире, присоединяя к своему представлению о последнем приятное, изобретенное им самим. Следовательно, ирреальная функция не может быть примитивнее, чем начатки реального мышления, она должна развиваться параллельно с последним*.
Чем более сложным и более дифференцированным становится образование понятий и логическое мышление, тем, с одной стороны, более точным становится их приспособление к реальности и тем большей становится возможность освобождения от влияния аффективности. Зато, с другой стороны, в такой же мере повышается возможность влияния эмоционально окрашенных энграмм[15] из прошлого и эмоциональных представлений, относящихся к будущему.
Многочисленные мыслительные комбинации делают возможным бесконечное разнообразие фантазий, в то время как существование бесчисленных эмоциональных воспоминаний из прошедшего и столь же аффективных представлений о будущем прямо-таки вынуждает к фантазированию.
С развитием их, разница между обоими видами мышления становится все более резкой; последние становятся в конце концов прямо противоположными друг другу, что может привести к все более и более тяжелым конфликтам; и если обе крайности не сохраняют в индивиде приблизительного равновесия, то возникает, с одной стороны, тип мечтателя, который занят исключительно фантастическими комбинациями, который не считается с действительностью и не проявляет активности, и,
39
с другой — тип трезвого, реального человека, который в силу ясного, реального мышления живет только данным моментом, не заглядывая вперед. Однако, несмотря на этот параллелизм в филогенетическом развитии, реалистическое мышление оказывается по многим основаниям более развитым, и при общем нарушении психики реальная функция поражается обычно гораздо сильнее» (там же, с. 60—62).
Э. Блейлер задается вопросом, каким образом столь юная в филогенетическом отношении функция, как аутистическая, могла получить такое большое распространение и силу, что аутистическое мышление уже у многих детей в возрасте после двух лет управляет большей частью их психической функцией (грезы наяву, игры)[16].
Ответ на этот вопрос Блейлера мы находим, между прочим, в том, что развитие речи создает, с одной стороны, в высшей степени благоприятные условия для аутистического мышления, с другой, как отмечает сам Блейлер, аутизм представляет благодарную почву для упражнения мыслительной способности. В фантазиях ребенка его комбинаторные способности повышаются настолько же, насколько его физическая ловкость в подвижных играх. «Когда ребенок играет в солдаты или маму, то он упражняет необходимые комплексы представлений и эмоций, аналогично тому, как котенок подготовляет себя к охоте за животными» (там же, с. 76).
Но если так выясняется вопрос в отношении генетической природы аутистической функции, то и в отношении ее функциональных и структурных моментов новое понимание ее природы выдвигает необходимость пересмотра. Центральным с этой точки зрения нам представляется вопрос относительно бессознательности аутистического мышления. «Аутистическая мысль подсознательна» — из этого определения исходят одинаково и Фрейд и Пиаже. Эгоцентрическая мысль, утверждал Пиаже, также не вполне еще сознательна, и в этом отношении она занимает промежуточное место между сознательным рассуждением взрослого человека и бессознательной деятельностью сновидения.
«Поскольку ребенок мыслит для себя, — говорит Пиаже, — он не имеет никакой нужды осознавать механизм собственного рассуждения» (1932, с. 379). Пиаже, правда, избегает выражения «бессознательное рассуждение», считая его весьма скользким, и поэтому предпочитает говорить о том, что в мышлении ребенка господствует логика действия, но нет еще логики мысли. Это возникает оттого, что эгоцентрическая мысль бессознательна.
«Большинство явлений детской логики, — говорит Пиаже, — может быть сведено к этим общим причинам. Корни этой логики и причины ее лежат в эгоцентризме мысли ребенка до 7—
40
8 лет и в бессознательности, которую порождает этот эгоцентризм» (там же, с. 381). Пиаже подробно останавливается на недостаточной способности ребенка к интроспекции, на трудности осознания и устанавливает, что обычный взгляд, согласно которому эгоцентричные по своей манере мыслить люди осознают себя лучше, чем другие, что эгоцентризм ведет к правильному самонаблюдению, является неправильным. «Понятие аутизма в психоанализе, — говорит он, — проливает яркий свет на то, как несообщаемость мысли влечет за собой известную несознаваемость» (там же, с. 377).
Поэтому эгоцентризм ребенка сопровождается известной бессознательностью, которая, в свою очередь, могла бы выяснить некоторые черты детской логики. Экспериментальное исследование Пиаже, посвященное выяснению того, насколько ребенок способен к интроспекции, приводит его к подтверждению этого положения.
Строго говоря, представление о бессознательном характере аутистической и эгоцентрической мысли лежит в самой основе концепции Пиаже, ибо, по его основному определению, эгоцентрическая мысль — это мысль, не сознающая своих целей и задач, мысль, удовлетворяющая неосознанные стремления. Но и это положение о бессознательности аутистического мышления оказывается поколебленным в новом исследовании. «У Фрейда, — говорит Блейлер, — аутистическое мышление стоит в таком близком отношении к бессознательному, что для неопытного человека оба эти понятия легко сливаются друг с другом» (1927, с. 43).
Между тем Блейлер приходит к выводу, что оба эти понятия нужно строго разделить. «Аутистическое мышление может в принципе быть столь же сознательным, как и бессознательным», — говорит он, приводя конкретный пример того, как аутистическое мышление принимает обе эти различные формы (там же).
Наконец, последнее представление относительно того, что аутистическое мышление и эгоцентрическая форма его не направлены на действительность, также оказывается поколебленным в новых исследованиях. «Соответственно той почве, на которой вырастает аутистическое мышление, мы находим две разновидности его, касающиеся степени ухода из реальности, которые хотя и не резко отличаются друг от друга, но в своей типической форме все же обнаруживают довольно большие отличия» (там же, с. 26—27). Одна форма отличается от другой своей большей или меньшей близостью к действительности. «Аутизм нормального бодрствующего человека связан с действительностью и оперирует почти исключительно с нормально образованными и прочно установленными понятиями» (там же, с. 27).
41
Мы бы сказали, забегая несколько вперед и предвосхищая дальнейшее изложение наших собственных исследований, что это положение особенно верно в приложении к ребенку. Его аутистическое мышление теснейшим, неразрывнейшим образом связано с действительностью и оперирует почти исключительно тем, что окружает ребенка и с чем он сталкивается. Другая форма аутентического мышления, находящая свое проявление в сновидении, может создавать абсолютную бессмыслицу в силу своей оторванности от действительности. Но сновидение и болезнь — на то сновидение и болезнь, чтобы искажать действительность.
Мы видим, таким образом, что аутистическое мышление в генетическом, структурном и функциональном отношении не является той первичной ступенью, той основой, из которой вырастают все дальнейшие формы мышления, а следовательно, и взгляд, рассматривающий эгоцентризм детского мышления как промежуточную, переходную ступень между этой первичной, основной и высшими формами мышления, по-видимому, нуждается в пересмотре.
3
Итак, концепция детского эгоцентризма занимает в теории Ж. Пиаже как бы место центрального фокуса, в котором перекрещиваются и собираются в одной точке нити, идущие от всех пунктов. С помощью этих нитей Пиаже сводит к единству все многообразие отдельных черт, характеризующих логику ребенка, и превращает их из бессвязного, неупорядоченного, хаотического множества в строго связанный структурный комплекс явлений, обусловленных единой причиной. Поэтому стоит только пошатнуться этой основной концепции, на которой держится вся остальная теория, как тем самым ставится под сомнение и все теоретическое построение в целом, в основе которого лежит понятие детского эгоцентризма.
Но для того чтобы испробовать крепость и надежность этой основной концепции, необходимо спросить себя, на каком фактическом фундаменте она покоится, какие факты заставили исследователя принять ее в виде гипотезы, которую сам автор склонен считать почти неоспоримой. Выше мы пытались рассмотреть критически эту концепцию в свете теоретических соображений, основанных на данных эволюционной психологии и исторической психологии человека. Но окончательное суждение об этой концепции мы могли бы вынести не раньше, нежели сумели бы испытать и проверить ее фактическое основание. Фактическое же основание проверяется с помощью фактического исследования.
42
Здесь теоретическая критика должна уступить место критике экспериментальной, война доводов и возражений, мотивов и контрмотивов должна смениться борьбой сомкнутого строя нового ряда фактов против тех фактов, которые положены в основу оспариваемой теории.
Раньше всего попытаемся выяснить мысль самого Пиаже, определить по возможности точно, в чем автор видит фактическое основание своей концепции. Таким основанием теории Пиаже является первое его исследование, посвященное выяснению функций речи у детей. В этом исследовании Пиаже приходит к выводу, что все разговоры детей можно подразделить на две большие группы, которые можно назвать эгоцентрической и социализированной речью. Под именем эгоцентрической речи Пиаже разумеет речь, отличающуюся прежде всего своей функцией.
«Эта речь эгоцентрична, — говорит Пиаже, — прежде всего потому, что ребенок говорит лишь о себе, и главным образом потому, что он не пытается стать на точку зрения собеседника» (1932, с. 72). Он не интересуется тем, слушают ли его, не ожидает ответа, он не испытывает желания воздействовать на собеседника или действительно сообщить ему что-нибудь. Это монолог, напоминающий монолог в драме, сущность которого может быть выражена в одной формуле: «Ребенок говорит сам с собой так, как если бы он громко думал. Он ни к кому не обращается» (там же, с. 73). Во время занятий ребенок сопровождает действия отдельными высказываниями, и вот этот словесный аккомпанемент детской деятельности Пиаже и отличает под именем эгоцентрической речи от социализированной детской речи, функция которой совершенно иная. Здесь ребенок действительно обменивается мыслями с другими; он просит, приказывает, угрожает, сообщает, критикует, задает вопросы.
Ж. Пиаже принадлежит бесспорная и огромная заслуга тщательного клинического выделения и описания эгоцентрической детской речи, ее измерения и прослеживания ее судьбы. И вот в факте эгоцентрической речи Пиаже видит первое, основное и прямое доказательство эгоцентризма детской мысли. Его измерения показали, что в раннем возрасте коэффициент эгоцентрической речи чрезвычайно велик. Можно сказать, опираясь на эти измерения, что большая половина высказываний ребенка до 6—7 лет эгоцентрична.
«Если считать, — говорит Пиаже, заключая изложение своего первого исследования, — что установленные нами три первые категории речи ребенка (повторение, монолог и коллективный монолог) эгоцентричны, то и мышление ребенка в 6½ лет, когда оно выражено словами, также еще эгоцентрично в размерах от 44 до 47%» (там же, с. 99). Но эту цифру надо значительно
43
увеличить, если говорить о ребенке более раннего возраста, и далее по отношению к 6—7-летнему ребенку. Увеличение этой цифры вызывается тем, что, как показали дальнейшие исследования, не только в эгоцентрической, но и социализированной речи ребенка проявляется его эгоцентрическое мышление.
Для упрощения, по мнению Пиаже, можно сказать, что взрослый думает социализированно, когда он один, а ребенок моложе 7 лет мыслит и говорит эгоцентрично даже тогда, когда он в обществе. Если к этому прибавить еще одно обстоятельство, заключающееся в том, что кроме выраженных в словах мыслей у ребенка есть огромное количество невысказанных эгоцентрических мыслей, то станет ясно, что коэффициент эгоцентрического мышления значительно превышает коэффициент эгоцентрической речи.
«Сначала, — говорит Пиаже, рассказывая, как был установлен эгоцентрический характер детской мысли, — записывая язык нескольких детей, взятых наудачу, в течение приблизительно месяца, мы заметили, что еще между 5 и 7 годами от 44 до 47% детских речей остаются эгоцентрическими, хотя эти дети могли работать, играть и говорить, как им было угодно. Между 3 и 5 годами мы получили от 54 до 60% эгоцентрической речи.
…Функция этого эгоцентрического языка состоит в том, что бы скандировать свою мысль или свою индивидуальную деятельность. В эти речах остается немного от того крика, сопровождающего действие, о котором вспоминает Жанэ в своих этюдах о языке. Этот характер, свойственный значительной части детского языка, свидетельствует, таким образом, об известном эгоцентризме самой мысли, тем более что, кроме слов, которыми ребенок ритмизирует свою собственную деятельность, он, несомненно, хранит про себя огромное количество невысказанных мыслей. А эти мысли потому и не высказываются, что ребенок не имеет для этого средств; средства эти развиваются лишь под влиянием необходимости общаться с другими и становиться на их точку зрения» (там же, с. 374—375).
Мы видим, таким образом, что коэффициент эгоцентрической мысли, по Пиаже, значительно превышает коэффициент эгоцентрической речи. Но все же эгоцентрическая речь ребенка является основным фактическим, документальным доказательством, лежащим в основе всей концепции детского эгоцентризма.
Подводя итог своему первому исследованию, в котором была выделена эгоцентрическая речь, Пиаже задается вопросом: «Какой вывод можно сделать на основании этого исследования? По-видимому, такой: до 6—7 лет дети думают и действуют более эгоцентрично, чем взрослые, и менее сообщают друг другу свои интеллектуальные искания, чем мы» (там же, с. 91).
44
Причины этого, по мнению Пиаже, двойственны. «Они зависят, с одной стороны, от отсутствия прочно установившейся социальной жизни среди детей моложе 7—8 лет, с другой — от того, что настоящий общественный язык ребенка, т. е. язык, употребляемый в основной деятельности ребенка — игре, есть язык жестов, движений и мимики столько же, сколько и слов» (там же, с. 93). «Действительно, — говорит он, — среди детей до 7—8 лет нет общественной жизни как таковой» (там же). По наблюдениям Пиаже, сделанным над общественной жизнью в доме малюток в Женеве, только в 7—8 лет у детей проявляется потребность работать сообща.
«Итак, мы думаем, — говорит он, — что именно в этом возрасте эгоцентрические высказывания теряют свою силу». «С другой стороны, если разговор ребенка так мало социализирован к 6½ годам и если эгоцентрические формы играют в нем такую значительную роль сравнительно с информацией, диалогом и пр., то это потому, что в действительности речь ребенка заключает в себе две совершенно отдельные разновидности: одну, состоящую из жестов, движений, мимики и т. д., которая сопровождает и даже совершенно заменяет слово, другую — состоящую исключительно из слов» (там же, с. 94—95).
На основании этого исследования, на основании установленного факта преобладания эгоцентрической формы речи в раннем возрасте Пиаже и строит свою основную рабочую гипотезу, которую мы изложили выше и которая заключается в том, что эгоцентрическая мысль ребенка рассматривается как переходная форма между аутистической и реалистической формами мышления.
Для понимания внутренней структуры всей системы Пиаже и логической зависимости и взаимосвязи между отдельными составляющими ее элементами чрезвычайно важно то обстоятельство, что Пиаже формулирует свою главную рабочую гипотезу, лежащую в основе всей его теории, сразу же на основании исследования эгоцентрической речи ребенка. Это продиктовано не техническими соображениями композиции материала или последовательности изложения, а внутренней логикой всей системы, в основе которой лежит непосредственная связь между фактом наличия эгоцентрической речи в детском возрасте и гипотезой Пиаже о природе детского эгоцентризма.
Нам предстоит поэтому, если мы хотим действительно глубоко всмотреться в самую основу этой теории, остановиться на ее фактических предпосылках, на учении об эгоцентрической речи ребенка.
Нас в данном случае интересует эта глава в исследованиях Пиаже не сама по себе. В наши задачи не может входить разбор всех отдельных исследований, составляющих богатейшее
45
содержание книги Пиаже, или даже главнейших из них, хотя бы в самых сжатых чертах.
Задачи этой главы существенно иные. Они состоят в том, чтобы охватить единым взглядом систему в целом, вскрыть и критически осмыслить не везде ясно видные нити, теоретически связывающие эти отдельные исследования в единое целое, короче говоря — вскрыть философию этого исследования.
С этой только точки зрения, с точки зрения фактического обоснования этой философии, с точки зрения центрального значения данного пункта для связей, идущих во все стороны, мы и должны подвергнуть данную частную проблему специальному рассмотрению. Как уже сказано, это критическое рассмотрение не может быть иным, как фактическим, т. е. в конечном счете оно должно опираться также на клинические и экспериментальные исследования.
4
Основное содержание учения Пиаже об эгоцентрической речи, если оставить в стороне чисто фактическую часть вопроса, достаточно ясно изложенную в его книге, и сосредоточить внимание на теоретическом освещении, заключается в следующем. Речь ребенка раннего возраста в большей своей части эгоцентрична. Она не служит целям сообщения, не выполняет коммуникативных функций, она только скандирует, ритмизирует, сопровождает деятельность и переживания ребенка, как аккомпанемент сопровождает основную мелодию. При этом она ничего существенно не изменяет ни в деятельности ребенка, ни в его переживаниях, как аккомпанемент, по существу дела, не вмешивается в ход и строй основной мелодии, которую он сопровождает. Между тем и другим есть скорее некоторая согласованность, чем внутренняя связь.
Эгоцентрическая речь ребенка в описаниях Пиаже предстает перед нами как некоторый побочный продукт детской активности, как обнаружение эгоцентрического характера его мышления. Для ребенка в эту пору верховным законом является игра; изначальной формой его мышления, как говорит Пиаже, является некое миражное воображение, и оно находит свое выражение в эгоцентрической речи.
Итак, первое положение, которое кажется нам чрезвычайно существенным с точки зрения всего дальнейшего хода нашего рассуждения, заключается в том, что эгоцентрическая речь не выполняет никакой объективно полезной, нужной функции в поведении ребенка. Это речь для себя, для собственного удовлетворения, которой могло бы и не быть, в результате чего ничто существенно не изменилось бы в детской деятельности. Можно
46
сказать, что эта подчиненная всецело эгоцентрическим мотивам детская речь, почти непонятная окружающим, является как бы вербальным сновидением ребенка или, во всяком случае, продуктом его психики, стоящим ближе к логике мечты и сновидения, чем к логике реалистического мышления.
С вопросом о функции детской эгоцентрической речи непосредственно связано второе положение этого учения, именно положение о судьбе детской эгоцентрической речи. Если эгоцентрическая речь является выражением детской сновидной мысли, если она ни для чего не нужна, не выполняет никакой функции в поведении ребенка, является побочным продуктом детской активности, сопровождает его деятельность и переживания, как аккомпанемент, то естественно признать в ней симптом слабости, незрелости детского мышления и естественно ожидать, что в процессе детского развития этот симптом будет исчезать.
Функционально бесполезный, непосредственно не связанный со структурой деятельности ребенка, этот аккомпанемент постепенно будет звучать все глуше и глуше, пока, наконец, не исчезнет вовсе из обихода детской речи.
Фактические исследования Пиаже действительно показывают, что коэффициент эгоцентрической речи падает по мере роста ребенка. К 7—8 годам коэффициент приближается к нулю, и это знаменует собой тот факт, что эгоцентрическая речь не свойственна ребенку, перешедшему за порог школьного возраста. Правда, Пиаже полагает, что, отбросив эгоцентрическую речь, ребенок не расстается со своим эгоцентризмом как с определяющим фактором мышления, но этот фактор как бы смещается, переносится в другую плоскость, начинает господствовать в сфере отвлеченного словесного мышления, обнаруживая себя уже в новых симптомах, непосредственно не похожих на эгоцентрические высказывания ребенка. В полном согласии с утверждением о том, что эгоцентрическая речь ребенка не выполняет никакой функции в его поведении, Пиаже утверждает дальше, что эгоцентрическая речь просто отмирает, свертывается, исчезает на пороге школьного возраста. Этот вопрос о функции и судьбе эгоцентрической речи непосредственно связан с учением в целом и составляет как бы живой нерв всей теории эгоцентрической речи, развиваемой Пиаже.
Нами был подвергнут экспериментальному и клиническому исследованию вопрос о судьбе и функции эгоцентрической речи в детском возрасте*. Эти исследования привели нас к установ-
47
лению некоторых чрезвычайно существенных моментов, характеризующих интересующий нас процесс, и к иному пониманию психологической природы эгоцентрической речи ребенка, нежели то, которое развивает Пиаже.
Основное содержание, ход и результаты исследования мы не станем излагать: это изложено в другом месте и сейчас не вызывает интереса само по себе. Нас сейчас должно интересовать только то, что мы можем почерпнуть из него для фактического подтверждения или опровержения основных выдвинутых Пиаже положений, на которых, напомним это, держится все учение о детском эгоцентризме.
Наши исследования привели нас к выводу, что эгоцентрическая речь ребенка очень рано начинает выполнять в его деятельности чрезвычайно своеобразную роль. Мы постарались проследить в своих опытах, в общем сходных с опытами Пиаже, чем вызывается эгоцентрическая речь ребенка, какие причины порождают ее.
Для этого мы организовали поведение ребенка таким же образом, как и Пиаже, с той только разницей, что мы ввели целый ряд затрудняющих поведение ребенка моментов. Например, при свободном рисовании детей мы затрудняли обстановку: в нужную минуту у ребенка не оказывалось под рукой необходимого ему цветного карандаша, бумаги, краски и т. д. Короче говоря, мы экспериментально вызывали нарушения и затруднения в свободном течении детской деятельности.
Наши исследования показали, что коэффициент эгоцентрической детской речи, подсчитанный только для этих случаев затруднений, быстро возрастает почти вдвое по сравнению с нормальным коэффициентом Пиаже и с коэффициентом, вычисленным для тех же детей в ситуации без затруднений. Наши дети показали, таким образом, нарастание эгоцентрической речи во всех тех случаях, где они встречались с затруднениями. Ребенок, натолкнувшись на затруднение, пытался осмыслить положение: «Где карандаш, теперь мне нужен синий карандаш; ничего, я вместо этого нарисую красным и смочу водой, это потемнеет и будет как синее». Все это рассуждения с самим собой.
При подсчете тех же самых случаев, но без экспериментально вызванных нарушений деятельности мы получили даже несколько более низкий коэффициент, чем у Пиаже. Таким образом, мы приобретаем право полагать, что затруднения или нарушения гладко текущей деятельности являются одним из главных факторов, вызывающих к жизни эгоцентрическую речь.
Читатель книги Пиаже легко увидит, что сам по себе найденный нами факт может быть легко теоретически сопоставлен с двумя мыслями, с двумя теоретическими положениями, неоднократно развиваемыми Пиаже на протяжении его изложения.
48
Это, во-первых, закон осознания, формулировка которого принадлежит Э. Клапареду и который гласит, что затруднения и нарушения в автоматически текущей деятельности приводят к осознанию этой деятельности, затем положение о том, что появление речи всегда свидетельствует об этом процессе осознания. Нечто подобное могли мы наблюдать у наших детей: у них эгоцентрическая речь, т. е. попытка в словах осмыслить ситуацию, наметить выход, спланировать ближайшее действие, возникла в ответ на трудности в том же положении, только более сложного порядка.
Ребенок старшего возраста вел себя несколько иначе: он всматривался, обдумывал (о чем мы судим по значительным паузам), затем находил выход. На вопрос, о чем он думал, он всегда давал ответы, которые в значительной степени можно сблизить с мышлением вслух дошкольника. Мы, таким образом, предполагаем, что та же операция, которая у дошкольника совершается в открытой речи, совершается у школьника уже в речи внутренней, беззвучной.
Но об этом мы скажем дальше. Возвращаясь к вопросу об эгоцентрической речи, мы должны сказать, что, видимо, эгоцентрическая речь, помимо чисто экспрессивной функции и функции разряда, помимо того, что она просто сопровождает детскую активность, очень легко становится средством мышления в собственном смысле, т. е. начинает выполнять функцию образования плана разрешения задачи, возникающей в поведении. Для иллюстрации ограничимся одним примером. Ребенок (5½ лет) рисует — в наших опытах — трамвай: обводя карандашом линию, которая должна изображать одно из колес, ребенок с силой нажимает на карандаш. Графит ломается. Ребенок пытается все же, с силой нажимая карандашом на бумагу, замкнуть круг, но па бумаге не остается ничего, кроме вогнутого следа от сломанного карандаша. Ребенок произносит тихо, как будто про себя: «Оно сломанное» — и начинает красками, отложив карандаш, рисовать поломанный, находящийся после катастрофы в ремонте вагон, продолжая говорить время от времени сам с собой по поводу изменившегося сюжета рисунка. Это случайно возникшее эгоцентрическое высказывание ребенка настолько ясно связано со всем ходом его деятельности, настолько очевидно образует поворотный пункт всего его рисования, настолько недвусмысленно говорит об осознании ситуации и затруднения, о поисках выхода и создания плана нового намерения, которые определили весь путь дальнейшего поведения, — короче, настолько неотличимо по всей своей функции от типического процесса мышления, что принять его за простой аккомпанемент, не вмешивающийся в течение основной мелодии, за побочный продукт детской активности просто невозможно.
49
Мы не хотим вовсе сказать, что эгоцентрическая речь ребенка проявляется всегда только в этой функции. Мы не хотим утверждать далее, что эта интеллектуальная функция эгоцентрической речи возникает у ребенка сразу. В наших опытах мы могли проследить достаточно подробно чрезвычайно сложные структурные изменения и сдвиги во взаимном сплетении эгоцентрической речи ребенка и его деятельности.
Мы могли наблюдать, как ребенок в эгоцентрических высказываниях, сопровождающих его практическую деятельность, отражает и фиксирует конечный результат или главные поворотные моменты своей практической операции; как эта речь по мере развития деятельности ребенка сдвигается все более и более к середине, а затем к началу самой операции, приобретая функции планирования и направления будущего действия. Мы наблюдали, как слово, выражающее итог действия, неразрывно сплеталось с этим действием, и именно в силу того, что оно запечатлевало и отражало в себе главнейшие структурные моменты практической интеллектуальной операции, само начинало освещать и направлять действие ребенка, подчиняя его намерению и плану, поднимая его на ступень целесообразной деятельности.
Здесь происходило нечто, близко напоминающее давно сделанные фактические наблюдения в отношении сдвига слова и рисунка в первоначальной изобразительной деятельности ребенка. Как известно, ребенок, берущий впервые в руки карандаш, сначала рисует, а затем называет то, что у него получилось. Постепенно, по мере развития его деятельности, называние темы рисунка сдвигается к середине процесса, а затем идет наперед, определяя цель будущего действия и намерение того, кто его выполняет.
Нечто подобное происходит и с эгоцентрической речью ребенка вообще, и мы склонны в этом сдвиге называния в процессе детского рисования видеть частный случай более общего закона, о котором мы говорили. Но в наши задачи сейчас не входит ни более близкое определение удельного веса данной функции в ряду других функций, выполняемых эгоцентрической речью, ни более близкое рассмотрение всей динамики структурных и функциональных сдвигов в развитии эгоцентрической речи ребенка — об этом в другом месте.
Нас же интересует существенно иное: функция и судьба эгоцентрической речи. В зависимости от пересмотра вопроса о функции эгоцентрической речи стоит и вопрос об истолковании того факта, что эгоцентрическая речь исчезает на пороге школьного возраста. Здесь прямое экспериментальное исследование самой сути вопроса чрезвычайно затруднено. В эксперименте мы находим только косвенные данные, которые служат поводом для построения намеченной нами гипотезы, заключающейся в том,
50
что в эгоцентрической речи мы склонны видеть переходную стадию в развитии речи от внешней к внутренней.
Сам Пиаже, разумеется, не дает для этого никакого основания и нигде не указывает на то, что эгоцентрическую речь следует рассматривать в качестве переходного этапа. Напротив, Пиаже считает, что судьба эгоцентрической речи — отмирание, вопрос же о развитии внутренней речи ребенка остается во всем его исследовании вообще наиболее темным из всех вопросов детской речи, и возникает представление, что внутренняя речь, если понимать под этим внутреннюю в психологическом смысле слова речь, т. е. исполняющую внутренние функции, аналогичные эгоцентрической внешней речи, предшествует внешней, или социализированной речи.
Как ни чудовищно это положение с точки зрения генетической, мы думаем, что именно к такому выводу должен был бы прийти Пиаже, если бы он последовательно и до конца развил свой тезис о том, что социализированная речь возникает позже эгоцентрической и утверждается только после ее отмирания.
Однако, несмотря на теоретические взгляды самого Пиаже, целый ряд объективных данных в его исследовании, отчасти и собственные наши исследования говорят в пользу того предположения, которое мы сделали выше и которое, конечно, является только гипотезой, но с точки зрения всего того, что мы знаем сейчас о развитии детской речи, гипотезой, наиболее состоятельной в научном отношении.
В самом деле, стоит только сравнить количественно эгоцентрическую речь ребенка с эгоцентрической речью взрослого, для того чтобы заметить, что у взрослого эгоцентрическая речь гораздо богаче, ибо все, что мы обдумываем молча, является с точки зрения функциональной психологии такой эгоцентрической, а не социальной речью. Д. Уотсон 17 сказал бы, что она является речью, служащей для индивидуального, а не социального приспособления.
Таким образом, первое, что роднит внутреннюю речь взрослого человека с эгоцентрической речью дошкольника, — это общность функции: и та и другая есть речь для себя, отделившаяся от речи социальной, выполняющей задачи сообщения и связи с окружающими. Стоит только прибегнуть в психологическом эксперименте к способу, предложенному Уотсоном, и заставить решать человека какую-нибудь мыслительную задачу вслух, т. е. вызвать обнаружение его внутренней речи, и мы сейчас же увидим глубокое сходство, существующее между этим мышлением вслух взрослого человека и эгоцентрической речью ребенка.
Второе, что роднит внутреннюю речь взрослого человека с эгоцентрической речью ребенка, — это их структурные особен-
51
ности. В самом деле, Пиаже уже удалось показать, что эгоцентрическая речь обладает следующим свойством: она непонятна окружающим, если ее записать просто в протокол, т. е. оторвать от того конкретного действия, от той ситуации, в которой она родилась. Она понятна только для себя, она сокращена, она обнаруживает тенденцию к пропускам или коротким замыканиям, она опускает то, что находится перед глазами, и, таким образом, она претерпевает сложные структурные изменения.
Достаточно простейшего анализа для того, чтобы показать, что эти структурные изменения имеют тенденцию, совершенно сходную с той, которую можно признать как основную структурную тенденцию внутренней речи, именно тенденцию к сокращению. Наконец, устанавливаемый Пиаже факт быстрого отмирания эгоцентрической речи в школьном возрасте позволяет предположить, что в данном случае происходит не отмирание эгоцентрической речи, а ее превращение во внутреннюю речь, или уход ее внутрь.
К этим теоретическим соображениям мы хотели бы прибавить еще соображение, продиктованное экспериментальным исследованием, которое показывает, как в одной и той же ситуации у дошкольника и у школьника возникает то эгоцентрическая речь, то молчаливое обдумывание, т. е. процессы внутренней речи. Это исследование показало нам, что критическое сравнение в переходном по отношению к эгоцентрической речи возрасте одинаковых экспериментальных ситуаций приводит к установлению того несомненного факта, что процессы молчаливого обдумывания могут быть с функциональной стороны эквивалентны процессам эгоцентрической речи.
Если бы наше предположение сколько-нибудь оправдалось в ходе дальнейших исследований, мы могли бы сделать вывод, что процессы внутренней речи образуются и складываются у ребенка примерно в первом школьном возрасте, и это дает основание быстрому падению коэффициента эгоцентрической речи.
В пользу этого говорят наблюдения А. Леметра и других авторов над внутренней речью в школьном возрасте. Наблюдения показали, что тип внутренней речи у школьника является еще в высшей степени лабильным, неустановившимся. Это говорит в пользу того, что перед нами генетически молодые, недостаточно оформившиеся и неопределившиеся процессы.
Таким образом, если бы мы хотели суммировать основные результаты, к которым приводит нас фактическое исследование, мы могли бы сказать, что как функция, так и судьба эгоцентрической речи в свете новых фактических данных отнюдь не подтверждают приведенного выше положения Пиаже, рассматривающего эгоцентрическую речь ребенка как прямое выражение эгоцентризма его мысли.
52
Приведенные нами выше соображения не говорят в пользу того, что до 6—7 лет дети думают и действуют более эгоцентрично, чем взрослые[17]. Во всяком случае эгоцентрическая речь в рассмотренном нами разрезе не может явиться подтверждением этого.
Интеллектуальная функция эгоцентрической речи, стоящая, по-видимому, в непосредственной связи с развитием внутренней речи и ее функциональных особенностей, ни в какой мере не является прямым отражением эгоцентризма детской мысли, но показывает, что эгоцентрическая речь очень рано при соответствующих условиях становится средством реалистического мышления ребенка.
Поэтому основной вывод, который делает Пиаже из своего исследования и который позволяет ему перейти от наличия эгоцентрической речи в детском возрасте к гипотезе об эгоцентрическом характере детского мышления, снова не подтверждается фактами. Пиаже полагает, что если речь ребенка в 6½ лет на 44—47% эгоцентрична, то и мышление ребенка в 6½ лет также еще эгоцентрично в пределах от 44 до 47%. Но наши опыты показали, что между эгоцентрической речью и эгоцентрическим характером мышления может не существовать никакой связи.
В этом главный интерес наших исследований в том разрезе, который определяется задачами этой главы. Перед нами несомненный, экспериментально установленный факт, который остается в силе независимо от того, насколько состоятельной или несостоятельной окажется связываемая нами с этим фактом гипотеза. Повторяем, это факт, что эгоцентрическая речь ребенка может не только не являться выражением эгоцентрического мышления, но и выполнять функцию, прямо противоположную эгоцентрическому мышлению, функцию реалистического мышления, сближаясь не с логикой мечты и сновидения, а с логикой разумного, целесообразного действия и мышления.
Таким образом, прямая связь между фактом эгоцентрической речи и вытекающим из этого факта признанием эгоцентрического характера детского мышления не выдерживает экспериментальной критики.
Это — главное и основное, это — центральное, а вместе с этой связью падает и главное фактическое основание, на котором построена концепция детского эгоцентризма. Несостоятельность концепции с теоретической стороны, с точки зрения общего учения о развитии мышления мы пытались раскрыть в предшествующей главе.
Правда, Пиаже указывает и в ходе своего исследования, и в заключающем его резюме, что эгоцентрический характер детской мысли был установлен не одним рассмотренным нами, но тремя специальными исследованиями. Однако, как мы указыва-
53
ли уже выше, первое исследование, посвященное эгоцентрической речи, является основным и наиболее прямым из всех фактических доказательств, приводимых Пиаже; именно оно позволяет Пиаже непосредственно перейти от результатов исследования к формулировке главной гипотезы; два остальных служат как бы проверкой первого исследования. Они служат скорее для распространения силы доказательства, заключенного в первом, чем существенно новыми фактическими основаниями, поддерживающими главную концепцию. Так, второе исследование показало, что даже в социализированной части детского языка замечаются эгоцентрические формы речи, и, наконец, третье исследование, по признанию самого Пиаже, послужило приемом проверки первых двух и позволило точнее выяснить причины детского эгоцентризма.
Само собой разумеется, что в ходе дальнейшего исследования тех проблем, которые пытается объяснить теория Пиаже, и эти два основания должны подвергнуться тщательной экспериментальной разработке. Но задачи настоящей главы заставляют нас оставить в стороне оба этих фактических исследования как не вносящие по существу ничего принципиально нового в основной ход доказательства и рассуждения, приводящий Пиаже к теории детского эгоцентризма.
5
Нас должны интересовать сейчас в соответствии с целями нашей работы гораздо больше те общие принципиальные выводы положительного характера, которые могут быть сделаны на основании экспериментальной критики первого из трех китов, на которых покоится детский эгоцентризм у Пиаже, а эти выводы немаловажны для правильной оценки теории Пиаже в целом. Они снова возвращают нас к теоретическому рассмотрению вопроса и подводят вплотную к некоторым итогам, намеченным, но не сформулированным в предшествующих главах.
Дело в том, что мы решили привести некоторые скудные результаты собственных исследований и сформулировать построенную на них гипотезу не только из-за того, что с их помощью нам удалось перерезать связь между фактическим основанием и теоретическим выводом в теории детского эгоцентризма Пиаже, но и потому, что они позволяют наметить с точки зрения развития детского мышления гораздо более широкую перспективу, определяющую направление и сплетение основных линий в развитии детского мышления и речи.
Эта лейтлиния в развитии детского мышления, с точки зрения теории Пиаже, проходит в общем по основному тракту: от аутизма к социализированной речи, от миражного воображения
54
к логике отношений. Пользуясь выражением самого Пиаже, уже приведенным выше, можно сказать, что он стремится проследить, как ассимилируются, т. е. деформируются психологической субстанцией ребенка, социальные влияния, оказываемые на него речью и мышлением окружающих его взрослых людей. История детской мысли для Пиаже — это история постепенной социализации глубоко интимных, внутренних, личных, аутистических моментов, определяющих детскую психику. Социальное лежит в конце развития, даже социальная речь не предшествует эгоцентрической, но следует за ней в истории развития.
С точки зрения развитой нами гипотезы основные линии развития детского мышления располагаются в ином направлении и только что изложенная нами точка зрения представляет важнейшие генетические отношения в этом процессе развития в извращенном виде. Нам думается, что помимо приведенных выше сравнительно ограниченных фактических данных в пользу этого говорит множество фактов, известных нам о развитии детской речи, все без исключения, что мы знаем об этом недостаточно еще изученном процессе.
Мы будем для ясности и связности мысли отправляться от развитой выше гипотезы.
Если наша гипотеза не обманывает нас, то ход развития, который приводит к тому пункту, где исследователь отмечает богатый расцвет эгоцентрической речи ребенка, должен быть представлен в совершенно ином виде, чем это обрисовано нами выше при изложении взгляда Пиаже. Больше того, в известном смысле путь, приводящий к возникновению эгоцентрической речи, является прямо противоположным тому, который обрисован в исследованиях Пиаже. Если мы сумеем предположительно определить направление движения развития на небольшом отрезке — от момента возникновения и до момента исчезновения эгоцентрической речи, — то мы сумеем тем самым сделать наши предположения доступными проверке с точки зрения того, что нам известно о направлении процесса развития в целом. Иными словами, мы сумеем проверить закономерности, найденные нами для данного отрезка, вставив их в контекст тех закономерностей, которым подчинен весь путь развития в целом. Таков будет метод нашей проверки.
Попытаемся теперь в кратких словах описать этот путь развития на интересующем нас отрезке. Схематически рассуждая, можно сказать, что наша гипотеза обязывает нас представить весь ход развития в следующем виде. Первоначальной функцией речи является функция сообщения, социальной связи, воздействия на окружающих как со стороны взрослых, так и со стороны ребенка. Таким образом, первоначальная речь ребенка чисто социальная; социализированной ее было бы назвать не-
55
правильно, поскольку с этим словом связывается представление о чем-то изначально несоциальном, что становится таковым лишь в процессе своего изменения и развития.
Лишь далее, в процессе роста, социальная речь ребенка, которая является многофункциональной, развивается по принципу дифференциации отдельных функций и в известном возрасте довольно резко дифференцируется на эгоцентрическую и коммуникативную речь. Мы предпочитаем так назвать ту форму речи, которую Пиаже называет социализированной, как по тем соображениям, которые нами уже высказаны выше, так и потому, что, как увидим ниже, обе эти формы речи являются с точки зрения нашей гипотезы одинаково социальными, но разно направленными функциями речи. Таким образом, эгоцентрическая | речь, согласно этой гипотезе, возникает на основе социальной путем перенесения ребенком социальных форм поведения, форм коллективного сотрудничества в сферу личных психических функций.
Эта тенденция ребенка применять по отношению к себе те же формы поведения, которые прежде являлись социальными формами поведения, прекрасно известна Пиаже и хорошо им использована в настоящей книге при объяснении возникновения детского размышления из спора. Пиаже показал, что детское размышление возникает после того, как в детском коллективе возникает спор в истинном смысле этого слова, как только в споре, в дискуссии проявляются те функциональные моменты, которые дают начало развитию размышления.
Нечто подобное происходит, по нашему мнению, и тогда, когда ребенок начинает разговаривать сам с собой совершенно так же, как он прежде разговаривал с другими, когда он начинает, разговаривая сам с собой, думать вслух там, где ситуация вынуждает его к тому.
На основе эгоцентрической речи, отщепившейся от социальной, возникает затем внутренняя речь ребенка, являющаяся основой его мышления, как аутистического, так и логического. Следовательно, в эгоцентризме детской речи, описанном Пиаже, мы склонны видеть важнейший в генетическом отношении момент перехода от внешней речи к внутренней. Если мы внимательно проанализируем фактический материал, приводимый Пиаже, мы увидим, что, сам того не сознавая, Пиаже наглядно показал, каким образом речь внешняя переходит в речь внутреннюю.
Он показал, что эгоцентрическая речь является внутренней речью по своей психической функции и внешней речью по своей физиологической природе. Речь, таким образом, становится психически внутренней раньше, чем она становится действительно внутренней. Это позволяет нам выяснить, как происходит про-
56
цесс образования внутренней речи. Он совершается путем разделения функций речи, путем обособления эгоцентрической речи, путем ее постепенного сокращения и, наконец, путем ее превращения во внутреннюю речь.
Эгоцентрическая речь и есть переходная форма от речи внешней к речи внутренней; вот почему она представляет такой огромный теоретический интерес.
Вся схема в целом принимает, следовательно, такой вид: социальная речь — эгоцентрическая речь — внутренняя речь. Эту схему с точки зрения последовательности образующих ее моментов мы можем противопоставить, с одной стороны, традиционной теории образования внутренней речи, которая намечает такую последовательность моментов: внешняя речь — шепот — внутренняя речь, а с другой — схеме Пиаже, которая намечает следующую генетическую последовательность основных моментов в развитии речевого логического мышления: внеречевое аутистическое мышление — эгоцентрическая речь и эгоцентрическое мышление — социализированная речь и логическое мышление.
Первую из этих схем мы привели только для того, чтобы показать, что, в сущности говоря, она методологически оказывается в высшей степени родственной схеме Пиаже при всей чуждости фактического содержания этих обеих формул. Подобно тому как автор этой формулы Д. Уотсон предполагает, что переход от внешней речи к внутренней должен совершаться путем промежуточной ступени, через шепот, так Пиаже намечает переход от аутистической формы мысли к логической путем промежуточной ступени — через эгоцентрическую речь и эгоцентрическое мышление.
Таким образом, один и тот же пункт в развитии мышления ребенка, обозначаемый нами как эгоцентрическая речь ребенка, представляется с точки зрения этих схем лежащим на двух совершенно различных трактах детского развития. Для Пиаже это переходная ступень от аутизма к логике, от интимно-индивидуального к социальному, для нас это переходная форма от внешней речи к внутренней, от социальной речи к индивидуальной, в том числе и к аутистическому речевому мышлению.
Итак, мы видим, до какой степени различной рисуется картина развития в зависимости от различного понимания того пункта, исходя из которого мы пытаемся восстановить всю картину в целом.
Мы можем сформулировать основной вопрос, перед которым мы очутились в ходе нашего рассуждения, следующим образом. Как идет процесс развития детского мышления: от аутизма, от миражного воображения, от логики сновидения к социализированной речи и логическому мышлению, переваливая в своем кри-
57
тическом пункте через эгоцентрическую речь, или процесс развития идет обратным путем: от социальной речи ребенка через перевал его эгоцентрической речи к его внутренней речи и мышлению (в том числе и аутистическому)?
Достаточно выразить вопрос в этой форме, чтобы увидеть, что мы по существу вернулись к тому самому вопросу, который теоретически пытались атаковать выше. В самом деле, мы занимались рассмотрением вопроса о теоретической самостоятельности, с точки зрения учения о развитии в целом, основного положения, заимствованного Пиаже из психоанализа и гласящего, что первичной ступенью в истории развития мысли является аутистическое мышление.
Подобно тому как там мы вынуждены были прийти к признанию несостоятельности этого положения, так точно сейчас, описав полный круг, критически исследовав самое основание этой идеи, мы приходим снова к тому же самому выводу, перспектива и основное направление развития детского мышления представлены в интересующей нас концепции в неправильном виде.
Действительное движение процесса развития детского мышления совершается не от индивидуального к социализированному, а от социального к индивидуальному — таков основной итог как теоретического, так и экспериментального исследования интересующей нас проблемы.
6
Мы можем подвести итоги нашему несколько затянувшемуся рассмотрению концепции детского эгоцентризма в теории Пиаже.
Мы старались показать, что, рассматривая эту концепцию с точки зрения филогенетического и онтогенетического развития, мы неизбежно приходим к следующему выводу: в самой основе этой концепции лежит превратное представление относительно генетической полярности аутистического и реалистического мышления. В частности, мы старались развить ту мысль, что с точки зрения биологической эволюции несостоятельно допущение, будто аутистическая форма мышления является первичной, изначальной в истории психического развития.
Далее мы пытались рассмотреть фактические основы этой концепции, т. е. учения об эгоцентрической речи, в которой автор видит прямое проявление и обнаружение детского эгоцентризма. Мы снова должны были прийти к выводу на основании анализа развития детской речи, что представление об эгоцентрической речи как о прямом обнаружении эгоцентризма детского мышления не встречает фактически подтверждения ни с функциональной, ни со структурной стороны.
58
Мы видели далее, что связь между эгоцентризмом мышления и речью для себя отнюдь не оказывается постоянной и необходимой величиной, определяющей характер детской речи.
Наконец, мы стремились показать, что эгоцентрическая речь ребенка не является побочным продуктом его активности, как бы внешним проявлением его внутреннего эгоцентризма, который изживается к 7—8 годам. Напротив: эгоцентрическая речь предстала перед нами в свете приведенных выше данных как переходная ступень в развитии речи от внешней к внутренней.
Таким образом, и фактическое основание интересующей нас концепции оказывается поколебленным, а вместе с ним падает и вся концепция в целом.
Нам остается обобщить те результаты, к которым мы пришли. Первое и основное положение, которое мы могли бы выдвинуть в качестве руководящей идеи всей нашей критики, сформулируем следующим образом: сама постановка вопроса относительно двух различных форм мышления в психоанализе и в теории Пиаже является неверной. Нельзя противопоставлять удовлетворение потребностей приспособлению к действительности нельзя спрашивать: что движет мышлением ребенка — стремление ли удовлетворить свои внутренние потребности, или стремление приспособиться к объективной действительности, ибо само понятие потребности, если раскрыть его содержание с точки зрения теории развития, само понятие это включает в себя представление о том, что потребность удовлетворяется путем известного приспособления[18] к действительности.
Э. Блейлер в приведенном выше отрывке достаточно убедительно показал, что младенец достигает удовлетворения своей потребности не потому, что он галлюцинирует о наслаждении, — удовлетворение его потребности наступает лишь после действительного приема пищи. Точно так же если ребенок более старшего возраста предпочитает действительное яблоко воображаемому, то он делает это не потому, что он забывает о своих потребностях во имя приспособления к действительности, а именно потому, что мышлением и деятельностью движут его потребности.
Дело в том, что приспособления к объективной действительности ради самого приспособления, независимо от потребностей организма или личности, не существует. Все приспособление к действительности направляется потребностями. Это достаточно банально, это трюизм, который каким-то непонятным образом упускается из виду в рассматриваемой нами теории.
Потребность в пище, тепле, движении — все эти основные потребности не являются движущими, направляющими силами, определяющими весь процесс приспособления к действительности, почему противоположение одной формы мышления, которая
59
выполняет функции удовлетворения внутренних потребностей, другой форме, которая выполняет функции приспособления к действительности, само по себе лишено всякого смысла. Потребность и приспособление необходимо рассматривать в их единстве. Тот же отрыв от действительности, который наблюдается в развитом аутистическом мышлении, стремящемся в воображении получить удовлетворение не удовлетворенных в жизни стремлений, является продуктом позднего развития, аутистическое мышление обязано своим происхождением развитию реалистического мышления и основного его следствия — мышления в понятиях. Но Пиаже заимствует у Фрейда не только его положение, что принцип удовольствия предшествует принципу реальности (Ж. Пиаже, 1932, с. 372), но вместе с ним и всю метафизику принципа удовольствия, который превращается из служебного и биологически подчиненного момента в какое-то самостоятельное витальное начало, в primum movens — в перводвигателя[19] всего психического развития.
«Одной из заслуг психоанализа, — говорит Пиаже, — является то, что он показал, что аутизм не знает приспособления к действительности, ибо для «я» удовольствие является единственной пружиной. Единственная функция аутистической мысли — это стремление дать нуждам и интересам немедленное (бесконтрольное) удовлетворение, деформация действительности для того, чтобы пригнать ее к «я» (там же, с. 401). С логической неизбежностью, оторвав удовольствие и потребности от приспособления к действительности и введя их в сан метафизического начала, Пиаже вынужден другой вид мышления — реалистическое мышление — представить как совершенно отсеченное от реальных потребностей, интересов и желаний, как чистое мышление. Но такого мышления нет в природе, как нет потребностей без приспособления, почему нельзя их разрывать и противопоставлять друг другу, — так точно нет у ребенка мышления ради чистой истины, оторванного от всего земного: от потребностей, желаний, интересов.
«Она стремится не к установлению истины, а к удовлетворению желания» (там же, с. 95), — говорит Пиаже, характеризуя аутистическую мысль в отличие от реалистической. Но разве всякое желание исключает всегда действительность или разве есть такая мысль (напомним: речь идет о детской мысли), которая абсолютно независимо от практических потребностей стремилась бы только к установлению истины ради самой истины. Только лишенные всякого реального содержания, пустые абстракции, только логические функции, только метафизические ипостаси мысли могут быть разграничены подобным образом, но ни в коем случае не живые, реальные пути детского мышления.
60
В замечании по поводу аристотелевской критики пифагорова учения о числах и учения Платона об идеях, отдельных от чувственных вещей, В. И. Ленин говорит следующее:
«Идеализм первобытный: общее (понятие, идея) есть отдельное существо. Это кажется диким, чудовищно (вернее: ребячески) нелепым. Но разве не в том же роде (совершенно в том же роде) современный идеализм, Кант, Гегель, идея бога? Столы, стулья и идеи стола и стула; мир и идея мира (бог); вещь и «нумен», непознаваемая «вещь в себе»[20]; связь земли и солнца, природы вообще — и закон, λογοσ, бог. Раздвоение познания человека и возможность, идеализма (= религии) даны уже в первой, элементарной абстрации…
Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка (= понятия) с нее не есть простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни; мало того: возможность превращения (и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения) абстрактного понятия, идеи в фантазию (in letzter Instanz[21] = бога). Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее («стол» вообще) есть известный кусочек фантазии» (т. 29, с. 329—330).
Нельзя яснее и глубже выразить ту мысль, что воображение и мышление в развитии своем являются противоположностями, единство которых заключено уже в самом первичном обобщении и самом первом понятии, которое образует человек.
Это указание на единство противоположностей и их раздвоение, на зигзагообразное развитие мышления и фантазии, состоящее в том, что всякое обобщение есть, с одной стороны, отлет от жизни, а с другой — более глубокое и верное отражение этой самой жизни, в том, что есть известный кусочек фантазии во всяком общем понятии, — это указание открывает перед исследованием действительный путь изучения реалистического и аутистического мышления.
Если идти по этому пути, едва ли может остаться сомнение в том, что аутизм должен быть помещен не в начале развития детского мышления, что он представляет позднее образование, что он поляризуется как одна из противоположностей, включенных в развитие мысли.
В наших опытах мы можем отметить еще один чрезвычайно важный момент, новый с точки зрения этой теории, которую мы все время изучаем. Мы видели, что эгоцентрическая речь ребенка представляет собой не оторванную от действительности, от практической деятельности ребенка, от его реального приспособления, висящую в воздухе речь. Мы видели, что эта речь входит необходимым составным моментом в разумную деятельность ребенка, сама интеллектуализируется, занимая ум у этих
61
первичных целесообразных действий, и начинает служить средством образования намерения и плана в более сложной деятельности ребенка.
Деятельность, практика — вот те новые моменты, которые позволяют раскрыть функции эгоцентрической речи с новой стороны, во всей их полноте и наметить совершенно новую сторону в развитии детского мышления, которая, как другая сторона Луны, остается обычно вне поля зрения наблюдателей.
Ж. Пиаже утверждает, что вещи не обрабатывают ум ребенка. Но мы видели, что в реальной ситуации, там, где эгоцентрическая речь ребенка связана с его практической деятельностью, там, где она связана с мышлением ребенка, вещи действительно обрабатывают его ум. Вещи — значит действительность, но действительность, не пассивно отражаемая в восприятии ребенка, не познаваемая им с отвлеченной точки зрения, а действительность, с которой он сталкивается в процессе своей практики.
Этот новый момент, эта проблема действительности и практики и их роли в развитии детского мышления существенно изменяют всю картину в целом, но мы должны будем вернуться к ним ниже, при рассмотрении и методологической критике основных линий теории Пиаже.
7
Если мы обратимся к современной психологии в целом, и в частности к детской психологии, мы сумеем легко открыть в ней новую тенденцию, которая определяет развитие психологии в последнее время. Эту тенденцию очень хорошо выразил в итоге непосредственного впечатления от современного психологического эксперимента один из испытуемых немецкого психолога Н. Аха18. Он по окончании опыта, к удовлетворению экспериментатора, который рассказывает об этом в предисловии к своему исследованию, сказал: «Но ведь это же экспериментальная философия».
Это сближение психологических исследований с философскими проблемами, попытка в процессе психологического исследования непосредственно развить вопросы, имеющие первостепенное значение для ряда философских проблем и — обратно — сами зависящие в своей постановке и разрешении от философского понимания, пронизывают все современное исследование.
Мы не станем приводить примеры, иллюстрирующие это положение. Укажем только на то, что рассматриваемое нами сейчас исследование Пиаже все время протекает на этой грани философского и психологического исследования. Пиаже сам говорит, что логика ребенка — область настолько бесконечно сложная, что здесь на каждом шагу наталкиваешься на подводные камни, на проблемы логики и даже часто — теории познания.
62
Сохранить в этом лабиринте определенное направление и избегнуть проблем, чуждых психологии, — вещь не всегда легкая.
Наибольшей опасностью представляется Пиаже преждевременное обобщение результатов опыта и риск очутиться во власти предвзятых идей, во власти предубеждений логической системы. Поэтому, как мы уже говорили, автор принципиально воздерживается от слишком систематического изложения и тем более от всяких обобщений, выходящих за пределы психологии ребенка. Его намерение — ограничиться исключительно анализом фактов и не вдаваться в философию этих фактов. Однако он должен признать, что логика, история философии и теория познания суть области, которые больше, чем это может казаться, связаны с развитием логики ребенка. А потому, хочет он того или не хочет, он волей-неволей затрагивает целый ряд проблем из этих сложных областей, хотя с удивительной последовательностью обрывает ход своей мысли всякий раз, когда она подходит вплотную к роковой грани — философии.
Э. Клапаред в предисловии к книге Пиаже указывает, что автор счастливо сочетает в себе природного биолога-натуралиста, сменившего охоту за моллюсками на охоту за психологическими фактами, человека, усвоившего все принципы естественнонаучного мышления, человека, обладающего способностью заставить свои материалы говорить, вернее, способностью слушать, что они говорят, и одного из ученых, наиболее осведомленного в философских вопросах. «Ему известен всякий самый темный уголок, всякая ловушка старой логики, логики учебников. Он целиком за новую логику, он в курсе самых тонких проблем теории познания, но превосходное знание этих различных областей не только не наталкивает его на рискованные рассуждения, а, наоборот, позволяет ему четко обозначить границу, отделяющую психологию от философии, и оставаться строго по сю сторону рокового рубежа. Труд его чисто научный» (Ж. Пиаже, 1932, с. 62).
В этом последнем утверждении мы не можем согласиться с Клапаредом, ибо, как мы постараемся показать ниже, Пиаже не удалось, да и по существу дела не могло удасться избегнуть философских построений, ибо само отсутствие философии есть совершенно определенная философия[22]. Попытка остаться всецело в пределах чистого эмпиризма характерна для исследования Пиаже. Боязнь связать себя с какой-нибудь предвзятой философской системой сама по себе является симптомом определенного философского мировоззрения, которое мы попытаемся сейчас раскрыть в его главнейших и основных чертах.
Мы рассматривали выше концепцию детского эгоцентризма, который покоится у Пиаже на основе учения об эгоцентрической детской речи и к которому Пиаже сводит все черты, харак-
63
теризующие логику ребенка. Это рассмотрение привело нас к выводу о видимой несостоятельности, теоретической и фактической, этой основной концепции, к выводу относительно того, что ход детского развития представлен в извращенном виде в этой теории.
Было бы невозможно с точки зрения задачи настоящей главы говорить о всех следствиях детского эгоцентризма. Это значило бы рассматривать шаг за шагом все те главы, из которых составлено исследование Пиаже, и в конечном счете превратить критическую главу в другую работу, повторяющую темы Пиаже, но в ином разрезе. Мы думаем, что задача наша существенно иная. Она заключается в том, чтобы облегчить читателю критическое усвоение того богатейшего материала и тех первичных обобщений, которые содержатся в книге Пиаже. А для этого нам необходимо рассмотреть методологическую сторону исследований Пиаже и критически ее взвесить.
Мы могли бы начать с основного и центрального момента, который является определяющим для логики научного мышления Пиаже. Мы имеем в виду проблему причинности. Пиаже заканчивает книгу сжатой и выразительной главой, посвященной проблеме предпричинности у ребенка. Конечным выводом из анализа логики ребенка является для Пиаже вывод о том, что ребенку чуждо еще понятие причинности и что та стадия, на которой находится мышление ребенка, обращающегося к этой проблеме, могла бы быть правильнее всего названа стадией предпричинности.
Эта проблема занимает такое видное место во всей теории Пиаже, что он посвятил особый, четвертый, том своего исследования выяснению понятия о физической причинности у ребенка. Это новое социальное исследование опять привело его к выводу об отсутствии причинности, в собственном смысле слова, в представлениях ребенка о мире, в объяснениях движения, в понимании машин и автоматов, — короче, во всем мышлении ребенка о внешней действительности.
Но, как это ни странно, и сам Пиаже в своих исследованиях сознательно и намеренно хочет задержать и остановить свою мысль на стадии предпричинности в этом смысле. Он сам говорит, что с ребенком происходит то же, что с наукой (там же, с. 368).
Правда, Пиаже склонен, вероятно, рассматривать свой отказ от причинности как стадию сверхпричинности, т. е. как выражение наиболее утонченного научного мышления, для которого понятие причинности является уже пройденной ступенью. Но на самом деле всякий, кто отказывается от идеи причинности, волей-неволей скатывается назад — к стадии предпричинности, которую так хорошо описал Пиаже, анализируя мышление ребенка.
64
Что же противопоставляет Пиаже принципу причинности? Пиаже заменяет причинное рассмотрение исследуемых им явлений генетической точкой зрения. Принцип причинности является для него отмененным и снятым более высоким принципом развития. «Что значит объяснить психическое явление? — спрашивает он. — Без генетического метода, как это показал своим тонким анализом Д. Болдуин19 в психологии, не только нельзя быть уверенным, что не принимаешь следствия за причины, но даже невозможно поставить самый вопрос об объяснении. Надо, стало быть, заменить отношение между причиной и следствием отношением генетического развития, каковое отношение присоединяет к понятию о предшествующем и последующем понятие функциональной зависимости в математическом смысле.
Мы можем, стало быть, сказать по поводу двух явлений А и Б, что А есть функция Б, как Б есть функция А, оставляя за собой право расположить наши описания, отправляясь от первых наблюдаемых нами явлений, наиболее объясняющих в генетическом смысле» (там же, с. 371).
Таким образом, отношения развития и функциональной зависимости заменяют для Пиаже отношения причинности. Он упускает здесь из виду тот получивший блестящую формулировку у И. Гёте принцип, что восхождение от действия к причине есть простое историческое познание. Он забывает известное положение Ф. Бэкона20, что истинное знание есть знание, восходящее к причинам; он пытается заменить причинное понимание развития функциональным пониманием и тем самым незаметно для себя лишает всякого содержания и само понятие развития. Все оказывается условным в этом развитии. Явление А может рассматриваться как функция явления Б, но и наоборот: явление Б может рассматриваться как функция А.
В результате такого рассмотрения для автора снимается вопрос о причинах, о факторах развития. За ним сохраняется только право выбирать первые наблюдаемые явления, которые являются наиболее объясняющими в генетическом смысле.
В зависимости от этого основания проблема факторов развития детского мышления остается в исследовании Пиаже разрешенной таким же точно образом, как и проблема причинности. «Но что же это такое, эти «объясняющие явления»? — спрашивает Пиаже. — В этом отношении психология мысли всегда наталкивается на два основных фактора, связь между которыми она обязана объяснить, — фактор биологический и фактор социальный. Если попробовать описать эволюцию мысли с биологической точки зрения или, как теперь становится модным, только с социологической точки зрения, то рискуешь оставить в тени половину действительности. Значит, не надо терять из вида оба полюса, ничем не надо пренебрегать.
65
Но, чтобы начать, необходимо остановить свой выбор на одном из языков в ущерб другому. Мы выбрали язык социологический, но мы настаиваем на том, что в этом нет исключительности — мы оставляем за собой право вернуться к биологическому объяснению детского мышления и свести к нему то описание, которое мы попытаемся здесь дать.
Расположить наше описание с точки зрения социальной психологии, отправляясь от самого характерного в этом смысле явления — эгоцентризма детской мысли, — вот все, что мы попытались сделать для начала. Мы старались свести к эгоцентризму большую часть характерных черт детской логики» (там же).
Получается парадоксальный вывод, заключающийся в том, что то описание, которое дано на социологическом языке здесь, может быть с таким же успехом сведено к биологическому описанию в другой книге. Расположить описание с точки зрения социальной психологии — это простой вопрос выбора автора, который волен выбирать любой из нравящихся ему языков в ущерб другому. Это центральное и решающее для всей методологии Пиаже утверждение, которое проливает свет на само понятие социального фактора в развитии детского мышления, как он рассматривается Пиаже.
Как известно, вся книга Пиаже проникнута той мыслью, что в истории мышления ребенка выдвигается на первый план влияние социальных факторов на структуру и функционирование мысли.
В предисловии к русскому изданию Пиаже прямо пишет, что это составляет основную идею его работы. «Идея, доминирующая в публикуемой работе, — говорит он, — как мне кажется, — это идея о том, что мышление ребенка не может быть выведено только из врожденных психобиологических факторов и из влияния физической среды, но должно быть понято также и преимущественно из тех отношений, которые устанавливаются между ребенком и окружающей его социальной средой. Я не хочу этим просто сказать, что ребенок отражает мнения и идеи окружающих, — это было бы банально. От социальной среды зависит самая структура мышления индивида. Когда индивид думает только для самого себя, думает эгоцентрически, что составляет как раз случай, типичный для ребенка, то его мысль находится во власти его фантазии, его желаний, его личности. Тогда он представляет ряд особенностей, совершенно отличных от тех особенностей, которые характеризуют рациональное мышление. Когда же индивид испытывает систематическое воздействие со стороны определенной социальной среды (как, например, ребенок, испытывающий влияние авторитета взрослых), тогда его мысль складывается по известным внешним правилам… По ме-
86
ре того как индивиды сообща сотрудничают друг с другом, развиваются и правила этого сотрудничества, сообщающие мышлению дисциплину, которая и образует разум в обоих его аспектах — теоретическом и практическом.
Эгоцентризм, принуждение, сотрудничество — таковы три направления, между которыми беспрестанно колеблется развивающееся мышление ребенка и с которыми в той или иной мере связано мышление взрослого, в зависимости от того, остается ли оно аутистическим или врастает в тот или иной тип организации общества» (там же, с. 55—56).
Такова доминирующая идея Пиаже. Казалось бы, здесь, в этой схеме, как и во всей книге, содержится чрезвычайно четкое и ясное признание социального фактора как определяющей силы в развитии детского мышления. Между тем мы видели из только что приведенной цитаты, что признание вытекает из того, что автор избрал для описания язык социологический, но с таким же успехом те же самые факты можно было бы подвергнуть и биологическому объяснению. Поэтому рассмотрение того, как относятся социальный и биологический факторы развития детского мышления в теории Пиаже, и составляет нашу ближайшую задачу.
Существенным для этой проблемы в теории Пиаже является разрыв между биологическим и социальным. Биологическое мыслится как изначальное, первичное, заключенное в самом ребенке, образующее его психологическую субстанцию. Социальное действует посредством принуждения как внешняя, чуждая по отношению к ребенку сила, вытесняющая свойственные ребенку и соответствующие его внутренней природе способы мышления и заменяющая их чуждыми ребенку схемами мысли, которые навязываются ему извне.
Неудивительно поэтому, что даже в своей новой схеме Пиаже соединяет два крайних пункта — эгоцентризм и сотрудничество — посредством третьего члена — принуждения. Вот истинное слово, которое выражает представление Пиаже о том механизме, с помощью которого социальная среда направляет развитие детского мышления.
В сущности, это представление является общим для Пиаже и психоанализа, в котором тоже внешняя среда рассматривается как нечто внешнее по отношению к личности, оказывающее давление на эту личность и заставляющее ее ограничивать свои влечения, изменять их, направлять их по обходным путям. Принуждение и давление — вот те два слова, которые не сходят со страниц этой книги, когда нужно выразить влияние социальной среды на развитие ребенка.
Мы уже видели, что Пиаже уподобляет процесс этих влияний ассимиляции и изучает, как эти влияния ассимилируются,
67
т, е. деформируются живым существом и внедряются в его собственную субстанцию. Но эта собственная психическая субстанция ребенка, эта структура и функционирование, свойственные детской мысли, составляющие ее качественное своеобразие по сравнению с мышлением взрослого человека, определяются аутизмом, т. е. биологическими свойствами детской природы. Ребенок не рассматривается как часть социального целого, как субъект общественных отношений, с самых первых дней участвующий в общественной жизни того целого, к которому он принадлежит. Социальное рассматривается как нечто, стоящее вне ребенка, как чуждая и далекая от него сила, оказывающая на него давление и вытесняющая свойственные ему приемы мышления.
Очень хорошо выражает эту заветную для Пиаже идею в своем предисловии Э. Клапаред. Он говорит, что исследования Пиаже представляют ум ребенка в совершенно новом виде. «Он показывает, что ум ребенка, так сказать, ткет одновременно на двух различных станках, расположенных как бы один над другим.
Работа, производимая в нижней плоскости в первые годы жизни, гораздо важнее. Это — дело самого ребенка, который беспорядочно привлекает к себе и кристаллизует вокруг своих потребностей все, что способно его удовлетворить. Это плоскость субъективности, желаний, игры, капризов, Lustprinzip[23], как сказал бы Фрейд.
Верхняя плоскость, наоборот, воздвигается понемногу социальной средой, давление которой все более и более чувствуется ребенком. Это плоскость объективности, речи, логических концепций, — одним словом, реальность. Этот верхний план сначала очень хрупок. Как только его перегружают, он сгибается, трескается, обрушивается; элементы, из которых он состоит, падают на нижнюю поверхность, смешиваясь с элементами, принадлежащими к этой последней; некоторые кусочки остаются на полпути между небом и землей. Понятно, что наблюдатель, который не видел этих двух поверхностей и который думал, что игра велась на одной плоскости, получил впечатление крайней запутанности, ибо каждая из этих поверхностей имеет свою собственную логику и каждая вопиет, когда ее соединяют с логикой другой плоскости» (Ж. Пиаже, 1932, с. 59—60).
Как видим, своеобразие мышления ребенка заключается, по теории Пиаже, в том, что его ум ткет на двух станках и что первый станок, который ткет в плоскости субъективности, желаний и капризов, наиболее важен, так как он является делом самого ребенка. Если бы даже сами Пиаже и Клапаред не упоминали Фрейда и его принцип удовольствия, ни у кого не могло бы остаться сомнений в том, что перед нами чисто биологическая кон-
68
цепция, пытающаяся вывести своеобразие детского мышления из биологических особенностей его природы.
Что это действительно так, что биологическое и социальное в развитии ребенка представлены у Пиаже как две внешние и механически действующие друг на друга силы, можно видеть из тех выводов, к которым приводит его исследование.
Центральным выводом, который ложится в основу дальнейших двух томов исследований Пиаже, является вывод относительно того, что ребенок живет в двойной действительности. Один мир для него составляется на основе его собственного, свойственного его природе мышления, другой — на основе навязанного ему окружающими его людьми логического мышления.
С логической необходимостью отсюда следует, что для ребенка, по представлению Пиаже, в результате такой раздвоенности его мысли должна возникать и раздвоенная действительность. Два различных станка — две различные ткани: два способа мышления — две действительности. Эта раздвоенность должна оказаться тем более резкой и сильной, что каждая из двух поверхностей, в которых ткет мысль ребенка, имеет свою собственную логику и — по словам авторитетнейшего свидетеля — вопиет, когда ее соединяют с логикой другой плоскости. Очевидно, уделом детской мысли должна явиться не только раздвоенная, расколотая действительность, но и составленная из несоединимых, абсолютно разнородных и принципиально враждебных кусков ткани, которые вопиют, когда их хотят объединить. Ведь аутистическая мысль, по Пиаже, создает сама себе воображаемую действительность, или действительность сновидения.
С той же логической неизбежностью возникает вопрос: какой из двух станков, на которых ткет мысль ребенка, важнее, какой из двух тканей его мысли принадлежит первенство? Клапаред ясно отвечает на первую часть нашего вопроса, как мы видели выше: работа, производимая на нижней плоскости, в первые годы жизни, гораздо важнее. Сам Пиаже, как увидим ниже, столь же категорически ответит на второй вопрос утверждением, что настоящая реальность гораздо менее настояща для ребенка, чем для нас.
После этого, следуя той же логике этого неотразимо последовательного рассуждения, остается признать, что мысль ребенка бьется, говоря словами поэта-мистика, на пороге как бы двойного бытия, что его душа — жилище двух миров.
Поэтому в связи с вопросом о детском эгоцентризме Пиаже ставит другой вопрос: «Не существует ли для ребенка особой действительности, являющейся пробным камнем для всех других, или в зависимости от состояния эгоцентризма или социализации ребенок будет находиться в присутствии двух миров,
69
одинаково реальных, из которых ни одному не удается вытеснить другой? Очевидно, что эта вторая гипотеза более вероятна» (там же, с. 401). Пиаже полагает, что остается недоказанным, будто ребенок страдает от этой двуполярности реального мира. И он допускает мысль, что у ребенка имеется две или несколько реальностей и что эти реальности действительны поочередно, вместо того чтобы находиться в иерархическом отношении, как у нас.
В частности, в первой стадии, которая длится, по мысли Пиаже, до 2—3 лет, реальное — это попросту то, что желательно. «Закон удовольствия», о котором говорит Фрейд, деформирует и обрабатывает мир по-своему. Вторая стадия отмечается появлением двух разнородных действительностей, одинаково реальных: мир игры и мир наблюдения» (там же, с. 402). «Следует, таким образом, признать за детской игрой значение автономной реальности, понимая под этим, что настоящая реальность, которой она противополагается, гораздо менее настоящая для ребенка, чем для нас» (там же, с. 403).
Эта мысль не является исключительной собственностью Пиаже. Все теории детской психологии, исходящие из тех же принципиальных позиций, что и теория Пиаже, проникнуты этой идеей. Ребенок живет в двух мирах. Все социальное является чуждым для ребенка, навязанным ему извне. В последнее время В. Элиасберг выразил эту идею наиболее ясно, говоря об автономной детской речи. Рассматривая представление о мире, усваиваемое ребенком через речь, он приходит к выводу, что все это не соответствует детской природе, что оно противоположно той целостности, которую мы видим в игре и рисунках ребенка. Вместе с речью взрослого, говорит он, ребенок усваивает и категориальные формы, разделение субъективного и объективного, я и ты, здесь и там, теперь и после — das alles völlig unkindgemass. И, повторяя известный стих Гёте, автор говорит, что две души живут в ребенке: первоначальная — полная связей детская душа и вторая, возникающая под влиянием взрослых, переживающая мир в категориях. Две души: два мира, две реальности. Этот вывод является неизбежным логическим следствием из основного положения относительно социального и биологического, действующих как два внешние по отношению друг к другу и чуждые начала.
8
В результате получается чрезвычайно своеобразное понимание самого процесса социализации, который в теории Пиаже занимает центральное место. Мы выше пытались доказать, что это представление не выдерживает критики с точки зрения тео-
70
рии развития. И в самом деле, что представляет собой процесс социализации детской мысли, как его рисует Пиаже? Мы уже видели, что это есть нечто внешнее, чуждое для ребенка. Теперь укажем еще на один существенный момент: Пиаже видит в социализации единственный источник развития логического мышления. Но в чем реально заключается самый процесс социализации? Это, как известно, процесс преодоления детского эгоцентризма. Он заключается в том, что ребенок начинает думать не для себя, но начинает приспосабливать свое мышление к мышлению других. Предоставленный самому себе, ребенок никогда не пришел бы к необходимости логического мышления. Он действует исключительно с помощью фантазии, ибо, по мнению Пиаже, «не вещи приводят ум к необходимости логической проверки: сами вещи обрабатываются умом» (1932, с. 373).
Сказать так — значит признать, что вещи, т. е. внешняя объективная действительность, не играют решающей роли в развитии детского мышления. Только столкновение нашей мысли с чужой мыслью вызывает в нас сомнение и потребность в доказательстве. «Без наличия других сознаний неудача опыта привела бы нас к еще большему развитию фантазии и к бреду. В нашем мозгу постоянно возникает множество ложных идей, странностей, утопий, мистических объяснений, подозрений, преувеличенных представлений о силах нашего «я». Но все это рассеивается при соприкосновении с подобными нам. Нужда в проверке имеет своим источником социальную нужду — усвоить мысль других людей, сообщить им наши собственные мысли, убедить их. Доказательства рождаются в споре. Впрочем, это общее место в современной психологии» (там же, с. 373).
Нельзя яснее высказать ту мысль, что потребность в логическом мышлении и само познание истины возникают из общения сознания ребенка с другими сознаниями. Как это близко по своей философской природе к социологическому учению, Э. Дюркгейма21 и других социологов, выводящих из общественной жизни человека и пространство, и время, и всю объективную действительность в целом! Как это близко к положению А. А. Богданова22, гласящему, что объективность физического ряда — это есть общезначимость, что объективность физического тела с которой мы встречаемся в своем опыте, устанавливается в конечном счете на основе взаимной проверки и согласования высказываний различных людей, что вообще физический мир — это социально согласованный, социально гармонизированный, социально организованный опыт.
Что Пиаже сближается здесь с Э. Махом23 — в этом едва ли можно сомневаться, если вспомнить его концепцию причинности, о которой мы говорили выше. Говоря о развитии причинности у ребенка, Пиаже устанавливает следующий чрезвычайно
71
интересный факт: он показывает, опираясь на закон сознания, установленный Клапаредом, что осознание следует за действием и возникает тогда, когда автоматическое приспособление наталкивается на трудности. Пиаже полагает, что если мы спросим себя: как возникает представление о причине, цели и т. д., то «эта проблема происхождения сводится к тому, чтобы узнать, каким образом мало-помалу индивид стал интересоваться причиной, целью, пространством. Мы вправе думать, что интерес к этим категориям возник только тогда, когда оказалось невозможным осуществить действие в отношении одной из них, Потребность создает сознание, а сознание причины блеснет в уме тогда, когда человек испытывает потребность в том, чтобы приспособиться в отношении причины» (там же, с. 223). При автоматическом, инстинктивном приспособлении ум не отдает себе отчета в категориях. Исполнение автоматического акта не задает нашему уму никакой задачи. Нет затруднения — значит нет потребности, а следовательно, нет и сознания.
Излагая эту мысль Клапареда, Пиаже говорит, что в одном отношении он пошел еще дальше, по пути функциональной психологии, полагая, что факт сознания категории преобразовывает ее в самой природе. «Так, — говорит он, — мы приняли формулу: ребенок сам становится причиной гораздо раньше, чем он получает понятие о причине» (там же, с. 224).
Казалось бы, нельзя яснее выразить ту мысль, что объективная причинность в деятельности ребенка существует независимо от его сознания и до всякого понятия о ней, но Пиаже, сам понимая, что факт говорит в данном случае за материалистическое, а не за идеалистическое понимание причинности, делает оговорку при этом, заключающуюся в следующем: «Одно лишь удобство выражения (которое, если мы не будем остерегаться, увлечет нас целиком к реалистической теории познания, т. е. за пределы психологии) может позволить нам говорить о причинности как об отношении, совершенно независимом от сознания. В действительной жизни существует столько видов причинности, сколько видов или ступеней сознания. Когда ребенок есть причина или действует, как если бы он знал, что одно явление есть причина другого, то несмотря на то, что он не отдает себе отчета в причинности, это все же первый вид причинного отношения и, если угодно, функциональный эквивалент причинности. Затем, когда тот же ребенок начинает относиться к вопросу сознательно, это осознание, уже благодаря тому, что оно зависит от потребностей и интересов момента, может принимать различный характер: антимистической причинности, артифициалистической (связанной с представлением, что все сделано искусственно руками человека), целевой, механической (посредством контакта), динамической (силы) и т. д. Последовательность
72
этих типов причинностей никогда не может быть рассматриваема как законченная, и виды отношений, которые сейчас употребляются взрослыми и учеными, вероятно, лишь временные, как и все те, которыми пользовался ребенок или первобытный человек» (там же).
То, что Пиаже утверждает относительно причинности, т. е. отрицание ее объективности, он распространяет на все остальные категории, становясь на идеалистическую точку зрения психологизма и утверждая, что «генетику важно отметить появление и применение этих категорий во всех стадиях, проходимых детским пониманием, и привести эти факты к функциональным законам мысли» (там же).
Опровергая схоластический реализм и кантовский априоризм в учении о логических категориях, Пиаже сам становится на точку зрения прагматического эмпиризма, которую «можно без преувеличения охарактеризовать как заботу о психологии, потому что эта теория поставила своей задачей определить категории их генезисом в истории мышления и их постепенно развивающимся применением в истории наук» (там же).
Мы видим не только то, что Пиаже становится этим самым на позицию субъективного идеализма, но что он вступает в резкое противоречие с добытыми им же фактами, которые, как он говорит сам, если довериться им, могут привести к реалистической теории познания.
Не удивительно поэтому, что, делая дальнейшие выводы из своих исследований, Пиаже приходит в третьем томе (J. Piaget, 1926), посвященном выяснению того, какие представления существуют у ребенка о мире, к следующему выводу: реализм мышления, анимизм и артифициализм являются тремя доминирующими чертами детского мировоззрения. И этот вывод основной для исследователя, который в качестве отправного положения берет утверждение Маха, пытавшегося показать, что разграничение внутреннего, или психического, мира и мира внешнего, или физического, не является врожденным. «Но эта точка зрения была еще чисто теоретической. Гипотеза Маха не опирается на генетическую психологию в истинном смысле этого слова, а «генетическая логика» Д. Болдуина — скорее субъективное, чем экспериментальное произведение» (там же, с. 5). И вот Пиаже как бы задается целью доказать это исходное положение Маха с точки зрения развития детской логики. При этом он снова впадает в противоречие, заключающееся в том, что изначальный характер детской мысли обрисован им же самим как реалистический. Иными словами, наивный реализм, который приписывается ребенку, указывает, очевидно: с самого начала самой природой сознания обусловлено то, что оно отражает объективную действительность.
73
Развивая эту идею дальше, Пиаже в заключение всех четырех томов ставит вопрос об отношении логики к реальности. «Опыт, — говорит он, — формирует разум, и разум формирует опыт. Между реальным и разумным есть взаимная зависимость. Эта проблема об отношении логики к реальности прежде всего принадлежит к теории познания, но с генетической точки зрения она существует и внутри психологии или, во всяком случае, существует проблема, близкая к ней, которую можно формулировать в следующем виде: эволюция логики определяет реальные категории причинности и т. д. или наоборот» (Ж. Пиаже, 1932, с. 337).
Ж. Пиаже ограничивается указанием на то, что между развитием реальных категорий и категорий формальной логики существует сходство и даже известный параллелизм. По его мнению, существует не только логический эгоцентризм, но и онтологический эгоцентризм — логические и онтологические категории ребенка эволюционируют параллельно.
Мы не станем прослеживать этот параллелизм хотя бы схематически. Обратимся прямо к конечному выводу Пиаже. «Установив этот параллелизм, — говорит он, — мы должны себя спросить, каков механизм тех фактов, которые его определяют: содержание ли реальной мысли определяет логические формы или наоборот?
В такой форме вопрос не имеет никакого смысле, но если вопрос о логических формах заменить вопросом о формах психических, то вопрос приобретает возможность положительного решения, однако остережемся, — заключает Пиаже, — предсказать это решение» (там же, с. 342).
Таким образом, Пиаже сознательно остается на грани идеализма и материализма, желая сохранить позицию агностика, на деле же отрицая объективное значение логических категорий и разделяя точку зрения Маха.
9
Если бы мы хотели в заключение обобщить то центральное и основное, что определяет всю концепцию Пиаже, мы должны были бы сказать, что это те два момента, отсутствие которых дало уже себя почувствовать при рассмотрении узкого вопроса относительно эгоцентрической речи. Отсутствие действительности и отношение ребенка к этой действительности, т. е. отсутствие практической деятельности ребенка, — вот что является в данном случае основным. Самая социализация детского мышления рассматривается Пиаже вне практики, в отрыве от действительности как чистое общение душ, которое приводит к развитию мысли. Познание истины и логические формы, с помощью
74
которых становится возможным это познание, возникают не в процессе практического овладения действительностью, но в процессе приспособления одних мыслей к другим. Истина есть социально организованный опыт, как бы повторяет Пиаже богдановское положение, ибо вещи, действительность не толкают ум ребенка по пути развития. Они сами обрабатываются умом. Предоставленный самому себе, ребенок пришел бы к развитию бреда. Действительность его никогда не научила бы логике.
Вот эта попытка вывести логическое мышление ребенка и его развитие из чистого общения сознаний в полном отрыве от действительности, без всякого учета общественной практики ребенка, направленной на овладение действительностью, и составляет центральный пункт всего построения Пиаже.
В замечаниях к «Логике» Гегеля В. И. Ленин говорит по поводу аналогичного, широко распространенного в идеалистической философии и психологии взгляда следующее:
«Когда Гегель старается — иногда даже: тщится и пыжится — подвести целесообразную деятельность человека под категории логики, говоря, что эта деятельность есть «заключение» (Schluss), что субъект (человек) играет роль такого-то «члена» в логической «фигуре» «заключения» и т. п., — ТО ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАТЯЖКА, НЕ ТОЛЬКО ИГРА. ТУТ ЕСТЬ ОЧЕНЬ ГЛУБОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ЧИСТО МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ. НАДО ПЕРЕВЕРНУТЬ: ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА МИЛЛИАРДЫ РАЗ ДОЛЖНА БЫЛА ПРИВОДИТЬ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ПОВТОРЕНИЮ РАЗНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ФИГУР, ДАБЫ ЭТИ ФИГУРЫ МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ АКСИОМ…» (т. 29, с. 172). «…Практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, аксиоматический характер именно (и только) в силу этого миллиардного повторения» (там же, с. 198).
Неудивительно поэтому, что Пиаже устанавливает факт, заключающийся в том, что отвлеченная вербальная мысль непонятна ребенку. Разговор без действия непонятен. Дети не понимают друг друга. К этому приходит Пиаже. «Конечно, — говорит он, — когда дети играют, когда они вместе перебирают руками какой-нибудь материал, они понимают друг друга, ибо, хотя их язык и эллиптичен, он сопровождается жестами, мимикой, представляющей начало действия и служащей наглядным примером для собеседника. Но можно спросить себя: понимают ли дети вербальную мысль и самый язык друг друга? Иначе говоря: понимают ли друг друга дети, когда говорят, не действуя? Это капитальная проблема, ибо как раз в этой словесной плоскости ребенок осуществляет свое главное усилие приспосо-
75
биться к мысли взрослого и все свое обучение логической мысли» (1932, с. 376). Пиаже дает отрицательный ответ на этот вопрос: дети, утверждает он, опираясь на специальные исследования, не понимают вербальную мысль и самый язык друг друга.
Вот это представление, что все обучение логической мысли возникает из чистого понимания вербальной мысли, независимой от действия, и лежит в основе открытого Пиаже факта детского непонимания. Казалось бы, сам Пиаже красноречиво показал в своей книге, что логика действия предшествует логике мышления. Однако мышление все же рассматривается им как совершенно оторванная от действительности деятельность. Но так как основной функцией мышления является познание и отражение действительности, то, естественно, рассматриваемое вне действительности, это мышление становится движением фантомов, парадом мертвенных бредовых фигур, хороводом теней, но не реальным, содержательным мышлением ребенка.
Вот почему в исследовании Пиаже, которое пытается заменить законы причинности законами развития, исчезает самое понятие о развитии. Пиаже не ставит особенности детского мышления в такую связь с логическим мышлением (к нему ребенок приходит позднее), из которой было бы видно, как возникает и развивается логическая мысль из детской мысли. Напротив: Пиаже показывает, как логическая мысль вытесняет особенности детского мышления, как она извне внедряется в психическую субстанцию ребенка и деформируется ею. Не удивительно поэтому, что на вопрос о том, образуют ли все особенности детского мышления бессвязное целое или свою особую логику, Пиаже отвечает: «Очевидно, что истина посредине: ребенок обнаруживает свою оригинальную умственную организацию, но развитие ее подчинено случайным обстоятельствам» (там же, с. 370). Нельзя проще и прямее выразить ту мысль, что оригинальность умственной организации заложена в самом существе ребенка, а не возникает в процессе развития. Развитие же есть не самодвижение, а логика случайных обстоятельств. Там, где нет самодвижения, там нет места и для развития — в глубоком и истинном смысле этого слова: там одно вытесняет другое, но не возникает из этого другого.
Мы могли бы это пояснить простым примером. Пиаже, останавливаясь на особенностях детского мышления, стремится показать его слабость, несостоятельность, иррациональность, его алогичность по сравнению с мышлением взрослого человека.
Возникает тот самый вопрос, который в свое время задавали Л. Леви-Брюлю по поводу его теории примитивного мышления. Ведь если ребенок мыслит исключительно синкретически, если синкретизм пронизывает все детское мышление, то становится непонятным, как возможно реальное приспособление ребенка.
76
Очевидно, во все фактические положения Пиаже нужно внести две существенные поправки. Первая из них состоит в том, что нужно ограничить самую сферу влияния тех особенностей, о которых говорит Пиаже. Нам думается, и собственный наш опыт подтвердил это, что синкретически[24] мыслит ребенок там, где он не способен еще мыслить связно и логично. Когда ребенка спрашивают, почему Солнце не падает, то он, разумеется, дает синкретический ответ. Эти ответы служат важным симптомом для распознавания тех тенденций, которые руководят детской мыслью, когда она движется в сфере, оторванной от опыта. Но если спросить ребенка относительно вещей, доступных его опыту, доступных его практической проверке, а круг этих вещей находится в зависимости от воспитания, то трудно ожидать от ребенка синкретического ответа. На вопрос, например, почему он упал, споткнувшись о камень, даже самый маленький ребенок едва ли стал бы отвечать так, как отвечали дети у Пиаже, когда их спрашивали, почему Луна не падает на Землю.
Таким образом, круг детского синкретизма определяется строго детским опытом, а в зависимости от этого в самом синкретизме нужно найти прообраз, прототип, зародыш будущих причинных связей, о которых мимоходом говорит и сам Пиаже.
Действительно, не следует недооценивать мышления при помощи синкретических схем, ведущих ребенка, несмотря на все перипетии, к постепенному приспособлению. Рано или поздно они подвергнутся строгому отбору и взаимному сокращению, что их заострит, сделает из них прекрасный инструмент исследования в тех областях, где гипотезы полезны.
Наряду с этим ограничением сферы влияния синкретизма мы должны внести и еще одну существенную поправку. Для Пиаже все же основной догмой остается положение, что ребенок непроницаем для опыта. Но здесь же следует чрезвычайно интересное пояснение. Опыт разуверяет примитивного человека, говорит Пиаже, лишь в отдельных, весьма специальных, технических случаях, и в качестве таких редких случаев называет земледелие, охоту, производство, о которых говорит: «Но этот мимолетный, частичный контакт с действительностью нисколько не влияет на общее направление его мысли. И не то же ли бывает у детей?» (там же, с. 373).
Но ведь производство, охота, земледелие составляют не мимолетный контакт с действительностью, но самую основу существования примитивного человека. И в применении к ребенку Пиаже сам со всей ясностью вскрывает корень и источник всех тех особенностей, которые он устанавливает в своем исследовании. «Ребенок, — говорит он, — никогда на самом деле не входит в настоящий контакт с вещами, ибо он не трудится. Он играет с вещами или верит, не исследуя их» (там же). Здесь, дей-
77
ствительно, мы находим центральный пункт теории Пиаже, рассмотрением которого можем заключить, весь очерк
Те закономерности, которые Пиаже установил, те факты, которые он нашел, имеют не всеобщее, но ограниченное значение. Они действительны hinc et nunc, здесь и теперь[25], в данной и определенной социальной среде. Так развивается не мышление ребенка вообще, но мышление того ребенка, которого изучал Пиаже. Что закономерности, найденные Пиаже, суть не вечные законы природы, но исторические и социальные законы — это настолько очевидно, что отмечается и такими критиками Пиаже, как В. Штерн24. По мысли Штерна, Пиаже заходит слишком далеко, когда утверждает, что на протяжении всего раннего детства, до 7 лет, ребенок говорит больше эгоцентрически, чем социально, и что только по ту сторону этой возрастной границы начинает преобладать социальная функция речи. Эта ошибка основана на том, что Пиаже недостаточно принимает во внимание значение социальной ситуации. Говорит ли ребенок более эгоцентрически или социально — зависит не только от его возраста, но и от условий, в которых он находится. Условия семейной жизни, условия воспитания являются здесь определяющими. Его наблюдения относятся к детям, которые играют в детском саду, один подле другого. Эти законы и коэффициенты действительны только для специальной детской среды, которую наблюдал Пиаже, и не могут быть обобщены. Там, где дети заняты исключительно игровой деятельностью, естественно, что монологическое сопровождение игры приобретает очень широкое распространение. М. Мухова в Гамбурге нашла, что своеобразная структура детского сада имеет здесь решающее значение. В Женеве, где дети, как и в садах М. Монтессори25, просто индивидуально играют рядом друг с другом, коэффициент эгоцентрической речи оказывается выше, чем в немецких садах, где существует более тесное социальное общение в группах играющих детей.
Еще своеобразнее поведение ребенка в домашней среде, где уже самый процесс обучения речи насквозь социален (заметим, кстати, что здесь Штерн также устанавливает первичность социальной функции речи, проявляющуюся уже в момент самого усвоения языка). Тут у ребенка возникает столько практических и духовных потребностей, он должен о стольком просить, запрашивать и выслушивать, что стремление к пониманию и к тому, чтобы быть понятым, т. е. к социализированной речи, начинает играть огромную роль уже в очень ранние годы (С. a. W. Stern, 1928, с. 148—149).
В подтверждение этого Штерн отсылает к фактической части своей книги, в которой собран огромный материал, характеризующий речевое развитие ребенка в ранние годы.
78
Нас интересует в данном случае не только фактическая поправка, которую устанавливает Штерн, — дело не в количестве эгоцентрической речи, дело в природе тех закономерностей, которые устанавливает Пиаже. Эти закономерности, как уже сказано, действительны для той социальной среды, которую изучал Пиаже. В Германии при относительно незначительном различии эти закономерности принимают уже другой вид. Как серьезно должны были бы они расходиться, если бы мы обратились к изучению тех явлений и процессов в совершенно другой социальной среде, которая окружает ребенка в нашей стране. Пиаже в предисловии к русскому изданию прямо говорит: «Когда работают так, как вынужден был работать я, внутри одной лишь социальной среды, такой, какова социальная среда детей в Женеве, то точно установить роли индивидуального и социального в мышлении ребенка невозможно. Для того чтобы этого достигнуть, совершенно необходимо изучать детей в самой различной и возможно более разнообразной социальной среде» (1932, с. 56).
Вот почему Пиаже отмечает как положительный факт сотрудничество с советскими психологами, которые изучают детей в социальной среде, весьма отличной от той, которую изучает он сам. «Ничего, — отмечает он, — не может быть полезнее для науки, чем это сближение русских психологов с работами, сделанными в других странах» (там же).
Мы тоже полагаем, что исследование развития мышления ребенка в совершенно иной социальной среде, в частности ребенка, который, в отличие от детей Пиаже, трудится, приводит к установлению чрезвычайно важных закономерностей. Они позволят устанавливать не только законы, имеющие значение здесь и теперь, но и позволят обобщать. Но для этого детской психологии необходимо коренным образом изменить свое основное методологическое направление.
Как известно, у Гёте в заключении «Фауста» хор воспел вечно женственное, которое тянет нас ввысь. В последнее время детская психология устами Г. Фолькельта воспела «примитивные целостности, выделяющие нормальную психическую жизнь ребенка среди других человеческих типов и составляющие самую сущность и ценность вечно детского» (1930, с. 138). Фолькельт выразил здесь не только свою индивидуальную мысль, но основное устремление всей современной детской психологии, проникнутой желанием раскрыть вечно детское. Но задача психологии как раз заключается в том, чтобы раскрыть не вечно детское, но исторически детское, или, пользуясь поэтическим словом Гёте, преходяще детское. Камень, который презрели строители, должен стать во главу угла.
79
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ РЕЧИ В УЧЕНИИ В. ШТЕРНА
То, что осталось наиболее неизменным в системе В. Штерна и даже укрепилось и упрочилось, получив дальнейшее развитие, — это чисто интеллектуалистическое воззрение на детскую речь и ее развитие. И нигде ограниченность, внутренняя противоречивость и научная несостоятельность философского и психологического персонализма Штерна, его идеалистическая сущность не выступают с такой самоочевидностью, как именно в этом пункте.
В. Штерн сам называет свою руководящую точку зрения персоналистически-генетической. Мы далее напомним читателю основную идею персонализма26. Выясним сначала, как осуществляется генетическая точка зрения в этой теории, которая, скажем заранее, как всякая интеллектуалистическая теория, но самому своему существу антигенетична.
Штерн различает три корня (Wurzeln) речи: экспрессивную тенденцию, социальную тенденцию к сообщению и «интенциональную». Оба первых корня не составляют отличительного признака человеческой речи, они присущи и зачаткам «речи» у животных. Но третий момент полностью отсутствует в «речи» животных и является специфическим признаком человеческой речи. Интенцию Штерн определяет как направленность на известный смысл. «Человек, — говорил он, — на известной стадии своего духовного развития приобретает способность, произнося звуки, «иметь нечто в виду» («etwas zu meinen»), обозначать «нечто объективное» (С. a. W. Stern, 1928, с. 126), будь то какая-нибудь называемая вещь, содержание, факт, проблема и т. п. Эти интенциональные акты являются в сущности актами мышления (Denkleistungen), и появление интенции поэтому означает интеллектуализацию и объективирование речи. Поэтому-то новые представители психологии мышления, как К. Бюлер27 и особенно Реймут, опирающийся на Э. Гуссерля28, подчеркивают значение логического фактора в детской речи. Правда, Штерн полагает, что они заходят слишком далеко в логизировании детской речи, но сама по себе эта идея находит в нем своего сторонника. Он в полном согласии с этой идеей точно указывает тот пункт в речевом развитии, где «прорывается этот интенциональный момент и сообщает речи ее специфически человеческий характер» (там же, с. 127).
Казалось бы, что можно возразить против того, что человеческая речь в ее развитом виде осмысленна и обладает объек-
80
тивным значением, что поэтому она непременно предполагает известную ступень в развитии мышления как свою необходимую предпосылку, что, наконец, необходимо иметь в виду связь, существующую между речью и логическим мышлением. Но В. Штерн подставляет на место генетического объяснения интеллектуалистическое, когда в этих признаках развитой человеческой речи, нуждающихся в генетическом объяснении (как они возникли в процессе развития), он видит корень и движущую силу речевого развития, первичную тенденцию, почти влечение, во всяком случае нечто изначальное, что можно по генетической функции поставить в один ряд с экспрессивной и коммуникативной тенденциями, стоящими действительно в начале развития речи, и что, наконец, сам Штерн называет die «intentionale» Triebfeler des Sprachdranges (там же, с. 126).
В том и заключается основная ошибка всякой интеллектуалистической теории, и этой в частности, что она при объяснении пытается исходить из того, что в сущности и подлежит объяснению. В этом ее антигенетичность (признаки, отличающие высшие формы развития речи, относятся к ее началу); в этом ее внутренняя несостоятельность, пустота и бессодержательность, ибо она ничего не объясняет и описывает порочный логический круг, когда на вопрос, из каких корней и какими путями возникает осмысленность человеческой речи, отвечает: из интенциональной тенденции, т. е. из тенденции к осмысленности. Такое объяснение всегда будет напоминать классическое объяснение мольеровского врача, который усыпительное действие опия объясняет его усыпительной способностью. Штерн прямо и говорит: «На определенной стадии своего духовного созревания человек приобретает способность (Fähigkeit), произнося звуки, иметь нечто в виду, обозначать нечто объективное» (там же). Чем же это не объяснение мольеровского врача — разве что переход от латинской терминологии к немецкой делает еще более заметным чисто словесный характер подобных объяснений, голую подстановку одних слов вместо других, когда в объяснении другими словами выражено то же самое, что нуждалось в объяснении?
К чему приводит подобное логизирование детской речи, легко видеть из генетического описания этого же момента, описания, которое сделалось классическим и вошло во все курсы детской психологии. Ребенок в эту пору (примерно между 1,6 и 2,0)* делает одно из величайших открытий всей своей жизни — он открывает, что «каждому предмету соответствует постоянно символизирующий его, служащий для обозначения и сообщения звуко-
81
вой комплекс, т. е. всякая вещь имеет свое имя» (там же, с. 190). Штерн приписывает, таким образом, ребенку на втором году жизни «пробуждение сознания символов и потребности в них» (там же). Как совершенно последовательно развивает ту же идею Штерн в другой своей книге, это открытие символической функции слов является уже мыслительной деятельностью ребенка в собственном смысле слова. Понимание отношения между знаком и значением, утверждает Штерн, которое проявляется здесь у ребенка, есть нечто принципиально иное, чем простое пользование звуковыми образами, представлениями предметов и их ассоциациями. А требование, чтобы каждому предмету какого бы то ни было рода принадлежало свое имя, можно считать действительным, — быть может, первым — общим понятием ребенка.
Итак, если мы примем это вслед за Штерном, нам придется вместе с ним допустить у ребенка в полтора-два года понимание отношения между знаком и значением, осознание символической функции речи, «сознание значения языка и волю завоевать его» (С. a. W. Stern, 1928, с. 150), наконец, «сознание общего правила, наличие общей мысли», т. е. общего понятия, как Штерн прежде называл эту «общую мысль». Есть ли фактические и теоретические основания для .подобного допущения? Нам думается, что все двадцатилетнее развитие этой проблемы приводит нас с неизбежностью к отрицательному ответу на этот вопрос.
Все, что мы знаем об умственном облике ребенка полутора-двух лет, чрезвычайно плохо вяжется с допущением у него в высшей степени сложной интеллектуальной операции — «сознания значения языка». Более того, многие экспериментальные исследования и наблюдения прямо указывают на то, что схватывание отношения между, знаком и значением, функциональное употребление знака появляются у ребенка значительно позже и оказываются совершенно недоступными ребенку этого возраста. Развитие употребления знака и переход к знаковым операциям (сигнификативным функциям) никогда, как показали систематические экспериментальные исследования, не являются простым результатом однократного открытия или изобретения ребенка, никогда не совершаются сразу, в один прием; ребенок не открывает значения речи сразу на всю жизнь; как полагает Штерн, выискивая доказательства в пользу того, что ребенок только «один раз на одном роде слов открывает принципиальную сущность символа» (там же, с. 1U4J7 Напротив; оно является сложнейшим генетическим процессом, имеющим свою «естественную историю знаков», т. е. естественные корни и переходные формы в более примитивных .пластах поведения (например, так называемое иллюзорное значение предметов в игре, еще раньше — указательный жест и т. д.), и свою «культурную историю знаков»,
82
распадающуюся на ряд собственных фаз и этапов, обладающую своими количественными и качественными и функциональными изменениями, ростом и метаморфозой, своей динамикой, своими закономерностями.
Весь этот сложнейший путь, приводящий к действительному вызреванию сигнификативной функции, по сути дела игнорируется Штерном, и самое представление о процессе развития речи бесконечно упрощается. Но такова судьба всякой интеллектуалистической теории, которая на место учета реального генетического пути во всей его сложности подставляет логизированное объяснение. На вопрос о том, как развивается осмысленность детской речи, подобная теория отвечает: ребенок открывает, что речь имеет смысл. Такое объяснение вполне достойно, а по своей природе и должно стать рядом с подобными же знаменитыми интеллектуалистическими теориями изобретения языка, рационалистической теорией общественного договора и т. д. Самая большая беда заключается в том, что такое объяснение, как мы уже говорили выше, в сущности ничего не объясняет.
Но и чисто фактически эта теория оказывается мало состоятельной. Наблюдения А. Валлона29, К. Коффки30, Ж. Пиаже, К. Делакруа31 и многих других над нормальным ребенком и специальные наблюдения К. Бюлера над глухонемыми детьми (на которые ссылается В. Штерн) показали: 1) связь между словом и вещью, «открываемая» ребенком, не является той символической функциональной связью, которая отличает высокоразвитое речевое мышление и которую путем логического анализа Штерн выделил и отнес на генетически самую раннюю ступень; слово долгое время является для ребенка скорее атрибутом (Валлон), свойством (Коффка) вещи наряду с ее другими свойствами, чем символом или знаком; ребенок в эту пору овладевает скорее чисто внешней структурой вещь—слово, чем внутренним отношением знак—значение, и 2) такого «открытия», секунду которого можно было бы с точностью отметить, не происходит, а происходит, напротив, ряд «молекулярных» изменений, длительных и сложных, приводящих к этому переломному в развитии речи моменту.
Следует оговориться, что фактическая сторона наблюдения Штерна в общем даже в этом пункте нашла бесспорное подтверждение в течение 20 лет, протекших со времени первого опубликования. Переломный и решающий для всего речевого, культурного и умственного развития ребенка момент, несомненно, открыт Штерном верно, но объяснен интеллектуалистически, т. е. ложно. Штерн указал два объективных симптома, которые позволяют судить о наличии этого переломного момента и значение которых в развитии речи трудно преувеличить: 1) возникающие тотчас же по наступлении этого момента так называемые вопро-
83
сы о названиях и 2) резкое скачкообразное увеличение словаря ребенка.
Активное расширение словаря, проявляющееся в том, что ребенок сам ищет слово, спрашивает о недостающих ему названиях предметов, действительно не имеет себе аналогии в развитии «речи» у животных и указывает на совершенно новую, принципиально отличную от прежней фазу в развитии ребенка: от сигнальной функции речи ребенок переходит к сигнификативной, от пользования звуковыми сигналами — к созданию и активному употреблению звуков. Правда, некоторые исследователи (Валлон, Делакруа и др.) склонны отрицать всеобщее значение этого симптома, пытаясь по-иному истолковать его, с одной стороны, а с другой — стереть резкую грань этого периода вопросов о названиях от второго «возраста вопросов».
Но два положения остаются непоколебленными: 1) в эту именно пору «грандиозная сигналистика речи» (по выражению И. П. Павлова)32 выделяется для ребенка из всей остальной массы сигнальных стимулов, приобретая совершенно особую функцию в поведении — функцию знака; 2) об этом непререкаемо свидетельствуют совершенно объективные симптомы. В установлении того и другого — огромная заслуга Штерна.
Но тем разительнее зияет дыра в объяснении этих фактов. Стоит только сравнить это объяснение, сводящееся к признанию «интенциональной тенденции» изначальным корнем речи, некоей способностью, с тем, что нам известно о двух других корнях речи, для того чтобы окончательно убедиться в интеллектуалистической природе этого объяснения. В самом деле, когда мы говорим об экспрессивной тенденции, речь идет о совершенно ясной, генетически очень древней системе выразительных движений, корнями уходящей в инстинкты и безусловные рефлексы, системе, длительно изменявшейся, перестраивавшейся и усложнявшейся в процессе развития; тот же генетический характер носит и второй корень речи — коммуникативная функция, развитие которой прослежено от самых низших общественных животных до человекоподобных обезьян и человека.
Корни, пути и обусловливающие факторы развития той или другой функции ясны и известны; за этими названиями стоит реальный процесс развития. Не то с интенциональной тенденцией. Она появляется из ничего, не имеет истории, ничем не обусловлена, она, по Штерну, изначальна, первична, возникает «раз навсегда», сама собой. Ребенок в силу этой тенденции открывает путем чисто логической операции значение языка.
Конечно, Штерн нигде так не говорит прямо. Напротив, он сам упрекает, как мы уже говорили, Реймута в излишнем логизировании; тот же упрек делает он В. К. Аменту33, полагая, что его работа была завершением интеллектуалистической эпохи в ис-
84
следовании детской речи (1928, с. 5). Но сам Штерн в борьбе с антиинтеллектуалистическими теориями речи (В. Вундт34, Э. Мейман35, Г. Идельбергер36 и др.), сводящими начатки детской речи к аффективно-волевым процессам и отрицающими всякое участие интеллектуального фактора в возникновении детской речи, фактически становится на ту же, чисто логическую, антигенетическую точку зрения, на которой стоят Амент, Реймут и другие; он полагает, что он является более умеренным выразителем этой точки зрения, но на деле идет гораздо дальше Амента по этому же пути: если у Амента его интеллектуализм носил чисто эмпирический, позитивный характер, то у Штерна он явно перерастает в метафизическую и идеалистическую концепцию; Амент просто наивно преувеличивал по аналогии со взрослым способность ребенка логически мыслить; Штерн не повторяет этой ошибки, но делает более горькую — возводит к изначальности интеллектуальный момент, принимает мышление за первичное, за корень, за первопричину осмысленной речи.
Может показаться парадоксом, что наиболее несостоятельным и бессильным интеллектуализм оказывается как раз в учении… о мышлении. Казалось бы, здесь-то и есть его законная сфера приложения, но, по правильному замечанию В. Келера37, интеллектуализм оказывается несостоятельным именно в учении об интеллекте, и Келер доказал это своими исследованиями совершенно убедительно. Прекрасное доказательство этого же мы находим в книге Штерна. Самая слабая и внутренне противоречивая ее сторона — это проблема мышления и речи в их взаимоотношениях. Казалось бы, что при подобном сведении центральной проблемы речи — ее осмысленности — к интенциональной тенденции и к интеллектуальной операции эта сторона вопроса — связь и взаимодействие речи и мышления — должна получить самое полное освещение.
На деле же именно подобный подход к вопросу, предполагающий заранее уже сформировавшийся интеллект, не позволяет выяснить сложнейшего диалектического взаимодействия[26] интеллекта и речи.
Больше того, такие проблемы, как проблема внутренней речи, ее возникновения и связи с мышлением и др., почти вовсе отсутствуют в этой книге, долженствующей стать, по мысли автора, на высоту современной науки о ребенке. Автор излагает результаты исследований эгоцентрической речи, проведенных Пиаже, но трактует эти результаты исключительно с точки зрения детского разговора, не касаясь ни функций, ни структуры, ни генетического значения этой формы речи (там же, с. 146—149), которая — по высказанному нами предположению — может рассматриваться как переходная генетическая форма, составляющая переход от внешней к внутренней речи.
85
Вообще автор нигде не прослеживает сложных функциональных и структурных изменений мышления в связи с развитием речи. Нигде это обстоятельство не видно с такой отчетливостью, как на переводе первых слов ребенка на язык взрослых. Вопрос этот вообще является пробным камнем для всякой теории детской речи; поэтому-то эта проблема является сейчас фокусом, в котором скрестились все основные направления в современном учении о развитии детской речи, и можно без преувеличения сказать, что перевод первых слов ребенка совершенно перестраивает все учение о детской речи.
В. Штерн не видит возможности истолковать первые слова ребенка ни чисто интеллектуалистически, ни чисто аффективно-волютивно. Как известно, Мейман (в этом видит Штерн — и вполне обоснованно — его огромную заслугу), в противовес интеллектуалистическому толкованию первых слов ребенка как обозначений предметов, утверждает, что «вначале активная речь ребенка не вызывает и не обозначает никакого предмета и никакого процесса из окружающего, значение этих слов исключительно эмоционального и волевого характера» (Е. Meuman[27], 1928, с. 182). С совершенной бесспорностью Штерн, в противоположность Мейману, показывает, анализируя первые детские слова, что в них часто «перевешивает указание на объект» по сравнению с «умеренным эмоциональным тоном» (С. a. W. Stern, 1928, с, 183). Это последнее чрезвычайно важно отметить. Итак, указание на объект (Hindenten auf das Objekt), как неопровержимо показывают факты и как признает сам Штерн, появляется в самых ранних «предстадиях» (Ein primitivieren Entwicklungsstadien) детской речи до всякого появления интенции, открытия и т. п. Казалось бы, одно это обстоятельство достаточно убедительно говорит против допущения изначальности интенциональной тенденции.
Об этом же говорит, казалось бы, и целый ряд других фактов, излагаемых самим же Штерном: например, опосредующая роль жестов, в частности указательного жеста, при установлении значения первых слов (там же, с. 166); опыты Штерна, показавшие прямую связь между перевесом объективного значения первых слов над аффективным, с одной стороны, и указательной функцией первых слов («указание на нечто объективное»), с другой (там же, с. 166 и ел.); аналогичные наблюдения других авторов и самого Штерна и т. д. и т. д.
Но Штерн отклоняет этот генетический, следовательно, единственно возможный с научной точки зрения путь объяснения того, как возникает в процессе развития интенция, осмысленность речи, как «направленность на известный смысл» возникает из направленности указательного знака (жеста, первого слова) на какой-нибудь предмет, в конечном счете, следовательно, из аф-
86
фективной направленности на объект. Он, как уже сказано, предпочитает упрощенный короткий путь интеллектуалистического объяснения (осмысленность возникает из тенденции к осмысленности) длинному сложному диалектическому пути генетического объяснения.
Вот как переводит Штерн первые слова детской речи. «Детское мама, — говорит он, — в переводе на развитую речь означает не слово «мать», но предложение: «мама, иди сюда», «мама, дай», «мама, посади меня на стул», «мама, помоги мне» и т. д. (там же, с. 180). Если снова обратиться к фактам, легко заметить, что в сущности не само по себе слово мама должно быть переведено на язык взрослых, например «мама, посади меня на стул», а все поведение ребенка в данный момент (он тянется к стулу, пытается схватиться за него ручками и т. п.). В подобной ситуации «аффективно-волютивная» направленность на предмет (если говорить языком Меймана) еще абсолютно неотделима от «интенциональной направленности» речи на известный смысл: то и другое еще слито в нерасчлененном единстве, и единственно правильный перевод детского мама и вообще первых детских слов — это указательный жест, эквивалентом, условным заместителем которого они вначале являются.
Мы умышленно остановились на этом центральном для всей методологической и теоретической системы Штерна пункте и лишь для иллюстрации привели некоторые моменты из конкретных объяснений Штерном отдельных этапов речевого развития ребенка. Здесь мы не можем затронуть сколько-нибудь полно и подробно всего богатейшего содержания его книги или хотя бы ее главнейших вопросов. Скажем только, что тот же интеллектуалистический характер, тот же антигенетический уклон всех объяснений обнаруживает и трактовка остальных важнейших проблем: проблемы развития понятия, основных стадий в развитии речи и мышления и т. д. Указав на эту черту, мы тем самым указали на основной нерв всей психологической теории Штерна, больше того — всей его психологической системы.
В заключение мы хотели бы показать, что эта черта не случайна, что она неизбежно вытекает из философских предпосылок персонализма, т. е. всей методологической системы Штерна, и всецело обусловлена ими.
В. Штерн пытается в учении о детской речи — как и вообще в теории детского развития — подняться над крайностями эмпиризма и нативизма. Он противопоставляет свою точку зрения о развитии речи, с одной стороны, В. Вундту, для которого детская речь есть продукт «окружающей ребенка среды, по отношению к которой сам ребенок, по существу, участвует лишь пассивно», а с другой — Аменту, для которого вся первичная детская речь (ономатопоэтика и так называемая Ammensprache) есть
87
изобретение бесчисленного количества детей за тысячи лет. Штерн пытается учесть и роль подражания, и спонтанную деятельность ребенка в развитии речи. «Мы должны здесь применить, — говорит он, — понятие конвергенции: лишь в постоянном взаимодействии внутренних задатков, в которых заложено влечение к речи, и внешних условий в виде речи окружающих ребенка людей, которая дает этим задаткам точку приложения и материал для их реализации, совершается завоевание речи ребенком» (там же, с. 129).
Конвергенция не является для Штерна только способом объяснения развития речи — это общий принцип для каузального объяснения человеческого поведения. Здесь этот общий принцип применен к частному случаю усвоения речи ребенком. Вот еще один пример того, что, говоря словами Гёте, «в словах науки скрыта суть». Звучное слово «конвергенция», выражающее на этот раз совершенно бесспорный методологический принцип (именно требование изучать развитие как процесс), обусловленный взаимодействием организма и среды, на деле освобождает автора от анализа социальных, средовых факторов в развитии речи. Правда, Штерн заявляет решительно, что социальная среда является главным фактором речевого развития ребенка (там же, с. 291), но на деле ограничивает роль этого фактора чиста количественным влиянием на запаздывание или ускорение процессов развития, которые в своем течении подчиняются внутренней, имманентной закономерности. Это приводит автора к колоссальной переоценке внутренних факторов, как мы старались показать на примере объяснения осмысленности речи. Эта переоценка вытекает из основной идеи Штерна.
Основная идея Штерна — идея персонализма: личность — как психофизически нейтральное единство. «Мы рассматриваем детскую речь, — говорит он, — прежде всего как процесс, коренящийся в целостности личности» (там же, с. 121), Под личностью же Штерн разумеет «такое реально существующее, которое, несмотря на множество частей, образует реальное, своеобразное и самоценное единство и как таковое, несмотря на множество частичных функций, обнаруживает единую целестремительную самодеятельность» (W. Stern, 1905, с. 16).
Совершенно понятно, что подобная по существу метафизически-идеалистическая концепция («монадология») личности не может не привести автора к персоналистической теории речи, т. е. теории, выводящей речь, ее истоки и ее функции, из «целостности целестремительно развивающейся личности». Отсюда — интеллектуализм и антигенетичность. Нигде этот метафизический подход к личности — монаде — не сказывается так отчетливо, как при подходе к проблемам развития; нигде этот крайний персонализм, не знающий социальной природы личности, не при-
88
водит к таким абсурдам, как в учении о речи — этом социальном механизме поведения. Метафизическая концепция личности, выводящая все процессы развития из ее самоценной целестремительности, ставит на голову реальное генетическое отношение личности и речи: вместо истории развития самой личности, в которой не последнюю роль играет речь, создается метафизика личности, которая порождает из себя, из своей целестремительности — речь.
Глава четвертая
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОРНИ МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ
1
Основной факт, с которым мы сталкиваемся при генетическом рассмотрении мышления и речи, состоит в том, что отношение между этими процессами не постоянная, неизменная на всем протяжении развитая величина, а величина переменная. Отношение между мышлением и речью изменяется в процессе развития и в своем количественном и в качественном значении. Иначе говоря, развитие речи и мышления совершается непараллельно и неравномерно. Кривые их развития многократно сходятся и расходятся, пересекаются, выравниваются в отдельные периоды и идут параллельно, даже сливаются в отдельных своих частях, затем снова разветвляются.
Это верно как в отношении филогенеза, так и онтогенеза. Дальше мы попытаемся установить, что в процессах разложения, инволюции и патологического изменения отношение между мышлением и речью не является постоянным для всех случаев нарушения, задержки, обратного развития, патологического изменения интеллекта или речи, но принимает всякий раз специфическую форму, характерную именно для данного типа патологического процесса, для данной картины нарушений и задержек.
Возвращаясь к развитию, следует сказать прежде всего, что мышление и речь имеют генетически совершенно различные корни. Этот факт можно считать прочно установленным целым рядом исследований в области психологии животных. Развитие той и другой функции не только имеет различные корни, но идет на протяжении всего животного царства по различным линиям.
Решающее значение для установления этого первостепенной важности факта имеют новейшие исследования интеллекта и
89
речи человекоподобных обезьян, в особенности исследования В. Келера (W. Köhler[28], 1921а) и Р. Йеркса 38 (R. Yerkes a. E. Learned, 1925).
В опытах Келера мы имеем совершенно ясное доказательство того, что зачатки интеллекта, т. е. мышления в собственном смысле слова, появляются у животных независимо от развития речи и вовсе не в связи с ее успехами. «Изобретения» обезьян, выражающиеся в изготовлении и употреблении орудий и в применении обходных путей при разрешении задач, составляют, совершенно несомненно, первичную фазу в развитии мышления, но фазу доречевую.
Основным выводом из всех своих исследований сам Келер считает установление того факта, что шимпанзе обнаруживает зачатки интеллектуального поведения того же типа и рода, что и человек (W. Köhler, 1921а, с. 191). Отсутствие речи и ограниченность следовых стимулов, так называемых представлений, являются основными причинами того, что между антропоидом и самым наипримитивнейшим человеком существует величайшее различие. Келер говорит: «Отсутствие этого бесконечно ценного технического вспомогательного средства (языка) и принципиальная ограниченность важнейшего интеллектуального материала, так называемых представлений, являются поэтому причинами того, что для шимпанзе невозможны даже малейшие начатки культурного развития» (там же, с. 192).
Наличие человекоподобного интеллекта при отсутствии сколько-нибудь человекоподобной в этом отношении речи и независимость интеллектуальных операций от «речи» антропоида — так можно было бы сжато сформулировать основной вывод в отношении интересующей нас проблемы из исследований Келлера.
Как известно, исследования Келера вызвали много критических возражений; литература этого вопроса уже сейчас чрезвычайно разрослась как по количеству критических работ, так и по разнообразию тех теоретических воззрений и принципиальных точек зрения, которые представлены в них. Между психологами различных направлений и школ нет единодушия по вопросу о том, какое теоретическое объяснение следует дать сообщенным Келером фактам.
Сам Келер ограничивает свою задачу. Он не развивает никакой теории интеллектуального поведения (там же, с. 134), ограничиваясь анализом фактических наблюдений и касаясь теоретических объяснений лишь постольку, поскольку это вызывается необходимостью показать специфическое своеобразие интеллектуальных реакций по сравнению с реакциями, возникающими путем случайных проб и ошибок, отбора удачных случаев и механического объединения отдельных движений.
90
Отвергая теорию случайности при объяснении происхождения интеллектуальных реакций шимпанзе, Келер ограничивается этой чисто отрицательной теоретической позицией. Столь же решительно, но опять чисто негативным образом Келер отмежевывается от идеалистических биологических концепций Э. Гартмана с его учением о бессознательном, А. Бергсона39 с его концепцией «жизненного порыва» (elan vital), неовиталистов и психовиталистов с их признанием «целестремительных сил» в живой материи. Все эти теории, открыто или скрыто прибегающие для объяснения к сверхчувственным агентам или к прямому чуду, лежат для него по ту сторону научного знания (там же, с. 152—153). «Я должен подчеркнуть со всей настойчивостью, — говорит он, — что вовсе не существует альтернативы: случайность или сверхчувственные агенты» (Agenten jenseits der Erfahrung) (там же, с. 153).
Таким образом, ни в среде психологов различных направлений, ни даже у самого автора мы не находим сколько-нибудь законченной и научно убедительной теории интеллекта. Напротив, и последовательные сторонники биологической психологии (Э. Торндайк40, В. А. Вагнер41, В. М. Боровский 42), и психологи-субъективисты (К. Бюлер, П. Линдворский, Э. Иенш) каждый со своей точки зрения оспаривают основное положение Келера о несводимости интеллекта шимпанзе к хорошо изученному методу проб и ошибок, с одной стороны, и о родственности интеллекта шимпанзе и человека, о человекоподобности мышления антропоидов, с другой.
Тем примечательнее то обстоятельство, что как психологи, не усматривающие в действиях шимпанзе ничего сверх того, что заключено уже в механизме инстинкта и механизме «проб и ошибок», «ничего, кроме знакомого нам процесса образования навыков» (В. М. Боровский, 1927, с. 179), так и психологи, боящиеся низвести корни интеллекта до степени хотя бы и высшего поведения обезьяны, одинаково признают, во-первых, фактическую сторону наблюдений Келера и, во-вторых, то, что для нас особенно важно, — независимость действий шимпанзе от речи.
Так, Бюлер со всей справедливостью говорит: «Действия шимпанзе совершенно независимы от речи, и в позднейшей жизни человека техническое, инструментальное мышление (Werkzeugdenken) гораздо менее связано с речью и понятиями, чем другие формы мышления» (1930, с. 48). Дальше мы должны будем еще возвратиться к этому указанию Бюлера. Действительно все, чем мы располагаем по этому вопросу из области экспериментальных исследований и клинических наблюдений, говорит за то, что в мышлении взрослого человека отношение интеллекта и речи не является постоянным и одинаковым для всех функций, для всех форм интеллектуальной и речевой деятельности.
91
В. М. Боровский, оспаривая мнение Л. Гобхауза43, приписывающего животным «практическое суждение», мнение Р. Йеркса, находящего у высших обезьян процессы «идеации», также задается вопросом: «Имеется ли у животных что-нибудь подобное речевым навыкам человека?.. Мне кажется, — отвечает он на этот вопрос, — всего правильнее будет сказать, что при современном уровне наших знаний нет достаточного повода приписывать речевые навыки ни обезьянам, ни каким-либо другим животным, кроме человека» (1927, с. 189).
Но дело решалось бы чрезвычайно просто, если бы у обезьян мы действительно не находили никаких зачатков речи, ничего, что находилось бы с ней в генетическом родстве. На самом же деле мы находим у шимпанзе, как показывают новые исследования, относительно высоко развитую «речь», в некоторых отношениях (раньше всего в фонетическом) и до некоторой степени человекоподобную. И самым замечательным является то, что речь шимпанзе и его интеллект функционируют независимо друг от друга.
Келер пишет о «речи» шимпанзе, которых он наблюдал в течение многих лет на антропоидной станции на о. Тенерифе: «Их фонетические проявления без всякого исключения выражают только их стремления и субъективные состояния; следовательно, это — эмоциональные выражения, но никогда не знак чего-то «объективного» (W. Köhler, 1921а, с. 27).
Однако в фонетике шимпанзе мы находим такое большое количество звуковых элементов, сходных с человеческой фонетикой, что можно с уверенностью предположить, что отсутствие «человекоподобного» языка у шимпанзе объясняется не периферическими причинами. Совершенно основательно К. Делакруа, считающий абсолютно правильным вывод Келера о языке шимпанзе, указывает на то, что жесты и мимика обезьян — уж, конечно, не по причинам периферическим — не обнаруживают ни малейшего следа того, чтобы они выражали (вернее, означали) нечто объективное, т. е. выполняли функцию знака (К. Delacroix, 1924, с. 77).
Шимпанзе в высшей степени общественное животное, его поведение можно по-настоящему понять только тогда, когда он находится вместе с другими животными. Келер описал чрезвычайно разнообразные формы «речевого общения» между шимпанзе. На первом месте должны быть поставлены эмоционально-выразительные движения, очень яркие и богатые у шимпанзе (мимика и жесты, звуковые реакции). Далее идут выразительные движения социальных эмоций (жесты при приветствии и т. п.). Но и жесты их, говорит Келер, как и их экспрессивные звуки, никогда не обозначают и не описывают чего-либо объективного.
92
Животные прекрасно понимают мимику и жесты друг друга. При помощи жестов они выражают не только свои эмоциональные состояния, говорит Келер, но и желания и побуждения, направленные на других обезьян или на другие предметы. Самый распространенный способ в таких случаях состоит в том, что шимпанзе начинает то движение или действие, которое он хочет произвести или к которому хочет побудить другое животное (подталкивание другого животного и начальные движения ходьбы, когда шимпанзе зовет его идти с собой; хватательные движения, когда обезьяна хочет у другого получить бананы, и т. д.). Все это жесты, непосредственно связанные с самим действием.
В общем эти наблюдения вполне подтверждают мысль В. Вундта, что указательные жесты, составляющие самую примитивную ступень в развитии человеческого языка, не встречаются еще у животных, у обезьян же этот жест находится на переходной ступени между хватательным и указательным движениями. Во всяком случае мы склонны видеть в этом переходном жесте весьма важный в генетическом отношении шаг от чисто эмоциональной речи к объективной.
В. Келер в другом месте указывает, как при помощи подобных
жестов устанавливается в опыте примитивное объяснение, заменяющее словесную
инструкцию. Этот жест стоит ближе к человеческой речи, чем прямое выполнение
обезьянами словесных приказаний испанских сторожей, которое, в сущности, ничем
не отличается от того же выполнения у собаки (c
Шимпанзе, которых наблюдал Келер, играя, «рисовали» цветной глиной, пользуясь сперва губами и языком, как кистью, а после и настоящей кистью (W. Köhler, 1921a, с. 70), но никогда эти животные, которые всегда, как правило, переносили в игру приемы поведения (употребление орудий), выработанные ими в серьезных ситуациях (в экспериментах), и обратно, игровые приемы — в жизнь, — никогда они не обнаружили ни малейшего следа создания знака при рисовании. «Насколько мы знаем, — говорит Бюлер, — совершенно невероятно, чтобы шимпанзе когда-либо видели графический знак в пятне» (1930, с. 320).
Это же обстоятельство, как говорит автор в другом месте, имеет общее значение для правильной оценки «человекоподобности» поведения шимпанзе. «Есть факты, предостерегающие от переоценки действий шимпанзе. Известно, что еще никогда ни один путешественник не принял горилл или шимпанзе за людей, что у них никто не находил традиционных орудий или методов, различных у разных народов и указывающих на передачу от поколения к поколению раз сделанных открытий. Никаких царапин на песчанике и глине, которые можно было бы принять за изображающий что-то рисунок или даже в игре нацарапанный
93
орнамент. Никакого изображающего языка, т. е. звуков, равноценных названиям. Все это вместе должно иметь свои внутренние основания» (там же, с. 42—43).
Р. Йеркс, кажется, единственный из новых исследователей человекоподобных
обезьян, который видит причину отсутствия человекоподобного языка у шимпанзе не
во «внутренних основаниях». Его исследования интеллекта оранга привели его в
общем к результатам, очень сходным с данными Келера. В толковании этих
результатов он, однако, пошел гораздо дальше Келера. Он принимает, что у оранга
можно констатировать «высшую идеацию[29]», правда, не
превосходящую мышления трехлетнего ребенка (R. Yerkes, 1916, с. 132).
Но критический анализ теории Йеркса легко вскрывает основной порок его мысли: нет никаких объективных доказательств того, что орангутанг решает стоящие перед ним задачи при помощи процессов «высшей идеации», т. е. представлений или следовых стимулов. В конечном счете аналогия, основанная на внешнем сходстве поведения оранга и человека, имеет для Йеркса решающее значение при определении «идеации» в поведении.
Но это, очевидно, недостаточно убедительная научная операция. Мы не хотим сказать, что она не может быть вообще применена при исследовании поведения животного высшего типа; Келер прекрасно показал, как можно в границах научной объективности пользоваться ею, и мы будем иметь случай в дальнейшем вернуться к этому. Но основывать на подобной аналогии весь вывод нет никаких научных данных.
Напротив, Келер с точностью экспериментального анализа показал, что именно влияние наличной оптически-актуальной ситуации является определяющим для поведения шимпанзе. Достаточно было (особенно в начале опытов) отнести палку, которую шимпанзе применяли в качестве орудия для доставания плода, лежащего за решеткой, чуть дальше, так, чтобы палка (орудие) и плод (цель) лежали не в одном оптическом поле, и решение задачи сильно затруднялось, а часто становилось вовсе невозможным.
Достаточно было двум палкам (которые шимпанзе вдвигал одну в отверстие другой, для того чтобы с помощью этого удлиненного орудия достать отдаленную цель) занять крестообразное положение в руках шимпанзе, наподобие X, и знакомая уже и много раз примененная операция удлинения орудия становилась невозможной для животного.
Можно было бы привести еще десятки экспериментальных данных, говорящих в пользу того же самого, но достаточно вспомнить: 1) что наличие оптически-актуальной и примитивной ситуации Келер считает общим, основным и непременным методическим условием всяких исследований интеллекта шимпанзе,
94
условием, без которого интеллект шимпанзе вообще невозможно заставить функционировать, и 2) что именно принципиальная ограниченность представлений («идеации») является, по выводам Келера, основной и общей чертой, характеризующей интеллектуальное поведение шимпанзе; достаточно вспомнить эти два положения, для того чтобы считать вывод Йеркса более чем сомнительным.
Добавим: оба эти положения являются не общими соображениями или убеждениями, неизвестно как сложившимися, а единственным логическим выводом из всех экспериментов, проделанных Келером.
В связи с допущением «идеационного поведения» у человекоподобных обезьян стоят и новейшие исследования Йеркса над интеллектом и языком шимпанзе. В отношении интеллекта новые результаты скорее подтверждают то, что установлено прежними исследованиями самого автора и других психологов, чем расширяют, углубляют или, более точно, отграничивают эти данные. Но в отношении исследования речи эти эксперименты и наблюдения дают и новый фактический материал, и новую чрезвычайно смелую попытку объяснить отсутствие человекоподобной речи у шимпанзе.
«Голосовые реакции, — говорит Йеркс, — весьма часты и разнообразны у молодых шимпанзе, но речь в человеческом смысле, слова отсутствует» (R. Yerkes a. E. Learned, 1925, с. 53). Их голосовой аппарат развит и функционирует не хуже человеческого, но у них отсутствует тенденция имитировать звуки. Их подражание ограничено почти исключительно областью зрительных стимулов; они подражают действиям, но не звукам. Они не способны сделать то, что с таким успехом делает попугай. «Если бы имитационная тенденция попугая соединилась с интеллектом того качества, который свойствен шимпанзе, последний, несомненно, обладал бы речью, ибо он обладает голосовым механизмом, который можно сравнить с человеческим, а также тем типом и той степенью интеллекта, с помощью которого он был бы вполне способен действительно использовать звуки для целей речи» (там же)[30].
Р. Йеркс экспериментально использовал четыре метода, для того чтобы обучить шимпанзе человеческому употреблению звуков, или, как он говорит сам, речи. Все эти эксперименты привели к отрицательному результату. Конечно, сами по себе отрицательные результаты никогда не могут иметь решающего значения для принципиальной проблемы: возможно или невозможно привить речь шимпанзе[31]. В. Келер показал, что отрицательные результаты в смысле наличия интеллекта у шимпанзе, к которым приходили прежние экспериментаторы, обусловлены прежде всего неправильной постановкой опытов, незнанием
95
«зоны трудности», в границах которой только и может проявиться интеллект шимпанзе, незнанием основного свойства этого интеллекта — его связи с оптически-актуальной ситуацией и т. д. Причина отрицательных результатов может лежать гораздо чаще в самом исследователе, чем в исследуемом явлении. Из того, что животное не решило данных задач при данных условиях, вовсе не следует, что оно вообще не способно решать никаких задач ни при каких условиях. «Исследования умственной одаренности, — остроумно замечает Келер по этому поводу, — испытывают с необходимостью, кроме испытуемого, еще и самого экспериментатора» (1921а, с. 191).
Однако, не придавая никакого принципиального значения отрицательным результатам опытов Йеркса самим по себе, мы имеем все основания поставить их в связь с тем, что нам известно из других источников о языке обезьян, а в связи с этим его опыты еще с одной стороны показывают, что человекоподобной речи и даже начатков ее у шимпанзе нет и — можно предположить — не может быть (следует, конечно, отличать отсутствие речи от невозможности искусственно привить ее в экспериментально созданных для этого условиях).
Каковы же причины этого? Недоразвитие голосового аппарата, бедность фонетики, как показывают эксперименты и наблюдения сотрудницы Йеркса Э. В. Лернед, исключаются. Йеркс видит причину в отсутствии или слабости слуховой имитации. Йеркс, конечно, прав в том, что отсутствие слухового подражания могло явиться ближайшей причиной неудачи его опытов, но едва ли прав в том, что видит в этом основную причину отсутствия у обезьян речи. Все, что мы знаем об интеллекте шимпанзе, говорит не в пользу такого предположения, которое Йеркс высказывает со всей категоричностью как объективно установленное положение.
Где основания (объективные) для утверждения, что интеллект шимпанзе есть интеллект того типа и той степени, которые необходимы для создания человекоподобной речи? У Йеркса был превосходный экспериментальный способ проверить и доказать свое положение, способ, которым он почему-то не воспользовался и к которому мы прибегли бы с величайшей готовностью для экспериментального решения вопроса, если бы к тому представилась внешняя возможность[32].
Способ этот заключается в том, чтобы исключить влияние слухового подражания в эксперименте с обучением шимпанзе речи. Речь вовсе не встречается исключительно в звуковой форме. Глухонемые создали и пользуются зрительной речью, так же обучают глухонемых детей понимать нашу речь, считывая с губ (т. е. по движениям). В языке примитивных народов, как показывает Л. Леви-Брюль (L. Levy-Bruhll, 1922), речь жестов суще-
96
ствует наряду со звуковой речью и играет существенную роль. Наконец, принципиально речь вовсе не необходимо связана с материалом (ср. письменную речь). Быть может, замечает и сам Йеркс, можно шимпанзе научить употреблять пальцы, как это делают глухонемые, т. е. научить их языку знаков.
Если верно, что интеллект шимпанзе способен овладеть
человеческой речью и что вся беда только в том, что он не обладает звуковой
подражательностью попугая, он, несомненно, должен был овладеть в эксперименте
условным жестом, который по психологической функции совершенно соответствовал
бы условному звуку. Вместо звуков ![]() которые применял Йеркс, речевая реакция
шимпанзе состояла бы в известных движениях руки, которые, скажем, в ручной
азбуке глухонемых означают те же звуки, или в любых других движениях. Суть дела
ведь заключается вовсе не в звуках, а в функциональном употреблении знака,
соответствующего человеческой речи.
которые применял Йеркс, речевая реакция
шимпанзе состояла бы в известных движениях руки, которые, скажем, в ручной
азбуке глухонемых означают те же звуки, или в любых других движениях. Суть дела
ведь заключается вовсе не в звуках, а в функциональном употреблении знака,
соответствующего человеческой речи.
Такие эксперименты не были проделаны, и мы не можем с уверенностью предсказать, к чему бы они привели. Но все, что мы знаем о поведении шимпанзе, в том числе и из опытов Йеркса, не дает ни малейшего основания ожидать, что шимпанзе действительно овладеет речью в функциональном смысле. Мы полагаем так просто потому, что мы не знаем ни одного намека на употребление знака у шимпанзе. Единственное, что мы знаем об интеллекте шимпанзе с объективной достоверностью, это не наличие «идеации», а тот факт, что при известных условиях шимпанзе способен к употреблению и изготовлению простейших орудий и применению обходных путей.
Мы не хотим вовсе сказать этим, что наличие «идеации» является необходимым условием для возникновения речи. Это вопрос дальнейший. Но для Йеркса, несомненно, существует связь между допущением «идеации» как основной формы интеллектуальной деятельности антропоидов и утверждением о доступности человеческой речи для них. Связь эта столь очевидна и столь важна, что стоит рухнуть теории «идеации», т. е. стоит принять другую теорию интеллектуального поведения шимпанзе, как вместе с ней рушится и тезис о доступности шимпанзе человекоподобной речи.
В самом деле, если именно «идеация» лежит в основе интеллектуальной деятельности шимпанзе, то почему нельзя допустить, что он так же человекоподобно решит задачу, представляемую речью, знаком вообще, как он решает задачу с применением орудия (правда, и тогда это остается не больше чем предположением, а отнюдь не установленным фактом)?
Нам нет надобности критически проверять сейчас, насколько верна психологическая аналогия между задачей применения орудия и задачей осмысленного употребления речи. Мы будем
97
иметь случай сделать это при рассмотрении онтогенетического развития речи. Сейчас совершенно достаточно напомнить то, что уже сказано нами об «идеации», для того чтобы вскрыть всю шаткость, всю безосновательность, всю фактическую беспочвенность теории речи шимпанзе, которую развивает Йеркс.
Вспомним, действительно, что именно отсутствие идеации, т. е. оперирования следами неактуальных, отсутствующих, стимулов, является характерным для интеллекта шимпанзе. Наличие оптически-актуальной, легко обозримой, до конца наглядной ситуации является необходимым условием для того, чтобы обезьяна прибегла к верному употреблению орудия. Есть ли эти условия (мы намеренно говорим пока лишь об одном, и притом чисто психологическом, условии, потому что имеем все время в виду экспериментальную ситуацию Исркса) при той ситуации, в которой шимпанзе должен открыть функциональное употребление знака, употребление речи?
Не надо никакого специального анализа для того, чтобы дать на этот вопрос отрицательный ответ. Даже больше: употребление речи не может ни при какой ситуации стать функцией от оптической структуры зрительного поля. Оно требует интеллектуальной операции другого рода — не того типа и не той степени, которые установлены у шимпанзе. Ничто из того, что нам известно из поведения шимпанзе, не свидетельствует о наличии у него подобной операции; напротив, как показано выше, именно отсутствие этой операции принимается большинством исследователей за самую существенную черту отличия интеллекта шимпанзе от человеческого.
Два положения могут считаться несомненными во всяком случае. Первое: разумное употребление речи есть интеллектуальная функция, ни при каких условиях не определяемая непосредственно оптической структурой. Второе: во всех задачах, которые затрагивали не оптически-актуальные структуры, а структуры другого рода (механические, например), шимпанзе переходили от интеллектуального типа поведения к чистому методу проб и ошибок) Например, такая простая с точки зрения человека операция, как поставить один ящик на другой и соблюсти при этом равновесие или снять кольцо с гвоздя, оказывается почти недоступной для «наивной статики» и механики шимпанзе (W. Köhler, 1921а, с. 106 и 177). Это же относится и ко всем вообще неоптическим структурам.
Из этих двух положений с логической неизбежностью вытекает вывод, что предположение о возможности для шимпанзе овладеть употреблением человеческой речи является с психологической стороны в высшей степени маловероятным.
Любопытно, что Келер для обозначения интеллектуальных операций шимпанзе вводит термин Einsicht (буквально — усмат-
98
ривание, в обычном значении — разум). Г. Кафка справедливо указывает, что под этим термином Келер разумеет прежде всего чисто оптическое усматривание в буквальном смысле слова (G. Kafka, 1922, с. 130), а затем уже и усматривание отношений вообще, в противоположность слепому образу действия.
Правда, Келер никогда не дает ни определения этого термина, ни теории этого «усматривания». Верно и то, что благодаря отсутствию теории описываемого поведения термин этот приобретает в фактических описаниях двусмысленное значение: то им обозначается типическое своеобразие самой операции, производимой шимпанзе, структура его действий, то внутренний, подготовляющий эти действия и предшествующий им психофизиологический процесс, по отношению к которому действия шимпанзе являются просто выполнением внутреннего плана операции.
К. Бюлер особенно настаивает на внутреннем характере этого процесса (1930, с. 33). Также и В. М. Боровский полагает, что если обезьяна «видимых проб не производит (рук не протягивает), то она “примеривается” какими-нибудь мускулами» (1927, с. 184).
Мы оставляем сейчас в стороне этот в высшей степени важный сам по себе вопрос. Нас не может сейчас занимать рассмотрение его во всем его объеме, да едва ли есть сейчас уже достаточные фактические данные для его решения; во всяком случае то, что высказывается по этому поводу, опирается скорее на общетеоретические рассуждения и на аналогии с выше и ниже стоящими формами поведения (методом проб и ошибок у животных и мышлением человека), чем на фактические экспериментальные данные.
Надо прямо признать, что эксперименты Келера (тем более других, менее объективно последовательных психологов) не позволяют ответить на этот вопрос сколько-нибудь определенным образом. Каков механизм интеллектуальной реакции — на это опыты Келера не дают никакого определенного, хотя бы и гипотетического, ответа. Несомненно, однако, что, как бы ни представлять себе действие этого механизма и где бы ни локализовать интеллект — в самих действиях шимпанзе или в подготовительном внутреннем (психофизиологическом мозговом или мускульно-иннервационном) процессе, все равно положение об актуальной, а не следовой определяемости этой реакции остается в силе, ибо вне оптически-актуальной ситуации интеллект шимпанзе не функционирует. Сейчас нас интересует именно это и только это.
«Лучшее орудие, — говорит по этому поводу Келер, — легко теряет все свое значение для данной ситуации, если оно не может быть воспринято глазом симультанно или quasi-симультанно с областью цели» (W. Köhler, 1921а, с. 39). Под quasi-
99
симультанным восприятием Келер имеет в виду те случаи, когда отдельные элементы ситуации не воспринимаются глазом непосредственно и одновременно с целью, но либо воспринимаются в непосредственной временной близости с целью, либо уже неоднократно прежде пускались в ход в такой же ситуации, т. е. по своей психологической функции являются как бы симультанными.
Итак, этот несколько затянувшийся анализ приводит нас, в отличие от Йеркса, вновь и вновь к совершенно противоположному выводу относительно возможности человекоподобной речи у шимпанзе: даже в том случае, если бы шимпанзе при своем интеллекте обладал слуховой имитационной тенденцией и способностью попугая, в высшей степени маловероятно предположение, что он овладел бы речью.
И все же — и это самое важное во всей проблеме — у шимпанзе есть своя богатая и в некоторых других отношениях весьма человекоподобная речь, но эта относительно высокоразвитая речь не имеет еще непосредственно много общего с его тоже относительно высокоразвитым интеллектом.
Э. В. Лернед[33] составила словарь языка шимпанзе из 32 элементов «речи», или «слов», которые не только близко напоминают элементы человеческой речи в фонетическом отношении, но которые имеют известное значение в том смысле, что они характерны для определенных ситуаций, например ситуаций или объектов, которые вызывают желание или удовольствие, неудовольствие или злобу, стремление избежать опасности или страх и т. д. (R. Yerkes, E. Learned, 1925, с. 54). Эти «слова» собраны и записаны во время ожидания пищи, во время еды, в присутствии человека, во время пребывания шимпанзе вдвоем.
Легко заметить, что это словарь эмоциональных значений. Это эмоционально-звуковые реакции, более или менее дифференцированные и более или менее вступившие в условнорефлекторную связь с рядом стимулов, группирующихся вокруг еды, и т. п. Мы видим в сущности в этом словаре то же самое, что высказано Келером относительно речи шимпанзе вообще: это эмоциональная речь.
Нас сейчас может интересовать установление трех моментов в связи с этой характеристикой речи шимпанзе. Первый: это связь речи с выразительными эмоциональными движениями, становящаяся особенно ясной в моменты сильного аффективного возбуждения шимпанзе, не представляет какой-либо специфической особенности человекоподобных обезьян. Напротив, это, скорее, чрезвычайно общая черта для животных, обладающих голосовым аппаратом. И эта же форма выразительных голосовых реакций, несомненно, лежит в основе возникновения и развития человеческой речи. Второй: эмоциональные состоя-
100
ния, и особенно аффективные, представляют у шимпанзе сферу поведения, богатую речевыми проявлениями и крайне неблагоприятную для функционирования интеллектуальных реакций. Келер много раз отмечает, как эмоциональная и особенно аффективная реакция совершенно разрушают интеллектуальную операцию шимпанзе[34].
И третий: эмоциональной стороной не исчерпывается функция речи у шимпанзе, и это также не представляет исключительного свойства речи человекоподобных обезьян, также роднит их речь с языком многих других животных видов и также составляет несомненный генетический корень соответствующей функции человеческой речи. Речь не только выразительно-эмоциональная реакция, но и средство психологического контакта с себе подобными*. Как обезьяны, наблюдавшиеся Келером, так и шимпанзе Йеркса и Лернед с совершенной несомненностью обнаруживают эту функцию речи. Однако и эта функция контакта нисколько не связана с интеллектуальной реакцией, т. е. с мышлением животного. Это все та же эмоциональная реакция, составляющая явную и несомненную часть всего эмоционального симптомокомплекса в целом, но часть, выполняющая и с биологической точки зрения, и с точки зрения психологической иную функцию, чем прочие аффективные реакции. Менее всего эта реакция может напомнить намеренное, осмысленное сообщение чего-нибудь или такое же воздействие. По существу это инстинктивная реакция или нечто чрезвычайно близкое к ней.
Едва ли можно сомневаться в том, что эта функция речи принадлежит к числу биологически древнейших форм поведения и находится в генетическом родстве с оптическими и слуховыми сигналами, подаваемыми вожаками в животных сообществах. В последнее время К. Фриш44 в исследовании языка пчел описал чрезвычайно интересные и теоретически в высшей степени важные формы поведения, выполняющие функцию связи или контакта (К. v. Frish, 1928); при всем своеобразии этих форм и при несомненном инстинктивном их происхождении в них нельзя не признать родственное по природе поведение с речевой связью шимпанзе (ср.: W. Köhler, 1921а, с. 44). Едва ли после этого можно усомниться в совершенной независимости этой речевой связи от интеллекта.
Мы можем подвести некоторые итоги. Нас интересовало отношение между мышлением и речью в филогенетическом развитии той и другой функции. Для выяснения этого мы прибегли, к анализу экспериментальных исследований и наблюдений над
101
языком и интеллектом человекоподобных обезьян. Можем кратко формулировать основные выводы, к которым мы пришли и которые нужны нам для дальнейшего анализа проблемы.
1. Мышление и речь имеют различные генетические корни.
2. Развитие мышления и речи идет по различным линиям и независимо друг от друга.
3. Отношение между мышлением и речью не является сколько-нибудь постоянной величиной на всем протяжении филогенетического развития.
4. Антропоиды обнаруживают человекоподобный интеллект в одних отношениях (зачатки употребления орудий) и человекоподобную речь — совершенно в других (фонетика речи, эмоциональная функция и зачатки социальной функции речи).
5. Антропоиды не обнаруживают характерного для человека отношения — тесной связи между мышлением и речью. Одно и другое не является сколько-нибудь непосредственно связанным у шимпанзе.
6. В филогенезе мышления и речи мы можем с несомненностью констатировать доречевую фазу в развитии интеллекта и доинтеллектуальную фазу в развитии речи.
2
В онтогенезе отношение обеих линий развития — мышления и речи — гораздо более смутно и спутанно. Однако и здесь, совершенно оставляя в стороне вопрос о параллельности онто- и филогенеза или об ином, более сложном отношении между ними, мы можем установить и различные генетические корни, и различные линии в развитии мышления и речи.
Только в самое последнее время мы получили объективные экспериментальные доказательства того, что мышление ребенка в своем развитии проходит доречевую стадию. На ребенка, не владеющего еще речью, были перенесены с соответствующими модификациями опыты Келера над шимпанзе. Келер сам неоднократно привлекал к эксперименту для сравнения ребенка. К. Бюлер систематически исследовал в этом отношении ребенка. «Это были действия, — рассказывает он о своих опытах, — совершенно похожие на действия шимпанзе, и поэтому эту фазу детской жизни можно довольно удачно назвать шимпанзеподобным возрастом; у данного ребенка последний обнимал 10, 11 и 12-й месяцы… В шимпанзеподобном возрасте ребенок делает свои первые изобретения, конечно, крайне примитивные, но в духовном смысле чрезвычайно важные» (1930, с. 97).
Что теоретически имеет наибольшее значение в этих опытах, как в опытах над шимпанзе, — это независимость зачатков интеллектуальных реакций от речи. Отмечая это, Бюлер пишет:
102
«Говорили, что в начале становления человека (Menschwerden) стоит речь; может быть, но до нее есть еще инструментальное мышление (Werkzeugdenken), т. е. понимание механических соединений и придумывание механических средств для механических конечных целей, или, можно сказать еще короче, еще до речи действие становится субъективно осмысленным, т. е. все равно что сознательно-целесообразным» (там же, с. 48).
Доинтеллектуальные корни речи в развитии ребенка были установлены очень давно. Крик, лепет и даже первые слова ребенка совершенно явные стадии в развитии речи, но стадии доинтеллектуальные. Они не имеют ничего общего с развитием мышления.
Общепринятый взгляд рассматривал детскую речь на этой ступени ее развития как эмоциональную форму поведения по преимуществу. Новейшие исследования (Ш. Бюлер45 и др. — первых форм социального поведения ребенка и инвентаря его реакций в первый год — и ее сотрудниц Г. Гетцер и Тудер-Гарт — ранних реакций ребенка на человеческий голос) показали, что в первый год жизни ребенка, т. е. именно на доинтеллектуальной ступени развития его речи, мы находим богатое развитие социальной функции речи.
Относительно сложный и богатый социальный контакт ребенка приводит к чрезвычайно раннему развитию средств связи. С несомненностью удалось установить однозначные специфические реакции на человеческий голос у ребенка уже на третьей неделе жизни (предсоциальные реакции) и первую социальную реакцию на человеческий голос на втором месяце (Sch. Bühler, 1927, с. 124). Равным образом смех, лепет, показывание, жесты в первые же месяцы жизни ребенка выступают в роли средств социального контакта. Мы находим, таким образом, у ребенка первого года жизни уже ясно выраженными две функции речи, которые знакомы нам по филогенезу.
Но самое важное, что мы знаем о развитии мышления и речи у ребенка, заключается в следующем: в известный момент, приходящийся на ранний возраст (около двух лет), линии развития мышления и речи, которые шли до сих пор раздельно, перекрещиваются, совпадают и дают начало совершенно новой форме доведения, столь характерной для человека.
В. Штерн лучше и раньше других описал это важнейшее в психическом развитии ребенка событие. Он показал, как у ребенка пробуждается темное сознание значения языка и воля к его завоеванию. Ребенок в эту пору, как говорит Штерн, делает величайшее открытие в своей жизни. Он открывает, что «каждая вещь имеет свое имя» (1922, с. 92).
Этот переломный момент, начиная с которого речь становится интеллектуальной, а мышление — речевым, характеризуется дву-
103
мя совершенно несомненными и объективными признаками, по которым мы можем с достоверностью судить о том, произошел этот перелом в развитии речи или нет еще, а также — в случаях ненормального и задержанного развития — насколько этот момент сдвинулся во времени по сравнению с развитием нормального ребенка. Оба эти момента тесно связаны между собой.
Первый заключается в том, что ребенок, у которого произошел этот перелом, начинает активно расширять свой словарь, свой запас слов, спрашивая о каждой новой вещи, как она называется. Второй момент заключается в чрезвычайно быстром скачкообразном увеличении запаса слов, возникающем на основе активного расширения словаря ребенка.
Как известно, животное может усвоить отдельные слова человеческой речи и применять их в соответствующих ситуациях. Ребенок до наступления этого периода также усваивает отдельные слова, которые являются для него условными стимулами или заместителями отдельных предметов, людей, действий, состояний, желаний. Однако на этой стадии ребенок знает столько слов, сколько ему дано окружающими его людьми.
Сейчас положение становится принципиально совершенно иным. Ребенок, видя новый предмет, спрашивает, как это называется. Ребенок сам нуждается в слове и активно стремится овладеть знаком, принадлежащим предмету, знаком, который служит для называния и сообщения. Если первая стадия в развитии детской речи, как справедливо показал Э. Мейман, является по своему психологическому значению аффективно-волевой, то, начиная со второго момента, речь вступает в интеллектуальную фазу развития. Ребенок как бы открывает символическую функцию речи.
«Только что описанный процесс, — говорит Штерн, — можно уже вне всяких сомнений определить как мыслительную деятельность ребенка в собственном смысле слова; понимание отношения между знаком и значением, которое проявляется здесь у ребенка, есть нечто принципиально иное, чем простое пользование представлениями и их ассоциациями, а требование, чтобы каждому предмету какого бы то ни было рода принадлежало свое название, можно считать действительно, быть может, первым общим понятием ребенка» (там же, с. 93).
На этом следует остановиться, ибо здесь в генетическом пункте пересечения мышления и речи впервые завязывается тот узел, который называется проблемой мышления и речи. Что же представляет собой этот момент, это «величайшее открытие в жизни ребенка», и верно ли толкование Штерна?
К. Бюлер сравнивает это открытие с изобретениями шимпанзе.
«Можно толковать и поворачивать это обстоятельство как
104
угодно, — говорит он, — но всегда в решающем пункте обнаружится психологическая параллель с изобретениями шимпанзе» (К. Bühler, 1923, с. 55). Ту же мысль развивает и К. Коффка. «Функция называния (Namengebung), — говорит он, — есть открытие, изобретение ребенка, обнаруживающее полную параллель с изобретениями шимпанзе. Мы видели, что эти последние являются структурным действием, следовательно, мы можем видеть и в названии структурное действие. Мы сказали бы, что слово входит в структуру вещи так, как палка — в ситуацию желания овладеть плодом» (К. Koffka, 1925, с. 243).
Так это или не так, насколько и до какой степени верна аналогия между открытием сигнификативной функции слова у ребенка и открытием функционального значения орудия в палке у шимпанзе, в чем обе эти операции различаются — обо всем этом мы будем говорить особо при выяснении функционального и структурного отношения между мышлением и речью. Здесь нам нужно отметить только один принципиально важный момент: лишь на известной, относительно высокой, стадии развития мышления и речи становится возможным «величайшее открытие в жизни ребенка». Для того чтобы «открыть» речь, надо мыслить.
Мы можем кратко сформулировать наши выводы.
1. В онтогенетическом развитии мышления и речи мы также находим различные корни того и другого процесса.
2. В развитии речи ребенка мы с несомненностью можем констатировать «доинтеллектуальную стадию», так же как и в развитии мышления — «доречевую стадию».
3. До известного момента то и другое развитие идет по различным линиям, независимо одно от другого.
4. В известном пункте обе линии пересекаются, после чего мышление становится речевым, а речь — интеллектуальной.
3
Как ни решать сложный и все еще спорный теоретический вопрос об отношении мышления и речи, нельзя не признать исключительного значения[35] процессов внутренней речи для развития мышления. Значение внутренней речи для всего нашего мышления так велико, что многие психологи даже отождествляют внутреннюю речь и мышление. С их точки зрения, мышление есть не что иное, как заторможенная, задержанная, беззвучная речь. Однако в психологии не выяснено ни то, каким образом происходит превращение внешней речи во внутреннюю, ни то, в каком примерно возрасте совершается это важнейшее изменение, как оно протекает, чем вызывается и какова вообще его генетическая характеристика.
105
Д. Уотсон[36], отождествляющий мышление с внутренней речью, со всей справедливостью констатирует, что мы не знаем, «на какой точке организации своей речи дети совершают переход от открытой речи к шепоту и потом к скрытой речи», так как этот вопрос «исследовался лишь случайно» (1926, с. 293). Но нам представляется (в свете наших экспериментов и наблюдений, а также из того, что мы знаем о развитии речи ребенка вообще) самая постановка вопроса Уотсоном в корне неправильной.
Нет никаких веских оснований допускать, что развитие внутренней речи совершается чисто механическим путем, путем постепенного уменьшения звучности речи, что переход от внешней (открытой) к внутренней (скрытой) речи совершается через шепот, т. е. полутихую речь. Едва ли дело происходит так, что ребенок начинает постепенно говорить все тише и тише и в результате этого процесса приходит в конце концов к беззвучной речи. Другими словами, мы склонны отрицать, что в генезисе детской речи имеется следующая последовательность этапов: громкая речь — шепот — внутренняя речь.
Не спасает дело и другое, фактически столь же мало обоснованное предположение Уотсона. «Может быть, — говорит он далее, — с самого начала все три вида подвигаются совместно» (там же). Нет никаких решительно объективных данных, которые говорили бы в пользу этого «может быть». Наоборот, признаваемое всеми, в том числе и Уотсоном, глубокое функциональное и структурное различие открытой и внутренней речи говорит против этого.
«Они действительно мыслят вслух», — говорит Уотсон о детях раннего возраста. И причину этого видит с полным основанием в том, что «их среда не требует быстрого превращения речи, проявляющейся вовне, в скрытую» (там же). «Даже если бы мы могли развернуть все скрытые процессы и записать их на чувствительной пластинке, — развивается дальше та же мысль, — или на цилиндре фонографа, все же в них имелось бы так много сокращений, коротких замыканий и экономии, что они были бы неузнаваемы, если только не проследить их образования от исходного пункта, где они совершенны и социальны по характеру, до их конечной стадии, где они будут служить для индивидуальных, но не для социальных приспособлений» (там же, с. 294).
Где же основания предполагать, что два процесса, столь различные функционально (социальные и индивидуальные приспособления) и структурно (изменение речевого процесса до неузнаваемости вследствие сокращений, коротких замыканий и экономии), как процессы внешней и внутренней речи, окажутся генетически параллельными, продвигающимися совместно, т. е. одновременными или связанными между собой последовательно
106
через третий, переходный процесс (шепот), который чисто механически, формально, по внешнему количественному признаку, т. е. чисто фенотипически, занимает это среднее место между двумя другими процессами, но не является в функциональном и структурном отношении, т. е. генотипически, ни в какой степени переходным.
Это последнее утверждение мы имели возможность проверить экспериментально, изучая речь шепотом у детей раннего возраста. Наше исследование показало, что 1) в структурном отношении речь шепотом не обнаруживает сколько-нибудь значительных изменений и уклонений от громкой речи, а главное — изменений, характерных по тенденции для внутренней речи; 2) в функциональном отношении речь шепотом также глубоко отличается от внутренней речи и не обнаруживает даже в тенденции сходных черт; 3) в генетическом отношении, наконец, речь шепотом может быть вызвана очень рано, но сама не развивается спонтанно сколько-нибудь заметным образом до самого школьного возраста. Единственное, что подтверждает тезис Уотсона, следующее: уже в трехлетнем возрасте под давлением социальных требований ребенок переходит, правда с трудом и на короткое время, к речи с пониженным голосом и к шепоту.
Мы остановились на мнении Уотсона не только потому, что оно чрезвычайно распространенное и типичное для той теории мышления и речи, представителем которой является этот автор, и не потому, что оно позволяет со всей наглядностью противопоставить фенотипическому генотипическое рассмотрение вопроса, но главным образом по мотивам положительного порядка. В той постановке вопроса, которую принимает Уотсон, мы склонны видеть правильное методическое указание к разрешению всей проблемы.
Этот методический путь заключается в необходимости найти среднее звено, соединяющее процессы внешней и внутренней речи, звено, которое являлось бы переходным между одними и другими процессами. Мы стремились показать выше, что мнение Уотсона, будто этим средним соединяющим звеном является шепот, не встречает объективных подтверждений. Напротив, все, что мы знаем о шепоте ребенка, говорит не в пользу того предположения, будто шепот — переходный процесс между внешней и внутренней речью. Однако попытка найти это среднее, недостающее в большинстве психологических исследований, звено является совершенно правильным указанием Уотсона.
Мы склонны видеть этот переходный процесс от внешней к внутренней речи в так называемой эгоцентрической детской речи, описанной швейцарским психологом Пиаже (см. главу первую настоящей книги). В пользу этого говорят и наблюдения А. Леметра и других авторов над внутренней речью в школьном
107
возрасте. Эти наблюдения показали, что внутренняя речь школьника еще в высшей степени лабильная, неустановившаяся, это говорит, конечно, о том, что перед нами еще генетически молодые, недостаточно оформившиеся и определившиеся процессы.
Мы должны сказать, что, видимо, эгоцентрическая речь помимо чисто экспрессивной функции и функции разряда, помимо того, что она просто сопровождает детскую активность, очень легко становится мышлением в собственном смысле этого слова, т. е. принимает на себя функцию планирующей операции, решения новой задачи, возникающей в поведении.
Если бы это предположение оправдалось в процессе дальнейшего исследования, мы могли бы сделать вывод чрезвычайной теоретической важности. Мы увидели бы, что речь становится психологически внутренней раньше, чем она становится психологически внутренней раньше, чем она становится физиологически внутренней. Эгоцентрическая речь — это речь внутренняя по своей функции, это речь для себя, находящаяся на пути к уходу внутрь, речь уже наполовину непонятная для окружающих, речь уже глубоко внутренне проросшая в поведение ребенка и вместе с тем физиологически это еще речь внешняя, которая не обнаруживает ни малейшей тенденции превратиться в шепот или в какую-нибудь другую полубеззвучную речь.
Мы получили бы тогда ответ и на другой теоретический вопрос: почему речь становится внутренней? Ответ этот гласил бы, что речь становится внутренней в силу того, что изменяется ее функция. Последовательность в развитии речи тогда наметилась бы не такая, какую указывает Уотсон. Вместо трех этапов — громкая речь, шепот, беззвучная речь — мы получили бы другие три этапа: внешняя речь, эгоцентрическая речь, внутренняя речь. Вместе с тем мы приобрели бы в высшей степени важный в методическом отношении прием исследования внутренней речи, ее структурных и функциональных особенностей в живом виде, в становлении, и вместе с тем прием объективный, поскольку все эти особенности были бы уже налицо в речи внешней, над которой можно экспериментировать и которая допускает измерение. Наши исследования показывают, что речь в этом отношении не представляет какого-нибудь исключения из общего правила, которому подчинено развитие всяких психических операций, опирающихся на использование знаков, — все равно, будет ли то мнемотехническое запоминание, процессы счета или какая-либо другая интеллектуальная операция употребления знака.
Исследуя экспериментально подобного рода операции самого различного характера, мы имели возможность констатировать, что это развитие проходит, вообще говоря, через четыре основные стадии. Первая стадия — так называемая примитивная, натуральная стадия, когда та или иная операция встречается в том виде, как она сложилась на примитивных ступенях поведения.
108
Этой стадии развития соответствовала бы доинтеллектуальная речь и доречевое мышление, о которых говорено выше. Затем следует стадия, которую мы условно называем стадией «наивной психологии»у по аналогии с тем, что исследователи в области практического интеллекта называют «наивной физикой». Этими словами они называют наивный опыт животного или ребенка в области физических свойств собственного тела и окружающих его предметов, объектов и орудий, наивный опыт, который определяет в основном употребление орудий у ребенка и первые операции его практического ума.
Нечто подобное наблюдаем мы и в сфере развития поведения ребенка. Здесь также складывается основной наивный психический опыт относительно свойств важнейших психических операций, с которыми приходится иметь дело ребенку. Однако как и в сфере развития практических действий, так и здесь этот наивный опыт ребенка оказывается обычно недостаточным, несовершенным, наивным в собственном смысле этого слова и потому приводящим к неадекватному использованию психических свойств, стимулов и реакций.
В области развития речи эта стадия чрезвычайно ясно намечена во всем речевом развитии ребенка и выражается в том, что овладение грамматическими структурами и формами идет у ребенка впереди овладения логическими структурами и операциями, соответствующими данным формам. Ребенок овладевает придаточным предложением, такими формами речи, как «потому что», «так как», «если бы», «когда», «напротив» или «но», задолго до того, как он овладевает причинными, временными, условными отношениями, противопоставлениями и т. д. Ребенок овладевает синтаксисом речи раньше, чем он овладевает синтаксисом мысли. Исследования Пиаже показали с несомненностью, что грамматическое развитие ребенка идет впереди его логического развития и что ребенок сравнительно поздно приходит к овладению логическими операциями, соответствующими тем грамматическим структурам, которые им усвоены уже давно.
Вслед за этим, с постепенным нарастанием наивного психического опыта, следует стадия внешнего знака, внешней операции, при помощи которых ребенок решает какую-нибудь внутреннюю психическую задачу. Это хорошо нам знакомая стадия счета на пальцах в арифметическом развитии ребенка, стадия внешних мнемотехнических знаков в процессе запоминания. В развитии речи ей соответствует эгоцентрическая речь ребенка.
За этой третьей наступает четвертая стадия, которую мы образно называем стадией «вращивания», потому что она характеризуется прежде всего тем, что внешняя операция уходит внутрь, становится внутренней операцией и в связи с этим претерпевает глубокие изменения. Это счет в уме, или немая ариф-
109
метика в развитии ребенка, так называемая логическая память, пользующаяся внутренними соотношениями в виде внутренних знаков.
В области речи этому соответствует внутренняя, или беззвучная, речь. Наиболее замечательно в этом отношении то, что между внешними и внутренними операциями в данном случае существует постоянное взаимодействие, операции постоянно переходят из одной формы в другую. И это мы видим с наибольшей отчетливостью в области внутренней речи, которая, как установил К. Делакруа, тем ближе подходит к внешней речи, чем теснее с ней связана в поведении, и может принять совершенно тождественную с ней форму тогда, когда является подготовкой к внешней речи (например, обдумыванием предстоящей речи, лекции и т. д.). В этом смысле в поведении действительно нет резких метафизических границ между внешним и внутренним, одно легко переходит в другое, одно развивается под воздействием другого.
Если мы теперь от генезиса внутренней речи перейдем к вопросу о том, как функционирует внутренняя речь у взрослого человека, мы столкнемся раньше всего с тем же вопросом, который ставили в отношении животных и в отношении ребенка: с необходимостью ли связаны мышление и речь в поведении взрослого человека, можно ли отождествлять оба эти процесса? Все, что мы знаем по этому поводу, заставляет нас дать отрицательный ответ. Отношение мышления и речи в этом случае можно было бы схематически обозначить двумя пересекающимися окружностями, которые показали бы, что известная часть процессов речи и мышления совпадает. Это так называемая сфера речевого мышления. Но речевое мышление не исчерпывает ни всех форм мысли, ни всех форм речи. Есть большая область мышления, которая не будет иметь непосредственного отношения к речевому мышлению. Сюда следует отнести раньше всего, как уже указывал Бюлер, инструментальное и техническое мышление и вообще всю область так называемого практического интеллекта, который только в последнее время становится предметом усиленных исследований.
Далее, как известно, психологи вюрцбургской школы в своих исследованиях установили, что мышление может совершаться без всякого констатируемого самонаблюдением участия речевых образов и движений. Новейшие экспериментальные работы также показали, что активность и форма внутренней речи не стоят в какой-либо непосредственной объективной связи с движениями языка или гортани, совершаемыми испытуемым.
Равным образом нет никаких психологических оснований к тому, чтобы относить все виды речевой активности человека к мышлению, Когда я, например, воспроизвожу в процессе внут-
110
ренней речи какое-нибудь стихотворение, заученное наизусть, или повторяю какую-нибудь заданную экспериментальную фразу, во всех этих случаях нет никаких данных для того, чтобы относить эти операции к области мышления[37]. Эту ошибку и делает Уотсон, который, отождествляя мышление и речь, должен уже с необходимостью все процессы речи признать интеллектуальными. В результате ему приходится отнести к мышлению и процессы простого восстановления в памяти словесного текста.
Равным образом речь, имеющая эмоционально-экспрессивную функцию, речь лирически окрашенная, обладая всеми признаками речи, тем не менее едва ли может быть отнесена к интеллектуальной деятельности в собственном смысле этого слова.
Мы, таким образом, приходим к выводу, что и у взрослого человека слияние мышления и речи есть частичное явление, имеющее силу и значение только в приложении к области речевого мышления, в то время как другие области неречевого мышления и неинтеллектуальной речи остаются только под отдаленным, не непосредственным влиянием этого слияния и прямо не стоят с ним ни в какой причинной связи.
4
Мы можем суммировать результаты, к которым приводит нас наше рассмотрение. Мы пытались прежде всего проследить генетические корни мышления и речи по данным сравнительной психологии. При современном состоянии знания в этой области, как мы видели, проследить сколько-нибудь полно генетический путь дочеловеческого мышления и речи представляется невозможным. Спорным до сих пор остается основной вопрос: можно ли констатировать с несомненностью наличие интеллекта того же типа и рода, что и человеческий, у высших обезьян. Келер решает этот вопрос в положительном, другие авторы — в отрицательном смысле. Но независимо от того, как решится этот спор в, свете новых и пока недостающих данных, одно ясно уже сейчас: путь к человеческому интеллекту и путь к человеческой речи не совпадают в животном мире, генетические корни мышления и речи различны.
Ведь даже те, кто склонны отрицать наличие интеллекта у шимпанзе Келера, не отрицают, да и не могут отрицать, того, что это путь к интеллекту, корни его, т. е. высший тип выработки навыков*. Даже Э. Торндайк, задолго до Келера занимавшийся
111
тем же вопросом и решивший его в отрицательном смысле, находит, что по типу поведения обезьяне принадлежит высшее место в мире животных (1901). Другие авторы, как В. М. Боровский, склонны не только у животных, но и у человека отрицать этот высший этаж поведения, надстраивающийся над навыками и заслуживающий особого имени — интеллект. Для них, следовательно, самый вопрос о человекоподобности интеллекта обезьян должен быть поставлен иначе.
Для нас ясно, что высший тип поведения шимпанзе, чем бы его ни считать, в том отношении является корнем человеческого, что он характеризуется употреблением орудий. Для марксизма не является сколько-нибудь неожиданным открытие Келера. Маркс говорит об этом: «Употребление и создание средств труда, хотя и свойственны в зародышевой форме некоторым видам животных, составляют специфически характерную черту человеческого процесса труда…» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 190—191).
В этом же смысле говорит и Г. В. Плеханов46:
«Как бы там ни было, но зоология передает истории h
Таким образом, та высшая глава зоологической психологии, которая создается на наших глазах, теоретически не является абсолютно новой для марксизма. Любопытно отметить, что Плеханов ясно говорит не об инстинктивной деятельности вроде построек бобров, но о способности изобретать и употреблять орудия, т. е. об операции интеллектуальной*.
Не является для марксизма и сколько-нибудь новым то положение, что в животном мире заложены корни человеческого интеллекта. Так, Энгельс, разъясняя смысл гегелевского различения между рассудком и разумом, пишет: «Нам общи с животными все виды рассудочной деятельности: индукция, дедукция, следовательно, также абстрагирование (родовые понятия у Дидо: четвероногие и двуногие), анализ незнаковых предметов (уже разбивание ореха есть начало анализа), синтез (в случае хитрых проделок у животных) и, в качестве соединения обоих, эксперимент (в случае новых препятствий и при затруднительных положениях). По типу все эти методы, — стало быть, все признаваемые обычной логикой средства научного исследования — совершенно одинаковы у человека и у высших живот-
112
ных. Только по степени (по развитию соответственного метода) они различны»* (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 537).
Столь же решительно высказывается Энгельс относительно корней речи у животных: «Но в пределах своего круга представления он может научиться также и понимать то, что он говорит», и дальше Энгельс приводит совершенно объективный критерий этого «понимания»: «Научите попугая бранным словам так, чтобы он получил представление о их значении (одно из главных развлечений возвращающихся из жарких стран матросов), попробуйте его затем дразнить, и вы скоро откроете, что он умеет так же правильно применять свои бранные слова, как берлинская торговка зеленью. Точно так же обстоит дело при выклянчивании лакомств[38]» (там же, с. 490)**.
Мы совсем не намерены приписывать Энгельсу и менее всего сами собираемся защищать ту мысль, что у животных мы находим человеческие или хотя бы человекоподобные речь и мышление. Мы ниже постараемся выяснить законные границы этих утверждений Энгельса и их истинный смысл. Сейчас для нас важно установить только одно: во всяком случае нет оснований отрицать наличие генетических корней мышления и речи в животном царстве, и эти корни, как показывают все данные, различны для мышления и речи. Нет оснований отрицать наличие в животном мире генетических путей к интеллекту и речи человека, и эти пути оказываются опять-таки различными для обеих интересующих нас форм поведения.
Большая способность к изучению речи, например у попугая, не стоит ни в какой прямой связи с более высоким развитием у него зачатков мышления, и обратно: высшее развитие этих зачатков в животном мире не стоит ни в какой видимой связи с успехами речи. То и другое идет своими особыми путями, то и другое имеет различные линии развития***.
113
Совершенно безотносительно к тому, как смотреть на вопрос об отношении онто- и филогенеза, мы могли констатировать на основании новых экспериментальных исследований, что и в развитии ребенка генетические корни и пути интеллекта и речи различны. До известного пункта мы можем проследить доинтеллектуальное вызревание речи и независимое от него доречевое вызревание интеллекта ребенка. В известном пункте, как утверждает В. Штерн, глубокий наблюдатель развития детской речи, происходит пересечение той и другой линий развития, их встреча. Речь становится интеллектуальной, мышление становится речевым. Мы знаем, что Штерн видит в этом величайшее открытие ребенка.
Некоторые исследователи, как Делакруа, склонны отрицать это. Эти авторы склонны отрицать всеобщую значимость за первым возрастом детских вопросов (как это называется?) в отличие от второго возраста вопросов (4 года спустя вопрос: почему?), и во всяком случае отрицать за ним, там где это явление имеет место, значение, приписываемое ему Штерном, значение симптома, указывающего на то, что ребенок открыл, что «каждая вещь имеет свое имя» (Н. S. Delacroix, 1924, с. 286). А. Валлон полагает, что для ребенка имя является некоторое время скорее атрибутом, чем субститутом предмета. «Когда ребенок 1½ лет спрашивает об имени всякого предмета, он обнаруживает вновь открытую им связь, но ничто не указывает, что он в одном не видит простой атрибут другого. Только систематическая генерализация вопросов может свидетельствовать о том, что дело идет не о случайной и пассивной связи, но тенденции, предшествующей функции подыскания символического знака для всех реальных вещей» (Н. S. Delacroix, с. 287). К. Коффка, как мы видели, занимает среднее положение между одним и другим мнением. С одной стороны, он подчеркивает вслед за Бюлером аналогию между изобретением, открытием номинативной функции языка у ребенка и изобретениями орудий у шимпанзе. С другой стороны, он ограничивает эту аналогию тем, что слово входит в структуру вещи, однако не обязательно в функциональном значении знака. Слово входит в структуру вещи, как ее прочие члены и наряду с ними. Оно становится для ребенка на некоторое время свойством вещи наряду с ее другими свойствами.
Но это свойство вещи — ее имя — отделимо от нее (verschiedbar); можно видеть вещи, не слыша их имени, так же как, например, глаза являются прочным, но отделимым признаком матери, который не виден, когда мать отворачивает лицо. «И у нас, наивных людей, дело обстоит совершенно так же: голубое платье остается голубым, даже когда в темноте мы не видим его цвета. Но имя — свойство всех предметов, и ребенок дополняет все структуры по этому правилу» (К. Koffka, 1925, с. 244).
114
К. Бюлер также указывает на то, что всякий новый предмет представляет для ребенка ситуацию-задачу, которую он решает по общей структурной схеме — называнием слова. Там, где ему недостает слова для обозначения нового предмета, он требует его у взрослых (К. Bühier, 1923, с. 54).
Мы думаем, что это мнение наиболее близко к истине и прекрасно устраняет затруднения, возникающие при споре Штерн—Делакруа. Данные этнической психологии и особенно психологии детской речи (см.: J. Piaget, 1923) говорят о том, что (слово долгое время является для ребенка скорее свойством, чем символом вещи: ребенок, как мы видели, раньше овладевает внешней структурой, чем внутренней. Он овладевает внешней структурой: слово—вещь, которая уже после становится структурой символической.
Однако мы стоим опять, как в случае с опытами Келера, перед вопросом, фактическое решение которого еще не достигнуто наукой. Перед нами ряд гипотез. Мы можем выбрать только наиболее вероятную. Такой наиболее вероятной и является «среднее мнение».
Что говорит в его пользу? Во-первых, мы легко отказываемся от того, чтобы приписывать ребенку в 1½ года открытие символической функции речи, сознательную и в высшей степени сложную интеллектуальную операцию, что, вообще говоря, плохо вяжется с общим умственным уровнем ребенка в 1½ года. Во-вторых, наши выводы вполне совпадают с другими экспериментальными данными, которые все показывают, что функциональное употребление знака, даже более простого, чем слово, появляется значительно позже и совершенно недоступно для ребенка этого возраста. В-третьих, мы согласуем наши выводы при этом с общими данными из психологии детской речи, говорящими, что еще долго ребенок не приходит к осознанию символического значения речи и пользуется словом как одним из свойств вещи. В-четвертых, наблюдения над аномальными детьми (и особенно Е. Келлер47), на которые ссылается Штерн, показывают, по словам Бюлера, проследившего, как происходит этот момент у глухонемых детей при обучении их речи, что такого «открытия», секунду которого можно было бы с точностью отметить, не происходит, а происходит, напротив, ряд «молекулярных» изменений, приводящих к этому (К. Buhler, 1923).
Наконец, в-пятых, это вполне совпадает с тем общим путем овладения знаком, который мы наметили на основании экспериментальных исследований в предыдущей главе. Мы никогда не могли наблюдать у ребенка даже школьного возраста прямого открытия, сразу приводящего к функциональному употреблению знака. Всегда этому предшествует стадия «наивной психологии», стадия овладения чисто внешней структурой знака, которая
115
только впоследствии, в процессе оперирования знаком, приводит ребенка к правильному функциональному употреблению знака. Ребенок, рассматривающий слово как свойство вещи в ряду ее других свойств, находится именно в этой стадии речевого развития.
Все это говорит в пользу положения Штерна, который был, несомненно, введен в заблуждение внешним, т. е. фенотипическим, сходством и толкованием вопросов ребенка. Падает ли, однако, при этом и основной вывод, который можно было сделать на основании нарисованной нами схемы онтогенетического развития мышления и речи: именно, что и в онтогенезе[39] мышление и речь до известного пункта идут по различным генетическим путям и только после известного пункта их линии пересекаются? Ни в каком случае. Этот вывод остается верным независимо от того, падает или нет положение Штерна и какое другое будет выдвинуто на его место. Все согласные с тем, что первоначальные формы интеллектуальных реакций ребенка, установленные экспериментально после опытов Келера им самим и другими, так же независимы от речи, как и действия шимпанзе (Н. S. Delacroix, 1924, с. 283). Далее, все согласны и с тем, что начальные стадии в развитии речи ребенка являются стадиями доинтеллектуальными.
Если это очевидно и несомненно в отношении лепета ребенка, то в последнее время это можно считать установленным и в отношении первых слов ребенка. Положение Э. Меймана о том, что первые слова ребенка носят всецело аффективно-волевой характер, что это знаки «желания или чувства», чуждые еще объективного значения и исчерпывающиеся чисто субъективной реакцией, как и язык животных (Е. Meuman, 1928), правда, оспаривается в последнее время рядом авторов. Штерн склонен думать, что элементы объективного не разделены еще в этих первых словах (W. Stern, 1928). Делакруа видит прямую связь первых слов с объективной ситуацией (Н. S. Delacroix, 1924), но оба автора все же согласны в том, что слово не имеет никакого постоянного и прочного объективного значения, оно похоже по объективному характеру на брань ученого попугая; поскольку сами желания и чувства, сами эмоциональные реакции вступают в связь с объективной ситуацией, постольку и слова связываются с ней, но это нисколько не отвергает в корне общего положения Меймана (там же, с. 280).
Мы можем резюмировать, что дало нам это рассмотрение онтогенеза речи и мышления. Генетические корни и пути развития мышления и речи и здесь оказываются до известного пункта различными. Новым является пересечение обоих путей развития, не оспариваемое никем. Происходит ли оно в одном пункте или в ряде пунктов, совершается ли сразу, катастрофически или на-
116
растает медленно и постепенно и только после прорывается, является ли оно результатом открытия или простого структурного действия и длительного функционального изменения, приурочено ли оно к двухлетнему возрасту или к школьному — независимо от этих все еще спорных вопросов основной факт остается несомненным, именно факт пересечения обеих линий развития.
Остается еще суммировать то, что нам дало рассмотрение внутренней речи. Оно опять наталкивается на ряд гипотез. Происходит ли развитие внутренней речи через шепот или через эгоцентрическую речь, совершается ли оно одновременно с развитием внешней речи или возникает на сравнительно высокой ступени ее, может ли внутренняя речь и связанное с ней мышление рассматриваться как определенная стадия в развитии всякой культурной формы поведения — независимо от того, как решаются в процессе фактического исследования эти в высшей степени важные сами по себе вопросы, основной вывод остается тем же. Этот вывод гласит, что внутренняя речь развивается путем накопления длительных функциональных и структурных изменений, что она ответвляется от внешней речи ребенка вместе с дифференцированием социальной и эгоцентрической функций речи, что, наконец, речевые структуры, усваиваемые ребенком, становятся основными структурами его мышления.
Вместе с этим обнаруживается основной, несомненный и решающий факт — зависимость развития мышления от речи, от средств мышления и от социально-культурного опыта ребенка. Развитие внутренней речи определяется в основном извне, развитие логики ребенка, как показали исследования Пиаже, есть прямая функция его социализированной речи. Мышление ребенка — так можно было бы сформулировать это положение — развивается в зависимости от овладения социальными средствами мышления, т. е. в зависимости от речи.
Вместе с этим мы подходим к формулировке основного положения всей нашей работы, положения, имеющего в высшей степени важное методологическое значение для всей постановки проблемы. Этот вывод вытекает из сопоставления развития внутренней речи и речевого мышления с развитием речи и интеллекта, как оно шло в животном мире и в самом раннем детстве по особым, раздельным линиям. Сопоставление это показывает, что одно развитие является не просто прямым продолжением другого, но что изменился и самый тип развития — с биологического на общественно-исторический.
Нам думается, предыдущие главы с достаточной ясностью показали, что речевое мышление представляет собой не природную, натуральную форму поведения, а форму общественно-историческую и потому отличающуюся в основном целым рядом специфических свойств и закономерностей, которые не могут
117
быть открыты в натуральных формах мышления и речи. Но главное заключается в том, что с признанием исторического характера речевого мышления мы должны распространить на эту форму поведения все те методологические положения, которые исторический материализм устанавливает по отношению ко всем историческим явлениям в человеческом обществе. Наконец, мы должны ожидать заранее, что в основных чертах самый тип исторического развития поведения окажется в прямой зависимости от общих законов исторического развития человеческого общества.
Но этим самым проблема мышления и речи перерастает методологические границы естествознания и превращается в центральную проблему исторической психологии человека, т. е. социальной психологии; меняется вместе с тем и методологическая постановка проблемы. Не касаясь этой проблемы во всей ее полноте, мы сочли нужным остановиться на узловых пунктах этой проблемы, пунктах, наиболее трудных в методологическом отношении, но наиболее центральных и важных при анализе поведения человека, строящемся на основании диалектического и исторического материализма.
Сама же эта вторая проблема мышления и речи, как затронутые нами попутно многие частные моменты функционального и структурного анализа отношения обоих процессов, должна составить предмет особого исследования.
Глава пятая
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЙ
1
Главнейшим затруднением в области исследования понятий являлась до последнего времени неразработанность экспериментальной методики, с помощью которой можно было бы проникнуть в глубь процесса образования понятий и исследовать его психологическую природу.
Все традиционные методы исследования понятий распадаются на две основные группы. Типичный представитель первой группы этих методов — так называемый метод определения и все его косвенные вариации. Основным для этого метода является исследование уже готовых, уже образовавшихся понятий
118
у ребенка с помощью словесного определения их содержания.
Несмотря на широкую распространенность, он страдает двумя существенными недостатками, которые не позволяют опираться на него при действительно глубоком исследовании этого процесса.
1. Пользуясь этим методом, мы имеем дело с результатом уже законченного процесса образования понятий, с готовым продуктом, не улавливая самую динамику процесса, его развитие, течение, его начало и конец. Это скорее исследование продукта, чем процесса, приводящего к образованию данного продукта. В зависимости от этого при определении готовых понятий мы очень часто имеем дело не столько с мышлением ребенка, сколько с репродукцией готовых знаний, готовых воспринятых определений. Изучая определения, даваемые ребенком тому или иному понятию, мы изучаем в гораздо большей мере знание, опыт ребенка, степень его речевого развития, чем мышление в собственном смысле слова.
2. Метод определения оперирует почти исключительно словом, забывая, что понятие, особенно для ребенка, связано с тем чувственным материалом, из восприятия и переработки которого оно рождается; чувственный материал и слово — необходимые моменты процесса образования понятий, и слово, оторванное от этого материала, переводит весь процесс определения понятия в чисто вербальный план, не свойственный ребенку. Поэтому с помощью этого метода почти никогда не удается установить отношения, существующего между значением, придаваемым ребенком слову при чисто вербальном определении, и действительным реальным значением, соответствующим слову в процессе его живого соотнесения с обозначаемой им объективной действительностью.
Самое существенное для понятия — отношение его к действительности — остается при этом неизученным; к значению слова мы стараемся подойти через другое слово, и то, что мы вскрываем с помощью этой операции, скорее должно быть отнесено к отношениям, существующим между отдельными усвоенными словесными гнездами, чем к действительному отображению детских понятий.
Вторая группа методов — это методы исследования абстракции, которые пытаются преодолеть недостатки чисто словесного метода определения и изучить психические функции и процессы, лежащие в основе образования понятий, в основе переработки того наглядного опыта, из которого рождается понятие. Все они ставят ребенка перед задачей выделить какую-либо общую черту в ряде конкретных впечатлений, отвлечь или абстрагировать эту черту или этот признак от ряда других, слитых с ним в процессе восприятия, обобщить этот признак.
119
Недостаток второй группы методов тот, что они подставляют на место сложного синтетического процесса элементарный процесс, составляющий его часть, и игнорируют роль слова, роль знака в процессе образования понятий, чем бесконечно упрощают самый процесс абстракции, беря его вне того специфического, характерного именно для образования понятий отношения со словом, которое является центральным отличительным признаком процесса в целом. Таким образом, традиционные методы исследований понятий одинаково характеризуются отрывом слова от объективного материала; они оперируют либо словами без объективного материала, либо объективным материалом без слов.
Огромным шагом вперед в изучении понятий было создание такой экспериментальной методики, которая могла бы адекватно отобразить процесс образования понятий, включающий в себя оба эти момента: материал, на основе которого вырабатывается понятие, и слово, с помощью которого оно возникает.
Мы не будем сейчас останавливаться на сложной истории развития этого нового метода исследования понятий; скажем только, что вместе с его введением перед исследователями открылся совершенно новый план: они стали изучать не готовые понятия, а самый процесс их образования. В частности, метод в том виде, как его использовал Н. Ах[40], с полной справедливостью называется синтетически-генетическим методом, так как он изучает процесс построения понятия, синтезирования ряда признаков, образующих понятие, процесс развития понятия.
Основным принципом этого метода является введение в эксперимент искусственных, вначале бессмысленных для испытуемого слов, которые не связаны с прежним опытом ребенка, и искусственных понятий, которые составлены специально в экспериментальных целях путем соединения ряда признаков, в таком сочетании не встречающихся в мире наших обычных понятий, обозначаемых с помощью речи. Например, в опытах Аха слово «гацун», вначале бессмысленное для испытуемого, в процессе опыта осмысливается, приобретает значение, становится носителем понятия, обозначая нечто большое и тяжелое; или слово «фаль» начинает означать маленькое и легкое.
В процессе опыта перед исследователем развертывается весь процесс осмысливания бессмысленного слова, приобретения словом значения и выработки понятия. Благодаря такому введению искусственных слов и искусственных понятий этот метод освобождается от одного наиболее существенного недостатка ряда методов; именно: он для решения задачи, стоящей перед испытуемым в эксперименте, не предполагает никакого прежнего опыта, никаких прежних знаний, уравнивает в этом отношении ребенка раннего возраста и взрослого. Ах применял свой метод
120
одинаково и к пятилетнему ребенку, и к взрослому человеку, уравнивая того и другого в отношении знаний. Таким образом, его метод потенциирован в возрастном отношении, он допускает исследование процесса образования понятий в чистом виде.
Одним из главнейших недостатков метода определения является то обстоятельство, что там понятие вырывается из его естественной связи, берется в застывшем, статическом виде вне связи с теми реальными процессами мышления, в которых оно встречается, рождается и живет. Экспериментатор берет изолированное слово, ребенок должен его определить, но это определение вырванного, изолированного слова, взятого в застывшем виде, ни в малой степени не говорит нам о том, каково это понятие в действии, как ребенок им оперирует в живом процессе решения задачи, как он им пользуется, когда в этом возникает живая потребность.
Игнорирование функционального момента есть, в сущности, как говорит об этом Ах, непринятие в расчет того, что понятие не живет изолированной жизнью и что оно не представляет собой застывшего, неподвижного образования, а, напротив, всегда встречается в живом, более или менее сложном, процессе мышления, всегда выполняет ту или иную функцию сообщения, осмысливания, понимания, решения какой-нибудь задачи.
Этого недостатка лишен новый метод, в котором в центр исследования выдвигаются именно функциональные условия возникновения понятия. Понятие берется в связи с той или иной задачей или потребностью, возникающей в мышлении, в связи с пониманием или сообщением, в связи с выполнением того или иного задания, той или иной инструкции, осуществление которой невозможно без образования понятия. Все это взятое вместе делает новый метод исследования чрезвычайно ценным орудием при изучении развития понятий. И хотя сам Ах не посвятил особого исследования образованию понятий в переходном возрасте, тем не менее, опираясь на результаты своего исследования, он не мог не отметить того двойственного — охватывающего и содержание и форму мышления — переворота, который происходит в интеллектуальном развитии подростка и знаменуется переходом к мышлению в понятиях.
Ф. Римат48 посвятил специальное, очень обстоятельное исследование процессу образования понятий у подростков, который он изучал с помощью несколько переработанного метода Аха. Основной вывод исследования заключается в том, что образование понятий возникает лишь с наступлением переходного возраста и оказывается недоступным ребенку до наступления этого периода. «Мы можем твердо установить, — говорит Римат, — что лишь по окончании 12-го года жизни обнаруживается резкое повышение способности самостоятельного образо-
121
вания общих объективных представлений. Мне кажется, чрезвычайно важно обратить внимание на этот факт. Мышление в понятиях, отрешенное от наглядных моментов, предъявляет к ребенку требования, которые превосходят его психические возможности до 12-го года жизни» (F. Rimat, 1925, с. 112).
Мы не будем останавливаться ни на способе проведения этого исследования, ни на других теоретических выводах и результатах, к которым оно приводит автора. Мы ограничимся лишь подчеркиванием того основного результата, что вопреки утверждению некоторых психологов, отрицающих возникновение какой-либо новой интеллектуальной функции в переходном возрасте и утверждающих, что каждый ребенок 3 лет обладает всеми интеллектуальными операциями, из которых складывается мышление подростка, — вопреки этому утверждению специальные исследования показывают, что лишь после 12 лет, т. е. с началом переходного возраста, по завершении первого школьного возраста, у ребенка начинают развиваться процессы, приводящие к образованию понятий и абстрактному мышлению[41].
Одним из основных выводов, к которым приводят нас исследования Аха и Римата, является опровержение ассоциативной точки зрения на процесс образования понятий. Исследование Аха показало, что, как бы многочисленны и прочны ни были ассоциативные связи между теми или иными словесными знаками, теми или иными предметами, одного этого факта совершенно не достаточно для образования понятий. Таким образом, старое представление о том, что понятие возникает чисто ассоциативным путем благодаря наибольшему подкреплению одних ассоциативных связей, соответствующих признакам, общим целому ряду предметов, и ослаблению других связей, соответствующих признакам, в которых эти предметы различаются, не нашло экспериментального подтверждения.
Опыты Аха показали, что процесс образования понятий носит всегда продуктивный, а не репродуктивный характер, что понятие возникает и образуется в процессе сложной операции, направленной на решение какой-либо задачи, и что одного наличия внешних условий, и механического установления связи между словом и предметами недостаточно для его возникновения. Наряду с установлением неассоциативного и продуктивного характера процесса образования понятий эти опыты привели и к другому, не менее важному выводу, именно к установлению основного фактора, определяющего течение процесса в целом. По мнению Аха, таким фактором является так называемая детерминирующая тенденция49.
Этими словами Ах обозначает тенденцию, регулирующую течение наших представлений и действий и исходящую из представления о цели, к достижению которой направлено это тече-
122
ние, из задачи, на разрешение которой направлена данная деятельность. До Аха психологи различали две основные тенденции, которым подчинено течение наших представлений: репродуктивную, или ассоциативную тенденцию и персеверативную тенденцию. Первая из них означает тенденцию вызвать в течении представлений те из них, которые в прежнем опыте были ассоциативно связаны с данным; вторая указывает на тенденцию каждого представления возвращаться и снова проникать в течение представлений.
Н. Ах в более ранних исследованиях показал, что обе тенденции недостаточны для объяснения сознательно регулируемых актов мышления, направленных на решение какой-либо задачи, и что эти последние регулируются не столько актами репродукции представлений по ассоциативной связи и тенденцией каждого представления вновь проникать в сознание, а особой детерминирующей тенденцией, исходящей из представления о цели. В исследовании понятий Ах снова показывает, что центральным моментом, без которого никогда не возникает новое понятие, является регулирующее действие детерминирующей тенденции, исходящей из поставленной перед испытуемым задачи.
Таким образом, по схеме Аха образование понятий строится не по типу ассоциативной цепи, где одно звено вызывает и влечет за собой другое, ассоциативно с ним связанное, а по типу целенаправленного процесса, состоящего из ряда операций, играющих роль средств для разрешения основной задачи. Само по себе заучивание слов и связывание их с предметами не приводят к образованию понятия; нужно, чтобы перед испытуемым возникла задача, которая не может быть решена иначе как с помощью образования понятий, для того чтобы возник и этот процесс.
Мы уже говорили, что Ах сделал огромный шаг вперед по сравнению с прежними исследованиями: он включил процессы образования понятий в структуру разрешения определенной задачи и исследовал функциональное значение и роль этого момента. Однако этого мало, ибо сама по себе поставленная цель, задача[42], конечно, совершенно необходимый момент для того, чтобы функционально связанный с ее разрешением процесс мог возникнуть; но ведь есть цель и у дошкольников, есть и у ребенка раннего возраста, между тем ни ребенок раннего возраста, ни дошкольник, ни вообще, как мы уже говорили, ребенок раньше 12 лет, вполне способный осознать стоящую перед ним задачу, не способен еще, однако, выработать новое понятие.
Ведь сам Ах в исследованиях показал, что дети дошкольного возраста при решении задачи отличаются от взрослых и от подростков не тем, что хуже, или менее полно, или менее верно представляют себе цель, но тем, что дошкольники совершенно
123
по-иному развертывают весь процесс решения задачи.
Д. Н. Узнадзе50 в сложном экспериментальном исследовании образования понятий у дошкольников, на котором мы остановимся ниже, показал, что дошкольник в функциональном отношении сталкивается с задачами совершенно так же, как и взрослый, когда он оперирует понятием, но только решает эти задачи совершенно по-иному. Ребенок так же, как и взрослый, пользуется словом как средством; для него, следовательно, слово так же связано с функцией сообщения, осмысливания, понимания, как и для взрослого.
Таким образом, не задача, не цель и не исходящая из нее детерминирующая тенденция, но другие, не привлеченные этими исследователями факторы, очевидно, обусловливают существенное генетическое различие между мышлением в понятиях взрослого человека и иными формами мышления, отличающими ребенка раннего возраста. В частности, Узнадзе обратил внимание на один из функциональных моментов, выдвинутых исследованием Аха на первый план, — на момент сообщения, взаимного понимания людей с помощью речи. «Но слово, разумеется, является орудием человеческого взаимопонимания. При выработке понятий это играет решающую роль. В процессе взаимопонимания комплекс определенных звуков приобретает определенное значение: следовательно, он превращается в слово или понятие. Если бы не было этого функционального момента — взаимопонимания, — то ни один комплекс звуков не мог бы сделаться носителем значения и, таким образом, не возникло бы ни одного понятия» (Д. Н. Узнадзе, 1966, с. 76).
Известно, что контакт между ребенком и окружающим его миром взрослых устанавливается чрезвычайно рано. Ребенок с самого начала растет в атмосфере говорящего окружения и сам начинает применять механизм речи уже со второго года жизни. «Бесспорно, он пользуется не комплексами бессмысленных звуков, а подлинными словами и с течением времени наделяет их все более дифференцированными значениями» (там же, с. 77). Вместе с тем можно считать установленным, что ребенок относительно поздно достигает той ступени социализации своего мышления, которая необходима для выработки вполне развитых понятий.
«Таким образом, с одной стороны, мы видим, что полноценное понятие, которое знаменует высшую ступень социализации мышления, развивается лишь в поздний период, а с другой — что дети весьма рано начинают пользоваться словами и хорошо понимают себя и взрослых. Отсюда ясно, что слово, прежде чем оно достигнет ступени полноценного понятия, может принять на себя функцию этого последнего и служить людям в качестве орудия взаимопонимания. Специальное исследование со-
124
ответствующего возраста должно показать, как развиваются те формы мышления, которые должны считаться не понятиями, а всего лишь их функциональными эквивалентами, и как они достигают той ступени, которая характеризует полностью развитое мышление» (там же).
Все исследование Узнадзе показывает, что эти формы мышления, являющиеся функциональными эквивалентами мышления в понятиях, качественно и структурно глубоко отличаются от более развитого мышления подростка и взрослого человека. Вместе с тем это отличие не может быть обосновано тем фактором, который выдвигает Ах, ибо именно в функциональном отношении, в смысле решения определенных задач, в смысле детерминирующих тенденций, исходящих из целевых представлений, эти формы являются, как показал Узнадзе, эквивалентными понятиями.
Мы имеем, таким образом, следующее положение: задача и исходящие из нее целевые представления, оказывается, доступны ребенку на относительно ранних ступенях его развития; именно благодаря принципиальному тождеству задачи понимания и сообщения у ребенка и взрослого у детей чрезвычайно рано развиваются функциональные эквиваленты понятий, но при тождестве задачи, при эквивалентности функционального момента самые формы мышления, функционирующие в процессе решения этой задачи, у ребенка и взрослого глубоко различны по своему составу, строению, способу деятельности.
Очевидно, что не задача и заключающиеся в ней целевые представления сами по себе определяют и регулируют все течение процесса, а некоторый новый фактор, оставленный Ахом без внимания. Очевидно, далее, что задача и связанные с ней детерминирующие тенденции не в состоянии объяснить нам того генетического и структурного различия, которое мы наблюдаем в функционально-эквивалентных формах мышления ребенка и взрослого.
Цель вообще не есть объяснение. Без существования цели невозможно, конечно, никакое целесообразное действие, но наличие этой цели никоим образом не объясняет нам еще всего процесса ее достижения в его развитии и в его строении. Цель и исходящие от нее детерминирующие тенденции, как говорит сам Ах по поводу более старых методов, пускают в ход процесс, но не регулируют его. Наличие цели, наличие задачи является необходимым, но недостаточным моментом для возникновения целесообразной деятельности. Не может возникнуть никакой целесообразной деятельности без наличия цели и задачи, пускающей в ход этот процесс, дающей ему направление[43]. Но наличие цели и задачи еще не гарантирует того, что к жизни будет вызвана действительно целесообразная деятельность, и во вся-
125
ком случае не обладает волшебной силой определять и регулировать течение и строение этой деятельности. Опыт ребенка и опыт взрослого полны случаев, когда не решенные, не разрешимые на данной ступени развития или плохо разрешенные задачи, недостигнутые или недостижимые цели возникают перед человеком без того, однако, чтобы их возникновение гарантировало успех. Очевидно, в объяснении природы психического процесса, приводящего к разрешению задачи, мы должны исходить из цели, но не можем ограничиться ею.
Цель, как уже сказано, не есть объяснение процесса. Главной и основной проблемой, связанной с процессом образования понятия и процессом целесообразной деятельности вообще, является проблема средств, с помощью которых выполняется та или иная психическая операция, совершается та или иная целесообразная деятельность.
Так же точно труд как целесообразную деятельность человека мы не можем удовлетворительно объяснить, сказав, что он вызывается к жизни теми целями, теми задачами, которые стоят перед человеком, а должны объяснить с помощью употребления орудий, применения своеобразных средств, без которых труд не мог бы возникнуть; таким же образом центральной проблемой при объяснении высших форм поведения является проблема средств, с помощью которых человек овладевает процессом собственного поведения.
Как показывают исследования, на которых мы не будем здесь останавливаться, все высшие психические функции объединяет тот общий признак, что они являются опосредованными процессами, т. е. включают в свою структуру как центральную и основную часть всего процесса в целом употребление знака основного средства направления и овладения психическими процессами.
В интересующей нас проблеме образования понятий таким знаком является слово, выступающее в роли средства образования понятий и становящееся позже его символом. Только изучение функционального употребления слова и его развития, его многообразных, качественно различных на каждой возрастной ступени, но генетически связанных друг с другом форм применения может послужить ключом к изучению образования понятий.
Главнейший недостаток методики Аха тот, что с ее помощью мы не выясняем генетический процесс образования понятий, но только констатируем наличие или отсутствие этого процесса. Уже организация опыта предполагает, что средства, с помощью которых образуется понятие, т. е. экспериментальные слова, играющие роль знаков, даны с самого начала, являются постоянной величиной, не изменяющейся в течение всего опыта, больше
126
того, способ их применения заранее предусмотрен в инструкции. Однако слова не выступают с самого начала в роли знаков, они принципиально ничем не отличаются от другого ряда стимулов, выступающих в опыте, от предметов, с которыми они связываются. В критических, полемических целях, стремясь доказать, что одной ассоциативной связи между словами и предметами недостаточно для возникновения значения, что значение слова или понятие не равно ассоциативной связи между звуковым комплексом и рядом объектов, Ах всецело сохраняет традиционный ход процесса образования понятий, подчиненный известной схеме, которую можно выразить словами: снизу вверх, от отдельных конкретных предметов к немногим охватывающим их понятиям.
Но, как устанавливает и сам Ах, такой ход эксперимента находится в резком противоречии с действительным процессом образования понятий и, как мы увидим ниже, отнюдь не строится на основе ряда ассоциативных цепей. Этот процесс, употребляя ставшие уже известными слова М. Фогеля, не сводится к подниманию вверх по пирамиде понятий, к переходу от конкретного ко все более и более абстрактному. В этом и заключается один из основных результатов, к которым привели исследования Аха и Римата, разоблачившие неправильность ассоциативной точки зрения на процесс образования понятия, указавшие на продуктивный, творческий характер понятия, выяснившие существенную роль функционального момента в возникновении понятия, подчеркнувшие тот факт, что только при возникновении известной потребности, надобности в понятии, только в процессе какой-то осмысленной целесообразной деятельности, направленной на достижение известной цели или решение определенной задачи, может возникнуть и оформиться понятие.
Эти исследования, покончившие раз и навсегда с механистическим представлением об образовании понятий, тем не менее не раскрыли действительной генетической, функциональной и структурной природы этого процесса и сбились на путь чисто телеологического объяснения высших функций, сводящегося по существу к утверждению, что цель сама создает соответствующую и целесообразную деятельность с помощью детерминирующих тенденций, что задача сама заключает в себе свое решение.
Помимо общей философской и методологической несостоятельности этого взгляда, мы говорили уже, что и в фактическом отношении такого рода объяснение приводит к неразрешимым противоречиям, к невозможности объяснить, почему при функциональном тождестве задач или целей формы мышления, с помощью которых ребенок разрешает эти задачи, глубоко отличны друг от друга на каждой возрастной ступени.
127
С этой точки зрения вообще непонятен тот факт, что формы мышления развиваются. Поэтому исследования Аха и Римата, начавшие, несомненно, новую эпоху в изучении понятий, тем не менее оставили совершенно открытой проблему с точки зрения ее каузально-динамического объяснения, и экспериментальному исследованию предстояло изучить процесс образования понятий в его развитии, в его каузально-динамической обусловленности.
2
В разрешении этой задачи мы опирались на специальную методику экспериментального исследования, которую мы могли бы обозначить как функциональную методику двойной стимуляции. Сущность этой методики заключается в том, что она исследует развитие и деятельность высших психических функций с помощью двух рядов стимулов, из которых каждый выполняет различную роль по отношению к поведению испытуемого. Один ряд стимулов выполняет функцию объекта, на который направлена деятельность испытуемого, а другой — функцию знаков, с помощью которых эта деятельность организуется.
Мы не станем описывать сейчас в подробностях применение этой методики к исследованию процесса образования понятий, так как она была разработана нашим сотрудником Л. С. Сахаровым51 (1930). Мы ограничимся только общими указаниями относительно основных моментов, которые могут иметь принципиальное значение в связи со сказанным выше. Перед данным исследованием стояла задача раскрыть роль слова и характер его функционального употребления в процессе образования понятия, и поэтому весь эксперимент строился в известном смысле противоположным образом по сравнению с экспериментом Аха.
У Аха начало опыта образует период заучивания, когда испытуемый, не получивший еще никакой задачи от экспериментатора, но получивший все необходимые для решения задачи средства (слова), заучивает, поднимая и разглядывая каждый предмет, названия выставленных перед ним объектов. Таким образом, задача не дана с самого начала, она вводится впоследствии, образуя повторный момент в течении эксперимента. Средства (слова), напротив, даны с самого начала, но даны в прямой ассоциативной связи со стимулами-объектами.
В методике двойной стимуляции оба эти момента разрешены обратным образом. Задача развернута полностью с первого момента опыта перед испытуемым и остается в продолжение каждого этапа опыта одной и той же. Поступая так, мы исходили из того соображения, что постановка задачи, возникновение цели[44] является необходимой предпосылкой для формирования процесса в целом, но средства вводятся постепенно, с каждой
128
новой попыткой испытуемого решить задачу при недостаточности прежде данных слов. Период заучивания отсутствует вовсе. Превращая, таким образом, средства решения задачи, т. е. стимулы-знаки, или слова в переменную величину, а задачу сделав постоянной величиной, мы получили возможность исследовать, как испытуемый применяет знаки в качестве средств направления своих интеллектуальных операций и как в зависимости от способа употребления слова, от его функционального применения протекает и развивается процесс образования понятия в целом.
Чрезвычайно существенным и принципиально важным во всем исследовании представляется момент, о котором подробно нам придется говорить ниже и который состоит в том, что при такой организации эксперимента пирамида понятий оказывается опрокинутой на голову. Ход решения задачи в эксперименте соответствует реальному образованию понятий, который, как мы увидим, не строится механически, суммарно, подобно коллективной фотографии Ф. Гальтона, путем постепенного перехода от конкретного к абстрактному, но для которого движение сверху вниз, от общего к частному, от вершины пирамиды к ее основанию является столь же характерным, как и обратный процесс восхождения к вершинам абстрактного мышления.
Наконец, существенно важным является функциональный момент, о котором говорил Ах: понятие взято не в его статическом и изолированном виде, а в живых процессах мышления, решения задачи, так что все исследование распадается на ряд отдельных этапов и каждый включает в себя понятие в действии, в том или ином его функциональном применении в процессах мышления. Вначале следует процесс выработки понятия, затем процесс перенесения выработанного понятия на новые объекты, затем пользование понятием в процессе свободного ассоциирования, наконец, применение понятия в образовании суждений и определение вновь выработанных понятий.
Весь эксперимент протекал следующим образом: перед испытуемым на особой доске, разделенной на отдельные поля, беспорядочно выставлялись ряды фигур различного цвета, формы и размеров.
Эти фигуры изображены на рис. 1. Перед испытуемым открывается одна из этих фигур, на оборотной стороне которой он прочитывает бессмысленное слово.
Испытуемому предлагается выставить на другое поле доски все фигуры, на которых, по его предположению, написано то же слово. После каждой попытки испытуемого решить задачу экспериментатор, проверяя его, раскрывает новую фигуру, которая или носит тождественное название с уже открытой прежде,
129

будучи отличной от нее одними признаками и сходной другими, или обозначена иным знаком, походя на прежде открытую фигуру в одних отношениях и отличаясь от нее в других.
Таким образом, после каждой новой попытки увеличивается количество раскрытых фигур, а вместе и количество означающих их знаков, и экспериментатор приобретает возможность следить, как в зависимости от этого основного фактора изменяется характер решения задачи, остающейся на всех этапах опыта одной и той же. Одно и то же слово помещено на фигурах, относящихся к одному общему экспериментальному понятию, обозначаемому данным словом.
3
В нашей лаборатории Л. С. Сахаровым был начат, а нами в сотрудничестве с Ю. В. Котеловой52 и Е. И. Пашковской продолжен и закончен ряд исследований процесса образования понятий. Эти исследования охватывают в общей сложности больше 300 лиц — здоровых детей, подростков и взрослых, а также страдающих патологическими нарушениями интеллектуальной и речевой деятельности.
Основной вывод исследования имеет непосредственное отношение к интересующей нас сейчас теме. Прослеживая генетический ход образования понятий на различных возрастных ступенях, сравнивая и оценивая этот процесс, протекающий в одинаковых условиях у ребенка, подростка и взрослого, мы имели возможность выяснить на основании экспериментального исследования основные закономерности, управляющие развитием этого процесса.
Основной вывод нашего исследования в генетическом разрезе может быть сформулирован в виде общего закона, гласящего, что развитие процессов, приводящих впоследствии к образованию понятий, уходит своими корнями глубоко в детство, но только в переходном возрасте вызревают, складываются и развиваются те интеллектуальные функции, которые в своеобразном сочетании образуют психическую основу процесса образования понятий.
130
Только при превращении ребенка в подростка становится возможным решительный переход к мышлению в понятиях. До этого возраста мы имеем своеобразные интеллектуальные образования, которые по внешнему виду сходны с истинным понятием и которые вследствие этого внешнего сходства при поверхностном исследовании могут быть приняты за симптомы, указывающие на наличие подлинных понятии уже в очень раннем возрасте. Эти интеллектуальные образования действительно эквивалентны в функциональном отношении вызревающим значительно позже настоящим понятиям. Это значит, что они выполняют сходную с понятиями функцию при решении сходных задач, но экспериментальный анализ Показывает, что по своей психологической природе, составу, строению и по способу деятельности эквиваленты понятий так же точно относятся к этим последним, как зародыш относится к зрелому организму. Отождествлять то и другое — значит игнорировать длительный процесс развития, ставить знак равенства между его начальной и конечной стадиями.
Не будет никаким преувеличением, если мы скажем, что отождествлять интеллектуальные операции, появляющиеся в переходном возрасте, с мышлением трехлетнего ребенка, как это делают многие психологи, столь же мало основательно, как отрицать, что второй школьный возраст является эпохой полового созревания на том только основании, что элементы будущей сексуальности, частичные составные части будущего влечения обнаруживают себя уже в грудном возрасте.
В дальнейшем мы будем иметь возможность останавливаться более подробно на сравнении истинных понятий, возникающих в переходном возрасте, и эквивалентных им образований, встречаемых в мышлении дошкольника и школьника. Путем этого сравнения мы сумеем установить то действительно новое, что возникает в мышлении в переходном возрасте и что выдвигает образование понятий в центр психических перемен, составляющих содержание кризиса созревания. Сейчас мы остановимся в самых общих чертах на выяснении психической природы процесса образования понятий и на раскрытии того, почему только подросток приходит к овладению этим процессом.
Экспериментальное исследование процесса образования понятий показало, что функциональное употребление слова или другого знака в качестве средства активного направления внимания, расчленения и выделения признаков, их абстрагирования и синтеза — основная и необходимая часть процесса в целом. Образование понятия или приобретение словом значения является результатом сложной активной деятельности (оперирование словом или знаком), в которой участвуют все основные интеллектуальные функции в своеобразном сочетании.
131
В таком виде мы могли бы сформулировать основное положение, к которому приводит нас исследование. Оно показывает, что образование понятий — особый, своеобразный способ мышления и ближайший фактор, определяющий развитие этого нового способа мышления, не ассоциация, как полагают многие авторы, не внимание, как устанавливает Г. Мюллер53, не суждение и представление, взаимно сотрудничающие, как вытекает из теории образования понятий К. Бюлера, не детерминирующая тенденция, как на то указывает Ах, — все эти моменты, все эти процессы участвуют в образовании понятий, но ни один из них не является определяющим и существенным моментом, который мог бы адекватно объяснить возникновение новой формы мышления, качественно своеобразной и несводимой к другим элементарным интеллектуальным операциям.
Ни один из этих процессов не претерпевает в переходном возрасте сколько-нибудь заметного изменения, потому что, повторяем, ни одна из элементарных интеллектуальных функций не появляется впервые и не является действительно новым приобретением переходного возраста. В отношении элементарных функций совершенно справедливо приведенное выше мнение психологов: в интеллекте подростка не проявляется ничего принципиально нового по сравнению с тем, что имеет место уже у ребенка, мы имеем продолжающееся равномерное развитие тех самых функций, которые определились и вызрели значительно раньше.
Процесс образования понятий не сводим к ассоциациям, вниманию, представлению, суждению, детерминирующим тенденциям, хотя все эти функции — непременные участники того сложного синтеза, каким на деле является процесс образования понятий.
Центральным для этого процесса, как показывает исследование, является функциональное употребление знака или слова в качестве средства, с помощью которого подросток подчиняет своей власти собственные психические операции, с помощью которого он овладевает течением собственных психических процессов и направляет их деятельность на разрешение стоящей перед ним задачи.
Все указываемые обычно элементарные психические функции участвуют в процессе образования понятий, но в совершенно ином виде: в качестве процессов, не самостоятельно развивающихся сообразно логике собственных закономерностей, а процессов, опосредованных с помощью знака или слова, процессов, направленных на решение известной задачи и приведенных в новое сочетание, новый синтез, внутри которого каждый из частичных процессов только и приобретает свое истинное функциональное значение.
132
В применении к проблеме развития понятий это означает, что ни накопление ассоциаций, ни развитие объема и устойчивости внимания, ни накопление групп представлений, ни детерминирующие тенденции — ни один из этих процессов сам по себе, как бы далеко он ни зашел в своем развитии, не может привести к образованию понятий, а следовательно, ни один из этих процессов не может рассматриваться как генетический фактор, определяющий в основном и существенном развитие понятий. Понятие невозможно без слов, мышление в понятиях невозможно вне речевого мышления; новым, существенным, центральным моментом всего этого процесса, имеющим все основания рассматриваться как производящая причина созревания понятий, является специфическое употребление слова, функциональное применение знака в качестве средства образования понятий.
Мы уже говорили, когда обсуждали методику наших исследований, что постановка задачи и возникновение потребности в образовании понятия не могут рассматриваться как причины этого процесса, ибо они в состоянии лишь пустить в ход процесс решения задачи, но не обеспечить его осуществление. Ссылка на цель как на действующую силу, играющую решающую роль в процессе образования понятий, так же мало объясняет нам реальные каузально-динамические и генетические отношения и связи, составляющие основу этого сложного процесса, как объяснение полета пушечного ядра из конечной цели, в которую попадает это ядро. Эта конечная цель, поскольку она учитывается наперед тем, кто наводит пушку, участвует, безусловно, в общей совокупности моментов, определяющих реальную траекторию ядра. Так точно и характер задачи, цель, стоящая перед подростком и достигаемая им с помощью образования понятий, несомненно, является одним из функциональных моментов, без учета которых мы не сумеем полностью научно объяснить процесс образования понятия в целом. Именно с помощью выдвигаемых задач, с помощью возникающей и стимулирующей потребности, с помощью расставляемых перед подростком целей окружающая его социальная среда побуждает и вынуждает его сделать этот решительный шаг в развитии своего мышления.
В отличие от созревания инстинктов и врожденных влечений побуждающая сила, определяющая начало процесса, пускающая в ход какой-либо созревающий механизм поведения и толкающая его вперед по пути дальнейшего развития, заложена не внутри, а вне подростка, и в этом смысле выдвигаемые социальной средой перед созревающим подростком задачи, связанные с врастанием его в культурную, профессиональную и общественную жизнь взрослых, действительно крайне существенный функциональный момент, указывающий снова и снова на взаим-
133
ную обусловленность, на органическую связанность и внутреннее единство моментов содержания и формы в развитии мышления.
Ниже, говоря о факторах культурного развития подростка в целом, мы должны будем остановиться на давно установленном научным наблюдением факте: там, где среда не создает соответствующих задач, не выдвигает новых требований, не побуждает и не стимулирует с помощью новых целей развитие интеллекта, там мышление подростка не развивает всех действительно заложенных в нем возможностей, не доходит до высших форм или достигает их с крайним запозданием. Поэтому было бы неправильно игнорировать вовсе или сколько-нибудь приуменьшать значение функционального момента жизненной задачи как одного из реальных и мощных факторов, питающих и направляющих весь процесс интеллектуального развития в переходном возрасте. Но столь же ошибочно и ложно было бы усматривать в этом функциональном моменте каузально-динамическое развитие, вскрытие самого механизма развития, генетический ключ к проблеме развития понятий.
Перед исследователем стоит задача понять внутреннюю связь обоих этих моментов и раскрыть образование понятий, генетически связанное с переходным возрастом, как функцию социально-культурного развития, охватывающего как содержание, так и способы мышления подростка. Новое сигнификативное употребление слова, т. е. употребление его в качестве средства образования понятий, — вот что является ближайшей психологической причиной того интеллектуального переворота, который совершается на рубеже детского и переходного возрастов.
Если в этот период не появляется никакой новой, принципиально отличной от прежних, элементарной функции, отсюда было бы неправильно заключить, что с существующими элементарными функциями не происходит никаких перемен. Они включаются в новую структуру, вступают в новый синтез, входят в качестве подчиненной инстанции в новое сложное целое, закономерности которого определяют и судьбу каждой отдельной части. Процесс образования понятий предполагает в качестве основной и центральной части овладение течением собственных психических процессов с помощью функционального употребления слова или знака. Это овладение процессами собственного поведения с помощью вспомогательных средств и развивается в окончательном виде только у подростка.
Эксперимент показывает, что образование понятий не идентично выработке какого-либо, хотя бы и чрезвычайно сложного, навыка. Экспериментальное исследование образования понятий у взрослых, выяснение процесса их развития в детском возрасте
134
и изучение их распада при патологических нарушениях интеллектуальной деятельности позволяют сделать вывод, что гипотеза относительно тождества психической природы высших интеллектуальных процессов с элементарными, чисто ассоциативными процессами образования связи или навыков, выдвинутая Э. Торндайком, находится в резком противоречии с фактическими данными относительно состава, функциональной структуры и генезиса процесса образования понятий.
Эти исследования согласно показывают, что процесс образования понятий, как и всякая высшая форма интеллектуальной деятельности, не есть исключительно количественно усложненная низшая форма, что этот процесс отличается от чисто ассоциативной деятельности не количеством связей, а представляет собой принципиально новый, качественно несводимый к любому количеству ассоциативных связей тип деятельности, основное отличие которого заключается в переходе от непосредственных интеллектуальных процессов к опосредованным с помощью знаков операциям.
Сигнификативная структура (связанная с активным употреблением знаков), являющаяся общим законом построения высших форм поведения, не идентична ассоциативной структуре элементарных процессов. Само по себе накопление ассоциативных связей никогда не приводит к появлению высшей формы интеллектуальной деятельности. С помощью количественного изменения связей нельзя объяснить действительного отличия высших форм мышления.
Э. Торндайк в учении о природе интеллекта утверждает, что высшие формы интеллектуальных операций являются идентичными чисто ассоциативной деятельности или образованию связи и зависят от физиологических связей того же самого рода, но требуют их в значительно большем количестве. С этой точки зрения разница между интеллектом подростка и интеллектом ребенка сводится исключительно к количеству связей. Как отмечает Торндайк, лицо, интеллект которого является большим, или высшим, или лучшим, чем у другого, отличается от этого последнего в конечном счете не тем, что обладает физиологическим процессом нового рода, но просто большим количеством связей самого обыкновенного сорта.
Эта гипотеза не встречает, как уже сказано, подтверждения ни в экспериментальном анализе процесса образования понятий, ни в изучении их развития, ни в картине их распада. Положение Торндайка, гласящее, что как филогенез, так и онтогенез интеллекта, по-видимому, показывают, что отбор, анализ, абстракция, обобщение и размышление возникают как прямое следствие нарастания количества связей, — это положение не находит себе подтверждения в экспериментально организован-
135
ном и прослеженном онтогенезе понятий ребенка и подростка. Исследование онтогенеза понятий показывает, что развитие от низшего к высшему не идет путем количественного нарастания связей, но совершается путем качественных новообразований: в частности, речь, являющаяся одним из основных моментов в построении высших форм интеллектуальной деятельности, включается не ассоциативно — как параллельно протекающая функция, а функционально — как разумно используемое средство.
Сама речь не основана на чисто ассоциативных связях, а требует принципиально иного, именно характерного для высших интеллектуальных процессов, отношения между знаком и структурой интеллектуальной операции в целом. Филогенез интеллекта, сколько можно предполагать на основании изучения психики примитивного человека и его мышления, также не обнаруживает, во всяком случае в исторической его части, ожидаемого Торндайком пути развития от низших к высшим формам через количественное увеличение ассоциаций. После известных исследований В. Келера, Р. Йеркса и других нет оснований ожидать, что и биологическая эволюция интеллекта подтвердит идентичность мышления и ассоциации.
4
Наше исследование, если попытаться схематически раскрыть его генетические выводы, показывает, что в основном путь развития понятий складывается из трех основных ступеней, из которых каждая снова распадается на несколько отдельных этапов, или фаз.
Первая ступень в образовании понятия, наиболее часто проявляющаяся в поведении ребенка раннего возраста, — образование неоформленного и неупорядоченного множества, выделение кучи каких-либо предметов тогда, когда ребенок стоит перед задачей, которую мы, взрослые, разрешаем обычно с помощью образования нового понятия. Эта выделяемая ребенком куча предметов, объединяемая без достаточного внутреннего основания, без достаточного внутреннего родства и отношения между образующими ее частями, предполагает диффузное, ненаправленное распространение значения слова или заменяющего его знака на ряд внешне связанных во впечатлении ребенка, но внутренне не объединенных между собой элементов.
Значением слова на этой стадии развития является не определенное до конца, неоформленное синкретическое сцепление отдельных предметов, так или иначе связавшихся друг с другом в представлении и восприятии ребенка в один слитный образ. В его формировании решающую роль играет синкретизм дет-
136
ского восприятия или действия, поэтому образ крайне неустойчив.
Как известно, ребенок и в восприятии, и в мышлении, и в действии обнаруживает тенденцию связывать на основании единого впечатления самые разные и не имеющие внутренней связи элементы, приводя их в нерасчлененный, слитный образ. Эту тенденцию Э. Клапаред назвал синкретизмом детского восприятия, П. П. Блонский54 — бессвязной связностью детского мышления. Мы описали то же явление в другом месте как тенденцию ребенка замещать недостаток объективных связей переизбытком субъективных связей и принимать связь впечатлений и мыслей за связь вещей. Это перепроизводство субъективных связей имеет, конечно, огромное значение как фактор дальнейшего развития детского мышления, так как оно — основа для дальнейшего процесса отбора соответствующих действительности и проверяемых практикой связей. Значение какого-либо слова у ребенка, находящегося на данной ступени развития понятий, по внешнему виду может действительно напоминать значение слова у взрослого человека.
С помощью слов, обладающих значением, ребенок устанавливает общение со взрослыми; в этом обилии синкретических связей, этих образуемых с помощью слов неупорядоченных синкретических кучах предметов отражены в значительной степени и объективные связи постольку, поскольку они совпадают со связью впечатлений и восприятий ребенка. Поэтому значения детских слов могут во многих случаях, особенно тогда, когда они относятся к конкретным предметам окружающей ребенка действительности, совпадать со значениями тех же слов, устанавливаемыми в речи взрослых.
Ребенок, таким образом, часто встречается в значениях своих слов со взрослым, или, правильнее сказать, значение одного и того же слова у ребенка и взрослого часто пересекается на одном и том же конкретном предмете, и этого достаточно для взаимного понимания взрослых и детей. Однако психический путь, которым приходит к точке пересечения мышление взрослого и мышление ребенка, совершенно различен, и даже там, где значение детского слова частично совпадает со значением речи взрослых, оно вытекает психологически из совершенно отличных, своеобразных операций, является продуктом того синкретического смешения образов, которое стоит за детским словом.
Эта ступень, в свою очередь, распадается на три этапа, которые мы имели возможность проследить со всеми подробностями в процессе образования понятий ребенка.
Первый этап образования синкретического образа, или кучи предметов, соответствующей значению слова, вполне совпадает
137
с периодом проб и ошибок в детском мышлении. Группа новых предметов берется ребенком наугад с помощью отдельных проб, которые сменяют друг друга тогда, когда обнаруживается их ошибочность.
На втором этапе пространственное расположение фигур в искусственных условиях нашего эксперимента, т. е. опять-таки чисто синкретические законы восприятия зрительного поля и организация детского восприятия, играет решающую роль. Синкретический образ, или куча предметов, образуется на основе пространственных и временных встреч отдельных элементов, непосредственного контакта или другого, более сложного отношения, возникающего между ними в процессе непосредственного восприятия. Существенным для данного периода остается то, что ребенок руководится не объективными связями, открываемыми им в вещах, но субъективными связями, подсказываемыми ему собственным восприятием.
Предметы сближаются в один ряд и подводятся под общее значение не из-за общих, присущих им и выделенных ребенком признаков, но из-за родства, устанавливаемого между ними во впечатлении ребенка.
Наконец, третьим и высшим этапом всей этой ступени, знаменующим ее завершение и переход ко второй ступени в образовании понятий, является этап, на котором синкретический образ, эквивалентный понятию, образуется на более сложной основе и опирается на приведение к одному значению представителей различных, прежде уже объединенных в восприятии ребенка групп.
Таким образом, каждый из отдельных элементов нового синкретического ряда, или кучи, является представителем какой-то прежде объединенной в восприятии ребенка группы предметов, но все они, вместе взятые, ничем внутренне не связаны между собой и представляют такую же бессвязную связность кучи, как и эквиваленты понятий на двух предшествующих этапах.
Вся разница, все усложнение заключается только в том, что связи, которые ребенок кладет в основу значения нового слова, являются результатом не единичного восприятия, а как бы двухстепенной обработки синкретических связей: сперва образуются синкретические группы, из которых затем выделяются и снова синкретически объединяются отдельные представители. За значением детского слова теперь раскрывается уже не плоскость, а перспектива, двойной ряд связей, двойное построение групп, но этот двойной ряд и это двойное построение все же не поднимаются еще над образованием неупорядоченного множества, или, выражаясь обычно, кучи.
Ребенок, достигший этого третьего этапа, завершает тем самым всю первую ступень в развитии своих понятий, расстается
138
с куней как с основной формой значения слов и поднимается на вторую ступень, которую мы условно называем ступенью образования комплексов.
5
Вторая большая ступень в развитии понятий охватывает много разнообразных в функциональном, структурном и генетическом отношении типов одного и того же по своей природе способа мышления. Этот способ мышления так же, как и все остальные, ведет к образованию связей, установлению отношений между различными конкретными впечатлениями, к объединению и обобщению отдельных предметов, к упорядочению и систематизации всего опыта ребенка.
Но способ объединения различных конкретных предметов в общие группы, характер устанавливаемых при этом связей, структура возникающих на основе такого мышления единств, характеризующаяся отношением каждого отдельного предмета, входящего в состав группы, ко всей группе в целом, — все это глубоко отличается по типу и по способу деятельности от мышления в понятиях, развивающихся только в эпоху полового созревания.
Мы не могли бы лучше обозначить своеобразие этого способа мышления, чем назвав его мышлением в комплексах.
Это значит, что обобщения, создаваемые с помощью этого способа мышления, представляют по своему строению комплексы отдельных конкретных предметов, или вещей, объединенных уже не на основании только субъективных связей, устанавливаемых во впечатлении- ребенка, но на основе объективных связей, действительно существующих между этими предметами.
Если первая ступень в развитии мышления характеризуется, как мы говорили, построением синкретических образов, которые являются у ребенка эквивалентами наших понятий, то вторая ступень характеризуется построением комплексов, имеющих такое же функциональное значение. Это новый шаг по пути к овладению понятием, новая ступень в развитии мышления ребенка, высоко поднимающаяся над предшествующей. Это несомненный и очень значительный прогресс в жизни ребенка. Переход к высшему типу мышления состоит в том, что вместо «бессвязной связности», лежащей в основе синкретического образа, ребенок начинает объединять однородные предметы в общую группу, комплексировать их по законам объективных связей, открываемых им в вещах.
Ребенок, переходящий к этому типу мышления, преодолевает в известной степени свой эгоцентризм и перестает принимать связь собственных впечатлений за связь вещей, он совершает ре-
139
шительный шаг по пути отказа от синкретизма и по пути завоевания объективного мышления. Комплексное мышление есть уже связное мышление и одновременно объективное мышление. Это те две новые существенные черты, которые поднимают его над предыдущей ступенью. Вместе с тем и эта связность, и эта объективность еще не являются той связностью, характерной для мышления в понятиях, к которому приходит подросток.
Отличие второй ступени развития понятий от третьей и последней, завершающей весь онтогенез понятий, заключается в том, что образованные на этой ступени комплексы построены по совершенно другим законам мышления, чем понятия. В них, как уже сказано, отражены объективные связи, но они отражены другим способом и как бы иным образом, чем в понятиях. Остатками комплексного мышления полна и речь взрослого человека. Наилучший пример, позволяющий вскрыть основной закон построения того или иного мыслительного комплекса в нашей речи, — фамильное имя. Всякое фамильное имя, например «Петровы», охватывает такой комплекс единичных предметов, который ближе всего подходит к комплексному характеру детского мышления. В известном смысле мы могли бы сказать, что ребенок, находящийся на этой ступени развития, мыслит как бы фамильными именами, или, иначе говоря, мир единичных предметов объединяется и организуется для него, группируясь по отдельным, связанным между собой фамилиям. Эту же самую мысль выразим иначе, сказав, что значения слов на этой стадии развития ближе всего могут быть определены как фамильные имена объединенных в комплексы или группы предметов.
Самое существенное для построения комплекса то, что в основе его лежит не абстрактная и логическая, но конкретная и фактическая связь между отдельными элементами, входящими в его состав. Так, мы никогда не можем решить, относится ли данное лицо к фамилии Петровых и может ли оно быть так названо, основываясь лишь на логическом отношении его к другим носителям той же фамилии. Этот вопрос решается на основании фактической принадлежности или фактического родства между людьми.
В основе комплекса лежат фактические связи, открываемые в непосредственном опыте. Поэтому такой комплекс представляет собой прежде всего конкретное объединение группы предметов на основании их фактической близости друг с другом. Отсюда проистекают и все остальные особенности этого способа мышления. Главнейшие из них заключаются в следующем. Подобный комплекс лежит не в плане абстрактно-логического, а в плане конкретно-фактического мышления, поэтому он не отличается единством связей, которые лежат в его основе и устанавливаются с его помощью.
140
Комплекс, как и понятие, является обобщением или объединением конкретных разнородных предметов. Но связь, с помощью которой построено это обобщение, может быть самого различного типа. Любая связь может повести к включению данного элемента в комплекс, лишь бы она фактически была в наличии, и в этом заключается самая характерная особенность построения комплекса. В то время как в основе понятия лежат связи единого типа, логически тождественные между собой, в основе комплекса лежат самые разнообразные фактические связи, часто не имеющие друг с другом ничего общего. В понятии предметы обобщены по одному признаку, в комплексе — по различным фактическим основаниям. Поэтому в понятии отражается существенная, единообразная связь и отношение предметов, а в комплексе — фактическая, случайная, конкретная.
Многообразие связей, лежащих в основе комплекса, составляет главнейшую, отличающую его черту от понятия, для которого характерно единообразие лежащих в основе связей. Это значит, что каждый отдельный предмет, охватываемый обобщенным понятием, включается в это обобщение совершенно на тождественном основании со всеми другими предметами. Все элементы связаны с целым, выраженным в понятии и через него между собой единым образом, связью одного и того же типа. В отличие от этого каждый элемент комплекса может быть связан с целым, выраженным в комплексе, и с отдельными элементами, входящими в его состав, самыми различными связями. В понятии эти связи в основном являются отношением общего к частному и частного к частному через общее. В комплексе эти связи могут быть столь же многообразны, как многообразно фактическое соприкосновение и фактическое родство самых различных предметов, находящихся в любом конкретном отношении друг к другу.
Наши исследования намечают следующие пять основных форм комплексной системы, лежащих в основе обобщений, возникающих в мышлении ребенка на этой ступени развития.
Первый тип комплекса мы называем ассоциативным, так как в его основе лежит любая ассоциативная связь с любым из признаков, замечаемых ребенком в том предмете, который в эксперименте является ядром будущего комплекса. Ребенок может вокруг этого ядра построить целый комплекс, включая в него самые различные предметы: одни — на основании того, что они имеют тождественный с данным предметом цвет, другие — форму, третьи — размер, четвертые — еще какой-нибудь отличительный признак, бросающийся в глаза ребенку. Любое конкретное отношение, открываемое ребенком, любая ассоциативная связь между ядром и элементом комплекса оказывается достаточным поводом для отнесения предмета к подбираемой ре-
141
бенком группе и для обозначения этого предмета общим фамильным именем.
Элементы могут быть вовсе не объединены между собой. Единственным принципом их обобщения является их фактическое родство с основным ядром комплекса. Связь, объединяющая их с этим последним, может быть любой ассоциативной связью. Один элемент может оказаться родственным ядру будущего комплекса по цвету, другой — по форме и т. д. Если принять во внимание, что эта связь может быть различной не только по признаку, лежащему в ее основе, но и по характеру отношения между двумя предметами, нам станет ясно, до какой степени пестра, не упорядочена, мало систематизирована, не приведена к единству, хотя и основана на объективных связях, смена множества конкретных признаков, вскрываемых всякий раз за комплексным мышлением. В основе этого множества может лежать не только прямое тождество признаков, но и их сходство или контраст, их ассоциативная связь по смежности и т. д., однако всегда и непременно конкретная связь.
Для ребенка, находящегося в этой фазе развития, слова уже перестают быть обозначением отдельных предметов, именами собственными. Они становятся для него фамильными именами. Сказать слово для ребенка в эту пору означает указать на фамилию вещей, родственно связанных между собой по самым различным линиям родства. Назвать данный предмет соответствующим именем значит для ребенка отнести его к тому или иному конкретному комплексу, с которым он связан. Назвать предмет для ребенка в эту пору означает назвать его фамилию.
6
Вторую фазу в развитии комплексного мышления образует объединение предметов и конкретных образов вещей в особые группы, которые больше всего напоминают то, что принято называть коллекциями. Здесь различные конкретные предметы объединяются на основе взаимного дополнения по какому-либо одному признаку и образуют единое целое, состоящее из разнородных, взаимно дополняющих друг друга частей. Именно разнородность состава, взаимное дополнение и объединение на основе коллекции характеризуют эту ступень в развитии мышления.
В экспериментальных условиях ребенок подбирает к данному образцу другие фигуры, которые отличаются от образца по цвету, форме, величине или какому-либо другому признаку. Однако ребенок подбирает их не хаотически и не случайно, а по признаку их различия и дополнения к признаку, заключенному в образце и принятому за основу объединения. Возникаю-
142
щая на основе такого построения коллекция образует собрание различных по цвету или форме предметов, представляя собой набор основных цветов или основных форм, встречающихся в экспериментальном материале.
Существенное отличие этой формы комплексного мышления от ассоциативного комплекса то, что в коллекцию не включаются дважды предметы, обладающие одним и тем же признаком. От каждой группы предметов отбираются единичные экземпляры в качестве представителей всей группы. Вместо ассоциации по сходству здесь действуют, скорее, ассоциации по контрасту. Правда, эта форма мышления часто соединяется с описанной выше ассоциативной формой. Тогда получается коллекция составленная на основе различных признаков. В процессе формирования коллекции ребенок не выдерживает последовательного принципа, положенного в основу образования комплекса, а ассоциативно объединяет различные признаки, хотя каждый признак кладет в основу коллекции.
Эта длительная и стойкая фаза в развитии детского мышления имеет очень глубокие корни в конкретном, наглядном и практическом опыте ребенка. В наглядном и практическом мышлении ребенок всегда имеет дело с коллекциями вещей, взаимно дополняющих друг друга, как с известным целым. Вхождение отдельных предметов в коллекцию, практически важный, целый и единый в функциональном отношении набор взаимно дополняющих предметов — самая частая форма обобщения конкретных впечатлений, которой учит ребенка его наглядный опыт. Стакан, блюдце и ложка; обеденный прибор, состоящий из вилки, ножа, ложки и тарелки; одежда — все это образцы комплексов-коллекций, с которыми встречается ребенок в повседневной жизни.
Отсюда естественно и понятно, что и в словесном мышлении ребенок приходит к построению таких комплексов-коллекций, подбирая предметы в конкретные группы по признаку функционального дополнения. Мы увидим дальше, что и в мышлении взрослого человека, а особенно в мышлении нервно- и душевнобольных, такие формы комплексных образований, строящихся по типу коллекции, играют чрезвычайно важную роль. Очень часто в конкретной речи, когда взрослый человек говорит о посуде или об одежде, он имеет в виду не столько соответствующее абстрактное понятие, сколько соответствующие наборы конкретных вещей, образующих коллекцию.
Если в основе синкретических образов лежат главным образом эмоциональные субъективные связи между впечатлениями, принимаемыми ребенком за связи вещей, если в основе ассоциативного комплекса лежит возвращающееся и навязчивое сходство признаков отдельных предметов, то в основе коллекции
143
лежат связи и отношения вещей, устанавливаемые в практически действенном и наглядном опыте ребенка. Мы могли бы сказать, что комплекс-коллекция есть обобщение вещей на основе их соучастия в единой практической операции, на основе их функционального сотрудничества.
Все эти три различные формы мышления интересуют нас сейчас не сами по себе, а лишь как различные генетические пути, ведущие к одному пункту — к образованию понятия.
7
За фазой комплекс-коллекция в развитии комплексного мышления ребенка, в соответствии с логикой экспериментального анализа, следует цепной комплекс, являющийся также неизбежной ступенью в процессе восхождения ребенка к овладению понятиями.
Цепной комплекс строится по принципу динамического, временного объединения отдельных звеньев в единую цепь и переноса значения через отдельные звенья этой цепи. В экспериментальных условиях этот тип комплекса обычно представлен следующим образом: ребенок подбирает к заданному образцу один или несколько предметов, ассоциативно связанных в каком-либо определенном отношении; затем ребенок продолжает дальнейший подбор конкретных предметов в единый комплекс, уже руководствуясь каким-нибудь другим побочным признаком прежде подобранного предмета, признаком, который в образце не встречается вовсе.
Например, ребенок к образцу — желтому треугольнику — подбирает несколько фигур с углами, а затем, если последняя из подобранных фигур оказывается синего цвета, ребенок подбирает к ней другие фигуры синего цвета, например полуокружности, круги. Этого снова оказывается достаточным для того, чтобы подойти к новому признаку и подобрать дальше предметы уже по признаку округлой формы. В процессе образования комплекса совершается переход от одного признака к другому.
Значение слова тем самым передвигается по звеньям комплексной цепи. Каждое звено соединено, с одной стороны, с предшествующим, а с другой — с последующим, причем самое важное отличие этого типа комплекса в том, что характер связи или способ соединения одного и того же звена с предшествующим и последующим может быть совершенно различным.
Снова в основе комплекса лежит ассоциативная связь между отдельными конкретными элементами, но она вовсе не необходимо должна связывать каждое отдельное звено с образцом. Каждое звено, включаясь в комплекс, становится таким же равноправным членом комплекса, как и сам образец, и снова по
144
ассоциативному признаку может стать центром притяжения для ряда конкретных предметов.
Здесь мы видим совершенно наглядно, до какой степени комплексное мышление носит наглядно-конкретный и образный характер. Предмет, по ассоциативному признаку включаемый в комплекс, входит в него как данный конкретный предмет со всеми его признаками, а отнюдь не как носитель одного определенного признака, из-за которого он оказался причисленным к данному комплексу. Этот признак не отвлечен ребенком от всех остальных и не играет никакой специфической роли по сравнению со всеми остальными. Он выступает на первый план по функциональному значению, он равный среди равных, один среди многих других признаков.
Здесь мы имеем возможность нащупать ту существенную для всего комплексного мышления особенность, которая отличает этот вид мышления от мышления в понятиях. Особенность состоит в том, что в комплексе, в отличие от понятий, отсутствуют иерархическая связь и иерархические отношения признаков. Все признаки принципиально равны в функциональном значении. Отношение общего к частному, т. е. комплекса к каждому отдельному конкретному элементу, входящему в его состав, и отношение элементов между собой, как и закон построения всего обобщения, существенно отличаются от всех этих моментов в построении понятия.
В цепном комплексе структурный центр может отсутствовать вовсе. Частные конкретные элементы могут вступать в связь между собой, минуя центральный элемент, или образец[45], и могут поэтому не иметь с другими элементами ничего общего, но тем не менее принадлежать к одному комплексу, так как они имеют общий признак с каким-нибудь другим элементом, а этот другой, в свою очередь, связан с третьим и т. д. Первый и третий элементы могут не иметь между собой никакой связи, кроме того, что они оба, каждый по своему признаку, связаны со вторым.
Мы поэтому вправе рассматривать цепной комплекс как наиболее чистый вид комплексного мышления, ибо в отличие от ассоциативного комплекса, в котором существует некий центр, заполняемый образцом, данный комплекс лишен всякого центра. Это значит, что в ассоциативном комплексе связи отдельных элементов устанавливаются через некий общий элемент, образующий центр комплекса, а в цепном комплексе этого центра нет. Связь в нем существует постольку, поскольку возможно фактически сблизить отдельные элементы. Конец цепи может не иметь ничего общего с началом. Для того чтобы они принадлежали к одному комплексу, достаточно, чтобы их склеивали, связывали промежуточные соединительные звенья.
145
Поэтому, характеризуя отношение отдельного конкретного элемента к комплексу в целом, мы могли бы сказать, что в отличие от понятия конкретный элемент входит в комплекс как реальная наглядная единица со всеми своими фактическими признаками и связями. Комплекс стоит не над своими элементами, как понятие над входящими в него конкретными предметами. Комплекс фактически сливается с конкретными предметами, входящими в его состав и связанными между собой. Это слияние общего и частного, комплекса и элемента, эта психическая амальгама, по выражению Г. Вернера, составляет самую существенную черту комплексного мышления вообще и цепного комплекса в частности. Благодаря этому комплекс, фактически неотделимый от конкретной группы объединяемых им предметов и непосредственно сливающийся с этой наглядной группой, приобретает часто неопределенный, как бы разлитой характер.
Связи незаметно переходят одна в другую, характер и тип этих связей незаметно изменяются. Нередко отдаленного сходства, самого поверхностного касания признаков достаточно для образования фактической связи. Сближение признаков устанавливается часто не столько на основе их действительного сходства, сколько на основе отдаленного смутного впечатления некоторой общности между ними. Возникает то, что мы в условиях экспериментального анализа обозначаем как четвертую фазу в развитии комплексного мышления, или как диффузный комплекс.
8
Существенная черта четвертого типа комплекса та, что самый признак, ассоциативно объединяющий отдельные конкретные элементы и комплексы, как бы диффундирует, становится неопределенным, разлитым, смутным, в результате чего образуется комплекс, объединяющий с помощью диффузных, неопределенных связей наглядно-конкретные группы образов или предметов. Ребенок, например, к заданному образцу — желтому треугольнику — подбирает не только треугольники, но и трапеции, так как они напоминают ему треугольники с отрезанной вершиной. Дальше к трапециям примыкают квадраты, к квадратам — шестиугольники, к шестиугольникам — полуокружности и затем круги. Так же как здесь разливается и становится неопределенной форма, взятая в качестве основного признака, так же иногда сливаются цвета, когда в основу комплекса кладется диффузный признак цвета. Ребенок подбирает вслед за желтыми предметами зеленые, к зеленым — синие, к синим — черные.
Эта чрезвычайно стойкая и важная в естественных услови-
146
ях развития ребенка форма комплексного мышления представляет для экспериментального анализа интерес, так как обнаруживает с наглядной ясностью еще одну чрезвычайно существенную черту комплексного мышления, а именно неопределенность его очертаний и принципиальную безграничность.
Подобно тому как древний библейский род, будучи совершенно конкретным фамильным объединением людей, мечтал размножиться и стать неисчислимым, как звезды небесные и как морской песок, так же точно диффузный комплекс в мышлении ребенка представляет собой такое фамильное объединение вещей, которое заключает в себе безграничные возможности расширения и включения в основной род все новых и новых, однако совершенно конкретных предметов.
Если комплекс-коллекция представлен в естественной жизни ребенка преимущественно обобщениями на основе функционального родства отдельных предметов, то жизненным прототипом, естественным аналогом диффузного комплекса в развитии мышления ребенка являются обобщения, создаваемые им именно в тех областях его мышления, которые не поддаются практической проверке, иначе говоря, в областях не наглядного и не практического мышления. Мы знаем, какие неожиданные сближения, часто непонятные для взрослого, какие скачки в мышлении, какие рискованные обобщения, какие диффузные переходы обнаруживает ребенок, когда он начинает рассуждать или мыслить за пределами своего наглядно-предметного мирка и своего практически-действенного опыта. Ребенок вступает в мир диффузных обобщений, где признаки скользят и колеблются, незаметно переходя один в другой. Здесь нет твердых очертаний. Здесь господствуют безграничные комплексы, часто поражающие универсальностью объединяемых ими связей.
Между тем стоит только достаточно внимательно проанализировать такой комплекс, чтобы убедиться: принцип его построения тот же, что и принцип построения ограниченных конкретных комплексов. Здесь, как и там, ребенок не выходит за пределы наглядно-образных конкретных фактических связей между отдельными предметами. Вся разница в том, что, поскольку комплекс объединяет вещи, находящиеся вне практического познания ребенка, постольку эти связи покоятся на неверных, неопределенных, скользящих признаках.
9
Нам остается для завершения всей картины развития комплексного мышления остановиться еще на одной, последней форме, имеющей огромное значение как в экспериментальном, так и в реальном жизненном мышлении ребенка. Эта форма отбра-
147
сывает от себя свет назад и вперед, так как она, с одной стороны, освещает нам все уже пройденные ребенком ступени комплексного мышления, а с другой — служит переходным мостом к новой и высшей ступени — к образованию понятий.
Мы называем этот тип комплекса псевдопонятием; на том основании, что обобщение, возникающее в мышлении ребенка, напоминает по внешнему виду понятие, которым пользуется в интеллектуальной деятельности взрослый человек, но которое по своей сущности, по своей психологической природе представляет нечто совершенно иное, чем понятие в собственном смысле.
Если мы внимательно станем исследовать эту последнюю ступень в развитии комплексного мышления, то мы увидим, что перед нами комплексное объединение ряда конкретных предметов, которое фенотипически, т. е. по внешнему виду, по совокупности внешних особенностей, совершенно совпадает с понятием, но по генетической природе, по условиям возникновения и развития, по каузально-динамическим связям, лежащим в его основе, отнюдь не является понятием. С внешней стороны перед нами понятие, с внутренней стороны — комплекс. Мы поэтому называем его псевдопонятием.
В экспериментальных условиях псевдопонятие образуется ребенком всякий раз, когда он подбирает к заданному образцу ряд предметов, которые могли бы быть подобраны и объединены друг с другом на основе какого-нибудь отвлеченного понятия. Это обобщение, следовательно, могло бы возникнуть и на основе понятия, но реально у ребенка оно возникает на основе комплексного мышления.
Только конечный результат приводит к тому, что комплексное обобщение совпадает с обобщением, построенным на основе понятия. Например, ребенок к заданному образцу — желтому треугольнику — подбирает все имеющиеся в экспериментальном материале треугольники. Такая группа могла бы возникнуть и на основе отвлеченного мышления (понятия или идеи треугольника). Но на деле, как показывает исследование, ребенок объединил предметы на основе их конкретных, фактических наглядных связей, на основе простого ассоциирования. Он построил только ограниченный ассоциативный комплекс; он пришел к той же точке, но шел совершенно иным путем.
Этот тип комплекса, эта форма наглядного мышления имеет преобладающее значение в реальном мышлении ребенка как в функциональном, так и в генетическом отношении. Поэтому мы должны несколько подробнее остановиться на этом узловом моменте в развитии понятий у ребенка, на этом перевале, отделяющем комплексное мышление от мышления в понятиях и одновременно связывающем обе эти генетические ступени образования понятий.
148
10
Прежде всего следует отметить, что в реальном жизненном мышлении ребенка псевдопонятия составляют наиболее распространенную, превалирующую над всеми остальными и часто почти исключительную форму комплексного мышления дошкольника. Эта распространенность данной формы комплексного мышления имеет свое глубокое функциональное основание и свое глубокое функциональное значение. Причина этой распространенности и почти исключительного господства данной формы — то обстоятельство, что детские комплексы, соответствующие значению слов, развиваются не свободно, не спонтанно, по линиям, намеченным самим ребенком, но по определенным направлениям, которые предначертаны для развития комплекса уже установившимися в речи взрослых значениями слов.
Только в эксперименте мы освобождаем ребенка от этого направляющего влияния слов нашего языка с уже выработанным, устойчивым кругом значений и предоставляем ребенку развивать значения слов и создавать комплексные обобщения по своему свободному усмотрению. В этом и заключается огромное значение эксперимента, который позволяет вскрыть, в чем проявляется собственная активность ребенка при усвоении языка взрослых. Эксперимент показывает нам, чем был бы детский язык и к каким обобщениям привело бы ребенка его мышление, если бы оно не направлялось языком окружающей среды, заранее определяющим круг конкретных предметов, на которые может быть распространено значение данного слова.
Нам могли бы возразить, что употребленное нами сослагательное наклонение говорит скорее против эксперимента, чем за него. Ведь ребенок на деле не свободен в развитии значений, получаемых им из речи взрослых. Это возражение мы могли бы отвести, указав на то, что эксперимент учит нас не только тому, что было бы, если бы ребенок был свободен от направляющего влияния речи взрослых и развивал свои обобщения самостоятельно и свободно. Эксперимент вскрывает перед нами ту замаскированную от поверхностного наблюдения, реально протекающую активную деятельность ребенка в образовании обобщений, которая не уничтожается, а только прикрывается и принимает очень сложную форму благодаря влиянию речи окружающих. Мышление ребенка, направляемое устойчивыми постоянными значениями слов, не изменяет основных законов своей деятельности. Эти законы приобретают только своеобразное выражение в тех конкретных условиях, в которых протекает реальное развитие мышления ребенка.
Речь окружающих с ее устойчивыми, постоянными значениями предопределяет пути, по которым движется развитие обоб-
149
щений у ребенка. Она связывает собственную активность ребенка, направляя ее по определенному, строго очерченному руслу. Но, идя по этому определенному, предначертанному пути, ребенок мыслит так, как это свойственно на той ступени развития интеллекта, на которой он находится. Взрослые, обращаясь с ребенком при помощи речи, могут определить путь, по которому идет развитие обобщений, и конечную точку этого пути, т. е. обобщение, получаемое в его результате. Но взрослые не могут передать ребенку своего способа мышления. Ребенок усваивает от взрослых готовые значения слов. Ему не приходится самому подбирать конкретные предметы и комплексы.
Пути распространения и перенесения значений слова даны окружающими ребенка людьми в процессе речевого общения с ним. Но ребенок не может усвоить сразу способ мышления взрослых, он получает продукт, сходный с продуктом взрослых, но добытый с помощью совершенно отличных интеллектуальных операций, выработанный особым способом мышления. Это мы и называем псевдопонятием. Получается по внешнему виду нечто, практически совпадающее с значениями слов для взрослых, но внутренне глубоко отличное от этих значений.
Было бы глубокой ошибкой видеть в этой двойственности продукт разлада или раздвоения в мышлении ребенка. Этот разлад или раздвоение существует для наблюдателя, изучающего процесс с двух точек зрения. Для самого ребенка существуют комплексы, эквивалентные понятиям взрослых, т. е. псевдопонятия. Ведь мы прекрасно можем представить себе случаи такого рода, случаи, которые неоднократно наблюдались нами при экспериментальном образовании понятий: ребенок образует комплекс со всеми типическими особенностями комплексного мышления в структурном, функциональном и генетическом отношении, но продукт этого комплексного мышления практически совпадает с обобщением, которое могло бы быть построено и на основе мышления в понятиях.
Благодаря такому совпадению конечного результата или продукта мышления исследователю в высшей степени трудно различить, с чем мы в действительности имеем дело — с комплексным мышлением или с мышлением в понятиях. Эта замаскированная форма комплексного мышления, возникающая из-за внешнего сходства между псевдопонятием и истинным понятием, является важнейшим препятствием на пути к генетическому анализу мышления.
Именно это обстоятельство привело многих исследователей к той сложной мысли, о которой мы говорили в начале настоящей главы. Внешнее сходство между мышлением трехлетнего ребенка и взрослого человека, практическое совпадение в значениях слов ребенка и взрослого, делающее возможным речевое
150
общение, взаимное понимание между детьми и взрослыми, функциональная эквивалентность комплекса и понятия приводили исследователя к ложному выводу о том, что в мышлении трехлетнего ребенка уже дана — в неразвитом, правда, виде — вся полнота форм интеллектуальной деятельности взрослого человека и что в переходном возрасте, следовательно, не совершается никакого принципиального перелома, никакого нового шага в овладении понятиями. Происхождение этой ошибки легко понять.
Ребенок чрезвычайно рано усваивает целый ряд слов, значения которых для него совпадают с теми же значениями у взрослых. Благодаря возможности понимания создается впечатление, что конечная точка развития значения слова совпадает с начальной, что в самом начале уже дано готовое понятие и что, следовательно, не остается места для развития. Кто отождествляет (как это делает Н. Ах) понятие с начальным значением слова, тот неизбежно придет к этому ложному, основанному на иллюзии, заключению.
Найти границу, отделяющую псевдопонятие от истинного понятия, чрезвычайно трудное дело, почти недоступное чисто формальному, фенотипическому анализу. Если судить по внешнему сходству, то псевдопонятие так же похоже на истинное понятие, как кит — на рыбу. Но если обратиться к «происхождению видов» интеллектуальных и животных форм, то псевдопонятие должно быть с такой же бесспорностью отнесено к комплексному мышлению, как кит — к млекопитающим животным.
Итак, анализ приводит нас к выводу, что в псевдопонятии, как в наиболее распространенной конкретной форме комплексного мышления ребенка, заключено внутреннее противоречие, которое запечатлено уже в самом его названии и которое, с одной стороны, представляет величайшее затруднение и препятствие для его научного изучения, а с другой — обусловливает его величайшее функциональное и генетическое значение как определяющего момента в процессе развития детского мышления. Это противоречие заключается в том, что перед нами в форме псевдопонятия раскрывается такой комплекс, который в функциональном отношении эквивалентен понятию настолько, что в процессе речевого общения с ребенком и взаимного понимания взрослый не замечает отличия этого комплекса от понятия.
Следовательно, с одной стороны, перед нами комплекс, практически совпадающий с понятием, фактически охватывающий тот же круг конкретных предметов, что и понятие. Перед нами тень понятия, его контуры. По образному выражению одного из авторов, перед нами образ, который никак нельзя принять за простой знак понятия. Он, скорее, картина, умственный рисунок понятия, маленькое повествование о нем. С другой стороны, пе-
151
ред нами комплекс, т. е. обобщение, построенное совсем по иным законам, чем истинное понятие.
Как возникает это реальное противоречие и чем оно обусловлено, мы показали выше. Мы видели, что речь взрослых людей с ее константными, определенными значениями определяет пути развития детских обобщений, круг комплексных образований.
Ребенок не выбирает значения для слова. Оно ему дается в процессе речевого общения со взрослыми. Ребенок не свободно строит свои комплексы. Он находит их уже построенными в процессе понимания чужой речи. Он не свободно подбирает отдельные конкретные элементы, включая их в тот или иной комплекс. Он получает уже в готовом виде обобщаемый данным словом ряд конкретных вещей.
Ребенок не спонтанно относит данное слово к данной конкретной группе и переносит его значение с предмета на предмет, расширяя круг охватываемых комплексом предметов. Он только следует за речью взрослых, усваивая уже установленные и данные ему в готовом виде конкретные значения слов. Проще говоря, ребенок не создает своей речи, но усваивает готовую речь окружающих его взрослых. Этим сказано все. Это включает в себя уже и то, что ребенок не создает сам соответствующие значению слова комплексы, а находит их готовыми, расклассифицированными с помощью общих слов и названий. Благодаря этому комплексы ребенка совпадают с понятиями взрослых и благодаря этому возникает псевдопонятие — понятие-комплекс.
Но мы уже говорили, что, совпадая с понятием по внешней форме, по результату мышления, по конечному его продукту, мышление ребенка отнюдь не совпадает со способом мышления взрослых, с их типом интеллектуальных операций. Именно благодаря этому возникает огромное функциональное значение псевдопонятия как особой, двойственной, внутренне противоречивой формы детского мышления. Не будь псевдопонятие господствующей формой детского мышления, детские комплексы разошлись бы с понятиями взрослого (как это имеет место в экспериментальной практике, где ребенок не связан заданным значением слова). Взаимное понимание с помощью слов, речевое общение между взрослым и ребенком были бы невозможны. Общение оказывается возможным только потому, что фактически детские комплексы совпадают с понятиями взрослых, встречаются с ними. Понятия и умственный рисунок понятий оказываются функционально-эквивалентными, и благодаря этому возникает чрезвычайно важное обстоятельство, определяющее, как уже сказано, величайшее функциональное значение псевдопонятия: ребенок, мыслящий комплексами, и взрослый, мыслящий понятиями, устанавливают взаимное понимание и речевое
152
общение, так как их мышление фактически встречается в совпадающих комплексах-понятиях.
Мы говорили в начале настоящей главы, что вся трудность генетической проблемы понятия в детском возрасте заключается в том, чтобы уяснить это внутреннее противоречие детских понятий. Слово с самого начала служит средством общения и взаимного понимания между ребенком и взрослым. Именно благодаря этому функциональному моменту взаимного понимания с помощью слов, как показал Ах, возникает определенное значение слова и оно становится носителем понятия. Без этого функционального момента взаимного понимания, как говорит Д. Н. Узнадзе, никакой звуковой комплекс не мог бы стать носителем какого-либо значения и не могли бы возникнуть никакие понятия.
Как известно, речевое понимание между взрослым и ребенком, речевой контакт возникает чрезвычайно рано, и это, как уже сказано, дает повод многим исследователям полагать, что понятия развиваются столь же рано. Между тем, как мы уже говорили, полноценные понятия развиваются в детском мышлении относительно поздно, в то время как взаимное речевое понимание ребенка и взрослого устанавливается очень рано.
«Отсюда ясно, — говорит Узнадзе, — что слово, прежде чем оно достигнет ступени полноценного понятия, может принять на себя функцию этого последнего и служить людям в качестве орудий взаимопонимания» (1966, с. 77). Перед исследователем и стоит задача вскрыть развитие тех форм мышления, которые должны рассматриваться не как понятия, а как их функциональные эквиваленты. Противоречие между поздним развитием понятия и ранним развитием речевого понимания находит реальное разрешение в псевдопонятии как в такой форме комплексного мышления, которая делает возможным совпадение в мышлении и понимания ребенка и взрослого.
Мы вскрыли, таким образом, как причины, так и значение этой важной формы детского комплексного мышления. Нам остается сказать о генетическом значении этой завершительной ступени в развитии детского мышления. Понятно, что из-за двойственной функциональной природы псевдопонятия, которая описана выше, эта ступень в развитии детского мышления приобретает совершенно исключительное генетическое значение. Она служит соединительным звеном между комплексным мышлением и мышлением в понятиях. К)на раскрывает перед нами процесс становления детских понятий. Благодаря заложенному в ней противоречию она, будучи комплексом, уже содержит в себе зерно будущего понятия, которое прорастает в ней. Речевое общение со взрослыми становится, таким образом, мощным двигателем, могучим фактором развития детских понятий. Пе-
153
реход от комплексного мышления к мышлению в понятиях совершается для ребенка незаметно, потому что практически его псевдопонятия совпадают с понятиями взрослых.
Таким образом, создается своеобразное генетическое положение, представляющее скорее общее правило, нежели исключение, во всем интеллектуальном развитии ребенка. Это свое образное положение заключается в том, что ребенок прежде начинает применять на деле и оперировать понятиями, нежели осознает их. Понятие «в себе» и «для других» развивается у ребенка прежде, нежели понятие «для себя». Понятие «в себе» и «для других», содержащееся уже в псевдопонятии, является основной генетической предпосылкой для развития понятия в истинном смысле этого слова.
Таким образом, псевдопонятие, рассматриваемое как особая фаза в развитии детского комплексного мышления, завершает собой всю вторую ступень и открывает третью ступень в развитии детского мышления, служа соединительным звеном между ними. Это мост, переброшенный между конкретным, наглядно образным и отвлеченным мышлением ребенка.
11
Описав последнюю, завершающую фазу развития комплексного мышления ребенка, мы исчерпали целую эпоху в развитии понятия. Оглядывая ее в целом, мы не станем повторять тех особенностей, которые мы отмечали попутно при анализе каждой отдельной формы комплексного мышления. Полагаем, что в этом анализе мы отграничили с достаточной четкостью комплексное мышление как снизу, так и сверху, найдя, его отличительные признаки от синкретических образов, с одной стороны, и от понятий, с другой.
Отсутствие единства связей, отсутствие иерархии, конкретно-наглядный характер лежащих в его основе связей, отношение общего к частному и частного к общему, отношение отдельных элементов между собой и весь закон построения обобщения в целом прошли перед нами в их своеобразии, глубоком отличии от других низших и высших типов обобщения. Перед нами раскрылись в их логической сущности различные формы комплексного мышления с той ясностью, которую способен дать эксперимент. Поэтому мы должны сговориться относительно некоторых особенностей экспериментального анализа, которые могут дать повод к неправильным выводам из сказанного выше.
Экспериментально вызванный процесс образования понятий никогда не отображает в зеркальной форме реального генетического процесса развития. Однако это составляет в наших глазах не недостаток, а огромное достоинство экспериментального ана-
154
лиза, который позволяет вскрыть в отвлеченной форме самую сущность генетического процесса образования понятий. Эксперимент дает ключ к истинному пониманию и уразумению реального процесса развития понятий у ребенка.
Диалектическое мышление поэтому не противопоставляет логический и исторический методы познания. По известному определению Энгельса, логический метод исследования есть тот же исторический метод, только освобожденный от его исторической формы и от нарушающих стройность изложения исторических случайностей. Логический ход мысли начинает с того, с чего начинает и история, и его дальнейшее развитие будет представлять собой не что иное, как отражение в абстрактной и теоретически последовательной форме исторического процесса, исправленное отражение, но исправленное соответственно законам, которым нас учит сама историческая действительность, ибо логический способ исследования дает возможность изучить всякий момент развития в его самой зрелой стадии, в его классической форме (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 13, с. 497).
Применяя это общее методологическое положение к нашему исследованию, мы можем сказать, что и перечисленные нами основные формы конкретного мышления представляют главнейшие моменты развития в их наиболее зрелой стадии, в их классической форме, в их чистом, доведенном до логического предела, виде. В действительном ходе развития они встречаются в сложном и смешанном виде, и их логическое описание, как оно подсказывается экспериментальным анализом, представляет отражение в абстрактной форме действительного хода развития понятий.
Таким образом, вскрытые в экспериментальном анализе главнейшие моменты развития понятий должны мыслиться нами исторически и пониматься как отражение главнейших стадий, которые проходит в реальном ходе развития мышление ребенка. Здесь историческое рассмотрение становится ключом к логическому пониманию понятий. Точка зрения развития становится исходной для объяснения процесса в целом и каждого его отдельного момента.
Один из современных психологов указывает, что морфологическое рассмотрение сложных психических образований и проявлений без генетического анализа неизбежно будет несовершенным. Но чем сложнее подлежащие изучению процессы, по его словам, тем в большей степени они имеют своей предпосылкой прежние переживания, тем больше они нуждаются в четкой постановке проблемы, в методическом сравнении и в понятных связях с точки зрения неизбежностей развития, даже в том случае, если речь идет лишь об элементах деятельности, содержащихся с одном-единственном разрезе сознания.
155
Чисто морфологическое изучение, как показывает он, тем более невозможно, чем выше организованность и дифференциация психических образований. Без генетического анализа и синтеза, без исследования предыдущего бытия, того, что некогда составляло одно целое, без общего сравнения всех его составных частей мы никогда не сможем решить, что мы должны рассматривать как бывшее некогда элементарным и что явилось носителем существенных взаимоотношений. Лишь сравнительное исследование многочисленных генетических срезов может открыть нам шаг за шагом действительное строение и связь между отдельными психологическими структурами, утверждает этот психолог.
Развитие — это ключ к пониманию всякой высшей формы. «Высшим генетическим законом, — говорит А. Гезелл55, — является, по-видимому, следующее: всякое развитие в настоящем базируется на прошлом развитии. Развитие не есть простая функция, полностью определяемая X единицами наследственности плюс Y единиц среды. Это есть исторический комплекс, отображающий на каждой данной ступени заключенное в нем прошлое. Другими словами, искусственный дуализм среды и наследственности уводит нас на ложный путь. Он заслоняет от нас тот факт, что развитие есть непрерывный самообусловленный процесс, а не марионетка, направляемая дерганием двух ниточек» (1932, с. 218).
Таким образом, экспериментальный анализ образования понятий, с одной стороны, неизбежно приводит нас вплотную к функциональному и генетическому анализу. Мы должны попытаться вслед за морфологическим анализом сблизить найденные нами главнейшие формы комплексного мышления с реально встречающимися в процессе детского развития формами мышления. Мы должны ввести историческую перспективу, генетическую точку зрения в экспериментальный анализ. С другой стороны, мы должны осветить реальный ход развития детского мышления с помощью добытых в процессе экспериментального анализа данных. Это сближение экспериментального и генетического анализа, эксперимента и действительности неизбежно приводит нас от морфологического анализа комплексного мышления к исследованию комплексов в действии, в их реальном функциональном значении, в их реальной генетической структуре.
Перед нами раскрывается, таким образом, задача сближения морфологического и функционального, экспериментального и генетического анализа. Мы должны проверить фактами реального развития данные экспериментального анализа и осветить действительный ход развития понятий с помощью этих данных.
156
12
Итак, основной вывод изучения развития понятий на второй ступени мы могли бы сформулировать так: ребенок, находящийся на стадии комплексного мышления, мыслит в качестве значения слова те же предметы, что и взрослые, благодаря чему возможно понимание между ним и взрослыми, но мыслит то же самое иначе, иным способом, с помощью иных интеллектуальных операций.
Правильность этого положения может быть проверена функционально: Это значит, что если мы рассмотрим понятия взрослых и комплексы детей в действии, то различие их психической природы должно выступить со всей отчетливостью. Если комплекс детей отличается от понятия, то, значит, деятельность комплексного мышления будет протекать иначе, чем деятельность мышления в понятиях. Мы и хотим в дальнейшем кратко сопоставить результаты нашего рассмотрения с установленными психологией данными об особенностях детского мышления и развития примитивного мышления вообще и таким образом подвергнуть функциональной проверке найденные нами особенности комплексного мышления.
Первое явление из истории развития детского мышления, которое привлекает наше внимание, заключается в общеизвестном факте перенесения значения первых детских слов чисто ассоциативным путем. Если мы проследим, какие группы предметов и как объединяются ребенком при перенесении значения его первых слов, то увидим образец того, что мы назвали в наших экспериментах ассоциативным комплексом и синкретическим образом.
Приведем пример, заимствованный нами у Г. Идельбергера. Ребенок на 251-м дне означает словом «вау-вау» фарфоровую фигурку девочки, с которой он охотно играет. На 307-м дне ребенок обозначает тем же словом собаку, лающую на дворе, портреты дедушки и бабушки, игрушечную лошадку, стенные часы. На 331-м дне — меховое боа с собачьей головой, другое боа без собачьей головы. При этом он обращает особое внимание на стеклянные глаза. На 334-м дне то же название получает резиновый человечек, который пищит при надавливании, на 396-м дне — черные запонки на рубашке отца. На 433-м дне ребенок произносит то же самое слово, когда видит на платье жемчужины, а также тогда, когда замечает термометр для ванны.
Г. Вернер, анализируя этот пример, делает вывод, что словом «вау-вау» ребенок обозначает множество предметов, которые могут быть упорядочены следующим образом: во-первых, живые и игрушечные собаки, а затем маленькие продолговатые,
157
похожие на куклу предметы (резиновая кукла, термометр для ванны и т. д.) и, во-вторых, запонки, жемчужины и тому подобные мелкие предметы. В основу этого объединения положен признак продолговатой формы или блестящих, напоминающих глаз поверхностей.
Мы видим, таким образом, что отдельные конкретные предметы объединяются у ребенка по комплексному принципу и такими естественными комплексами заполняется вся первая глава в истории развития детского слова.
В другом примере ребенок первоначально называет словом «ква» утку, плавающую в пруду, затем всякую жидкость, в том числе и молоко, которое пьет из своей бутылочки. Затем, когда он однажды видит на монете изображение орла, монета получает то же самое название, и этого оказывается достаточным, чтобы потом все круглые, напоминающие монету предметы называть так же. Мы видим типичный пример цепного комплекса, где каждый предмет включается в комплекс исключительно на основе известного общего признака с другим элементом, причем характер этих признаков может бесконечно изменяться.
Благодаря комплексному характеру детского мышления возникает его особенность, когда одни и те же слова в различной ситуации могут иметь различное значение, т. е. указывать на различные предметы, причем в исключительных, особо интересных для нас случаях одно и то же слово у ребенка может объединять в себе противоположные значения, если только они соотнесены друг с другом так, как соотносятся друг с другом нож и вилка.
Ребенок, который словом «прежде» обозначает временные отношения «прежде» и «после» или употребляет слово «завтра» одинаково для обозначения и завтрашнего и вчерашнего дня, образует полную аналогию к тому давно отмеченному исследователями факту, что и в древних языках — еврейском, китайском и латинском — одно и то же слово соединяло в себе два противоположных значения. Так, римляне одним и тем же словом обозначали «высокий» и «глубокий». Это сочетание противоположных значений в одном слове становится возможным только на основе комплексного мышления, где каждый конкретный предмет, входя в комплекс, не сливается с другими элементами комплекса, а сохраняет свою конкретную самостоятельность.
13
Есть еще одна чрезвычайно интересная особенность детского мышления, которая может служить превосходным средством функциональной проверки комплексного мышления. У детей,
158
стоящих на более высокой ступени развития, чем в только что приведенных примерах, комплексное мышление принимает обычно характер псевдопонятия. Но так как природа псевдопонятия комплексная, то при внешнем сходстве с настоящими понятиями оно все же должно непременно обнаружить различие в действии.
Исследователями давно отмечена чрезвычайно интересная особенность мышления, описанная впервые Л. Леви-Брюлем в отношении примитивных народов, А. Шторхом — душевнобольных и Пиаже — детей. Эту особенность примитивного мышления, составляющую, очевидно, свойство мышления на ранних генетических ступенях, называют обычно партиципацией. Под этим словом разумеют отношение, которое примитивная мысль устанавливает между двумя предметами или двумя явлениями, рассматриваемыми то как частично тождественные, то как имеющие очень тесное влияние друг на друга, в то время как между ними не существует ни пространственного контакта, ни какой-либо другой понятной причинной связи.
У Пиаже есть очень богатые наблюдения относительно такой партиципации в мышлении ребенка, т. е. установления ребенком таких связей между различными предметами и действиями, которые с логической точки зрения кажутся совершенно непонятными и не имеют никаких оснований в объективной связи вещей.
Л. Леви-Брюль в качестве наиболее яркого примера партиципации в мышлении примитивного человека приводит следующий случай: северо-бразильское племя бороро, по сообщению фон ден Штейнена56, гордится тем, что члены этого племени являются красными попугаями арара. Это означает, говорит ЛевиБрюль, не только то, что они становятся после своей смерти арара, и не только то, что арара превращены в племя бороро, — речь идет о чем-то ином. «Бороро, — говорит фон ден Штейнен, который не хотел этому верить, но который должен был убедиться в этом вследствие их категорического утверждения, — совершенно спокойно говорят, что они действительно красные арара, как если бы гусеница сказала, что она — бабочка. Это не имя, которое они себе присваивают, не родство, на котором они настаивают. То, что они разумеют под этим, — идентичность существ» (Л. Леви-Брюль, 1930, с. 48—49).
А. Шторх, подвергший чрезвычайно тщательному анализу архаически примитивное мышление при шизофрении, сумел обнаружить явление партиципации в мышлении душевнобольных.
Однако самое явление партиципации, думается нам, не получило до сих пор достаточно убедительного психологического объяснения. Это происходит, по нашему мнению, по двум причинам.
159
Во-первых, изучая те особые связи, которые устанавливаются между различными вещами, исследователи обычно изучали это явление исключительно со стороны его содержания как самостоятельный момент, игнорируя при этом те функции, те формы мышления, те интеллектуальные операции, с помощью которых устанавливаются и вырабатываются подобные связи. Исследователи обычно изучали готовый продукт, а не процесс возникновения данного продукта. Отсюда самый продукт примитивного мышления приобретал в их глазах загадочный и неясный характер.
Во-вторых, правильное психологическое объяснение партиципации затруднено из-за того, что это явление недостаточно сближается исследователями со всеми другими связями и отношениями, которые устанавливает примитивное мышление. Эти связи попадают в поле зрения исследователей главным образом из-за своей исключительности — когда они резко расходятся с привычным для нас логическим мышлением. Утверждение бороро, что они красные попугаи, кажется настолько нелепым, с нашей обычной точки зрения, что привлекает внимание исследователей.
Между тем внимательный анализ связей, которые устанавливаются примитивным мышлением и с внешней стороны не расходятся с нашей логикой, убеждает нас в том, что в основе тех и других .связей лежит по существу один и тот же механизм комплексного мышления.
Если принять во внимание, что ребенок на данной стадии развития обладает комплексным мышлением, что слова являются для него средством обозначения комплексов конкретных предметов, что основная форма устанавливаемых им обобщений и связей — это псевдопонятие, то станет совершенно ясно: с логической неизбежностью продуктом такого комплексного мышления должна явиться партиципация, т. е. в этом мышлении должны возникнуть связи и отношения между вещами, невозможные и немыслимые с точки зрения мышления в понятиях.
В самом деле, для нас понятно, что одна и та же вещь может войти в различные комплексы по своим различным конкретным признакам и, следовательно, может получить различные имена и названия в зависимости от тех комплексов, к которым она будет принадлежать.
Такого рода партиципацию, т. е. отнесение какого-либо конкретного предмета одновременно к двум или нескольким комплексам и отсюда многоименное название одного и того же предмета, мы имели случай наблюдать неоднократно в экспериментальном исследовании. Партиципация при этом не только не является исключением, но, скорее, составляет правило комплексного мышления, и было бы чудом, если бы такие невозмож-
160
ные с точки зрения нашей логики связи, которые обозначаются этим именем, не возникали на каждом шагу в примитивном мышлении.
Равным образом и ключ к пониманию партиципации и мышления примитивных народов надо видеть в том, что это примитивное мышление не совершается в понятиях, что оно носит комплексный характер, что, следовательно, слово получает в этих языках совершенно другое функциональное применение, употребляется иным способом, является не средством образования и носителем понятия, а выступает в качестве фамильного имени для называния объединенных по известному фактическому родству групп конкретных предметов.
Это комплексное мышление, как правильно его называет Г. Вернер, так же как и у ребенка, с неизбежностью должно привести к переплетению комплексов, обязательно порождающих из себя партиципацию. В основе этого мышления лежит наглядная группа конкретных предметов. Великолепный анализ примитивного мышления, произведенный Вернером, убеждает нас в том, что ключ к пониманию партиципации заложен в своеобразном сочетании речи и мышления, которое характеризует данную стадию в историческом развитии человеческого интеллекта.
Наконец, и мышление шизофреников, как правильно показывает Шторх, также носит комплексный характер. В мышлении шизофреников мы встречаемся с множеством своеобразных мотивов и тенденций, которым, по мнению Шторха, присуща общая черта: они относятся к примитивной ступени мышления. Возникающие у больных единичные представления связаны в комплексные, совокупные качества. От мышления в понятиях шизофреник возвращается к более примитивной ступени, которая характеризуется, как отметил Э. Блейлер, обилием образов и символов. Может быть, наиболее отличительная черта примитивного мышления, подчеркивал Шторх, заключается в том, что вместо абстрактных понятий употребляются вполне конкретные образы.
Р. Турнвальд57 в этом же видит особенность мышления примитивного человека. Мышление первобытных людей, согласно его мнению, пользуется совокупными нерасчлененными впечатлениями от явлений. Они мыслят вполне конкретными образами, в том виде, в каком их дает действительность. Эти наглядные и собирательные образования, выступающие вместо понятия на первый план в мышлении шизофреников, аналогичны понятиям и образам, которые заменяют на примитивных ступенях наши логические категориальные структуры.
Мы видим, таким образом, что партиципация в мышлении больных, примитивного человека и ребенка при глубоком свое-
161
образии, которое отличает три типа мышления, является общим формальным симптомом примитивной ступени в развитии мышления, именно симптомом мышления в комплексах. В основе партиципации везде лежит механизм комплексного мышления и функционального употребления слова в качестве фамильного знака или имени. Поэтому толкование, которое дает партиципации Леви-Брюль, не представляется нам правильным, потому что, анализируя утверждение бороро, что они суть красные попугаи, Леви-Брюль оперирует все время понятиями нашей логики, полагая, что такое утверждение означает в примитивном мышлении идентичность или тождество существ. Невозможно, по нашему мнению, сделать более глубокой ошибки в толковании этого явления. Если бы бороро мыслили действительно логическими понятиями, то их утверждение нельзя было бы понять иначе, как в этом смысле. Но так как для бороро слова не являются носителями понятий, а являются только формальными обозначениями конкретных предметов, то для них это утверждение имеет совершенно другой смысл. Слово «арара», обозначающее красных попугаев, к которым они относят себя, является общим именем для известного комплекса, куда относятся и птицы и люди. Это утверждение настолько же не означает идентификации попугаев и людей, насколько указание, что двое людей носят одну и ту же фамилию и находятся в родстве друг с другом, не означает указания на тождество этих существ.
14
Если мы обратимся к истории развития нашей речи, то увидим, что механизм комплексного мышления со всеми присущими ему особенностями лежит в основе развития нашего языка. Мы узнаем из современного языкознания, что необходимо отличать, по мысли М. Н. Петерсона, значение слова или выражения от предметного отнесения, т. е. от тех предметов, на которые данное слово или выражение указывает.
Значение может быть одно, а предметы различны, и, наоборот, значения могут быть различны, а предмет один. Скажем ли мы «победитель при Иене» или «побежденный при Ватерлоо», лицо, на которое мы указываем, одно и то же в обоих случаях (Наполеон). Значение обоих выражений различное. Есть слова (имена собственные), вся функция которых состоит в указании на предмет. Таким образом, современное языкознание различает значение и предметную отнесенность слова.
Применяя это к интересующей нас проблеме детского комплексного мышления, мы могли бы сказать, что слова ребенка совпадают со словами взрослого в их предметной отнесенности,
162
(т. е. указывают на одни и те же предметы, относятся к одному и тому же кругу явлений, но не совпадают в своем значении.
Такое совпадение в предметной отнесенности и несовпадение в значении слова, которые мы открыли как главнейшую особенность детского комплексного мышления, составляют не исключение, но правило в развитии языка. Подытоживая главнейший результат наших исследований, мы говорили, что ребенок мыслит в качестве значения слова то же, что и взрослый (те же предметы), благодаря чему возможно понимание между ними, но мыслит то же самое содержание иначе, иным способом, с помощью иных интеллектуальных операций.
Эту же самую формулу можно применить к истории развития и к психологии языка в целом. Здесь на каждом шагу мы находим фактическое подтверждение и доказательства, убеждающие нас в правильности этого положения. Для того чтобы слова совпадали в своей предметной отнесенности, нужно, чтобы они указывали на один и тот же предмет. Но они могут различными способами указывать на один и тот же предмет.
Типичным примером такого совпадения предметной отнесенности при несовпадении мыслительных операций, лежащих в основе значения слова, является наличие синонимов в каждом языке. Слова «луна» и «месяц» в русском языке обозначают один и тот же предмет, но обозначают его различными способами, запечатленными в истории развития каждого слова. «Луна» по происхождению связана с латинским словом, обозначающим «капризный», «непостоянный», «прихотливый». Человек, назвавший Луну этим именем, хотел, очевидно, выделить признак изменчивости ее формы, переход ее из одной фазы в другую как существенное отличие ее от других небесных тел. Слово «месяц» связано со значением «измерять». «Месяц» — значит «измеритель». Человек, назвавший месяц этим именем, хотел указать на другое свойство, именно на то, что с помощью измерения лунных фаз можно исчислять время.
Так вот, относительно слов ребенка и взрослого можно сказать, что они синонимы в том смысле, что указывают на один и тот же предмет. Они называют одни и те же вещи, совпадают в своей номинативной функции, но лежащие в их основе мыслительные операции различны. Тот способ, с помощью которого ребенок и взрослый приходят к этому называнию, та операция, с помощью которой они мыслят данный предмет, и эквивалентное этой операции значение слова оказываются в обоих случаях существенно различными.
Точно так же одни и те же предметы в различных языках совпадают по своей номинативной функции, но в разных языках один и тот же предмет может называться по совершенно различным признакам. Современное русское слово «портной»
163
происходит от древнерусского «порт» — «кусок ткани», «покрывало». По-французски и по-немецки тот же человек обозначается по другому признаку — «кроить», «резать».
Итак, в том, что принято называть значением слова, необходимо различать два момента: значение выражения в собственном смысле и его функцию — в качестве названия относиться к тому или иному предмету, его предметную отнесенность Отсюда ясно, что, говоря о значении слова, необходимо различать значение слова в собственном смысле и заключенное в слове указание на предмет (Р. Шор).
Нам думается, что различение значения слова и отношения его к тому или иному предмету, различение значения и названия в слове дают нам ключ к правильному анализу развития детского мышления на ранних ступенях. С полным основанием Шор отмечает, что различие между этими двумя моментами, между значением (или содержанием выражения) и предметом, на который оно указывает в так называемом значении слова, ясно выступает в развитии детской лексики. Слова ребенка могут совпадать со словами взрослого в их предметной отнесенности и не совпадать в значении.
Если мы обратимся к истории развития слова в каждом языке и к перенесению значения слова, то увидим, как это ни кажется странным с первого взгляда, что слово в процессе развития меняет свое значение таким же образом, как у ребенка. Как в приведенном выше примере целый ряд самых разнообразных, с нашей точки зрения несоотносимых друг с другом предметов, получил у ребенка одно и то же общее название — «вау-вау», так и в истории слова мы найдем такие переносы значения, которые указывают на то, что в основе их лежит механизм комплексного мышления, что слова употребляются и применяются при этом иным способом, нежели в развитом мышлении, пользующемся понятиями.
Возьмем для примера историю русского слова «сутки». Первоначально оно означало «шов», «место соединения двух кусков ткани», «нечто сотканное вместе». Затем оно стало обозначать всякий стык, угол в избе, место схождения двух стен. Далее в переносном смысле оно стало обозначать сумерки — место стыка дня и ночи, а затем уже, охватывая время от сумерек до сумерек, или период времени, включающий утренние и вечерние сумерки, оно стало означать «день и ночь», т. е. сутки в настоящем смысле этого слова.
Мы видим, что такие разнородные предметы, явления, как шов, угол в избе, сумерки, сутки, объединяются в историческом развитии этого слова в один комплекс по тому же самому образному признаку, по которому объединяет в комплекс различные предметы ребенок.
164
Всякого, кто впервые начинает заниматься вопросами этимологии, поражает бессодержательность высказываний, заключенных в названии предмета, отмечает Шор. Почему «свинья» и «женщина» одинаково значат «родящая»; «медведь» и «бобр» одинаково называются «бурыми»; почему «измеряющий» должно означать именно «месяц»; «ревущий» — «бык», «колючий» — «бор». Если мы проследим историю этих слов, мы узнаем, что в основе их лежит не логическая необходимость и даже не связи, устанавливаемые в понятиях, а чисто образные конкретные комплексы, связи совершенно того же характера, какие мы имели возможность изучать в мышлении ребенка. Выделяется какой-нибудь конкретный признак, по которому предмет получает свое название.
«Корова» означает «рогатая», но от того же корня в других языках произошли аналогичные слова, означающие тоже рогатое, но указывающие на козу, оленя или других рогатых животных. «Мышь» значит «вор», «бык» значит «ревущий», «дочь» значит «доильщица», «дитя» и «дева» связаны с глаголом «доить» и означали «сосунок» и «кормилица».
Если мы проследим, по какому закону объединяются семьи слов, то увидим, что новые явления и предметы называются обычно по одному признаку, который не существен с точки зрения логики и не выражает логически сущность данного явления. Название никогда не бывает в начале своего возникновения понятием. Поэтому с логической точки зрения название, с одной стороны, оказывается недостаточным, так как оно слишком узко, а с другой — слишком широко. Так, «рогатое» в качестве названия для коровы или «вор» в качестве названия для мыши слишком узко в том отношении, что и корова и мышь не исчерпываются признаками, которые запечатлены в названии. Но они и слишком широкие, потому что такие же имена приложимы еще к целому ряду предметов. Поэтому в истории языка мы наблюдаем не прекращающуюся ни на один день борьбу между мышлением в понятиях и древним мышлением в комплексах. Комплексное название, выделенное по известному признаку, вступает в противоречие с понятием, которое оно обозначает, и в результате происходит борьба между понятием и образом, лежащим в основе слова. Образ стирается, забывается, вытесняется из сознания говорящего, и связь между звуком и понятием как значением слова становится для нас непонятной.
Никто, например, из говорящих сейчас по-русски, произнося «окно», не знает, что оно значит то, куда смотрят или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и т. п., но даже и понятие отверстия. Между тем словом «окно» мы называем обычно раму со стеклами и совершенно забываем о связи этого слова с его первоначальным значением.
165
Точно так же «чернила» первоначально обозначали жидкость для писания, указывая на ее внешний признак — черный цвет. Человек, назвавший этот предмет чернилами, включил его в комплекс черных вещей чисто ассоциативным путем. Это не мешает нам сейчас говорить о красных, зеленых и синих чернилах, забывая, что такое словосочетание нелепость.
Если мы обратимся к перенесению названий, то увидим, что они переносятся по ассоциации, по смежности или по сходству образным путем, т. е. не по закону логического мышления, а по закону комплексного мышления. В образовании новых слов мы и сейчас наблюдаем целый ряд чрезвычайно интересных процессов такого комплексного отнесения самых различных предметов к одной и той же группе. Например, когда мы говорим о горлышке бутылки, о ножке стола, о ручке двери, о рукаве реки, мы производим именно такое комплексное отнесение предмета к одной общей группе.
Сущность подобного перенесения названия в том, что функция, выполняемая здесь словом, не есть функция семасиологическая, осмысливающая. Слово выполняет здесь функцию номинативную, указывающую. Оно указывает, называет вещь. Другими словами, слово здесь не знак некоторого смысла, с которым оно связано в акте мышления, а знак чувственно данной вещи, ассоциативно связанной с другой чувственно воспринимаемой вещью. А поскольку название связано с обозначаемой им вещью путем ассоциации, то перенесение названия обычно происходит по разнообразным ассоциациям, реконструировать которые невозможно без точного знания исторической обстановки акта переноса названия.
Это означает, что в основе такого перенесения лежат совершенно конкретные фактические связи, как и в основе комплексов, образуемых в мышлении ребенка. Применяя это к детской речи, мы могли бы сказать, что при понимании ребенком речи взрослого происходит нечто подобное тому, на что мы указывали в приведенных выше примерах. Произнося одно и то же слово, ребенок и взрослый относят его к одному и тому же лицу или предмету, скажем к Наполеону, но один мыслит его как победителя, при Иене, другой — как побежденного при Ватерлоо.
По выражению А. А. Потебни58, язык есть средство понимать самого себя. Поэтому мы должны изучить ту функцию, которую язык или речь выполняет в отношении собственного мышления ребенка, и здесь мы должны установить, что ребенок с помощью речи понимает самого себя иначе, чем с помощью той же речи понимает взрослого. Это значит, что акты мышления, совершаемые ребенком с помощью речи, не совпадают с операциями, производимыми в мышлении взрослого человека при произнесении того же самого слова.
166
Мы уже приводили мнение одного из авторов, который говорит, что первичное слово никак нельзя принять за простой знак понятия. Оно, скорее, образ, скорее, картина, умственный рисунок понятия, маленькое повествование о нем. Оно — именно художественное произведение. И поэтому оно имеет конкретный комплексный характер и может обозначать одновременно несколько предметов, одинаково относимых к одному и тому же комплексу.
Правильнее сказать: называя предмет с помощью такого рисунка-понятия, человек относит его к известному комплексу, связывая его в одну группу с целым рядом других предметов. С полным основанием А. Л. Погодин59 говорит относительно происхождения слова «весло» от слова «вести», что, скорее, словом «весло» можно было назвать лодку как средство перевозки, или лошадь, которая везет, или повозку. Мы видим, что все эти предметы относятся как бы к одному комплексу, как это мы наблюдаем и в мышлении ребенка.
15
Чрезвычайно интересный пример чисто комплексного мышления — речь глухонемых детей, у которых отсутствует основная причина образования детских псевдопонятий. Мы указывали выше, что в основе образования псевдопонятий лежит то обстоятельство, что ребенок не свободно формирует комплексы, объединяя предметы в целостные группы, но находит в речи взрослых слова, связанные с определенными группами предметов. Отсюда детский комплекс совпадает по своей предметной отнесенности с понятиями взрослого человека. Ребенок и взрослый, понимающие друг друга при произнесении слова «собака», относят это слово к одному и тому же предмету, имея в виду одинаковое конкретное содержание, но один при этом мыслит конкретный комплекс собак, а другой — абстрактное понятие о собаке.
В речи глухонемых детей это обстоятельство теряет свою силу, ибо дети лишены речевого общения со взрослыми и, предоставленные сами себе, свободно образуют комплексы, обозначаемые одним и тем же словом. Благодаря этому особенности комплексного мышления выступают у глухонемых на первый план с особой отчетливостью и ясностью. Так, в языке глухонемых «зуб» может иметь три различных значения: «белый», «камень» и «зуб». Эти различные названия связаны в один комплекс, который в дальнейшем развитии требует присоединения указательного или изобразительного жеста, чтобы определить предметную отнесенность данного значения. В языке глухонемых обе эти функции слова, так сказать, физически разъедине-
167
ны. Глухонемой показывает зуб, а потом, обращая внимание на его поверхность или изображая рукой бросание, указывает на то, к какому предмету должно быть отнесено данное слово.
В мышлении взрослого человека мы также наблюдаем на каждом шагу чрезвычайно интересное явление. Оно заключается в том, что, хотя мышлению взрослого человека доступно образование понятий и оперирование ими, тем не менее далеко не все оно заполнено этими операциями. Если мы возьмем формы человеческого мышления, проявляющиеся в сновидении, то обнаружим там этот древний примитивный механизм комплексного мышления, наглядного слияния, сгущения и передвижения образов. Изучение тех обобщений, которые наблюдаются в сновидении, как правильно указывает Э. Кречмер60, является ключом к правильному пониманию примитивного мышления и разрушает тот предрассудок, будто обобщение в мышлении выступает только в своей наиболее развитой форме, именно в форме понятий.
Исследования Э. Иенша обнаружили, что в сфере чисто наглядного мышления существуют особые обобщения или объединения образов, которые являются как бы конкретными аналогами понятий, или наглядными понятиями, и которые Иенш называет осмысленной композицией и флюксией. В мышлении взрослого человека мы на каждом шагу наблюдаем переход от мышления в понятиях к мышлению конкретному, комплексному, к мышлению переходному.
Псевдопонятия составляют не только исключительное достояние ребенка. В псевдопонятиях чрезвычайно часто происходит и мышление в нашей обыденной жизни.
С точки зрения диалектической логики понятия, встречающиеся в нашей житейской речи, не являются понятиями в собственном смысле. Они являются, скорее, общими представлениями о вещах. Однако не подлежит никакому сомнению, что они представляют собой переходную ступень от комплексов и псевдопонятий к истинным понятиям.
16
Описанное нами комплексное мышление ребенка составляет только первый корень в истории развития его понятий. Развитие детских понятий имеет еще и второй корень. Он составляет третью большую ступень в развитии детского мышления, которая, подобно второй, распадается на ряд отдельных фаз, или стадий. В этом смысле рассмотренное нами выше псевдопонятие составляет переходную ступень между комплексным мышлением и между другим корнем, или источником, в развитии детских понятий.
169
Мы уже отмечали, что в нашем изложении ход развития детских понятий представлен так, как он выясняется в условиях экспериментального анализа. Эти искусственные условия представляют процесс развития понятий в его логической последовательности и поэтому неизбежно отклоняются от действительного хода развития понятий. Поэтому последовательность отдельных ступеней и отдельных фаз внутри каждой ступени в действительном ходе развития детского мышления и в нашем изображении не совпадают друг с другом.
Мы придерживаемся генетического пути рассмотрения интересующей нас проблемы, но отдельные генетические моменты пытаемся представить в их самой зрелой, классической форме и поэтому с неизбежностью отступаем от того сложного, извилистого пути, которым в действительности совершается развитие детских понятий.
Переходя к описанию третьей, последней ступени в развитии детского мышления, мы должны сказать, что на деле первые фазы этой ступени хронологически не обязательно следуют после того, как комплексное мышление завершило полный круг развития. Напротив, мы видели, что высшие формы комплексного мышления в виде псевдопонятий являются такой переходной формой, на которой задерживается и наше житейское мышление, опирающееся на обычную речь.
Начатки тех форм, которые мы должны сейчас описать, по времени значительно предшествуют образованию псевдопонятий, но по логической сущности представляют, как уже сказано, второй и как бы самостоятельный корень в истории развития понятий и, как мы сейчас увидим, выполняют совершенно другую генетическую функцию, т. е. играют другую роль в процессе развития детского мышления.
Для описанного нами комплексного мышления самым характерным является момент установления связей и отношений, которые составляют основу такого типа мышления. Мышление ребенка на этой стадии комплексирует отдельные воспринимаемые предметы, связывает их в группы и тем самым закладывает первые основы объединения разрозненных впечатлений, совершает первые шаги по пути обобщения отдельных элементов опыта.
Понятие в его естественном и развитом виде предполагает не только объединение и обобщение отдельных конкретных элементов опыта, но также выделение, абстрагирование, изоляцию отдельных элементов и умение рассматривать эти выделенные, отвлеченные элементы вне конкретной и фактической связи, в которой они даны. В этом отношении комплексное мышление оказывается беспомощным. Оно все проникнуто переизбытком или перепроизводством связей и отличается неразвитостью аб-
169
страгирования. Процесс выделения признаков в комплексном мышлении чрезвычайно слаб. Между тем, как уже сказано, подлинное понятие в такой же мере опирается на процесс анализа, как и на процесс синтеза. Расчленение и связывание составляют в одинаковой мере необходимые внутренние моменты при построении понятия. Анализ и синтез, по известному выражению Гёте, так же предполагают друг друга, как вдох и выдох. Все это в одинаковой мере приложимо не только к мышлению в целом, но и к построению отдельного понятия.
Если бы мы хотели проследить действительный ход развития детского мышления, мы, конечно, не нашли бы изолированной линии развития функции образования комплексов и линии развития функции расчленения целого на отдельные элементы. В самом деле, то и другое встречается в слитном, сплавленном виде, и только в интересах научного анализа мы представляем обе эти линии в разделенном виде, стремясь с возможно большей отчетливостью проследить каждую из них. Однако такое расчленение этих линий не просто условный прием нашего рассмотрения, который по произволу мы могли бы заменить любым другим приемом. Напротив, это расчленение коренится в самой природе вещей, ибо психологическая природа одной и другой функций существенно различна.
Итак, мы видим, что генетической функцией третьей ступени в развитии детского мышления является развитие расчленений, анализа, абстракции. В этом отношении первая фаза третьей ступени стоит чрезвычайно близко к псевдопонятию. Объединение различных конкретных предметов происходит на основе максимального сходства между его элементами. Так как это сходство никогда не бывает полным, то здесь мы имеем с психологической стороны чрезвычайно интересное положение: очевидно, ребенок ставит в неодинаково благоприятные условия, в смысле внимания, различные признаки данного предмета. Признаки, отражающие в своей совокупности максимальное сходство с заданным образцом, ставятся в центр внимания и тем самым как бы выделяются, абстрагируются от остальных признаков, которые остаются на периферии внимания. Здесь впервые выступает со всей отчетливостью тот процесс абстракции, который носит часто плохо различимый характер из-за того, что абстрагируется целая, недостаточно расчлененная внутри себя группа признаков, иногда просто по смутному впечатлению общности, а не на основе четкого выделения отдельных признаков.
Но все же брешь в целостном восприятии ребенка пробита. Признаки разделились на две неравные части, возникли те два процесса, которые в школе О. Кюльпе61 получили название позитивной и негативной абстракции. Конкретный предмет уже не
170
всеми своими признаками, не по всей своей фактической полноте входит в комплекс, включается в обобщение, но оставляет за порогом этого комплекса, вступая в него, часть своих признаков, он обедняется; зато те признаки, которые послужили основанием для включения предмета в комплекс, выступают особенно рельефно в мышлении ребенка. Это обобщение, созданное ребенком на основе максимального сходства, одновременно и более бедный и более богатый процесс, чем псевдопонятие.
Оно богаче, чем псевдопонятие, потому что построено на выделении важного и существенного из общей группы воспринимаемых признаков. Оно беднее псевдопонятия, потому что связи, на которых держится это построение, чрезвычайно бедны, они исчерпываются только смутным впечатлением общности или максимального сходства.
17
Вторую фазу в процессе развития понятий можно было бы назвать стадией потенциальных понятий. В экспериментальных условиях ребенок, находящийся в этой фазе развития, выделяет обычно группу предметов, объединенных по одному общему признаку. Перед нами снова картина, которая с первого взгляда напоминает псевдопонятие и которая по внешнему виду может быть так же, как и псевдопонятие, принята за законченное понятие в собственном смысле слова. Такой же точно продукт мог бы получиться и в результате мышления взрослого человека, оперирующего понятиями.
Эта обманчивая видимость, это внешнее сходство с истинным понятием роднят потенциальное понятие с псевдопонятием. Но природа их существенно иная.
Различие истинного и потенциального понятия введено в психологию К. Гроосом62, который сделал это различие исходной точкой своего анализа понятий. «Потенциальное понятие, — говорит Гроос, — может быть не чем иным, как действием привычки. В этом случае в своей самой элементарной форме оно состоит в том, что мы ожидаем, или, лучше сказать, устанавливаемся на то, что сходные поводы вызывают сходные общие впечатления… Если потенциальное понятие действительно таково, каким мы его только что описали как установку на привычное, то оно во всяком случае очень рано появляется у ребенка… Я думаю, что оно есть необходимое условие, предшествующее появлению интеллектуальных оценок, но само по себе не имеет ничего интеллектуального» (1916, с. 196). Таким образом, это потенциальное понятие является доинтеллектуальным образованием, которое возникает в истории развития мышления чрезвычайно рано.
171
Большинство современных психологов согласны с тем, что потенциальное понятие в том виде, как мы его сейчас описали, свойственно уже и мышлению животного. В этом смысле, думается нам, совершенно прав О. Кро63, который возражает против общепринятого утверждения, что абстракция появляется впервые в переходном возрасте. Изолирующая абстракция, говорил он, может быть установлена уже у животных.
И действительно, специальные опыты на абстрагирование формы и цвета у домашней курицы показали, что если не потенциальное понятие в собственном смысле слова, то нечто, чрезвычайно близкое к нему, заключающееся в изолировании или выделении отдельных признаков, имеет место на ранних ступенях развития поведения в животном ряду.
С этой точки зрения совершенно прав Гроос, который, подразумевая под потенциальным понятием установку на обычную реакцию, отказывается видеть в нем признак развития детского мышления и причисляет его с генетической точки зрения к доинтеллектуальным процессам. «Наши первоначальные потенциальные понятия, — говорит он, — доинтеллектуальны. Действие этих потенциальных понятий может быть выяснено без допущения логических процессов». В этом случае «отношение между словом и тем, что мы называем его значением, иногда может быть простой ассоциацией, которая не содержит в себе настоящего значения слова» (там же, с. 201 и сл.).
Если мы обратимся к первым словам ребенка, то увидим, что они по своему значению приближаются к этим потенциальным понятиям. Потенциальными эти понятия являются, во-первых, по практической отнесенности к известному кругу предметов, а во-вторых, по лежащему в их основе процессу изолирующей абстракции. Они являются понятиями в возможности, но еще не актуализировали эту возможность. Это не понятие, но это нечто, что может стать таковым.
В этом смысле К. Бюлер проводит совершенно законную аналогию между тем, как ребенок употребляет одно из привычных слов при виде нового предмета, и тем, как обезьяна узнает во многих вещах, которые в другое время не напомнили бы ей палку, сходство с палкой, если животное находится в таких обстоятельствах, при которых палка оказывается полезной. Опыты В. Келера с употреблением орудия у шимпанзе показали, что обезьяна, однажды применившая палку в качестве орудия для овладения целью, затем распространяет это значение орудия на все другие предметы, имеющие что-либо общее с палкой и могущие выполнять функции палки.
Внешнее сходство с нашим понятием разительно. И такое явление действительно заслуживает названия потенциального понятия. Келер формулирует результаты своих наблюдений над
172
шимпанзе в этом отношении. Если сказать, утверждает он, что попадающаяся на глаза палка получила определенное функциональное значение для известных положений, что это значение распространяется на все другие предметы, каковы бы они ни были вообще, но имеющие с палкой объективно известные общие черты в форме и плотности, то мы прямо приходим к единственному воззрению, которое совпадает с наблюдаемым поведением животных.
Опыты Келера показали, что обезьяна начинает применять в качестве палки поля соломенной шляпы, башмаки, проволоку, соломинку, полотенце, т. е. самые разнообразные предметы, обладающие продолговатой формой и могущие по внешнему виду служить заменой палки. Мы видим, таким образом, что здесь возникает также обобщение целого ряда конкретных предметов в известном отношении.
Разница с потенциальным понятием Грооса заключается только в том, что там речь идет о сходных впечатлениях, а здесь — о сходном функциональном значении. Там потенциальное понятие вырабатывается в области наглядного мышления, здесь — в области практического, действенного мышления. Такого рода двигательные или динамические понятия, по выражению Г. Вернера, такого рода функциональные значения, по выражению Келера, существуют в детском мышлении довольно долго, вплоть до наступления школьного возраста. Как известно, детское определение понятий носит такой функциональный характер. Для ребенка определить предмет или понятие значит сказать, что́ этот предмет делает или, еще чаще, что можно сделать с этим предметом.
Когда речь идет об определении отвлеченных понятий, то на первый план выступает конкретная, обычно действенная ситуация, которая и является эквивалентом детского значения слова. А. Мессер в исследовании мышления и речи приводит чрезвычайно типичное в этом отношении определение абстрактного понятия, данное одним из учащихся первого года обучения. «Разум, — говорит ребенок, — это когда мне жарко и я не пью воды». Такого рода конкретное и функциональное значение составляет единственную психическую основу потенциального понятия. Мы можем напомнить, что уже в комплексном мышлении такого рода потенциальные понятия играют чрезвычайно важную роль, часто объединяясь с построением комплексов. Так, в ассоциативном комплексе и во многих других типах комплекса, как мы видели, построение комплекса предполагает выделение известного признака, общего различным элементам. Правда, для чистого комплексного мышления характерно, что этот признак в высшей степени неустойчив, что он уступает свое место другому признаку и что он не является ни в какой степени
173
привилегированным по сравнению со всеми остальными. Не то характерно для потенциального понятия. Здесь данный признак, служащий основой для включения предмета в известную общую группу, является привилегированным признаком, абстрагированным от той конкретной группы признаков, с которыми он фактически связан.
Напомним, что в истории развития слов подобные потенциальные понятия играют чрезвычайно важную роль. Мы приводили выше много примеров того, как всякое новое слово возникает на основе выделения одного какого-нибудь признака, бросающегося в глаза и служащего основой для построения обобщения яда предметов, называемых или обозначаемых одним и тем же словом. Эти потенциальные понятия часто так и остаются на данной стадии развития, не переходя в истинные понятия. Они играют чрезвычайно .важную роль в развитии детских понятий. Ведь здесь впервые с помощью абстрагирования отдельных признаков ребенок разрушает конкретную ситуацию, конкретную связь признаков и тем самым создает необходимую предпосылку для нового объединения этих признаков на новой основе. Только овладение процессом абстрагирования вместе с развитием комплексного мышления способно привести ребенка к образованию истинных понятий. Образование истинных понятий и составляет четвертую и последнюю фазу в развитии детского мышления.
Понятие возникает тогда, когда ряд абстрагированных признаков вновь синтезируется и когда полученный таким образом абстрактный синтез становится основной формой мышления, с помощью которого ребенок постигает и осмысливает окружающую действительность. При этом, как мы уже говорили, решающая роль в образовании истинного понятия принадлежит слову. Именно с помощью слова ребенок произвольно направляет внимание на одни признаки, с помощью слова он их синтезирует, с помощью слова он символизирует абстрактное понятие и оперирует им как высшим знаком из всех, которые создало человеческое мышление.
Правда, уже и в комплексном мышлении отчетливо выступает роль слова. Комплексное мышление в том смысле, как мы описали его, невозможно без слова, которое выступает в роли фамильного имени, объединяющего группы родственных по впечатлению предметов. В этом смысле мы в противоположность ряду авторов отличаем комплексное мышление как известную стадию в развитии вербального мышления от того бессловесного наглядного мышления, которое характеризует представления животных и которое иные авторы, например Г. Вернер, также называют комплексным из-за присущей ему тенденции к слиянию отдельных впечатлений.
174
В таком смысле эти авторы склонны поставить знак равенства между процессами сгущения и передвижения, как они проявляются в сновидении, и комплексным мышлением примитивных народов[46], которое является одной из высших форм вербального мышления, продуктом длительной исторической эволюции человеческого интеллекта и неизбежным предшественником мышления в понятиях. Некоторые авторитеты, как Г. Фолькельт, идут еще дальше и склонны отождествлять эмоционально подобное комплексное мышление пауков с примитивным словесным мышлением ребенка.
С нашей точки зрения, между тем и другим существует принципиальная разница, которая отделяет продукт биологической эволюции, натуральную форму мышления, от исторически возникшей формы человеческого интеллекта. Однако признание того, что слово играет решающую роль в комплексном мышлении, нисколько не заставляет нас отождествлять эту роль слова при мышлении в комплексах и при мышлении в понятиях. Напротив, самое отличие комплекса от понятия мы видим в первую очередь в том, что одно обобщение является результатом одного функционального употребления слова, другое возникает как результат совершенно иного функционального применения этого слова. Слово есть знак. Этим знаком можно пользоваться по-разному, его можно применять различным способом. Оно может служить средством для различных интеллектуальных операций, и именно различные интеллектуальные операции, совершаемые с помощью слова, и приводят к основному различию между комплексом и понятием.
18
Важнейшим генетическим выводом всего нашего исследования в той части, которая нас интересует, является основное положение, гласящее, что ребенок приходит к мышлению в понятиях, что он завершает третью ступень развития своего интеллекта только в переходном возрасте.
В экспериментах, имеющих цель исследовать мышление, подростка, мы наблюдали, как вместе с интеллектуальным ростом подростка все больше и больше отступают на задний план примитивные формы синкретического и комплексного мышления,
175
как все реже и реже появляются в его мышлении потенциальные понятия и как вначале редко, а потом все чаще он начинает пользоваться в процессе мышления истинными понятиями.
Однако нельзя представить себе этот процесс смены отдельных форм мышления и отдельных фаз его развития как чисто механический процесс, где каждая новая фаза наступает тогда, когда предшествующая уже завершена. Картина развития оказывается много сложнее. Различные генетические формы сосуществуют, как в земной коре сосуществуют напластования самых различных геологических эпох. Это положение не исключение, но, скорее, правило для развития поведения в целом. Мы знаем, что поведение человека не находится постоянно на одном и том же верхнем, или высшем, уровне развития. Самые новые и молодые, совсем недавно в истории человечества возникшие формы уживаются в поведении человека бок о бок с самыми древними.
То же самое справедливо и в отношении развития датского мышления. И здесь ребенок, овладевающий высшей формой мышления — понятиями, отнюдь не расстается с более элементарными формами. Еще долгое время они остаются количественно преобладающей и господствующей формой мышления в целом ряде областей его опыта. Даже взрослый человек, как мы указывали прежде, далеко не всегда мыслит в понятиях. Нередко его мышление совершается на уровне комплексов, иногда опускаясь к еще более элементарным, более примитивным формам.
Но и сами понятия и подростка, и взрослого человека, поскольку применение их ограничивается сферой чисто житейского опыта, часто не поднимаются выше уровня псевдопонятий и, обладая всеми признаками понятия с формально-логической точки зрения, все же не являются понятиями с точки зрения диалектической логики, оставаясь не больше чем общими представлениями, т. е. комплексами.
Переходный возраст, таким образом, это не возраст завершения, но возраст кризиса и созревания мышления. В отношении высшей формы мышления, доступной человеческому уму, этот возраст также переходный, как и во всех остальных отношениях. Переходный характер мышления подростка становится особенно ясным тогда, когда мы берем его понятие не в готовом виде, а в действии и подвергаем его функциональному испытанию, так как в действии, в процессе применения, эти образования обнаруживают истинную психологическую природу. Изучая понятие в действии, мы открываем вместе с тем и некоторую чрезвычайно важную психологическую закономерность, лежащую в основе этой новой формы мышления и проливающую свет на характер интеллектуальной деятельности подростка в делом
176
и, как увидим дальше, на развитие его личности и миросозерцания.
Первое, что следует отметить, — это глубокое расхождение, обнаруженное в эксперименте, между образованием понятия и его словесным определением. Это расхождение сохраняется не только у подростка, но и в мышлении взрослого человека, подчас даже в чрезвычайно развитом мышлении. Наличие понятия и, сознание этого понятия не совпадают ни в моменте появления, ни в функционировании. Первое может появиться раньше и действовать независимо от второго. Анализ действительности с помощью понятий возникает значительно раньше, чем анализ самих понятий.
Это наглядно обнаруживается в проводимых с подростком экспериментах, которые сплошь и рядом показывают как самую характерную черту возраста, свидетельствующую о переходном характере мышления, расхождение между словом и делом в образовании понятий. Подросток образует понятие, правильно применяет его в конкретной ситуации, но как только дело касается словесного определения этого понятия, то сейчас же его мышление наталкивается на чрезвычайные затруднения и определение понятия оказывается значительно уже, чем живое пользование этим понятием. В таком факте мы видим прямое подтверждение того, что понятия возникают не просто в результате логической обработки тех или иных элементов опыта, что ребенок не додумывается до своих понятий, но они возникают у него совсем другим путем и лишь позже осознаются и логизируются.
Здесь же обнаруживается и другой момент, характерный для применения понятий в переходном возрасте: подросток пользуется понятием в наглядной ситуации. Когда это понятие еще не оторвалось от конкретной, наглядно воспринимаемой ситуации, оно руководит мышлением подростка наиболее легко и безошибочно. Значительно больше трудностей представляет процесс переноса понятий, т. е. применение опыта к совершенно другим и разнородным вещам, когда выделенные и синтезированные в понятии признаки встречаются в совершенно другом конкретном окружении других признаков и когда сами они даны в совершенно других конкретных пропорциях. При изменении наглядной или конкретной ситуации применение понятия, выработанного в иной ситуации, значительно затруднено. Но этот перенос все же, как правило, удается подростку уже в первой стадии созревания мышления.
Значительно больше трудностей представляет процесс определения понятия, когда понятие отрывается от конкретной ситуации, в которой оно было выработано, когда оно вообще не опирается на конкретные впечатления и начинает развертываться в совершенно абстрактном плане. Здесь словесное определе-
177
ние понятия, умение четко осознать и определить его вызывают значительные трудности, и в эксперименте очень часто приходится наблюдать, как ребенок или подросток, на деле решивший задачу образования понятия правильно, при определении уже образованного понятия опускается на более примитивную ступень и начинает перечислять конкретные предметы, охватываемые этим понятием в данной ситуации.
Таким образом, подросток применяет слово в качестве понятия, а определяет слово в качестве комплекса. Это чрезвычайно характерная для мышления в переходную эпоху форма, колеблющаяся между комплексным мышлением и мышлением в понятиях.
Но наибольшую трудность, преодолеваемую подростком обычно к самому окончанию переходного возраста, представляет дальнейшее перенесение смысла или значения выработанного понятия на новые конкретные ситуации, которые мыслятся им также в абстрактном плане. Путь от абстрактного к конкретному здесь не менее труден, чем в свое время был путь восхождения от конкретного к абстрактному.
Эксперимент не оставляет никакого сомнения в том, что обычная картина образования понятий, как она рисовалась традиционной психологией, рабски следовавшей за формально-логическим описанием процесса образования понятий, совершенно не соответствует действительности. В традиционной психологии процесс образования понятий рисовался следующим образом. В основе понятия лежит ряд конкретных представлений. Возьмем, говорит один из психологов, понятие дерева. Оно получается из ряда сходных представлений дерева. Далее дается схема, которая поясняет процесс образования понятия и представляет его в следующем виде. Положим, я наблюдал три различных дерева. Представления этих трех деревьев могут быть разложены на составные части, из которых каждая обозначает форму, цвет или величину отдельных деревьев. Остальные составные части этих представлений оказываются сходными. Между сходными частями представлений должна произойти ассимиляция, результатом чего явится общее представление данного признака. Затем благодаря синтезу этих представлений получается одно общее представление, или понятие, дерева.
С этой точки зрения образование понятий происходит таким же способом, каким на коллективной фотографии Ф. Гальтона получается фамильный портрет различных лиц, принадлежащих к одной и той же семье. На одной пластинке запечатлеваются образы отдельных членов семьи. Эти образы налагаются друг на друга так, что сходные и часто повторяющиеся черты, общие многим членам семьи, выступают рельефно, а черты случайные, индивидуальные, налагаясь, взаимно стирают и зату-
178
шевывают друг друга. Таким образом выделяются сходные черты, и совокупность этих выделенных общих признаков ряда сходных предметов и черт является с традиционной точки зрения понятием в собственном смысле этого слова.
Нельзя представить себе ничего более ложного с точки зрения действительного хода развития понятий, чем эта логизированная картина, нарисованная с помощью приведенной выше схемы. В самом деле, как это давно отмечено психологами и как это с отчетливой ясностью показывают наши эксперименты, образование понятий подростка никогда не идет тем логическим путем, как его рисует традиционная схема. Исследования М. Фогеля показали, что ребенок, по-видимому, не входит в область отвлеченных понятий, отправляясь от специальных видов и поднимаясь все выше. Напротив, сначала он пользуется наиболее общими понятиями. К рядам, занимающим среднее место, он приходит не путем абстракции, или снизу вверх, а путем определения, переходя от высшего к низшему. Развитие представления у ребенка идет от недифференцированного к дифференцированному, а не обратно. Мышление развивается, переходя от рода к виду и разновидности, а не наоборот.
Мышление, по образному выражению Фогеля, почти всегда движется в пирамиде понятий вверх и вниз и редко в горизонтальном направлении. Это положение означало в свое время форменный переворот в традиционном психологическом учении об образовании понятий. На место прежнего представления, согласно которому понятие возникло путем простого выделения сходных признаков из ряда конкретных предметов, процесс образования понятий стал пониматься исследователями как сложный процесс движения мышления в пирамиде понятий, все время переходящий от общего к частному и от частного к общему.
В последнее время К- Бюлер выдвинул теорию происхождения понятий, согласно которой он точно так же, как и Фогель, склонен отрицать традиционное представление о развитии понятия путем выделения сходных признаков. Бюлер различает два генетических корня в образовании понятий. Первый корень — объединение представлений ребенка в выделенные группы, слияние этих групп между собой в сложные ассоциативные связи, которые образуются между отдельными группами представлений и между отдельными элементами, входящими в каждую группу.
Второй генетический корень понятий, по мнению Бюлера, функция суждения. В результате мышления, в результате уже оформленного суждения ребенок приходит к созданию понятий, и веское доказательство этому Бюлер видит в том, что слова, означающие понятия, очень редко репродуцируют у ребенка готовое суждение, относящееся к этим понятиям, как мы это
179
часто наблюдаем в ассоциативном эксперименте с детьми. Очевидно, суждение является чем-то наиболее простым и естественное логическое место понятия, как говорит Бюлер, это суждение. Представление и суждение взаимодействуют друг с другом в процессе образования понятий.
Таким образом, процесс образования понятий развивается с двух сторон — со стороны общего и со стороны частного — почти одновременно.
Чрезвычайно важным подтверждением этого служит то обстоятельство, что первое слово, которое употребляет ребенок, является, действительно, общим обозначением, и только относительно позже у ребенка возникают частные и конкретные обозначения. Ребенок, конечно, раньше усваивает слово «цветок», чем названия отдельных цветов, а если даже ему почему-либо приходится раньше овладеть каким-нибудь частным названием и он узнает слово «роза» раньше, чем «цветок», то он пользуется этим словом и применяет его не только в отношении розы, но и в отношении всякого цветка, т. е. пользуется этим частным обозначением как общим.
В этом смысле Бюлер совершенно прав, говоря, что процесс образования понятий состоит не в восхождении на пирамиду понятий снизу вверх, но идет с двух сторон, как процесс прорытия туннеля. Правда, с этим связывается чрезвычайно важный и нелегкий вопрос для психологии: вместе с признанием того, что ребенок узнает общие и наиболее абстрактные имена раньше, чем конкретные, многие психологи пришли к пересмотру традиционного взгляда, согласно которому абстрактное мышление развивается сравнительно поздно, именно в период полового созревания.
Эти психологи, исходя из правильного наблюдения над очередностью в развитии общих и конкретных названий у ребенка, делают неправильный вывод о том, что одновременно с появлением общих названий в речи ребенка, т. е. чрезвычайно рано, возникают и абстрактные понятия.
Такова, например, теория Ш. Бюлер. Мы видели, что эта теория приводит к ложному взгляду, согласно которому в переходную эпоху мышление не переживает особых изменений и не делает никаких значительных завоеваний. Согласно этой теории, в мышлении подростка не появляется ничего принципиально нового по сравнению с тем, что мы встречаем уже в интеллектуальной деятельности трехлетнего ребенка.
Мы будем иметь возможность в следующей главе остановиться более подробно на этом вопросе. Сейчас заметим только, что употребление общих слое еще никак не предполагает столь же раннего овладения абстрактным мышлением, ибо, как мы показали уже на всем протяжении настоящей главы, ребенок
180
употребляет те же слова, что и взрослый, относя их к тому же кругу предметов, что и взрослый, но мыслит эти предметы совершенно иначе, иным способом, чем взрослый. Поэтому чрезвычайно раннее употребление ребенком тех слов, которые в речи взрослого заменяют абстрактное мышление в его самых отвлеченных формах, отнюдь не означает того же самого в мышлении ребенка.
Напомним, что слова детской речи совпадают по предметной отнесенности, но не совпадают по значению со словами взрослых, а поэтому у нас нет никаких оснований приписывать ребенку, пользующемуся абстрактными словами, также и абстрактное мышление. Как мы постараемся показать в следующей главе, ребенок, пользующийся абстрактными словами, мыслит при этом соответствующий предмет весьма конкретно. Но во всяком случае одно не подлежит никакому сомнению: старое представление об образовании понятий, аналогичном получению коллективной фотографии, совершенно не соответствует ни реальным психологическим наблюдениям, ни данным экспериментального анализа.
Не подлежит сомнению и второй вывод К. Бюлера, который подтверждается в экспериментальных данных. Понятия действительно имеют свое естественное место в суждениях и заключениях, действуя как составные части последних. Ребенок, который на слово «дом» отвечает «большой» или на слово «дерево» — «висят на нем яблоки», действительно доказывает, что понятие всегда существует только внутри общей структуры суждения как его неотделимая часть.
Подобно тому как слово существует только внутри целой фразы и подобно тому как фраза в психологическом отношении появляется в развитии ребенка раньше, чем отдельные изолированные слова, подобно этому и суждение возникает в мышлении ребенка прежде, нежели отдельные, выделенные из него понятия. Поэтому понятие, как говорит Бюлер, не может быть чистым продуктом ассоциации. Ассоциирование связей отдельных элементов — необходимая, но вместе с тем недостаточная предпосылка для образования понятия. Этот двойной корень понятий в процессах представления и в процессах суждения является, по мнению Бюлера, генетическим ключом к правильному пониманию процессов образования понятия.
Мы действительно в экспериментах наблюдали оба момента, отмечаемые Бюлером. Однако вывод, к которому он приходит относительно двойного корня понятий, представляется нам неправильным. Еще Г. Линднер64 обратил внимание на то, что самые общие понятия приобретаются ребенком относительно рано. В этом смысле нельзя сомневаться в том, что уже очень рано ребенок научается правильно употреблять самые общие
181
названия. Верно и то, что развитие его понятий не совершается в виде правильного восхождения на пирамиду. Мы в эксперименте неоднократно наблюдали, как ребенок к заданному образцу подбирает целый ряд фигур одного наименования с образцом и при этом распространяет на них предполагаемое значение слова, пользуясь им как наиболее общим, но отнюдь не конкретным, не дифференцированным названием.
Мы видели также, как понятие возникает в результате мышления и находит свое органическое место внутри суждения. В этом смысле эксперимент подтвердил теоретическое положение, согласно которому понятия не возникают механически, как коллективная фотография конкретных предметов; мозг действует в данном случае не по способу фотографического аппарата, производящего коллективные снимки, и мышление не заключается в простом комбинировании этих снимков; наоборот, процессы мышления, наглядного и действенного, возникают задолго до образования понятий и сами понятия являются продуктом долгого и сложного процесса развития детского мышления.
Как мы уже говорили, понятие возникает в процессе интеллектуальной операции; не игра ассоциаций приводит к построению понятия: в его образовании участвуют все элементарные интеллектуальные функции в своеобразном сочетании, причем центральным моментом этой операции является функциональное употребление слова в качестве средства произвольного направления внимания, абстрагирования, выделения отдельных признаков, их синтеза и символизации с помощью знака.
В процессе эксперимента мы наблюдали неоднократно, что первичная функция слова, которую можно назвать индикативной функцией, поскольку слово указывает на определенный признак, генетически более ранняя, чем сигнификативная, замещающая ряд наглядных впечатлений и означающая их. Так как в условиях нашего эксперимента значение бессмысленного вначале слова относилось к наглядной ситуации, мы имели возможность наблюдать, как впервые возникает значение слова, когда это значение налицо. Это отнесение слова к известным признакам мы можем изучать в живом виде, наблюдая, как воспринимаемое, выделяясь и синтезируясь, становится смыслом, значением слова, становится понятием, затем — как эти понятия расширяются и переносятся на другие конкретные ситуации и как они осознаются.
Образование понятий возникает всякий раз в процессе решения какой-нибудь задачи, стоящей перед мышлением подростка. Только в результате решения этой задачи возникает понятие. Таким образом, проблема двойного корня в образовании понятия представлена у Бюлера, согласно данным нашего экспериментального анализа, в не совсем точном виде.
182
Понятия в самом деле имеют два основных русла, по которым они развиваются. Мы старались показать, как функция комплексирования или связывания ряда отдельных предметов с помощью общих для целой группы предметов фамильного имени, развиваясь, составляет основную форму комплексного мышления ребенка и как параллельно с этим потенциальные понятия, в основе которых лежит выделение некоторых общих признаков, образуют второе русло в развитии понятий. Обе эти формы являются действительными двойными корнями в образовании понятии.
То же, о чем говорит Бюлер, представляется нам не настоящими, а только видимыми корнями понятий вот по каким причинам. Подготовка понятия в виде ассоциативных групп, подготовка понятий в памяти является, конечно, натуральным процессом, не связанным со словом, и относится к тому комплексному мышлению, о котором мы говорили прежде и которое проявляет себя в наглядном мышлении, совершенно не связанном словом.
В нашем сновидении или в мышлении животных мы найдем детальные аналогии этих ассоциативных комплексов отдельных представлений, но, как мы уже указывали, не эти объединения представлений лежат в основе понятий, а комплексы, создаваемые на основе употребления слова.
Итак, первая ошибка Бюлера, как нам представляется, — это игнорирование роли слова в тех комплексных объединениях, которые предшествуют понятиям, и попытка вывести понятие из чисто природной, натуральной формы обработки впечатлений, игнорирование исторической природы понятия, игнорирование роли слова, нежелание заметить различие между естественным комплексом, возникающим в памяти и представленным в наглядных понятиях Э. Иенша, и комплексами, возникающими на основе высокоразвитого словесного мышления.
Эту же ошибку делает Бюлер и при установлении второго корня понятий, который он находит в процессах суждения и мышления.
Это утверждение Бюлера, с одной стороны, возвращает нас к логизирующей точке зрения, согласно которой понятие возникает на основе размышления и является продуктом логического рассуждения. Но мы видели уже, в какой степени и история понятий в обычном языке, и история понятий ребенка уклоняются от предписываемого им логикой пути. С другой стороны, говоря о мышлении как о корне понятий, Бюлер снова игнорирует различие между формами мышления, в частности между биологическими и историческими, натуральными и культурными элементами, низшими и высшими, бессловесными и вербальными формами мышления.
183
В самом деле, если понятие возникает из обсуждения, т. е. из акта мышления, то спрашивается, что отличает понятие от продуктов наглядного или практически действенного мышления. Снова центральное для образования понятий слово забывается Бюлером, скидывается со счетов при анализе факторов, участвующих в образовании понятия, и становится непонятным, каким образом два столь различных процесса, как суждение и комплексирование представлений, приводят к образованию понятий.
Из этих ложных посылок Бюлер неизбежно делает и ложный вывод, заключающийся, как мы неоднократно говорили, в том, что мышление в понятиях свойственно уже трехлетнему ребенку и что в мышлении подростка не совершается никакого принципиально нового шага в развитии понятий по сравнению с трехлетним ребенком. Обманутый внешним сходством, этот исследователь не учитывает глубокого различия каузально-динамических связей и отношений, стоящих за сходной внешностью двух совершенно различных в генетическом, функциональном и структурном отношениях типов мышления.
Наши эксперименты приводят нас к существенно иному выводу. Они показывают, как из синкретических образов и связей, из комплексного мышления, из потенциальных понятий на основе употребления слова в качестве средства образования понятия возникает та своеобразная сигнификативная структура, которую мы можем назвать понятием в истинном значении этого слова.
Глава шестая
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
1
Вопрос о развитии научных понятий в школьном возрасте есть прежде всего практический вопрос огромной, может быть, даже первостепенной важности с точки зрения задач, стоящих перед школой в связи с обучением ребенка системе научных знаний. Между тем то, что нам известно по этому вопросу, поражает своей скудостью. Не менее велико и теоретическое значение вопроса, поскольку исследование развития научных, т. е. подлинных, несомненных, истинных, понятий не может не обнаружить самых глубоких, существенных, самых основных законо-
184
мерностей всякого процесса образования понятий вообще. И удивительно, что эта проблема, в которой содержится ключ ко всей истории умственного развития ребенка и с которой, казалось бы, должно начинаться исследование детского мышления, до самого последнего времени почти совершенно не разработана, так что настоящее экспериментальное исследование (на него мы будем неоднократно ссылаться в данной главе, и вступлением к нему должны послужить эти страницы) чуть ли не первый опыт систематического изучения вопроса.
Исследование это, проделанное Ж. И. Шиф65, имело целью сравнительное изучение развития житейских и научных понятий в школьном возрасте. Его основной. задачей, являлась экспериментальная проверка нашей рабочей гипотезы относительно своеобразного пути развития, проделываемого научными понятиями по сравнению с житейскими. Одновременно стояла задача разрешения на этом конкретном участке общей проблемы обучения и развития. Эта попытка изучения реального развития детского мышления в процессе школьного обучения отталкивалась от предпосылок, что понятия — значения слов — развиваются, что научные понятия также развиваются, а не усваиваются в готовом виде, что перенесение выводов, полученных на житейских понятиях, на понятия научные неправомерно, что вся проблема в целом должна быть экспериментально проверена.
Для сравнительного изучения нами была разработана специальная экспериментальная методика. Сущность ее в том, что перед испытуемым ставились структурно однородные задачи и проводилось их параллельное изучение на житейском и научном материале. Экспериментальная методика рассказывания но сериям картинок, заканчивание предложений, обрывающихся на словах «потому что» и «хотя», и клиническая беседа применялись нами, чтобы выявить уровни осознания причинно-следственных отношений и отношений последовательности на житейском и научном материале.
Серии картинок отражали последовательность события — его начало, продолжение и конец. Серии картинок, отражавшие пройденный на уроках обществоведения программный материал, были сопоставлены с сериями житейских картинок. По типу житейской серии тестов (например: «Коля пошел в кино, потому что…», «Поезд сошел с рельсов, потому что…», «Оля еще плохо умеет читать, хотя…») была построена серия научных тестов, отражавших программный материал II и IV классов; испытуемый в обоих случаях должен был закончить предложение.
В качестве вспомогательных приемов выступило наблюдение на специально организованных уроках, учет знаний и т. д. Объект изучения — школьники I ступени.
185
Обзор собранного материала позволил сделать ряд выводов в плане общих закономерностей развития мышления в школьном возрасте и по специальному вопросу — о пути развития научных понятий. Сравнительный их анализ (в %) на одном возрастном этапе показал, что при наличии соответствующих программ в образовательном процессе развитие научных понятий опережает развитие спонтанных*. Приводимая таблица подтверждает это.
|
Задания |
Классы |
|
|
II |
IV |
|
|
Заканчивание
предложений с союзом «потому что» |
|
|
|
научные понятия |
79,7 |
81,8 |
|
житейские понятия |
59 |
81,3 |
|
Заканчивание
предложений с союзом «хотя» |
|
|
|
научные понятия |
21,3 |
16,2 |
|
житейские понятия |
79,5 |
65,5 |
Таблица показывает, что в области научных понятий мы имеем дело с более высокими уровнями осознания, чем в области житейских понятий. Поступательный рост этих высоких уровней в научном мышлении и быстрый прирост процента житейских понятий свидетельствуют: накопление знаний неуклонно ведет к повышению уровня типов научного мышления, что, в свою очередь, сказывается на развитии спонтанного мышления и доказывает ведущую роль обучения в развитии школьника.
Категория противительных отношений, генетически созревающих более поздно, чем категория причинных отношений, дает к IV классу картину, близкую той, что давала категория причинных отношений ко II классу. Это связано также с особенностями программного материала.
Полученные материалы приводят нас к гипотезе о несколько особом пути развития научных понятий по сравнению с житейскими. Путь этот обусловлен тем, что в качестве главного момента в их развитии выступает первичное вербальное определение, которое в условиях организованной системы нисходит до конкретного, до явления, тогда как тенденция развития житей-
186
ских понятий протекает вне определенной системы — идет вверх, к обобщениям.
Развитие научного обществоведческого понятия происходит в условиях образовательного процесса, представляющего собой своеобразную форму систематического сотрудничества педагога и ребенка, сотрудничества, в процессе которого происходит созревание высших психических функций ребенка с помощью и при участии взрослого. В интересующей нас области это находит свое выражение в растущей относительности причинного мышления и в созревании определенного уровня произвольности научного мышления, уровня, создаваемого условиями обучения. Своеобразным сотрудничеством ребенка и взрослого, которое является центральным элементом в образовательном процессе наряду с тем, что знания передаются ребенку в определенной системе, объясняется раннее созревание научных понятий и то, что уровень их развития выступает как зона ближайших возможностей в отношении житейских понятий, проторяя им путь, являясь своего рода пропедевтикой[47] их развития.
На одной и той же ступени развития у одного и того же ребенка мы сталкиваемся с различными сильными и слабыми сторонами житейского и научного понятий.
Слабость житейских понятий выступает, по данным нашего исследования, в неспособности к абстрагированию, к произвольному оперированию ими; в такой ситуации доминирует неправильное пользование ими. Слабостью научного понятия является его вербализм, выступающий как основная опасность при его развитии, недостаточная насыщенность конкретным; сильной стороной — умение произвольно использовать «готовность к действию». Картина меняется к IV классу, где на смену вербализму приходит конкретизация, что сказывается и на развитии спонтанных понятий, уравнивании кривых их развития (Ж. И. Шиф, 1935).
Как развиваются научные понятия в уме ребенка, проходящего школьное обучение? В каком отношении находятся при этом процессы собственно обучения и усвоения знаний и процессы внутреннего развития научного понятия в сознании ребенка; совпадают ли они друг с другом, являясь только двумя сторонами одного и того же по существу процесса; следует ли процесс внутреннего развития понятия за процессом обучения, как тень за отбрасывающим ее предметом, не совпадая с ним, но в точности воспроизводя и повторяя его движение, или между обоими процессами существуют неизмеримо более сложные и тонкие отношения, могущие быть изученными только с помощью специальных исследований?
На все эти вопросы в современной детской психологии
существует два ответа. Первый из них заключается в том, что на-
187
учные понятия вообще не имеют собственной внутренней истории, что они не проделывают процесса развития в собственном смысле этого слова, а просто усваиваются, воспринимаются в готовом виде с помощью процесса понимания, усвоения и осмысления, что они берутся ребенком в готовом виде из сферы мышления взрослых и что проблема развития научных понятий, в сущности говоря, должна быть целиком исчерпана проблемой обучения ребенка научному знанию и усвоения понятий. Таков самый распространенный и практически общепринятый взгляд, на котором до последнего времени продолжает строиться теория школьного преподавания и методика отдельных дисциплин.
Несостоятельность этого взгляда обнаруживается при первом же прикосновении к нему научной критики, и притом обнаруживается одновременно с теоретической и практической сторон. Из исследований процесса образования понятий известно, что понятие не просто совокупность ассоциативных связей, усваиваемая с помощью памяти, не автоматический умственный навык, а сложный и подлинный акт мышления, которым нельзя овладеть с помощью простого заучивания, но который непременно требует, чтобы мысль ребенка поднялась в своем внутреннем развитии на высшую ступень, для того чтобы понятие могло возникнуть в сознании. Исследование учит нас, что понятие на любой ступени развития представляет собой с психологической стороны акт обобщения. Важнейшим результатом всех исследований в этой области является прочно установленное положение, что понятия, психологически представленные как значения слов, развиваются. Сущность их развития заключается в первую очередь в переходе от одной структуры обобщения к другой. Всякое значение слова во всяком возрасте представляет собой обобщение. Но значения слов развиваются. В тот момент, когда ребенок впервые усвоил новое слово, связанное с определенным значением, развитие значения слова не закончилось, а только началось; слово является вначале обобщением самого элементарного типа, и только по мере своего развития ребенок переходит от обобщения элементарного ко все более и более высоким типам обобщения, завершая этот процесс образования подлинных и настоящих понятий.
Процесс развития понятий или значений слов требует развития целого ряда функций (произвольного внимания, логической памяти, абстракции, сравнения и различения), а все эти сложнейшие психические процессы не могут быть просто заучены и усвоены. Поэтому с теоретической стороны едва ли может вызывать сомнение полная несостоятельность того взгляда, согласно которому понятия берутся ребенком в процессе школьного обучения в готовом виде и усваиваются так же, как усваивается какой-либо интеллектуальный навык.
188
И с практической стороны на каждом шагу обнаруживается ошибочность этого мнения. Педагогический опыт учит нас не в меньшей мере, чем теоретическое исследование, тому, что прямое обучение понятиям всегда оказывается фактически невозможным и педагогически бесплодным. Учитель, пытающийся идти этим путем, обычно не достигает ничего, кроме бездумного усвоения слов, голого вербализма, симулирующего и имитирующего наличие соответствующих понятий у ребенка, но на самом деле прикрывающего собой пустоту. Ребенок в этих случаях усваивает не понятия, а слова, берет больше памятью, чем мыслью, и оказывается несостоятельным перед всякой попыткой осмысленного применения усвоенного знания. В сущности этот способ обучения понятиям и есть основной порок всеми осужденного, чисто схоластического, словесного способа преподавания, заменяющего овладение живым знанием усвоением мертвых и пустых вербальных схем.
Л. Н. Толстой, глубочайший знаток природы слова и его значения, ярче и резче других осознал невозможность прямой и простой передачи понятия от учителя к ученику, механического перенесения значения слова из одной головы в другую с помощью других слов, невозможность, на которую он натолкнулся в своей педагогической деятельности. Обучая детей литературному языку с помощью перевода детских слов на язык сказок и с языка сказок на высшую ступень, Толстой пришел к выводу, что нельзя насильственными объяснениями, заучиваниями и повторениями выучить учеников против их воли литературному языку, как выучивают французскому.
«Мы должны признаться, — говорит он, — что неоднократно пробовали это в последние два месяца и всегда встречали в учениках непреодолимое отвращение, доказывающее ложность принятого нами пути. При этих опытах я убедился только в том, что объяснение смысла слова и речи совершенно невозможно, даже для талантливого учителя, не говоря уже о столь любимых бездарными учителями объяснениях, что сонмище есть некий малый синедрион и т. п. Объясняя какое бы то ни было слово, хоть, например, слово «впечатление», вы или вставляете на место объясняемого другое столь же непонятное слово, или целый ряд слов, связь которых столь же непонятна, как и самое слово» (1903, с. 143)[48]. В этом категорическом положении Толстого истина и ложь смешаны в равной мере. Истинной частью этого положения является вывод, непосредственно вытекающий из опыта, который известен всякому учителю, бьющемуся так же, как и Толстой, и так же тщетно над истолкованием слова. Истина этого положения, говоря словами самого Толстого, заключается в том, что «почти всегда непонятно не самое слово, а вовсе нет у ученика того понятия, которое выражает слово. Слово
189
почти всегда готово, когда готово понятие. Притом отношение слова к мысли и образование новых понятий есть такой сложный, таинственный и нежный процесс души, что всякое вмешательство является грубой, нескладной силой, задерживающей процесс развития» (там же). Истина этого положения заключается в том, что понятие или значение слова развивается и что самый процесс развития есть сложный и нежный процесс.
Ложная сторона этого положения, непосредственно связанная с общими взглядами Толстого на вопросы обучения, состоит в том, что он исключает всякую возможность грубого вмешательства в этот таинственный процесс, что он стремится предоставить процесс развития понятий законам его собственного внутреннего течения, отрывая тем самым развитие понятий от обучения и обрекая преподавание на величайшую пассивность в развитии научных понятий. Эта ошибка особенно отчетливо выступает в категорической формулировке, гласящей, что «всякое вмешательство является грубой, нескладной силой, задерживающей процесс развития»[49].
Однако и сам Толстой понимал, что не всякое вмешательство задерживает процесс развития понятий; что только грубое, непосредственное, действующее по прямой линии, как кратчайшему расстоянию между двумя точками, вмешательство в образование понятий в уме ребенка не может принести ничего, кроме вреда. Более тонкие, сложные, косвенные методы обучения оказываются таким вмешательством в процесс образования детских понятий, которое ведет этот процесс развития вперед и выше. «Нужно, — говорит Толстой, — давать ученику случаи приобретать новые понятия и слова из общего смысла речи. Раз он услышит или прочтет непонятное слово в понятной фразе, другой раз в другой фразе, ему смутно начнет представляться новое понятие, и он почувствует наконец случайно необходимость употребить это слово — употребит раз, и слово и понятие делаются его собственностью. И тысячи других путей. Но давать сознательно ученику новые понятия и формы слова, по моему убеждению, так же невозможно и напрасно, как учить ребенка ходить по законам равновесия. Всякая такая попытка не подвигает, а удаляет ученика от предположенной цели, как грубая рука человека, которая, желая помочь распуститься цветку, стала бы развертывать цветок за лепестки и перемяла бы все кругом» (там же, с. 146)[50].
Таким образом, Толстой знает, что есть тысячи других путей обучения ребенка новым понятиям, кроме схоластического. Он отвергает только один путь — непосредственного и грубого механического развертывания нового понятия за лепестки. Это верно. Это непреложно. Это подтверждается всем опытом теории и практики. Но Толстой придаст слишком большое значение
190
стихийности, случайности, работе смутного представления и чувствования, внутренней стороне образования понятий, замкнутой самой в себе, и слишком преуменьшает возможность прямого влияния на этот процесс, слишком отдаляет обучение от развития[51]. Нас интересует в данном случае не эта вторая, ошибочная сторона толстовской мысли и ее разоблачение, а истинное зерно его положения, состоящее в выводе о невозможности развертывать новые понятия за лепестки, аналогичное невозможности учить ребенка ходить по законам равновесия. Нас занимает совершенно истинная мысль, что путь от первого знакомства с новым понятием до того момента, когда слово и понятие делаются собственностью ребенка, есть сложный внутренний психический процесс, включающий в себя постепенно развивающееся из смутного представления понимание нового слова, собственное применение его ребенком и только в качестве заключительного звена действительное освоение его. В сущности мы пытались выразить выше ту же самую мысль, говоря, что в момент, когда ребенок впервые узнает значение нового для него слова, процесс развития понятия не заканчивается, а только начинается.
Что касается первой стороны, то наше исследование, имевшее задачей экспериментально проверить вероятность и плодотворность развиваемой в данной главе рабочей гипотезы, показывает не только те тысячи других путей, о которых говорит Толстой, но и то, что сознательное обучение ученика новым понятиям и формам слова не только возможно, но и может быть источником высшего развития собственных, уже сложившихся понятий ребенка, что возможна прямая работа над понятием в процессе школьного обучения. Но эта работа, как показывает исследование, образует не конец, а начало в развитии научного понятия и не только не исключает .собственных процессов развития, но дает им новые направления и ставит процессы обучения и развития в новые и максимально благоприятные с точки зрения конечных задач школы отношения.
Для того чтобы подойти к этому вопросу, необходимо выяснить сперва одно обстоятельство: Толстой говорит все время о понятии в связи с обучением детей литературному языку. Следовательно, он имеет в виду понятия, не приобретаемые ребенком в процессе усвоения системы научного знания, а новые и незнакомые ребенку слова и понятия обиходной речи, вплетающиеся в ткань уже прежде сложившихся детских понятий. Это очевидно из примеров, которые приводит Толстой. Он говорит об объяснении и истолковании таких слов, как «впечатление» или «орудие», — слов и понятий, которые не предполагают обязательного усвоения их в строгой и определенной системе. Между тем предметом нашего исследования является проблема развития научных понятий, складывающихся именно в процессе
191
обучения ребенка определенной системе научных знаний. Естественно возникает вопрос, в какой мере рассмотренное нами выше положение может быть в равной мере распространено и на процесс образования научных понятий. Для этого необходимо выяснить, как вообще относятся друг к другу процесс образования научных понятий и процесс образования тех понятий, которые имел в виду Толстой и которые благодаря происхождению из собственного жизненного опыта ребенка можно было бы условно обозначить как житейские понятия.
Разграничивая таким образом житейские и научные понятия, мы нисколько не предрешаем вопроса о том, насколько правомерно с объективной точки зрения такое разграничение. Напротив, одной из основных задач настоящего исследования является как раз выяснение того, существует ли объективное различие в ходе развития тех и других понятий, в чем оно заключается, если оно существует в действительности, и в силу каких объективных фактических различий, существующих между процессами развития научных и житейских понятий, оба эти процесса допускают сравнительное изучение. Задачей данной главы является доказательство того, что такое разграничение эмпирически оправдано, теоретически состоятельно, эвристически плодотворно и потому должно быть положено в качестве краеугольного камня в основу нашей рабочей гипотезы. Требуется доказать, что научные понятия развиваются не совсем так, как житейские, что ход их развития не повторяет пути развития житейских понятий. В задачу экспериментального исследования, представляющего проверку нашей рабочей гипотезы, входит фактическое подтверждение этого положения и выяснение того, в чем именно заключаются различия, существующие между этими двумя процессами.
Следует сказать, что принимаемое нами в качестве исходного пункта, развиваемое нами в рабочей гипотезе и во всей постановке проблемы нашего исследования разграничение житейских и научных понятий не только не является общепринятым в современной психологии, но, скорее, противоречит общераспространенным взглядам на этот предмет. Поэтому оно нуждается в пояснении и в подкреплении доказательствами.
Мы говорили, что в настоящее время существует два ответа на вопрос о том, как развиваются научные понятия в уме ребенка, проходящего школьное обучение. Первый ответ, как уже сказано, выражается в полном отрицании самого наличия процесса внутреннего развития научных понятий, усваиваемых в школе, и его несостоятельность мы попытались вскрыть выше. Остается еще второй ответ, в настоящее время наиболее распространенный. Он заключается в том, что развитие научных понятий в уме ребенка, проходящего школьное обучение, ни-
192
чем вообще существенно не отличается от развития всех остальных понятий, складывающихся в процессе собственного опыта ребенка, и что, следовательно, самое разграничение обоих этих процессов несостоятельно. С этой точки зрения процесс развития научных понятий просто повторяет в основных и существенных чертах ход развития житейских понятий. Следует, однако, сейчас же спросить себя, на чем основано такое убеждение.
Если мы обратимся к научной литературе, мы увидим, что предметом почти всех без исключения исследований, посвященных проблеме образования понятий в детском возрасте, являлись всегда житейские понятия. Как уже сказано, настоящая работа вообще едва ли не первый шаг систематического изучения хода развития научных понятий. Таким образом, все основные закономерности развития детских понятий были установлены на материале собственных житейских понятий ребенка. Далее, без всякой проверки они распространяются и на область научного мышления ребенка, непосредственно переносятся в другую сферу понятий, возникающих при совершенно иных внутренних условиях, переносятся просто потому, что в уме исследователей не возникает даже вопроса о правомерности и законности такого рода распространительного толкования результатов исследований, ограниченных лишь одной определенной областью детских понятий.
Правда, некоторые новые, наиболее проницательные исследователи, как Ж. Пиаже, не могли не остановиться на этом вопросе. Они должны были, как только перед ними встала эта проблема, резко разграничить те представления ребенка о действительности, в развитии которых решающую роль сыграла работа собственной детской мысли, от тех, которые возникли под решающим и определяющим воздействием знаний, усвоенных ребенком от окружающих.
Первую группу в отличие от второй Пиаже обозначает как спонтанные представления ребенка.
Ж. Пиаже устанавливает, что обе эти группы детских представлений или понятий имеют много общего между собой: 1) те и другие обнаруживают сопротивление по отношению к внушению; 2) те и другие имеют глубокие корни в мысли ребенка; 3) те и другие обнаруживают определенную общность среди детей одного и того же возраста; 4) те и другие держатся длительно, в течение нескольких лет в сознании ребенка и постепенно уступают место новым понятиям вместо того, чтобы исчезать мгновенно, как это свойственно внушенным представлениям; 5) те и другие обнаруживают себя в первых правильных ответах ребенка. Все эти признаки, общие обеим группам детских понятий, отличают их от внушенных представлений и ответов, которые дает ребенок под влиянием силы вопроса.
193
Уже в этих, представляющихся нам в основном верными положениях содержится полное признание того, что научные понятия ребенка, несомненно относящиеся ко второй группе детских понятий, возникающих не спонтанным путем, проделывают подлинный процесс развития. Это явствует из перечисления пяти признаков. Пиаже, идя дальше и глубже всех других исследователей в отношении интересующей нас проблемы, признает даже, что исследование этой группы понятий может стать законным и самостоятельным предметом особого изучения.
Одновременно с этим Пиаже допускает ошибки, обесценивающие правильную часть его рассуждений. Нас интересуют в первую очередь три таких внутренних, связанных между собой ошибочных момента в мысли Пиаже. Первый из них заключается в том, что наряду с признанием возможности самостоятельного исследования неспонтанных детских понятий, наряду с указанием на то, что эти понятия имеют глубокие корни в детской мысли, Пиаже все же склоняется к противоположному утверждению, согласно которому только спонтанные понятия и спонтанные представления ребенка могут служить источником, непосредственного знания о качественном своеобразии детской мысли. Неспонтанные понятия ребенка, сложившиеся под влиянием окружающих его взрослых людей, отражают, по Пиаже, не столько особенности детского мышления, сколько степень и характер усвоения им мыслей взрослых. При этом Пиаже впадает в противоречие с собственной правильной мыслью о том, что ребенок, усваивая понятие, перерабатывает его, в процессе этой переработки выражая в понятии специфические особенности собственной мысли. Пиаже, однако, склонен относить это положение только к спонтанным понятиям, отказываясь видеть его применимость в равной мере и к неспонтанным понятиям. В этом совершенно необоснованном выводе кроется первый ошибочный момент теории Пиаже.
Второй ошибочный момент этой теории непосредственно вытекает из первого: раз признано, что неспонтанные понятия ребенка не отражают в себе особенности детской мысли как таковой, что эти особенности содержатся только в спонтанных понятиях ребенка, тем самым мы обязаны принять (что и делает Пиаже), что между спонтанными и неспонтанными понятиями существует непроходимая, прочная, раз навсегда установленная граница, которая исключает всякую возможность взаимного влияния этих двух групп понятий. Пиаже только разграничивает спонтанные и неспонтанные понятия, но не видит того, что их объединяет в систему, складывающуюся в ходе умственного развития ребенка. Он видит только разрыв, но не связь. Поэтому развитие понятий представлено у него механически складывающимся из двух отдельных процессов, не имеющих ничего обще-
194
го между собой и протекающих как бы по двум совершенно изолированным и раздельным каналам.
Обе эти ошибки неизбежно запутывают теорию во внутреннем противоречии и приводят к третьей ошибке. С одной стороны, Пиаже признает, что неспонтанные понятия ребенка не отражают в себе особенности детской мысли, что эта привилегия принадлежит исключительно спонтанным понятиям; тогда он должен согласиться, что знание этих особенностей детской мысли вообще практически не имеет никакого значения, так как неспонтанные понятия приобретаются вне всякой зависимости от этих особенностей. С другой стороны, одним из основных положений его теории является признание того, что сущность умственного развития ребенка заключается в прогрессирующей социализации детской мысли. Одним же из основных и самых концентрированных видов процесса образования неспонтанных понятий является школьное обучение, следовательно, важнейший для детского развития процесс социализации мысли, как он выступает в обучении, оказывается как бы не связанным с собственным внутренним процессом интеллектуального развития ребенка. С одной стороны, знание процесса внутреннего развития детской мысли лишено всякого значения для объяснения ее социализации в ходе обучения; с другой — выступающая на первый план в процессе обучения социализация мысли ребенка никак не связана с внутренним развитием детских представлений и понятий.
Это противоречие, образующее самое слабое место во всей теории Пиаже и одновременно являющееся исходным пунктом ее критического пересмотра в настоящем исследовании, заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее. Оно имеет свою теоретическую и практическую сторону.
Теоретическая сторона этого противоречия имеет свои истоки в представлении Пиаже о проблеме обучения и развития. Пиаже нигде не развивает прямо этой теории, почти не касается этого вопроса в попутных замечаниях, но вместе с тем определенное решение этой проблемы включено в систему его теоретических построений в качестве первостепенной важности постулата, с которым стоит и падает вся теория в целом. Он содержится в рассматриваемой теории, и наша задача развить его в качестве момента, которому мы можем противопоставить соответствующий исходный момент нашей гипотезы.
Умственное развитие ребенка представлено Пиаже как постепенное отмирание особенностей детской мысли по мере ее приближения к завершающему пункту развития. Умственное развитие ребенка для Пиаже складывается из процесса постепенного вытеснения своеобразных качеств и свойств детской мысли более могущественной и более сильной мыслью взрослых.
195
Исходный момент развития Пиаже рисует как солипсизм[52] младенческого сознания, который по мере приспособления ребенка к мысли взрослых уступает место эгоцентризму детской мысли, являющемуся компромиссом между особенностями, свойственными природе детского сознания, и свойствами зрелой мысли. Эгоцентризм сильнее в более раннем возрасте. С возрастом убывают особенности детской мысли, вытесняемые из одной области вслед за другой, пока они наконец совсем не исчезают. Процесс развития представлен не как непрерывное возникновение новых свойств, высших, более сложных и более близких к развитой мысли, из более элементарных и первичных форм мышления, а как постепенное и непрерывное вытеснение одними формами других. Социализация мысли рассматривается как внешнее, механическое вытеснение индивидуальных особенностей мысли ребенка. Процесс развития с этой точки зрения совершенно уподобляется процессу вытеснения одной жидкостью, нагнетаемой в сосуд извне, другой жидкости, содержащейся в сосуде: если в сосуде содержится белая жидкость, а в него непрерывно нагнетается красная жидкость, то при этом неизбежно белая жидкость, символизирующая особенности, максимально присущие самому ребенку в начале процесса, будет убывать по мере его развития, вытесняясь из сосуда, все более и более заполняемого красной жидкостью, которая в конце концов целиком заполнит сосуд. Развитие сводится в сущности к отмиранию. Новое в развитии возникает извне. Особенности самого ребенка не играют конструктивной, положительной, прогрессивной, формообразующей роли в истории его умственного развития. Не из них возникают высшие формы мысли. Они, эти высшие формы, просто становятся на место прежних.
Это единственный закон умственного развития ребенка, по Пиаже.
Если продолжить мысль Пиаже так, чтобы она охватила и более частную проблему развития, можно с несомненностью утверждать, что прямым продолжением этой мысли должно стать признание того, что антагонизм — единственное адекватное название для тех отношений, которые существуют между обучением и развитием в процессе образования детских понятий. Форма детского мышления изначально противоположна формам зрелой мысли. Одни не возникают из других, но одни исключают другие. Поэтому естественно, что все неспонтанные понятия, усвоенные ребенком от взрослых, не только не будут иметь ничего общего со спонтанными понятиями, являющимися продуктом собственной активности детской мысли, но должны в целом ряде существеннейших отношений быть прямо противоположны им. Между теми и другими невозможны никакие иные отношения, кроме постоянного и непрерывного антагонизма, конфлик-
196
та и вытеснения спонтанных понятий неспонтанными. Одни должны убраться прочь для того, чтобы другие могли занять их место. Так на всем протяжении детского развития должны существовать две антагонистические группы понятий — спонтанных и неспонтанных, — которые с возрастом изменяются только в количественных соотношениях. Вначале преобладают одни; при переходе от одной возрастной ступени к другой прогрессивно увеличивается количество других. В школьном возрасте в связи с процессом обучения неспонтанные понятия к 11—12 годам окончательно вытесняют спонтанные[53], так что к этому возрасту умственное развитие ребенка оказывается, по Пиаже, уже вполне законченным, и самый важный акт, разрешающий всю драму развития и происходящий в эпоху созревания, высшая ступень умственного развития — образование подлинных зрелых понятий — выпадает из истории как лишняя, ненужная глава. Пиаже говорит, что мы встречаем на каждом шагу в развитии детских представлений реальные конфликты между мыслью ребенка и мыслью окружающих, конфликты, приводящие к систематической деформации в детском уме того, что получено от взрослых. Больше того, все содержание развития сводится, согласно этой теории, к непрерывному конфликту между антагонистическими формами мышления и к своеобразным компромиссам между ними, которые устанавливаются на каждой возрастной ступени и измеряются степенью убывания детского эгоцентризма.
Практическая сторона рассматриваемого противоречия состоит в невозможности применить результаты изучения спонтанных понятий ребенка к процессу развития его неспонтанных понятий. С одной стороны, как мы видели, неспонтанные понятия ребенка, в частности понятия, складывающиеся в процессе школьного обучения, не имеют ничего общего с собственным процессом развития детской мысли; с другой стороны, при решении всякого педагогического вопроса с точки зрения психологии делается попытка перенести закон развития спонтанных понятий на школьное обучение. В результате, как это мы видим в статье Пиаже «Психология ребенка и преподавание истории», получается заколдованный круг. Если действительно, говорит Пиаже, воспитание исторического понимания ребенка предполагает наличие критического или объективного подхода, предполагает понимание взаимозависимости, понимание отношений и стабильности, — ничто не в состоянии лучше определить технику преподавания истории, чем психологическое изучение спонтанных интеллектуальных установок детей, какими наивными и малозначительными они бы нам ни казались с первого взгляда (J. Piaget, 1933). Но в той же статье, которая заключается этими словами, изучение спонтанных интеллектуальных установок
197
детей приводит автора к выводу, что детской мысли чуждо именно то, что составляет основную цель преподавания истории — критический и объективный подход, понимание взаимозависимости, понимание отношений и стабильности. Таким образом, получается, что, с одной стороны, развитие спонтанных понятий ничего не может объяснить нам в вопросе о приобретении научных знаний, а с другой — нет ничего важнее для техники преподавания, чем изучение .спонтанных установок детей. Это практическое противоречие разрешается теорией Пиаже также с помощью принципа антагонизма, существующего между обучением и развитием. Очевидно, знание спонтанных установок важно потому, что именно они должны быть вытеснены в процессе обучения. Знание их нужно как знание врагов. Непрерывный конфликт между зрелой мыслью, лежащей в основе школьного преподавания, и детской мыслью и нужно осветить, чтобы техника преподавания извлекала из него полезные уроки.
Задачи настоящего исследования и в части построения рабочей гипотезы, и в части ее проверки с помощью эксперимента заключаются прежде всего в преодолении этих трех описанных выше ошибок одной из сильнейших современных теорий.
Против первого из этих ошибочных положений мы могли бы выдвинуть предположение, обратное по смыслу: развитие неспонтанных, в частности научных, понятий, которые мы вправе рассматривать как высший, наиболее чистый и важный в теоретическом и практическом отношении тип неспонтанных понятий, должно обнаружить при специальном исследовании все основные качественные своеобразия, свойственные детской мысли на данной ступени возрастного развития. Выдвигая это предположение, мы основываемся на том простом соображении[54], развитом выше, что научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью величайшего напряжения всей активности его собственной мысли. Из этого же вытекает с неумолимой неизбежностью и то, что развитие научных понятий должно обнаружить во всей полноте особенности этой активности детской мысли. Экспериментальные исследования, если не побояться предвосхищения их результатов, полностью подтверждают это предположение.
Против второго ошибочного положения Пиаже мы могли бы выдвинуть снова обратное по смыслу предположение: научные понятия ребенка как наиболее чистый тип его неспонтанных понятий обнаруживают в процессе исследования не только черты, противоположные тем, которые нам известны из исследования спонтанных понятий, но и черты, общие с ними. Граница, разделяющая те и другие понятия, оказывается в высшей степени текучей, переходимой в реальном ходе развития с той и дру-
198
гой стороны неисчислимое количество раз. Развитие спонтанных и научных понятий, должны мы предположить заранее, — суть тесно взаимно связанные процессы, непрерывно воздействующие друг на друга. С одной стороны — так должны мы развить наши предположения — развитие научных понятий будет непременно опираться на известный уровень созревания спонтанных понятий, которые не могут быть безразличны для образования научных понятий уже по одному тому, что непосредственный опыт учит нас: развитие научных понятий становится возможным только тогда, когда спонтанные понятия ребенка достигли определенного уровня, свойственного началу школьного возраста. С другой стороны, мы должны предположить, что возникновение понятий высшего типа, какими являются научные понятия, не может остаться без влияния прежде сложившихся спонтанных понятий, так как те и другие понятия не инкапсулированы[55] в сознании ребенка, не отделены друг от друга непроницаемой перегородкой, не текут по двум изолированным каналам, но находятся в процессе непрерывного взаимодействия, которое неизбежно должно привести к тому, что высшие по структуре обобщения, свойственные научным понятиям, обязательно вызовут изменения структур спонтанных понятий. Выдвигая это предположение, мы основываемся на следующем. Говорим ли мы о развитии спонтанных или научных понятий, речь идет о развитии единого процесса образования понятий, совершающегося при различных внутренних и внешних условиях, но остающегося единым по природе, а не складывающимся из борьбы, конфликта и антагонизма двух взаимно исключающих с самого начала форм мысли.
Экспериментальное исследование, если снова предвосхитить его результаты, полностью подтверждает и это наше предположение.
Наконец, против третьего положения, ошибочность и противоречивость которого мы пытались вскрыть выше, мы могли бы выдвинуть обратное по смыслу предположение: между процессами обучения и развития в образовании понятий должен существовать не антагонизм, а отношения неизмеримо более сложного и позитивного характера. Мы можем ожидать, что обучение раскроется в ходе специального исследования как один из основных источников развития детских понятий и как могущественнейшая сила, направляющая этот процесс. Выдвигая это предположение, мы основываемся на том общеизвестном факте, что обучение является в школьном возрасте решающим моментом, определяющим всю судьбу умственного развития ребенка, в том числе и развития его понятий, равно как и на том соображении, что высшие по типу научные понятия могут возникнуть в голове ребенка не иначе, как из существовавших прежде бо-
199
лее низких и элементарных типов обобщения, а никак не могут быть внесены в сознание ребенка извне. Исследование снова, если заглянуть в его конечные результаты, подтверждает и это третье, последнее предположение и тем самым позволяет поставить вопрос об использовании данных психологического изучения детских понятий применительно к проблемам преподавания и обучения в ином плане, чем это делает Пиаже.
Все эти положения мы постараемся далее развить более обстоятельно, но, прежде чем перейти к этому, нужно установить, что дает нам основание для разграничения житейских или спонтанных понятий, с одной стороны, и неспонтанных, и в частности научных, с другой. Можно было бы просто эмпирически проверить, существует ли расхождение между ними на разных уровнях развития, и затем уже пытаться истолковать этот факт, если бы он оказался непреложным. Мы могли бы, в частности, сослаться на результаты экспериментального исследования, приведенные в настоящей книге и свидетельствующие непреложно о том, что те и другие понятия по-разному ведут себя в одинаковых задачах, требующих тождественных логических операций; что и те и другие понятия, существующие в один и тот же момент у одного и того же ребенка, обнаруживают разные уровни развития. Одного этого было бы достаточно. Но для построения рабочей гипотезы и для теоретического объяснения этого факта следует рассмотреть данные, позволяющие ожидать, что проводимое нами разграничение должно существовать в действительности. Эти данные распадаются на четыре группы.
Первая группа. Сюда мы относим чисто эмпирические данные, известные из непосредственного опыта. Во-первых, нельзя пройти мимо того обстоятельства, что все внутренние и внешние условия, в которых протекает развитие понятий, оказываются иными для одного и для другого круга понятий. Научные понятия стоят в ином отношении к личному опыту ребенка, чем спонтанные. Научные возникают и складываются совершенно другим путем в процессе школьного обучения, нежели в процессе личного опыта ребенка. Внутренние побуждения, толкающие ребенка на образование научных понятий, снова совершенно иные, чем те, которые наводят его мысль на образование спонтанных понятий. Иные задачи встают перед детской мыслью при усвоении понятий в школе и тогда, когда эта мысль предоставлена самой себе. Резюмируя, можно было бы сказать, что научные понятия, складывающиеся в процессе обучения, отличаются от спонтанных иным отношением к опыту ребенка, иным отношением его к объекту тех и других понятий и иными путями, которые они проходят от момента зарождения до окончательного оформления.
200
Во-вторых, столь же несомненные эмпирические соображения заставляют нас признать, что сила и слабость спонтанных и научных понятий у школьника совершенно различны: то, в чем сильны научные понятия, слабы житейские, и обратно — сила житейских понятий оказывается слабостью научных. Кто не знает, что из сопоставления результатов простейших опытов на определение житейских понятий с типичным определением научных понятий, неизмеримо более сложных, которое дает ученик на уроке по любому предмету, ярко выступает различие в силе и слабости тех и других? Ребенок лучше формулирует, что такое закон Архимеда, чем что такое брат. Очевидно, это не может не быть следствием того, что оба понятия прошли различный путь развития. Понятие о законе Архимеда ребенок усвоил иначе, чем понятие «брат». Ребенок знал, что такое брат, и проделал в развитии этого знания много ступеней, раньше чем научился определять это слово, если ему вообще когда-либо в жизни мог представиться такой случай. Развитие понятия «брат» начиналось не с объяснения учителя и не с научной формулировки понятия. Зато это понятие насыщено богатым личным опытом ребенка. Оно проделало уже значительную часть своего пути развития и в известной мере уже исчерпало чисто фактическое и эмпирическое содержание, заложенное в нем. Как раз этого последнего нельзя сказать о понятии «закон Архимеда».
Вторая группа. К этой группе относятся данные теоретического характера. На первом месте должно быть поставлено соображение, на которое опирается и Пиаже. Для доказательства своеобразия детских понятий вообще Пиаже ссылается на В. Штерна, который доказал, что даже речь не усваивается ребенком путем простого подражания и заимствования готовых форм. Его основным принципом является признание как оригинальности и своеобразия, особых закономерностей и природы детской речи, так и невозможности возникновения этих особенностей путем простого усвоения языка окружающих. С этим принципом согласен и Пиаже. Он считает, что мысли ребенка более оригинальны, чем его язык, и все, что говорит Штерн о языке, приложимо в еще большей степени к мысли, в которой роль подражания как образующего фактора, очевидно, значительно меньше, чем в процессе развития речи.
Если верно, что мысль ребенка еще более оригинальна, чем его язык (а этот тезис Пиаже нам кажется бесспорным), то мы должны допустить с необходимостью, что более высокие формы мысли, свойственные образованию научных понятий, должны отличаться еще большим своеобразием по сравнению с теми формами мысли, которые участвуют в образовании спонтанных понятий, и что все сказанное Пиаже по отношению к этим по-
201
следним также должно быть применимо к научным понятиям. Трудно допустить, чтобы ребенок усваивал, но не перерабатывал по-своему научные понятия, чтобы эти последние попадали сразу к нему в рот, как жареные голуби. Все дело заключается в том, чтобы увидеть, что образование научных понятий в такой же мере, как и спонтанных, не заканчивается, а только начинается в тот момент, когда ребенок усваивает впервые новое для него значение или термин, являющийся носителем научного понятия. Это общий закон развития значений слов, которому подчинено в одинаковой мере развитие и спонтанных и научных понятий. Все дело только в том, что начальные моменты в обоих случаях отличаются друг от друга самым существенным образом. Для выяснения последней мысли чрезвычайно полезно привлечь аналогию, которая, как покажет дальнейшее развитие нашей гипотезы и самый ход исследования, является чем-то большим, чем простой аналогией, чем-то родственным по самой психологической природе рассматриваемому нами феномену различия между научными и житейскими понятиями.
Как известно, ребенок усваивает иностранный язык в школе совершенно иным путем, чем он усваивает родной язык. Почти ни одна из фактических закономерностей, столь хорошо изученных в развитии родного языка, не повторяется в сколько-нибудь сходном виде при усвоении школьником языка иностранного. Пиаже справедливо говорит, что язык взрослых не является для ребенка тем, чем для нас изучаемый нами иностранный язык, т. е. системой знаков, соответствующей пункт за пунктом уже ранее приобретенным понятиям. Отчасти благодаря наличию уже готовых и развитых значений слов, которые только переводятся на иностранный язык, т. е. отчасти благодаря самому факту относительной зрелости родного языка, отчасти благодаря тому, что иностранный язык, как показывает специальное исследование, усваивается совершенно иной системой внутренних и внешних условий, он обнаруживает в своем усвоении черты глубочайшего различия с ходом усвоения родного языка. Не могут различные пути развития, проходимые в различных условиях, привести к совершенно одинаковым результатам.
Было бы чудом, если бы усвоение иностранного языка в ходе школьного обучения повторяло или воспроизводило проделанный давным-давно в совершенно других условиях путь усвоения родного языка. Но эти различия, как бы глубоки они ни были, не должны заслонять от нас следующее: процессы усвоения родного и чужого языков имеют между собой настолько много общего, что в сущности они относятся к единому классу процессов речевого развития, к которому примыкает чрезвычайно своеобразный процесс развития письменной речи, не повторяющий ни одного из предыдущих, по представляющий новый вариант
202
внутри того же единого процесса языкового развития. Более того, все эти три процесса — усвоение родного и чужого языков и развитие письменной речи — находятся в сложном взаимодействии друг с другом, что с несомненностью указывает на их принадлежность к одному и тому же классу генетических процессов и на их внутреннее единство. Как указано выше, усвоение иностранного языка потому и является своеобразным процессом, что оно использует всю семантическую сторону родного языка, возникшую в процессе длительного развития. Обучение школьника иностранному языку, таким образом, опирается как на свою основу на знание родного языка. Менее очевидна и менее известна обратная зависимость между обоими этими процессами, состоящая в обратном влиянии иностранного языка на родной язык ребенка. Гёте великолепно понимал, что она существует. По его словам, кто не знает ни одного иностранного языка, тот не знает и своего собственного. Исследования полностью подтверждают эту мысль Гёте, обнаруживая, что овладение иностранным языком поднимает и родную речь ребенка на высшую ступень в смысле осознания языковых форм, обобщения языковых явлений, более сознательного и произвольного пользования словом как орудием мысли и как выражением понятия. Можно сказать, что усвоение иностранного языка так же поднимает на высшую ступень родную речь ребенка, как усвоение алгебры поднимает на высшую ступень арифметическое мышление, позволяя понять всякую арифметическую операцию как частный случай алгебраической, давая более свободный, абстрактный и обобщенный, а тем самым более глубокий и богатый взгляд на операции с конкретными количествами. Так же как алгебра освобождает мысль ребенка из плена конкретных числовых зависимостей и поднимает его до уровня наиболее обобщенной мысли, так точно усвоение иностранного языка, но другими совершенно путями, освобождает речевую мысль ребенка из плена конкретных языковых форм и явлений.
Исследование показывает, что усвоение иностранного языка потому может опираться на родную речь ребенка и оказывать по мере собственного[56] обратное влияние на нее, что он[57] в своем развитии не повторяет пути развития родной речи, и потому, что сила и слабость родного и чужого языков оказываются различными.
Есть все основания предположить, что между развитием житейских и научных понятии существуют аналогичные отношения. В пользу признания этого говорят два веских соображения: во-первых, развитие понятий, как спонтанных, так и научных, есть, в сущности говоря, только часть или одна сторона речевого развития, именно семантическая его сторона, ибо с точки зрения психологии развитие понятий и развитие значений слова
203
есть один и тот же процесс, только по-разному называемый; поэтому есть основание ожидать, что развитие значений слов, как часть общего процесса языкового развития, обнаружит закономерности, свойственные целому; во-вторых, внутренние и внешние условия изучения иностранного языка и образования научных понятий в самых существенных чертах совпадают, а главное, одинаковым образом отличаются от условий развития родного языка и спонтанных понятий, которые тоже оказываются сходными между собой; отличие здесь и там идет в первую очередь по линии обучения как нового фактора развития, так что в известном смысле с таким же правом, как мы различаем спонтанные и неспонтанные понятия, мы могли бы говорить о спонтанном речевом развитии в случае родного языка и неспонтанном — в случае чужого языка[58].
Исследования, изложенные в настоящей книге, и исследования, посвященные психологии изучения иностранного языка, если сопоставить их результаты, целиком и полностью подтверждают с фактической стороны правомерность защищаемой нами аналогии.
На втором месте должно быть поставлено не менее важное теоретическое соображение, состоящее в том, что в научном и в житейском понятиях содержится иное отношение к объекту и иной акт схватывания его в мысли. Следовательно, развитие тех и других понятий предполагает различие самих интеллектуальных процессов, лежащих в их основе. В процессе обучения системе знаний ребенка учат тому, чего нет у него перед глазами, что выходит далеко за пределы его актуального и возможного непосредственного опыта. Можно сказать, что усвоение научных понятий в такой же мере опирается на понятия, выработанные в процессе собственного опыта ребенка, как изучение иностранного языка опирается на семантику родной речи. Подобно тому как в этом последнем случае предполагается наличие уже развитой системы значений слов, так и в первом случае овладение системой научных понятий предполагает уже широко разработанную понятийную ткань, развившуюся с помощью спонтанной активности детской мысли. И подобно тому как усвоение нового языка происходит не через новое обращение к предметному миру и не путем повторения уже проделанного процесса развития, а совершается через другую, прежде усвоенную речевую систему, стоящую между вновь усваиваемым языком и миром вещей, — подобно этому и усвоение системы научных понятий возможно не иначе, как через такое опосредованное отношение к миру объектов, не иначе, как через другие, прежде выработанные понятия. А такое образование понятий требует совершенно иных актов мысли, связанных со свободным движением в системе понятий, с обобщением прежде образован-
204
ных обобщений, с более сознательным и произвольным оперированием прежними понятиями. Исследование подтверждает и эти ожидания теоретической мысли.
Третья группа. К этой группе мы относим соображения преимущественно эвристического характера. Современное психологическое исследование знает только два вида изучения понятий. Один из них осуществляется с помощью поверхностных методов, но зато оперирует реальными понятиями ребенка. Другой имеет возможность применять неизмеримо более углубленные приемы анализа и эксперимента, но только к искусственно образуемым экспериментальным понятиям, обозначенным первоначально бессмысленными словами. Очередной методической проблемой в этой области является переход от поверхностного изучения реальных понятий и от углубленного изучения экспериментальных понятий к углубленному исследованию реальных понятий, использующему все основные результаты двух существующих ныне методов анализа процесса образования понятия. В этом отношении изучение развития научных понятий, которые являются, с одной стороны, реальными понятиями, а с другой — почти экспериментальным путем складываются у нас на глазах, становится незаменимым средством для разрешения очерченной выше методической задачи. Научные понятия образуют особую группу, несомненно принадлежащую к реальным понятиям ребенка, сохраняющимся на всю последующую жизнь, но они же по ходу своего развития чрезвычайно приближаются к экспериментальному образованию понятий и таким образом соединяют достоинства двух существующих ныне методов, позволяя применить экспериментальный анализ рождения и развития реального, фактически существующего в сознании ребенка понятия.
Четвертая группа. К этой последней группе мы относим соображения практического характера. Мы выше оспаривали ту мысль, что научные понятия просто усваиваются и заучиваются. Но факта обучения и его первостепенной роли в возникновении научных понятий со счетов никак не скинешь. Говоря о том, что понятия не усваиваются просто как умственные навыки, мы имели в виду следующее: между обучением и развитием научных понятий существуют более сложные отношения, чем между обучением и образованием навыка. Вскрыть эти более сложные отношения и составляет прямую, практически важную задачу нашего исследования, для разрешения которой создаваемая нами рабочая гипотеза должна открыть свободный путь.
Только раскрытие этих более сложных отношений, существующих между обучением и развитием научных понятий, может помочь нам найти выход из противоречия, в котором запуталась
205
мысль Пиаже, не увидевшего из всего богатства этих отношений ничего, кроме конфликта и антагонизма этих процессов.
Мы исчерпали все главнейшие соображения, которые руководили нами в постановке настоящего исследования при разграничении научных и житейских понятий. Как уже явствует из сказанного, основной исходный вопрос, на который пытается ответить настоящее исследование, может быть сформулирован в чрезвычайно простой форме: понятие «брат» — это типичное житейское понятие, на примере которого Пиаже сумел установить целый ряд особенностей детской мысли (неспособность осознания отношений и т. п.), и понятие «эксплуатация», которое ребенок усваивает в процессе обучения системе обществоведческих знаний, развиваются по одинаковым или по различным путям? Повторяет ли второе понятие просто путь развития первого, обнаруживая те же особенности, или оказывается понятием, которое по психической природе должно рассматриваться как понятие, принадлежащее к особому типу? Мы должны сделать предположение, вполне оправдываемое результатами фактического исследования: оба понятия будут различаться как по путям своего развития, так и по способу функционирования, что, в свою очередь, не может не открыть новых и богатейших возможностей для изучения взаимного влияния этих двух речевых вариантов единого процесса образования понятий у детей.
Если отмести, как мы это делали выше, представление, вовсе исключающее наличие развития научных понятий, перед нашим исследованием останутся две задачи: проверка фактами, добытыми в эксперименте, правильности того мнения, что научные понятия повторяют в своем развитии путь образования житейских понятий, и проверка справедливости того положения, что научные понятия не имеют ничего общего с развитием спонтанных понятий и ничего не способны сказать нам об активности детской мысли во всем ее своеобразии. Мы можем предположить, что исследование даст отрицательный ответ на оба эти вопроса. Оно в действительности показывает, что ни первое, ни второе предположение не оправдываются с фактической стороны и что в действительности существует нечто третье. Оно-то и определяет истинные, сложные и двусторонние отношения между научными и житейскими понятиями.
Для раскрытия этого искомого, реально существующего третьего нет другого пути, как сравнение научных понятий с житейскими, столь хорошо изученными в ряде исследований, как путь от известного к неизвестному. Но предварительным условием такого сравнительного изучения научных и житейских понятий и установления их истинных отношений является разграничение обеих групп понятий. Отношения вообще, а тем бо-
206
лее предполагаемые нами сложнейшие отношения могут существовать только между не совпадающими друг с другом вещами, ибо невозможно никакое отношение вещи к самой себе.
2
Для того чтобы изучить сложные отношения, существующие между развитием научных и житейских понятий, необходимо критически осознать самый масштаб, с помощью которого мы рассчитываем провести наше сравнение. Мы должны выяснить, что характеризует житейские понятия ребенка в школьном возрасте. Пиаже показал, что самое характерное для понятий и для мышления вообще в этом возрасте — неспособность ребенка к осознанию отношений, которыми он может пользоваться спонтанно и автоматически вполне правильно тогда, когда это не требует от него специального осознания. То, что мешает всякому осознанию собственной мысли, есть детский эгоцентризм. Как он сказывается на развитии детских понятий, можно видеть из простого примера Пиаже, который спрашивал у детей 7—8 лет, что значит «потому что» в такой фразе: «Я не пойду завтра в школу, потому что я болен». Большинство отвечают: «Это значит, что он болен». Другие утверждают: «Это значит, что он не пойдет в школу». Короче, эти дети совершенно не осознают определения слов «потому что», хотя умеют спонтанно ими оперировать.
Эта неспособность к осознанию собственной мысли и проистекающая из нее неспособность ребенка к осознанному установлению логических связей длится до 11 —12 лет, т. е. до окончания первого школьного возраста. Ребенок обнаруживает неспособность к логике отношений, подменяя ее эгоцентрической логикой. Корни этой логики и причины трудности лежат в эгоцентризме мысли ребенка до 7—8 лет и в бессознательности, которую порождает этот эгоцентризм. Между 7—8 и 11—12 годами эти трудности переносятся в словесную плоскость, и на детской логике сказываются тогда причины, которые действовали до этой стадии.
В функциональном отношении неосознанность собственной мысли сказывается в одном основном факте, характеризующем логику детской мысли: ребенок обнаруживает способность к целому ряду логических операций, когда они возникают в спонтанном течении его собственной мысли, но он оказывается не в состоянии выполнить совершенно аналогичные операции тогда, когда требуется не спонтанное, а произвольное и намеренное их выполнение. Ограничимся снова только одной иллюстрацией для того, чтобы осветить другую сторону того же самого феномена неосознанности мысли. Детей спрашивают, как нуж-
207
но дополнить фразу: «Человек упал с велосипеда, потому что…» Выполнить это задание не удастся детям еще в 7 лет. Они дополняют часто эту фразу следующим образом: «Он упал с велосипеда, потому что он упал и потом он очень ушибся»; или: «Человек упал с велосипеда, потому что он был болен, потому его и подобрали на улице»; или: «Потому что он сломал себе руку, потому что он сломал себе ногу». Мы видим, таким образом, что ребенок этого возраста оказывается неспособным к намеренному и произвольному установлению причинной связи, в то время как в спонтанной, непроизвольной речи он употребляет союз «потому что» совершенно правильно, осмысленно и кстати, так точно, как он оказывается не в состоянии осознать, что цитированная выше фраза означает причину непосещения школы, а не факт непосещения или болезнь, взятые порознь, хотя ребенок, конечно, понимает, что означает эта фраза. Ребенок понимает простейшие причины и отношения, но не осознает своего понимания. Он спонтанно правильно пользуется союзом «потому что», но не умеет применять его намеренно и произвольно. Таким образом, чисто эмпирическим путем устанавливается внутренняя зависимость этих двух феноменов детской мысли, ее неосознанности и ее непроизвольности, бессознательного понимания и спонтанного применения.
Обе эти особенности, с одной стороны, теснейшим образом связаны с эгоцентризмом детского мышления, а с другой — сами приводят к целому ряду особенностей детской логики, которые сказываются в неспособности ребенка к логике отношений. В школьном возрасте, до самого его конца, длится господство обоих этих феноменов, и развитие, состоящее в социализации мысли, приводит к постепенному и медленному исчезновению этих явлений, к освобождению детской мысли от пут эгоцентризма.
Как же это происходит? Каким образом ребенок достигает медленно и с трудом осознания собственной мысли и овладения ею? Для объяснения этого Пиаже привлекает два психологических закона, которые не принадлежат собственно ему, но на которых он основывает свою теорию. Первый закон — закон осознания, сформулированный Э. Клапаредом. Клапаред показал при помощи весьма интересных опытов, что осознание сходства появляется у ребенка позже, чем осознание различия.
Действительно, ребенок попросту ведет себя одинаково по отношению к предметам, могущим быть уподобленными друг другу, не испытывая нужды осознать единство своего поведения. Он действует, так сказать, по сходству раньше, чем его продумывает. Наоборот, разница в предметах создает неумение приспособиться, каковое и влечет за собой осознание. Клапаред извлек из этого факта закон, который назвал законом осозна-
208
ния: чем больше мы пользуемся каким-нибудь отношением, тем меньше мы его осознаем. Или иначе: мы осознаем лишь в меру нашего неумения приспособиться. Чем более какое-нибудь отношение употребляется автоматически, тем труднее его осознать.
Но закон ничего не говорит нам о том, как осуществляется это осознание. Закон осознания является законом функциональным, т. е. он указывает только на то, нуждается индивид или не нуждается в осознании. Неясной остается проблема структуры: каковы средства этого осознания, каковы встречаемые им препятствия? Чтобы ответить на этот вопрос, следует ввести еще один закон — закон сдвига, или смещения. Действительно, осознать какую-нибудь операцию — значит перевести ее из плоскости действия в плоскость языка, т. е. воссоздать ее в воображении, чтобы можно было выразить ее словами. Смещение операции из плоскости действия в плоскость мысли будет сопряжено с повторением тех затруднений и тех перипетий, которые сопровождали усвоение этой операции в плоскости действия. Будут изменены только сроки, ритм же, возможно, останется тот же. Воспроизведение перипетий, имевших место при усвоении операций в плоскости действия, при усвоении словесной плоскости и составляет сущность второго структурного закона осознания.
Нам предстоит кратко рассмотреть оба эти закона и выяснить, каково действительное значение и происхождение неосознанности и непроизвольности операций с понятиями в школьном возрасте и как ребенок приходит к осознанию понятий и к намеренному, произвольному их употреблению.
Наши критические замечания по поводу этих законов мы можем чрезвычайно ограничить. Сам Пиаже указывает на недостаточность закона осознания Клапареда. Объяснять возникновение осознания исключительно возникновением потребности в нем означает в сущности то же самое, что объяснять происхождение крыльев у птиц тем, что они имеют в них потребность, так как должны летать. Такое объяснение не только возвращает нас глубоко назад по исторической лестнице развития научной мысли, но и предполагает в потребности наличие творческой способности создавать нужные для ее удовлетворения аппараты. В самом же осознании предполагается отсутствие всякого развития его постоянной готовности к действию и, следовательно, преформированность.
Мы вправе спросить: может быть, ребенок не только потому осознает различие раньше, чем сходство, что он при отношениях различия раньше сталкивается с фактом неприспособленности и с потребностью осознания, но и потому, что само осознание отношения сходства требует более сложной и позже развивающейся структуры обобщения и понятий» чем осознание отношений
209
различия? Наше специальное исследование, посвященное выяснению этого вопроса, заставляет дать положительный ответ. Экспериментальный анализ понятий сходства и различия в их развитии показывает, что осознание сходства требует образования первичного обобщения или понятия, охватывающего предметы, между которыми существует это отношение. Напротив, осознание различия не требует от мысли непременного образования понятия и может возникнуть совершенно другим путем. Это и объясняет нам факт, установленный Клапаредом, — факт более позднего развития осознания сходства. То обстоятельство, что последовательность в развитии этих двух понятий обратная по отношению к последовательности их развития в плане действия, является только частным случаем других, более широких явлений того же самого порядка. С помощью эксперимента мы могли установить, что такая же обратная последовательность присуща, например, развитию смыслового восприятия предмета и действия*. Ребенок раньше реагирует на действие, чем на выделенный предмет, но он осмысливает раньше предмет, чем действие; или действие развивается у ребенка раньше, чем автономное восприятие. Однако смысловое восприятие опережает в развитии смысловое действие на целую возрастную эпоху. В основе этого, как показывает анализ, лежат внутренние причины, связанные с природой детских понятий и их развития.
С этим можно было бы примириться. Можно было бы допустить, что закон Клапареда есть только функциональный закон и он не в состоянии объяснить структуру проблемы. Спрашивается только, удовлетворительно ли он объясняет функциональную сторону проблемы осознания в отношении понятий в школьном возрасте в том виде, как его применяет в этих целях Пиаже. Краткий смысл рассуждений Пиаже на эту тему состоит в рисуемой им картине развития понятий у детей в пределах от 7 до 12 лет. В этот период ребенок в мыслительных операциях непрерывно наталкивается на неприспособленность своей мысли к мысли взрослых, непрерывно терпит неудачи и поражения, обнаруживающие несостоятельность его логики, непрерывно стукается лбом о стену, и эти набиваемые им на лбу шишки являются, по мудрому выражению Ж.-Ж. Руссо, его лучшими учителями — они непрерывно рождают потребность в осознании, которая магически раскрывает перед ребенком сезам осознанных и произвольных понятий.
210
Действительно ли только из неудач и поражений возникает высшая ступень в развитии понятий, связанная с их осознанием? Действительно ли непрерывное стукание лбом о стенку и шишки — это единственные учителя ребенка на этом пути? Действительно ли источником высших форм обобщения, именуемых понятиями, является неприспособленность и несостоятельность автоматически выполняемых актов спонтанной мысли? Стоит только сформулировать эти вопросы, для того чтобы увидеть, что другого ответа, кроме отрицательного, они не могут иметь. Так же как невозможно из потребности объяснить происхождение осознания, так же невозможно объяснить движущие силы умственного развития ребенка крахом и банкротством его мысли, которые происходят непрерывно и ежеминутно на всем протяжении школьного возраста.
Второй закон, привлекаемый Пиаже для объяснения осознания, нуждается в специальном рассмотрении, так как нам представляется, что он принадлежит к тому типу генетических объяснений, которые чрезвычайно распространены и которые пользуются принципом повторения либо воспроизведения на высшей стадии событий и закономерностей, имевших место на более ранней стадии в развитии того же самого процесса. Таков же в сущности принцип, прилагаемый обычно к объяснению особенностей письменной речи школьника, которая в своем развитии якобы повторяет путь развития устной речи, проделанный ребенком в раннем детстве. Сомнительность этого объяснительного принципа проистекает из того, что при пользовании им упускают из виду различие психологической природы двух процессов, из которых один должен, согласно этому принципу, повторять и воспроизводить другой. Поэтому за чертами сходства, воспроизводимыми и повторяемыми в более позднем процессе, упускаются из виду черты различия, обусловленные протеканием более позднего процесса на высшем уровне. Благодаря этому вместо развития по спирали получается верчение по кругу. Но мы не станем вдаваться в рассмотрение этого принципа по существу. Нас интересует применительно к нашей теме только его объяснительная ценность в применении к проблеме осознания. В самом деле, если сам Пиаже признает полную невозможность объяснить, как осуществляется осознание с помощью закона Клапареда, спрашивается: насколько его превосходит в этом отношении закон смещения, к которому прибегает Пиаже как к объяснительному принципу?
Но уже из самого содержания этого закона явствует, что его объяснительная ценность не многим больше, чем ценность первого закона. В сущности это есть закон повторения или воспроизведения оставленных уже позади свойств и особенностей мысли в новой области развития. Если даже допустить, что этот закон
211
и верен, он в лучшем случае отвечает не на тот вопрос, для разрешения которого он привлечен. В самом лучшем случае он мог бы нам объяснить только то, почему понятия школьника являются неосознанными и непроизвольными, так же как неосознанной и непроизвольной являлась бы в дошкольном возрасте логика его действия, воспроизводимая теперь в мысли.
Но этот закон не в состоянии ответить на поставленный самим Пиаже вопрос: как осуществляется осознание, т. е. переход от неосознанных к осознанным понятиям? В сущности говоря, второй закон в этом отношении может быть совершенно уподоблен первому закону. Тот в лучшем случае способен объяснить нам, как отсутствие потребности приводит к отсутствию осознания, но не может объяснить, как появление потребности магически может вызвать осуществление осознания, а этот, в лучшем случае, может удовлетворительно ответить на вопрос, почему в школьном возрасте понятия являются неосознанными, но не способен указать, как осуществляется осознание понятий. Проблема же заключается именно в этом, ибо развитие и состоит в прогрессирующем осознании понятий и операций собственной мысли.
Как мы видим, оба закона не разрешают, но входят в проблему. Они не то что неверно или недостаточно объясняют, как развивается осознание, они вовсе не объясняют этого. Мы вынуждены, следовательно, самостоятельно искать гипотетическое объяснение этого основного факта в умственном развитии школьника, факта, непосредственно связанного, как будет видно из дальнейшего, с основной проблемой нашего экспериментального исследования.
Для этого, однако, необходимо предварительно выяснить, насколько правильны объяснения, даваемые Пиаже с точки зрения обоих законов по поводу другого вопроса: почему понятия школьника неосознанные? Этот вопрос связан, строго говоря, самым тесным образом с непосредственно интересующей нас проблемой: как осуществляется осознание. Вернее сказать, это даже не два отдельных вопроса, а две стороны одной и той же проблемы: как совершается переход от неосознанных к осознанным понятиям на протяжении школьного возраста. Совершенно очевидно поэтому, что не только для решения, но и для правильной постановки вопроса о том, как осуществляется осознание, не может быть безразлично, как решается вопрос относительно причин неосознанности понятий. Если мы его решим по Пиаже, в духе его двух законов, мы должны будем искать, как это Пиаже и делает, разрешения второй проблемы в той же плоскости, в том же теоретическом плане. Если же мы откажемся от предлагаемого нам решения первого вопроса и сумеем хотя бы гипотетически наметить иное решение, очевидно, и наши по-
212
иски в решении второй проблемы будут ориентированы совершенно по-иному.
Ж. Пиаже выводит неосознанность понятий в школьном возрасте из прошлого. В прошлом, говорит он, неосознанность гораздо больше царила в мысли ребенка. Сейчас одна часть детской психики освободилась от нее, а другая находится под ее всеопределяющим влиянием. Чем ниже мы спускаемся по лестнице развития, тем более широкую область психики приходится признать неосознанной. Целиком и полностью неосознанным является мир младенца, сознание которого Пиаже характеризует как чистый солипсизм. По мере развития ребенка солипсизм без боя и сопротивления уступает место осознанной социализированной мысли, отходя под натиском вытесняющей его, более могучей и сильной мысли взрослых. Он сменяется эгоцентризмом детского сознания, который всегда выражает собой компромисс, достигнутый на данной ступени развития между собственной мыслью ребенка и усвоенной им мыслью взрослого.
Таким образом, неосознанность понятий в школьном возрасте есть, по Пиаже, остаточное явление отмирающего эгоцентризма, который сохраняет влияние в новой, только еще складывающейся сфере вербальной мысли. Поэтому для объяснения неосознанности понятий Пиаже привлекает остаточный аутизм ребенка и недостаточную социализацию его мысли, приводящую к несообщаемости. Остается выяснить, верно ли, что неосознанность детских понятий вытекает непосредственно из эгоцентрического характера мышления ребенка, характера, который с необходимостью определяет неспособность школьника к осознанию.
Это положение представляется нам более чем сомнительным в свете того, что нам известно об умственном развитии ребенка школьного возраста. Оно представляется сомнительным в свете теории, а исследование прямо опровергает его.
Прежде чем перейти к его критическому анализу, нам надо выяснить второй интересующий нас вопрос: как с этой точки зрения следует представить себе путь, по которому приходит ребенок к осознанию своих понятий? Ведь из определенной трактовки причин неосознанности понятий неизбежно вытекает только один определенный способ объяснения самого процесса осознания. Пиаже нигде не говорит об этом прямо, так как это и не является для него проблемой. Но из того объяснения, которое он дает неосознанности понятий школьника, и из его теории в целом совершенно ясно, как он представляет себе этот путь. Именно поэтому Пиаже и не считает нужным останавливаться на этом вопросе, и вопрос о пути осознания вовсе не является для него проблемой.
213
Осознание, по Пиаже, совершается путем вытеснения социальной зрелой мыслью остатков вербального эгоцентризма. Осознание не возникает как необходимая высшая ступень развития неосознанных понятий, оно привносится извне. Просто один способ действий вытесняет другой. Как змея сбрасывает кожу для того, чтобы покрыться новой, так ребенок отбрасывает и оставляет прежний способ своего мышления потому, что усваивает новый. Вот в немногих словах основная сущность того, как осуществляется осознание. Как видим, для разъяснения этого вопроса не нужно приводить никаких законов. Объяснению подлежала неосознанность понятий, так как она обусловлена самой природой детской мысли, а осознанные понятия существуют вовне, в окружающей ребенка атмосфере социальной мысли и усваиваются ребенком в готовом виде тогда, когда этому не препятствуют антагонистические тенденции его собственного мышления.
Теперь мы можем разобрать совместно обе эти тесно связанные между собой проблемы — первоначальную неосознанность понятий и последующее их осознание, которые в одинаковой мере представляются несостоятельными в решении Пиаже как с теоретической, так и с практической стороны. Объяснять неосознанность понятий и невозможность их произвольного употребления тем, что ребенок этого возраста вообще не способен к осознанию, что он эгоцентричен, нельзя уже по одному тому, что именно в этом возрасте в центр развития, как показывают исследования, выдвигаются высшие психические функции, основными и отличительными чертами которых являются именно интеллектуализация и овладение, т. е. осознание и произвольность.
В центре развития в школьном возрасте стоит переход от низших функций внимания и памяти к высшим функциям произвольного внимания и логической памяти. В другом месте 66 мы выяснили очень подробно, что с таким же правом, с каким мы говорим о произвольном внимании, мы можем говорить о произвольной памяти; с тем правом, с каким мы говорим о логической памяти, мы можем говорить о логическом внимании. Это проистекает из того, что интеллектуализация функций и овладение ими представляют собой два момента одного и того же процесса — перехода к высшим психическим функциям. Мы овладеваем какой-либо функцией в меру того, в меру чего она интеллектуализируется. Произвольность в деятельности какой-либо функции всегда есть обратная сторона ее осознания. Сказать, что память интеллектуализируется в школьном возрасте, совершенно то же, что сказать: возникает произвольное запоминание; сказать, что внимание в школьном возрасте становится произвольным, все равно, что сказать: оно, как справедливо
214
говорит П. П. Блонский, все более и более зависит от мыслей, т. е. от интеллекта.
Таким образом, мы видим, что в сфере внимания и памяти школьник не только обнаруживает способность к осознанию и произвольности, но что развитие этой способности и составляет главное содержание всего школьного возраста. Уже по одному этому невозможно объяснить неосознанность и непроизвольность понятий школьника общей неспособностью его мысли к осознанию и овладению, т. е. эгоцентризмом.
Однако факт, установленный Пиаже, сам по себе неопровержим: школьник не осознает своих понятий. Положение становится еще более затруднительным, если мы сопоставим это с другим фактом, который, казалось бы, говорит о противоположном: как объяснить, что ребенок в школьном возрасте обнаруживает способность к осознанию в сфере памяти и внимания, к овладению этими двумя важнейшими интеллектуальными функциями, и вместе с тем еще не способен к овладению процессами собственного мышления и осознания их. В школьном возрасте интеллектуализируются и становятся произвольными все основные интеллектуальные функции, кроме самого интеллекта в собственном смысле слова[59].
Для разъяснения этого с виду парадоксального явления следует обратиться к основным законам психического развития в этом возрасте. В другом месте 67 мы подробно развили идею относительно изменения межфункциональных связей и отношений в ходе психического развития ребенка. Мы имели там возможность подробно обосновать и подкрепить фактическими доказательствами, что психическое развитие ребенка состоит не столько в развитии и совершенствовании отдельных функций, сколько в изменении межфункциональных связей и отношений, в зависимости от этого изменения стоит уже и развитие каждой частичной психической функции. Сознание развивается как целое, изменяя с каждым новым этапом свое внутреннее строение и связь частей, а не как сумма частичных изменений, происходящих в развитии каждой отдельной функции. Судьба каждой функциональной части в развитии сознания зависит от изменения целого, а не наоборот.
В сущности, сама по себе мысль, что сознание представляет собой единое целое и что отдельные функции находятся в нерасторжимой связи друг с другом, не является сколько-нибудь новой для психологии. Вернее, она так же стара, как сама научная психология. Почти все психологи напоминают о том, что функции действуют в неразрывной связи друг с другом. Запоминание непременно предполагает деятельность внимания, восприятия и осмысления. Восприятие необходимо включает в себя ту же функцию внимания, узнавания (или памяти) и понимания; од-
215
нако в старой, да и в новой, психологии эта верная по существу мысль о функциональном единстве сознания и нерасторжимой связи отдельных видов его деятельности оставалась всегда на периферии и из нее никогда не делались правильные выводы[60]. Больше того, приняв эту бесспорную мысль, психология делала из нее выводы, прямо противоположные тем, которые, казалось бы, должны были из нее проистекать. Установив взаимозависимость функций и единство в деятельности осознания, психология все же продолжала изучать деятельность отдельных функций, пренебрегая их связью, и продолжала рассматривать сознание как совокупность его функциональных частей. Этот путь из общей психологии был перенесен в генетическую, в которой он привел к тому, что и развитие детского сознания стало пониматься как совокупность изменений, происходящих в отдельных функциях. Примат функциональной части над сознанием в целом остался и здесь в качестве главенствующей догмы. Для того чтобы понять, как могли произойти такие явно противоречащие посылкам выводы, необходимо принять во внимание те скрытые постулаты, которые лежали в основе представления о взаимосвязи функций и единстве сознания в старой психологии.
Старая психология учила, что функции всегда действуют в единстве друг с другом (восприятие с памятью и вниманием и т. д.) и что только в этой связи осуществляется единство сознания. Но старая психология в скрытом виде дополняла эту мысль тремя постулатами, освобождение от которых означает в сущности освобождение психологической мысли от сковывающего ее функционального анализа. Принималось всеми, что в деятельности сознания всегда выступают связанные между собой функции, но при этом допускалось: 1) что эти связи функций постоянные, неизменные, раз навсегда данные, константные, не подлежащие развитию; 2) что, следовательно, эти связи функций между собой как постоянная, неизменная, всегда равная самой себе величина, неизменно соучаствующая в деятельности каждой функции в равной мере и одинаковым способом, может быть вынесена за скобки и не приниматься в расчет при исследовании каждой отдельной функции; 3) что, наконец, связи эти представляются несущественными и развитие сознания должно пониматься как производное от развития его функциональных частей, так как хотя функции и связаны между собой, но из-за неизменности связей они сохраняют полную автономность и самостоятельность развития и изменения.
Эти три постулата совершенно ложные, начиная с первого. Известные нам факты из области психического развития учат нас, что межфункциональные связи и отношения не только не являются константными, несущественными и могущими быть
216
вынесенными за скобки, внутри которых производится психологическое исчисление, но что изменение межфункциональных связей, т. е. изменение функционального строения сознания, и составляет главное и центральное содержание всего процесса психического развития. Если так, то психология должна сделать проблемой то, что прежде служило постулатом. Старая психология исходила из постулата, что функции связаны между собой, и этим ограничивалась, не делая предметом исследования самый характер функциональных связей и их изменения. Для новой психологии изменение межфункциональных связей и отношений становится центральной проблемой всех исследований, без разрешения которой не может быть ничего понято в сфере изменений той или иной частной функции. Представление об изменении строения сознания в ходе развития мы и должны привлечь для объяснения интересующего нас вопроса: почему в школьном возрасте внимание и память становятся осознанными и произвольными, а собственно интеллект остается неосознанным и непроизвольным? Общий закон развития состоит в том, что осознание и овладение свойственны только высшей ступени в развитии какой-либо функции. Они возникают поздно. Им необходимо должна предшествовать стадия неосознанного и непроизвольного функционирования данного вида деятельности сознания. Чтобы осознать, надо иметь то, что должно быть осознано. Чтобы овладеть, надо располагать тем, что должно быть подчинено нашей воле[61].
История умственного развития ребенка учит нас, что за первой стадией развития сознания в младенческом возрасте, характеризующейся недифференцированностью отдельных функций, следуют две другие — раннее детство и дошкольный возраст, из которых в первой дифференцируется и проделывает основной путь развития восприятие, доминирующее в системе межфункциональных отношений в данном возрасте и определяющее как центральную доминирующую функцию деятельность и развитие всего остального сознания, а во второй стадии такой доминирующей центральной функцией является выдвигающаяся на передний план развития память. Таким образом, значительная зрелость восприятия и памяти дана уже на пороге школьного возраста и принадлежит к числу основных предпосылок всего психического развития на протяжении этого возраста.
Если учесть, что внимание есть функция структурирования воспринимаемого и представляемого памятью[62], легко понять, что ребенок уже на пороге школьного возраста располагает относительно зрелым вниманием и памятью. Он имеет, следовательно, то, что он должен осознать, и то, чем он должен овладеть. Становится понятным, почему осознанные и произвольные функции памяти и внимания выдвигаются в центр в этом возрасте,
217
Столь же ясным становится то, почему понятия школьника остаются неосознанными и непроизвольными. Чтобы осознать что-либо и овладеть чем-либо, надо прежде располагать этим, говорили мы выше. Но понятия — или, вернее, предпонятия, как мы предпочли бы точнее обозначить эти неосознанные и не достигшие высшей ступени развития концепты школьника — возникают впервые именно в школьном возрасте, вызревают только на его протяжении. До этого ребенок мыслит в общих представлениях, или комплексах, как мы в другом месте назвали эту более раннюю структуру обобщений, господствующую в дошкольном возрасте. Но, если предпонятия только возникают в школьном возрасте, было бы чудом, если бы ребенок мог осознавать и овладевать ими, ибо это означало бы, что сознание способно не только осознавать и овладевать своими функциями, но и создавать их из ничего, творить заново, задолго до того, как они развились.
Таковы теоретические доводы, заставляющие нас отвергнуть объяснения неосознанности понятий, которые предлагает Пиаже. Но мы должны обратиться к данным исследования и узнать, что представляет собой по психической природе сам процесс осознания, для того чтобы выяснить, как происходит осознание внимания и памяти, откуда проистекает неосознанность понятий, каким путем ребенок позже приходит к их осознанию и почему осознание и овладение оказываются двумя сторонами одного и того же.
Исследование говорит, что осознание есть процесс совершенно особого рода, который мы постараемся сейчас выяснить в самых общих чертах. Надо задать первый и основной вопрос: что значит «осознается»? Это слово имеет два смысла; именно потому, что оно имеет два смысла, именно потому, что Э. Клапаред и Пиаже смешивают терминологию З. Фрейда и общей психологии, возникает путаница. Когда Пиаже говорит о неосознанности детской мысли, он не представляет себе, что ребенок не сознает того, что происходит в его сознании, что мышление ребенка бессознательно. Он полагает, что сознание участвует в мысля ребенка, но не до конца. Вначале бессознательная мысль — солипсизм младенца, в конце — сознательная социализованная мысль, а в середине — ряд этапов, обозначаемых Пиаже как постепенное убывание эгоцентризма и нарастание социальных форм мышления. Каждый срединный этап представляет собой известный компромисс между бессознательной аутистической мыслью младенца и социальной сознательной мыслью взрослого. Что значит, что мысль школьника неосознанна? Это значит, что эгоцентризм ребенка сопровождается известной бессознательностью, это значит, что мысль осознана не до конца, она содержит элементы сознательного и несознательного.
218
Сам Пиаже поэтому говорит, что понятие «бессознательные рассуждения» весьма скользко. Если рассматривать развитие сознания как постепенный переход от бессознательного (в смысле Фрейда) к полному сознанию, такое представление верно. Но исследованиями Фрейда установлено, что бессознательное как вытесненное из сознания возникает поздно и в известном смысле является производной величиной от развития и дифференциации сознания. Поэтому есть большая разница между бессознательным и неосознанным. Неосознание не есть вовсе частью бессознательное, частью сознательное. Оно означает не степень сознательности, а иное направление в деятельности сознания. Я завязываю узелок. Я делаю это сознательно. Я не могу, однако, рассказать, как именно я это сделал. Мое сознательное действие оказывается неосознанным, потому что мое внимание направлено на акт самого завязывания, но не на то, как я это делаю. Сознание всегда представляет какой-то кусок действительности. Предметом моего сознания является завязывание узелка, узелок и то, что с ним происходит, но не те действия, которые я произвожу при завязывании, не то, как я это делаю. Но предметом сознания может стать именно это — тогда это будет осознание. Осознанием является акт сознания, предмет которого — сама же деятельность сознания*.
Уже исследования Пиаже показали, что интроспекция начинает развиваться в сколько-нибудь значительной степени только в школьном возрасте. Дальнейшие исследования показали, что в развитии интроспекции в школьном возрасте происходит нечто аналогичное тому, что совершается в развитии внешнего восприятия и наблюдения при переходе от младенческого возраста к раннему детству. Как известно, важнейшим изменением внешнего восприятия в этот период является то, что ребенок от бессловесного и, следовательно, несмыслового восприятия переходит к смысловому, словесному и предметному восприятию. То же следует сказать об интроспекции на пороге школьного возраста. Ребенок здесь переходит от бессловесных интроспекции к речевым, словесным. У него развивается внутреннее смысловое восприятие собственных психических процессов. Но смысловое восприятие, все равно — внешнее или внутреннее, как показывает исследование, не означает ничего другого, как обобщенное восприятие. Следовательно, переход к словесной интроспекции не означает ничего другого, кроме начинающегося обобщения внутренних психических форм активности. Переход к новому типу
219
внутреннего восприятия означает и переход к высшему типу внутренней психической деятельности. Ибо воспринимать вещи по-иному означает в то же самое время приобретать иные возможности действия по отношению к ним. Как на шахматной доске: иначе вижу, иначе играю. Обобщая собственный процесс деятельности, я приобретаю возможность иного отношения к нему. Если грубо сказать, происходит как будто выделение его из общей деятельности сознания. Я сознаю, что я припоминаю, т. е. я собственное припоминание делаю предметом сознания. Возникает выделение. Всякое обобщение известным образом выбирает предмет. Вот почему осознание, понимаемое как обобщение, непосредственно приводит к овладению.
Таким образом, в основе осознания лежит обобщение собственных психических процессов, приводящее к овладению ими. В этом процессе сказывается прежде всего решающая роль обучения. Научные понятия с их совершенно иным отношением к объекту, опосредованные через другие понятия с их внутренней иерархической системой взаимоотношений, являются той областью, в которой осознание понятий, т. е. их обобщение и овладение ими, по-видимому, возникают прежде всего. Раз возникшая в одной сфере мысли новая структура обобщения переносится затем, как всякая структура, как известный принцип деятельности, без всякой выучки и на все остальные области мысли и понятий. Таким образом, осознание приходит через ворота научных понятий.
Замечательны в этом отношении два момента в теории Пиаже. К самой природе спонтанных понятий относится то, что они неосознанны. Дети умеют ими оперировать спонтанно, но не осознают их. Это мы видели на примере детского понятия «потому что». Очевидно, само по себе спонтанное понятие необходимо должно быть неосознанным, ибо заключенное в нем внимание направлено всегда на представленный в нем объект, а не на самый акт мысли, схватывающий его. Через все страницы Пиаже красной нитью проходит нигде прямо не высказанная им мысль, что в отношении понятий спонтанное есть синоним неосознанного. Вот почему Пиаже, ограничивающий историю детской мысли только развитием спонтанных понятий, и не может понять, как иначе, если не извне, могут возникнуть осознанные понятия в царстве спонтанной мысли у ребенка.
Но если верно, что спонтанные понятия с необходимостью должны быть неосознанными, то столь же необходимо научные понятия по самой своей природе предполагают осознание. С этим связан второй из двух упомянутых нами выше моментов в теории Пиаже. Этот момент имеет самое ближайшее, самое непосредственное, самое наиважнейшее отношение к предмету нашего анализа. Все исследования Пиаже подводят к мысли:
220
самое первое, самое решающее отличие спонтанных понятий от неспонтанных, в частности научных, то, что они даны вне системы. Если мы хотим на опыте найти путь от высказанного ребенком неспонтанного понятия к скрывающемуся за ним спонтанному представлению, мы должны, следуя правилу Пиаже, освободить это понятие от ©сякого следа систематичности. Вырвать понятие из системы, в которую оно включено и которое его связывает со всеми остальными понятиями, есть вернейшее методическое средство, рекомендуемое Пиаже для освобождения умственной ориентировки ребенка от неспонтанных понятий, с помощью его Пиаже на практике доказал, что десистематизация детских понятий есть вернейший путь к тому, чтобы получать от детей такие ответы, которыми наполнены все его книги. Очевидно, наличие системы понятий не есть нечто нейтральное и безразличное для жизни и строения каждого отдельного понятия. Понятие становится иным, совершенно меняет свою психологическую природу, как только оно взято в изолированном виде, вырвано из системы и ставит тем самым ребенка в более простое и непосредственное отношение к объекту.
Уже по одному этому мы можем предположить, что составляет самое ядро нашей гипотезы и что́ мы обсудим позднее, обобщая результаты экспериментального исследования, именно: только в системе понятие может приобрести осознанность и произвольность. Осознанность и систематичность в полной мере синонимы в отношении понятий совершенно так же, как спонтанность, неосознанность и несистематичность — три различных слова для обозначения одного и того же в природе детских понятий.
В сущности это вытекает непосредственным образом из сказанного выше. Если осознание означает обобщение, то совершенно[63] очевидно, что обобщение, в свою очередь, не означает ничего иного, кроме образования высшего понятия (Oberbegriff — übergeordneter Begriff), в систему обобщения которого включено данное понятие как частный случай. Но если за данным понятием возникает высшее понятие, оно необходимо предполагает наличие не одного, а ряда соподчиненных понятий, к которым данное понятие стоит в отношениях, определенных системой высшего понятия, — без этого высшее понятие не было бы высшим по отношению к данному. Это же высшее понятие одновременно предполагает иерархическую систематизацию и низших по отношению к данному понятию, ему подчиненных понятий, с которыми оно снова связывается совершенно определенной системой отношений. Таким образом, обобщение понятия приводит к локализации данного понятия в определенной системе отношений общности, отношений, которые являются самыми основными, самыми естественными и важными связями между
221
понятиями. Обобщение, таким образом, означает одновременно осознание и систематизацию понятий.
Что система не безразлична по отношению к внутренней природе детских понятий, явствует из слов самого Пиаже. Наблюдения показывают, отмечал он, что ребенок обнаруживает в своей мысли мало систематичности, мало связности, мало дедукции, что ему чужда вообще потребность избегать противоречий, что он сополагает утверждения, вместо того чтобы их синтезировать, и довольствуется синтетическими схемами, вместо того чтобы придерживаться анализа. Иначе говоря, мысль ребенка более близка к совокупности установок, проистекающих одновременно из действия и мечтательности, чем к мысли взрослого, которая сознает самое себя и обладает системой, как полагает Пиаже.
Позднее мы постараемся показать, что все фактические закономерности, установленные Пиаже в отношении детской логики, имеют силу только в пределах несистематизированных мыслей. Они приложимы только к понятиям, взятым вне системы. Все феномены, описанные Пиаже, как можно легко показать, имеют своей общей причиной именно это обстоятельство — внесистемность понятий, ибо быть чувствительным к противоречию, уметь не рядополагать, но логически синтезировать суждения, обладать способностью дедукции возможно только при определенной системе отношений между понятиями. При отсутствии ее все эти явления неизбежно должны возникнуть, как выстрел после нажатия курка из заряженного ружья.
Но сейчас нас интересует только одно: доказательство того, что система и связанная с ней осознанность привносятся в сферу детских понятий не извне, вытесняя свойственный ребенку способ образования и употребления понятий, но они сами предполагают уже наличие достаточно богатых и зрелых детских понятий, без которых ребенок не имеет того, что должно стать предметом его осознания и систематизации и что возникающая в сфере научных понятий первичная система структурно переносит и на область житейских понятий, перестраивая их, изменяя их внутреннюю природу как бы сверху. То и другое (зависимость научных понятий от спонтанных и обратное влияние их на спонтанные) вытекает из своеобразного отношения научного понятия к объекту, которое, как мы говорили, характеризуется тем, что оно опосредовано через другое понятие и, следовательно, включает в себя одновременно с отношением к предмету также и отношение к другому понятию, т. е. первичные элементы системы понятий.
Таким образом, научное понятие благодаря тому, что оно является научным по самой своей природе, предполагает какое-то место в системе понятий, определяющее его отношение к другим
222
понятиям. Сущность всякого научного понятия глубочайшим образом определена Марксом: «Если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишней» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, с. 384). В этом —суть научного понятия. Оно было бы излишне, если бы отражало объект в его внешнем проявлении как эмпирическое понятие. Поэтому научное понятие необходимо предполагает иное отношение к объекту, возможное только в понятии, а это иное отношение к объекту, содержащееся в научном понятии, в свою очередь, как мы показали выше, необходимо предполагает наличие отношений понятий друг к другу, т. е. системы понятий. С этой точки зрения, мы могли бы сказать, что всякое понятие должно быть взято со всей системой его отношений общности, определяющей присущую ему меру общности, подобно тому как клетка должна быть взята -со всеми своими отростками, через которые она вплетена в общую ткань. Вместе с этим становится ясным, что с логической точки зрения разграничение спонтанных и неспонтанных детских понятий совпадает с различением эмпирических и научных понятий.
Мы еще вернемся к этому вопросу и потому можем ограничиться сейчас только одним примером, иллюстрирующим нашу мысль. Известно, что у ребенка более общие понятия возникают ранее более частных. Так, обычно ребенок раньше усваивает слово «цветок», чем слово «роза». Но в этом случае понятие «цветок» у ребенка не более общее, чем слово «роза», а только более широкое. Ясно, что, когда ребенок обладает только одним понятием, его отношение к объекту иное, чем тогда, когда возникает второе понятие. Но и после этого еще долгое время понятие «цветок» остается рядом с понятием «роза», но не над ним. Оно не включает в себя более частное понятие и не подчиняет его себе, а заменяет его и располагается в одном ряду с ним. Когда возникает обобщение понятия «цветок», тогда изменяется и отношение между этим понятием и понятием «роза», как и между другими соподчиненными понятиями. В понятиях возникает система.
Вернемся к началу наших рассуждений, к исходному вопросу, который был поставлен Пиаже: как осуществляется осознание? Мы пытались выше выяснить, почему понятия школьника неосознанные и как они приобретают осознанность и произвольность. Мы нашли, что причина неосознанности понятий лежит не в эгоцентризме, а в несистематичности спонтанных понятий, которые необходимо должны быть из-за этого неосознанными и непроизвольными. Мы нашли, что осознание понятий осуществляется через образование их системы, основанной на определенных отношениях общности между понятиями, и что осознание понятий приводит к их произвольности. Но по самой своей при-
223
роле научные понятия предполагают систему. Научные понятия — это ворота, через которые осознанность входит в царство детских понятий.
Нам становится совершенно ясно, почему теория Пиаже бессильна ответить на вопрос, как осуществляется осознание. Это происходит потому, что в его теории обойдены научные понятия и отражены закономерности движения понятий вне системы. Пиаже учит: для того чтобы сделать понятие ребенка предметом психологического исследования, нужно его очистить от всякого следа систематичности. Но тем самым он преграждает себе дорогу к объяснению того, как осуществляется осознание, и, больше того, исключает всякую возможность такого объяснения в будущем, ибо осознание и осуществляется через систему, а устранение всякого следа систематичности есть альфа и омега теории Пиаже, которая, как уже сказано, имеет узкоограниченное значение только в пределах несистематических понятий. Для того чтобы разрешить поставленную Пиаже проблему (как осуществляется осознание), нужно в центре поставить то, что Пиаже отбрасывает с порога, — систему.
3
Перед нами после всего сказанного выше отчетливо вырисовывается величайшее значение научных понятий для развития мышления ребенка. Именно в этой сфере мышление прежде всего переходит через границу, отделяющую предпонятия от истинных понятий. Мы нащупали чувствительнейший пункт во всем процессе развития детских понятий, к которому мы и стремились приложить наши исследования. Но вместе с тем мы ввели свою узкую проблему в контекст более широкой, которую мы должны наметить хотя бы в общих чертах.
В сущности проблема не спонтанных, а в частности научных, понятий есть проблема обучения и развития, ибо спонтанные понятия делают возможным самый факт возникновения их из обучения, являющегося источником их развития. Поэтому исследование спонтанных и неспонтанных понятий есть частный случай более общего исследования проблемы обучения и развития, вне которой и наша частная проблема не может быть правильно поставлена. Тем самым исследование, посвященное сравнительному анализу развития научных и житейских понятий, решает на данном, частном случае и эту общую проблему, подвергая фактической проверке общие представления об отношении обоих этих процессов между собой. Вот почему значение нашей рабочей гипотезы и порожденного ею экспериментального исследования выходит далеко за пределы только исследования понятий
224
и распространяется в известном смысле в область проблемы обучения и развития.
Мы не станем излагать эту проблему и ее гипотетическое решение в сколько-нибудь развернутом виде. Мы пытались сделать это в другом месте. Но в той мере, в какой эта проблема служит фоном настоящего исследования и сама составляет в известном отношении предмет самого исследования, мы не можем не затронуть ее главнейших положений. Не касаясь всех многообразных решений этого вопроса, которые имели место в истории нашей науки, мы хотели бы остановиться только на трех основных попытках разрешить этот вопрос, имеющий и по сей час актуальное значение в советской психологии.
Первая и до сих под наиболее распространенная у нас точка зрения на отношение между обучением и развитием заключается в том, что обучение и развитие мыслятся как два независимых друг от друга процесса. Развитие ребенка представляется как процесс, подчиненный природным законам и протекающий по типу созревания, а обучение понимается как чисто внешнее использование возможностей, которые возникают в процессе развития. Типичным выражением этого взгляда является стремление в анализе умственного развития ребенка тщательно разделить то, что идет от развития, и то, что идет от обучения, взять результаты обоих этих процессов в чистом и изолированном виде. Так как это не удалось сделать еще ни одному исследователю, то причину неудачи видят обычно в несовершенстве применяющихся методических приемов и пытаются компенсировать их недостаточность усилиями абстракции, с помощью которой производится разделение интеллектуальных свойств ребенка 1) на возникшие из развития и 2) обязанные своим происхождением обучению. Обычно представляют дело таким образом, что развитие может идти своим нормальным порядком и достигнуть высшего уровня без всякого обучения, что, следовательно, дети, не проходящие школьного обучения, развивают все высшие формы мышления, доступные человеку, и обнаруживают всю полноту интеллектуальных возможностей в такой же мере, как и дети, обучавшиеся в школе.
Чаще эта теория принимает несколько иной вид: она начинает учитывать несомненную зависимость, существующую между обоими процессами. Развитие создает возможности, обучение их реализует. Отношение между обоими процессами представляется в этом случае по аналогии с отношениями, которые преформизм устанавливает между задатками и развитием: задатки содержат потенции, реализуемые в развитии. Так и здесь мыслится, что развитие само из себя создает всю полноту своих возможностей, которые осуществляются в процессе обучения. Обучение, таким образом, как бы надстраивается над созреванием.
225
Оно относится к развитию, как потребление к производству. Оно питается продуктами развития и использует их, применяя в жизни. Таким образом, признается односторонняя зависимость между развитием и обучением. Обучение зависит от развития — это очевидно. Но развитие никак не изменяется под влиянием обучения. В основе обучения, по этой теории, лежит очень простое рассуждение. Всякое обучение требует наличия известной степени зрелости определенных психических функций в качестве необходимых предпосылок.
Нельзя обучать грамоте годовалого ребенка. Нельзя начинать обучать письму ребенка в 3 года[64]. Следовательно, анализ психического процесса обучения сводится к тому, чтобы выяснить, какого рода функции и в какой степени созревания необходимы для того, чтобы обучение стало возможным. Если эти функции развились у ребенка в должной степени, если его память достигла такого уровня, когда он может запоминать названия букв алфавита, внимание развилось настолько, что он может сосредоточить его на такой-то срок на неинтересном для него деле, мышление созрело для того, чтобы он понял отношение между звуками и письменными знаками, которые они символизируют, — если все это развилось в достаточной мере, обучение письму может начинаться.
Хотя при таком понимании и признается односторонняя зависимость обучения от развития, тем не менее эта зависимость мыслится как чисто внешняя, исключающая всякое внутреннее взаимопроникновение и сплетение обоих процессов, почему мы и можем рассматривать эту теорию как частный вариант (наиболее поздний и близкий к действительности) тех теорий, в основе которых лежит постулат независимости обоих процессов. Поскольку это так, постольку зерно истины, содержащееся в этом варианте, тонет в массе ложных в корне основ самой теории.
Существенным для такого понимания независимости процессов развития и обучения является один момент, на который, думается нам, обращали до сих пор мало внимания, но который с интересующей нас точки зрения центральный, — это вопрос о последовательности, которой связаны процессы развития и обучения. Мы думаем, что указанные теории решают этот вопрос в том смысле, что обучение идет в хвосте развития. Развитие должно проделать известные циклы, оно должно завершить определенные стадии и дать известные плоды созревания для того, чтобы обучение сделалось возможным.
В этой теории заключена доля правды: известные предпосылки в развитии ребенка действительно необходимы для того, чтобы обучение сделалось возможным. Поэтому новое обучение находится, несомненно, в зависимости от каких-то уже пройденных циклов детского развития. Это верно: действительно суще-
226
ствует низший порог обучения, за которым оно невозможно. Однако эта зависимость, как мы увидим, не главная, а подчиненная, и попытка выдать ее за главное и тем более за целое приводит к ряду недоразумений и ошибок. Обучение как бы пожинает плоды детского созревания, но само по себе обучение остается безразличным для развития. Память, внимание и мышление ребенка развились до такого уровня, что ребенок может обучаться грамоте и арифметике; но если мы его обучим грамоте и арифметике, то его память, внимание и мышление изменятся или нет? Старая психология отвечала на этот вопрос так: изменятся в той мере, в какой мы будем их упражнять, т. е. изменятся в результате упражнения, но ничего не изменится в ходе их развития. Ничего нового не возникнет в умственном развитии ребенка от того, что мы его обучим грамоте. Это будет тот же самый ребенок, но грамотный.
Эта точка зрения, целиком определяющая всю старую педагогическую психологию, в том числе и известную работу Э. Меймана, доведена до логического предела в теории Пиаже. Его точка зрения такова, что мышление ребенка с необходимостью проходит через известные фазы и стадии, независимо от того, обучается ребенок или нет. Если он обучается, то это чисто внешний факт, который еще не находится в единстве с его собственными процессами мышления. Поэтому педагогика должна считаться с этими автономными особенностями детского мышления как с низшим порогом, определяющим возможности обучения. Когда же у ребенка разовьются другие возможности мышления, тогда станет возможным и другое обучение. Для Пиаже показателем уровня детского мышления является не то, что ребенок знает, не то, что он способен усвоить, а то, как он мыслит в той области, где он никакого знания не имеет. Здесь самым резким образом противопоставляются обучение и развитие, знание и мышление. Исходя из этого, Пиаже задает ребенку такие вопросы, что ребенок наверняка не может иметь какие-нибудь знания о спрашиваемом предмете. А если мы спрашиваем ребенка о вещах, о которых у него могут быть знания, то здесь мы получаем не результаты мышления, а результаты знания. Поэтому спонтанные понятия, возникающие в процессе развития ребенка, рассматриваются как показательные для его мышления, а научные понятия, возникающие из обучения, не обладают этой показательностью. Поэтому же, раз обучение и развитие резко противопоставляются друг другу, мы приходим с необходимостью к основному положению Пиаже, согласно которому научные понятия скорее вытесняют спонтанные и занимают их место, чем возникают из них, преобразуя их.
Вторая точка зрения по интересующему нас вопросу диаметрально противоположна той, которую мы только что изложили.
227
Здесь сливаются обучение и развитие, отождествляется тот другой процесс. Эта точка зрения была первоначально развита в педагогической психологии У. Джемсом 68, который стремился показать, что процесс образования ассоциаций и навыков одинаково лежит в основе как обучения, так и умственного развития. Но если сущность обоих процессов тождественна, нет никаких оснований далее различать их друг от друга. Отсюда только один шаг к тому, чтобы провозгласить знаменитую формулу: обучение и есть развитие, обучение — синоним развития. В основе этой теории лежит основная концепция всей старой, отмирающей психологии — ассоцианизм. Его возрождение в педагогической психологии представлено сейчас последним из могикан — Э. Торндайком и рефлексологией69, которая перевела учение об ассоциациях на физиологический язык. На вопрос о том, что представляет собой процесс развития интеллекта ребенка, эта теория отвечает: естественное развитие есть не что иное, как последовательное и постепенное накопление условных рефлексов. Но и на вопрос о том, в чем состоит обучение, эта теория дает буквально такой же ответ. Тем самым она приходит к тем же выводам, что и Торндайк: обучение и развитие — синонимы. Ребенок развивается в меру того, как он обучается. Ребенок развит ровно настолько, насколько он обучен. Развитие и есть обучение, обучение и есть развитие. Если в первой теории узел вопроса об отношении между обучением и развитием не развязывается, а разрубается, так как между тем и другим процессом не признаются никакие отношения, то во второй теории этот узел вовсе устраняется или обходится, так как вообще не может возникнуть вопрос, какие существуют отношения между обучением и развитием, если то и другое есть одно и то же.
Есть, наконец, третья группа теорий, которая особенно влиятельна в европейской детской психологии. Эти теории пытаются подняться пал крайностями обеих точек зрения, которые изложены выше. Они пытаются проплыть между Сциллой и Харибдой. При этом случается то, что обычно происходит с теориями, занимающими среднее место между двумя крайними точками зрения. Они становятся не над обеими теориями, а между ними, преодолевая одну крайность ровно в такой мере, в какой они попадают в другую. Одну неправильную теорию они преодолевают, частично уступая другой, а другую — уступая первой. В сущности говоря[65], это двойственные теории: занимая позицию между двумя противоположными точками зрения, они на самом деле приводят к некоторому объединению этих точек зрения.
Такова точка зрения К. Коффки, который заявляет с самого начала, что развитие всегда имеет двойственный характер: во-первых, надо различать развитие как созревание и, во-вторых, развитие как обучение. Но это и значит признать в сущности[66]
228
две прежние крайние точки зрения, одну вслед за другой, или объединить их. Первая точка зрения говорит, что процессы развития и обучения независимы друг от друга. Ее Коффка повторяет, утверждая, что развитие и есть созревание, не зависящее в своих внутренних законах от обучения. Вторая точка зрения говорит, что обучение есть развитие. Эту точку зрения Коффка повторяет буквально.
Продолжив наше образное сравнение, можно сказать: если первая теория разрубает, а не развязывает узел, вторая устраняет или обходит его, то теория Коффки еще более туго завязывает этот узел, так что на деле позиция исследователя в отношении обеих противоположных точек зрения не только не разрешает, но еще более запутывает вопрос, ибо она возводит в принцип то, что является основной ошибкой в самой постановке вопроса, породившей обе первые группы теорий. Теория Коффки исходит из принципиально дуалистического понимания самого развития. Развитие не единый процесс, а есть развитие как созревание и есть развитие как обучение. Но все же эта новая теория подвигает нас вперед по сравнению с двумя предыдущими в трех отношениях.
1. Для того чтобы объединение двух противоположных точек зрения стало возможным, мы необходимо должны прибегнуть к допущению, что между обоими видами развития — созреванием и обучением — должна существовать взаимная зависимость. Это допущение Коффка и включает в свою теорию. На основе ряда фактов он устанавливает, что само созревание зависит от функционирования органа и, следовательно, от совершенствования его функции в процессе обучения. И обратно, самый процесс созревания движет вперед обучение, раскрывая перед ним новые и новые возможности. Обучение как-то влияет на созревание, а созревание как-то влияет на обучение. Но это «как-то» совершенно не расшифровано в теории, которая не идет дальше общего признания. Вместо того чтобы сделать это «как-то» предметом исследования, она довольствуется постулатом наличия взаимозависимости между обоими процессами.
2. Третья теория вводит и новое понимание самого процесса обучения. В то время как для Торндайка обучение представляет собой неосмысленный механический процесс, приводящий путем проб и ошибок к удачным результатам, для структурной психологии процесс обучения есть возникновение новых структур и усовершенствование старых. Так как процесс структурообразования признается первичным, возникающим не в результате выучки, а являющимся предпосылкой всякого обучения, это последнее с самого начала приобретает в новой теории осмысленный структурный характер. Основное свойство всякой структуры — независимость от образующего ее элемента, от
229
конкретного материала, на котором она образована, и возможность переноса на любой другой материал. Если ребенок в процессе обучения образует какую-либо структуру, усваивает какую-нибудь операцию, то этим самым мы открыли в его развитии возможность не только воспроизводить данную структуру, но дали ему гораздо большие возможности и в области других структур. Мы обучили ребенка на пфенниг, а он развился на марку. Один шаг в обучении может означать сто шагов в развитии. В этом и заключается самый положительный момент новой теории. Она учит нас видеть разницу между таким обучением, которое дает столько, сколько дает, и между таким, которое дает больше, чем оно дает непосредственно. Если мы научимся писать на пишущей машинке, то в общей структуре нашего сознания может ничего не измениться. Но если мы научимся, скажем, новому методу мышления, новому типу структур, то это даст нам возможность выполнять не только ту самую деятельность, которая была предметом непосредственного обучения, но во много раз больше — даст возможность выйти далеко за пределы тех непосредственных результатов, к которым привело обучение.
3. Третий момент непосредственно связан с только что указанным и вытекает из него. Он касается проблемы последовательности, связывающей обучение и развитие. Вопрос о временных отношениях между обучением и развитием уже существенно разделяет первые две теории и третью.
В вопросе о временны́х отношениях между обучением и развитием первая теория, как мы видели, занимает совершенно определенную позицию: обучение идет в хвосте развития, раньше развитие, а потом обучение. С точки зрения второй теории вопрос о последовательности обоих процессов вообще не может встать, так как оба процесса отождествляются и сливаются друг с другом. Но все же практически вторая теория всегда исходит из того предположения, что обучение и развитие протекают синхронно, как два параллельных процесса, совпадая во времени, что развитие следует шаг за шагом за обучением, как тень за отбрасывающим ее предметом. Третья теория сохраняет, конечно, в себе (поскольку она объединяет обе эти точки зрения и различает созревание и обучение) оба эти представления о временно́й связи обучения и развития. Но она дополняет их и чем-то существенно новым. Это существенно новое вытекает из того, о чем мы говорили прежде, — из понимания обучения как структурного и осмысленного процесса. Обучение, как мы видели, может дать в развитии больше, чем то, что содержится в его непосредственных результатах. Приложенное к одной точке в сфере детской мысли, оно видоизменяет и перестраивает и многие другие точки. Оно может иметь в развитии отдаленные,
230
а не только ближайшие последствия, обучение может идти не только вслед за развитием, не только нога в ногу с ним, но может идти впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нем новообразования. Это бесконечно важно и ценно. Это одно искупает многие недостатки эклектической теории Коффки, которая признает одинаково возможными и важными все три логически мыслимых вида последовательности, связывающие оба процесса. Первая теория, которая разрывает обучение и развитие, вторая теория, которая их отождествляет, — обе, несмотря на свою противоположность, приходят к одному и тому же выводу: обучение ничего не меняет в развитии. Третья теория приводит нас к совершенно новой проблеме, которая особенно важна с точки зрения развиваемой нами гипотезы.
Эта проблема новая, но, в сущности говоря, она представляет собой возвращение на новом историческом этапе развития науки к очень старой проблеме, почти забытой сейчас. Конечно, возвращение не означает воскрешения старых и давно доказавших свою несостоятельность учений. Но, как это часто бывает в истории научной мысли, развивающейся диалектически, пересмотр какой-либо теории <с точки зрения наибольшей высоты, которой достигла наука в момент пересмотра, приводит к восстановлению некоторых правильных положений, содержащихся в теориях, еще более ранних, чем та, которая пересматривается.
Мы имеем в виду старое учение о формальной дисциплине, обычно связываемой с именем И. Ф. Гербарта70. В понятие формальной дисциплины, как известно, входит представление о том, что существуют такие предметы преподавания, которые не только дают знания и навыки, содержащиеся в самом предмете, но развивают и общие умственные способности ребенка. Поэтому различались предметы, более или менее важные с точки зрения формальных дисциплин. Эта сама по себе прогрессивная мысль привела в педагогической практике к реакционным формам обучения, прямым воплощением которых явилась немецкая и русская классическая гимназия. Если в гимназии огромное внимание уделялось изучению латинского и греческого языков, это делалось не потому, что признавалось жизненно важным, а потому, что считалось, будто изучение этих предметов способствует общему умственному развитию ребенка. Такое же значение в реальных училищах придавалось математике. Считалось, что математика даст такое же развитие умственных способностей, нужных в области реальных дисциплин, как древние языки — в области гуманитарных наук.
Отчасти неразработанность самой теории формальных дисциплин, а главным образом несоответствие ее практического осуществления задачам новейшей буржуазной педагогики привели к разгрому всего учения о формальной дисциплине в тео-
231
рии и практике. Идеологом здесь выступил Торндайк, который в ряде исследований пытался показать, что формальная дисциплина есть миф, легенда, что обучение не имеет никаких отдаленных влияний, никаких отдаленных последствий для развития. Торндайк пришел в результате этого исследования к полному отрицанию существования тех зависимостей между обучением и развитием, которое верно предчувствовала, но в высшей степени карикатурно изобразила теория формальной дисциплины. Но положения Торндайка убедительны только в той мере, в какой они касаются карикатурных преувеличений и искажений этого учения. Ядра его они не затрагивают и тем более не уничтожают. Неубедительность доводов Торндайка проистекает из того, что он не сумел подняться над той ложной постановкой вопроса, которая содержится в учении гербартианцев. Он старался их победить, став на ту же самую позицию и их же собственным оружием, поэтому он опроверг не самую идею, лежащую в ядре старого учения, а только шелуху, обволакивавшую это ядро.
В самом деле, теоретически Торндайк ставит вопрос о формальной дисциплине с точки зрения влияния в обучении всего на все. Он спрашивает: может ли изучение таблицы умножения повлиять на правильный выбор при заключении брака или на развитие способности к лучшему пониманию анекдотов? Давая отрицательный ответ на этот вопрос, Торндайк не доказывает ничего больше, кроме того, что было известно заранее: в обучении и развитии все не может влиять на все, влияния не могут быть универсальными и связывать любые, бессмысленно объединенные пункты развития и обучения, которые не имеют между собой ничего общего по своей психической природе. Поэтому он абсолютно не прав, когда из того верного положения, что все не может влиять на все, делает вывод, будто ничто не может влиять ни на что. Он доказал только, что обучение, затрагивающее функции, не имеющие ничего общего с функциями в других видах деятельности и с функциями мышления и не стоящие к ним ни в каком осмысленном отношении, не может оказать какого-нибудь влияния на эти другие виды деятельности, связанные с совершенно разнородными функциями. Это непреложно. Но остается совершенно открытым вопрос о том, не затрагивают ли различные предметы обучения хотя бы в некоторой части тождественные, родственные или хотя бы близкие по своей психической природе функции и не может ли тогда обучение одному какому-нибудь предмету оказать влияние, облегчающее или способствующее развитию определенной системы функций и тем самым изучению другого предмета, который опирается на родственные или близкие первым психические процессы. Таким образом, положение Торндайка, отрицающее идею
232
формальной дисциплины, сохраняет силу исключительно в пределах бессмысленного сочетания любых функций друг с другом — функций, участвующих в изучении таблицы умножения, в брачном выборе и в понимании анекдота.
Спрашивается: что же дает право Торндайку распространить свои выводы, действительные только для бессмысленных сочетаний, на всю область обучения и развития ребенка? Почему из того факта, что все не может влиять на все, он делает вывод, что ничто не влияет ни на что? Это происходит из-за общей теоретической концепции Торндайка, согласно которой других сочетаний деятельности сознания, кроме бессмысленных, вообще не существует. Все обучение, как и развитие, Торндайк сводит к механическому образованию ассоциативных связей. Следовательно, все деятельности сознания связаны между собой единообразно, одним способом: усвоение таблицы умножения с пониманием анекдота так же, как и образование алгебраических понятий с пониманием законов физики. Но мы знаем, что это не так, что в деятельности сознания господствуют структурные, осмысленные связи и отношения и что наличие бессмысленных связей является скорее исключением, чем правилом. Стоит только принять этот бесспорный для современной психологии взгляд, и все громы и молнии торндайковой критики, которые он пытался обрушить на учение о формальной дисциплине, падают на его собственную теорию. Коффка потому и должен был, сам не сознавая того, возвратиться в известном смысле к признанию идеи формальной дисциплины. Он является представителем структурной психологии, отрицающей в корне ассоциативную концепцию обучения и умственного развития ребенка.
Но второй ошибочный момент критики теории формальной дисциплины прошел и мимо Коффки: для опровержения гербартианской концепции Торндайк прибег к экспериментированию над крайне узкими, специализированными и притом элементарнейшими функциями. Он упражнял испытуемого в различении длины линейных отрезков и потом изучал, как это обучение влияет на умение различать величину углов. Само собой разумеется, что никакое влияние не могло быть здесь обнаружено. Это обусловливается двумя причинами. Во-первых, Торндайк обучал испытуемых не тому, что типично для школьного обучения; ведь никто никогда не утверждал, что обучение езде на велосипеде, плаванию и игре в гольф — этим сложнейшим видам деятельности по сравнению с различением величины углов — может сколько-нибудь значительно повлиять на общее развитие детского ума; это утверждалось только в отношении изучения таких предметов, как арифметика, родной язык и т. д., т. е. сложных предметов, затрагивающих целые, огромные комплексы психических функций. Легко допустить, что если различение длины
233
линий никак непосредственно не влияет на различение углов, то изучение родного языка и связанное с ним общее развитие смысловой стороны речи и понятий может стоять в известной связи с изучением арифметики. Торндайк доказал только, что существует обучение двоякого рода: одно — типичное для всякого специализированного, узкого, чаще встречающегося в профессиональном обучении взрослых образования навыков и тренировки в их применении и другое обучение, типичное для детского возраста, охватывающее сложные комплексы психических функций, приводящее в движение целые большие области детского мышления и по необходимости затрагивающее в различных своих сторонах и предметах, на которые оно распадается, близкие, родственные или даже тождественные психические процессы. Для первого обучения формальная дисциплина должна явиться скорее исключением, чем правилом; для второго она, по-видимому, должна оказаться одним из основных его законов.
Далее Торндайк брал, как указано, в качестве предмета обучения деятельности, связанные с самыми низшими, самыми элементарными, самыми простыми по строению функциями, в то время как школьное обучение имеет дело с высшими психическими функциями, не только отличающимися более сложной структурой, но представляющими собой, как это выяснено в специальных исследованиях, совершенно новые образования — сложные функциональные системы. В свете известного нам о природе высших психических функций можно предугадать, что возможность формальной дисциплины в области высших процессов, возникающих в ходе культурного развития ребенка, должна быть принципиально иной, чем в области элементарных процессов. В этом убеждает нас однородность строения и единство происхождения всех высших психических функций, неоднократно раскрытые в экспериментальном исследовании. Мы уже говорили, что все высшие функции имеют однородную основу и становятся высшими благодаря осознанию их и овладению ими. Логическая память, говорили мы, может с таким же правом быть названа произвольной, как произвольное внимание — логическим. Прибавим, что обе эти функции в совершенно той же мере могут быть названы абстрактными в отличие от конкретных форм памяти и внимания, в какой мы различаем абстрактное и конкретное мышление. Но концепции Торндайка еще в большей мере, чем идея структурности, чужда идея качественного различения высших и низших процессов. Те и другие он принимает за тождественные по своей природе и поэтому считает себя вправе решать вопрос о формальной дисциплине в области школьного обучения, тесно связанного с деятельностью высших функций, на примерах обучения, целиком покоящегося на элементарных процессах.
234
4
Мы заготовили весь нужный нам теоретический материал и можем сейчас попытаться схематически сформулировать решение вопроса, который до сих пор рассматривали преимущественно с критической стороны. В развитии этой части гипотезы мы опираемся на четыре ряда исследований, которые приводят нас к единой концепции в проблеме обучения и развития. Мы исходим из того положения, что обучение и развитие представляют собой не два независимых процесса или один и тот же процесс, что между развитием и обучением существуют сложные отношения. Мы попытались сделать их предметом специальных исследований, результаты которых мы должны изложить для того, чтобы иметь возможность фактически обосновать нашу гипотезу.
Все исследования объединены, как сказано, рамками единой проблемы обучения и развития. Задачей исследования было вскрытие сложных взаимоотношений между обучением и развитием на конкретных участках школьной работы — при обучении детей чтению и письму, грамматике, арифметике, естествознанию, обществоведению. Исследования охватили ряд вопросов: об особенностях овладения десятичной системой счисления в связи с развитием понятия числа; об осознании детьми математических операций в процессе решения задач; об особенностях составления и решения задач школьниками I ступени. Исследования выявили ряд особенностей в развитии устной и письменной речи в первом школьном возрасте, показали ступени в развитии понимания переносного смысла слов, дали материал к вопросу о влиянии усвоения грамматических структур на ход психического развития, они пролили свет на понимание отношений обществоведения и естествознания в школе. Задачей этих исследований было раскрытие и освещение различных сторон проблемы обучения и развития, и каждое из исследований разрешало ту или иную сторону этого единого вопроса.
Центральными явились вопросы о степени зрелости тех или иных психических функций к началу обучения и о влиянии обучения на их развитие, о временном соотношении между обучением и развитием, о сущности и значении обучения формальной дисциплине*.
1. В первой серии исследований мы выясняли вопрос о степени зрелости тех психических функций, на которые опирается обучение основным школьным предметам: чтению и письму, арифметике и естествознанию. Исследования согласно показа-
235
ли, что к началу обучения дети, успешно его проходящие, не обнаруживают ни малейших признаков зрелости тех психологических предпосылок, которые, согласно первой теории, должны бы предшествовать началу обучения. Поясним это на примере письменной речи.
Почему письменная речь трудна школьнику и настолько меньше развита у него, чем устная, что различие в речевом возрасте по обоим видам речи достигает на некоторых ступенях обучения 6—8 лет? Это объясняли обычно следующим образом: письменная речь как новая функция повторяет в развитии основные этапы, которые проделала в свое время устная речь, и, следовательно, письменная речь восьмилетнего ребенка должна по необходимости напоминать устную речь двухлетнего. Предлагалось даже измерять возраст письменной речи с начала обучения и устанавливать параллельное соответствие письменной речи определенным возрастам устной.
Это объяснение явно неудовлетворительно. Нам понятно, почему ребенок двух лет пользуется небольшим запасом слов и примитивными синтаксическими структурами. У него еще чрезвычайно беден словарь, и он еще не овладел строением сложного предложения. Не словарь письменной речи у школьника беднее, чем устной речи, так как это один и тот же словарь. Синтаксис и грамматические формы письменной и устной речи одни и те же. Ребенок уже овладел ими. Следовательно, та причина, которая объясняет нам примитивность устной речи в два года (бедность словаря и неразвитый синтаксис), перестает действовать в отношении письменной речи школьника, и уже по одному этому аналогия с устной речью несостоятельна для объяснения интересующей нас проблемы огромного отставания письменной речи школьника от его устной речи.
Исследование показывает, что письменная речь в существенных чертах развития нисколько не воспроизводит историю устной речи, что сходство обоих процессов скорее внешне симптоматическое, чем сходство по существу. Письменная речь не есть также простой перевод устной речи в письменные знаки, и овладение письменной речью не есть просто усвоение техники письма. В этом случае мы должны были бы ожидать, что вместе с усвоением механизма письма письменная речь будет так же богата и развита, как устная речь, и будет походить на нее, как перевод — на оригинал. Но и это не имеет места в развитии письменной речи.
Письменная речь есть совершенно особая речевая функция, отличающаяся от устной речи не менее, чем внутренняя речь от внешней по строению и способу функционирования. Письменная речь, как показывает исследование, требует для своего хотя бы минимального развития высокой ступени абстракции. Это
236
речь без интонационной, экспрессивной, вообще без всей звучащей стороны. Это речь в мысли, в представлении, но речь, лишенная самого существенного признака устной речи — материального звука.
Уже один этот момент совершенно меняет всю совокупность психологических условий, сложившихся при устной речи. Ребенок к этому возрасту с помощью звучащей речи достиг уже известной, довольно высокой ступени абстракции по отношению к предметному миру. Теперь ему предъявляется новая задача: он должен абстрагироваться от чувственной стороны самой речи, он должен перейти к отвлеченной речи, к речи, пользующейся не словами, но представлениями слов. В этом отношении письменная речь отличается от устной так же, как отвлеченное мышление — от наглядного. Естественно, что уже поэтому письменная речь не может повторять этапы развития устной, не может соответствовать уровню развития устной речи. Как показывают исследования, именно отвлеченность письменной речи, то, что эта речь только мыслится, а не произносится, представляет одну из величайших трудностей, с которой встречается ребенок в процессе овладения письмом. Кто продолжает считать одной из главных трудностей недоразвитие мелкой мускулатуры и другие моменты, связанные с техникой писания, видит корни трудности не там, где они действительно заложены, и третьестепенное принимает за центральное, основное.
Письменная речь, показывает далее исследование, более абстрактна, чем устная, и в другом отношении. Это речь без собеседника, совершенно в непривычной для детского разговора ситуации. Ситуация письменной речи есть ситуация, в которой тот, к кому обращена речь, или отсутствует вовсе, или не находится в контакте с пишущим. Это речь-монолог, разговор с белым листом бумаги, с воображаемым или только представляемым собеседником, в то время как всякая ситуация устной речи есть ситуация разговора. Ситуация письменной речи есть ситуация, требующая от ребенка двойной абстракции: от звучащей стороны речи и от собеседника. Исследование показывает, что в этом заключается вторая из основных трудностей, с которыми сталкивается школьник при овладении письменной речью. Естественно, что речь без реального звучания, только представляемая и мыслимая, требующая символизации звуковых символов, т. е. символизации второго порядка, должна быть в той же мере труднее устной речи, в какой алгебра для ребенка труднее арифметики. Письменная речь и есть алгебра речи. Но так же точно, как усвоение алгебры не повторяет изучения арифметики, а представляет собой новый и высший план развития абстрактной математической мысли, которая перестраивает и поднимает на высшую ступень прежде сложившееся арифметическое мышле-
237
ние, так точно алгебра речи, или письменная речь, вводит ребенка в самый высокий абстрактный план речи, перестраивая тем самым и прежде сложившуюся психическую систему устной речи.
Далее, исследование приводит нас к выводу, что мотивы, побуждающие обращаться к письменной речи, еще мало доступны ребенку, начинающему обучаться письму. Между тем мотивация речи, потребность в речи, как и во всяком новом виде деятельности, всегда стоит в начале развития этой деятельности. Мы хорошо знаем из истории развития устной речи, что потребность в речевом общении развивается на всем протяжении младенческого возраста и является одной из важнейших предпосылок для появления первого осмысленного слова. Если эта потребность не созрела, наблюдается и задержка речевого развития. Но к началу школьного обучения потребность в письменной речи совершенно незрелая. Можно даже сказать на основании данных исследования, что школьник, приступающий к письму, не только не ощущает потребности в этой новой речевой функции, но в высшей степени смутно представляет себе, для чего вообще эта функция нужна ему,
То, что мотивация предшествует деятельности, верно не только по отношению к онтогенетическому плану, но и по отношению к каждому разговору, к каждой фразе. Каждой фразе, каждому разговору предшествует возникновение мотива речи — ради чего я говорю, из какого источника аффективных побуждений и потребностей питается эта деятельность. Ситуация устной речи ежеминутно создает мотивацию каждого нового изгиба речи, разговора, диалога. Надобность в чем-нибудь и просьба, вопрос и ответ, высказывание и возражение, непонимание и разъяснение и множество других подобных отношений между мотивом и речью целиком определяют ситуацию реально звучащей речи. При устной речи не приходится создавать мотивацию речи. Устная речь в этом смысле регулируется динамической ситуацией. Она целиком вытекает из нее и протекает по типу ситуационно-мотивированных и ситуационно-обусловленных процессов. При письменной речи мы вынуждены сами создавать ситуацию, вернее, представлять ее в мысли. В известном смысле пользование письменной речью предполагает принципиально иное, чем при устной речи, отношение к ситуации, требует более независимого, более произвольного, более свободного отношения к ней.
Исследование раскрывает, далее, в чем заключается это иное отношение к ситуации при письменной речи. В письменной речи ребенок должен действовать произвольно, письменная речь более произвольна, чем устная. Это проходит красной нитью через всю письменную речь снизу доверху. Уже звуковая форма
238
слова, которая в устной речи произносится автоматически, без расчленения на отдельные звуки, требует при письме бухштабирования, расчленения. Ребенок, произнося любое слово, не отдает себе сознательно отчета в том, какие звуки он произносит, и не делает никаких намеренных операций при произнесении каждого отдельного звука. В письменной речи, наоборот, он должен осознать звуковую структуру слова, расчленить его и произвольно воссоздать в письменных знаках.
Совершенно аналогично построена и деятельность ребенка при образовании фразы в письме. Он так же произвольно складывает фразы, как произвольно и намеренно воссоздает из отдельных букв звучащее слово. Его синтаксис так же произволен в письменной речи, как и его фонетика. Наконец, семантический строй письменной речи так же требует произвольной работы над значениями слов и их развертыванием в известной последовательности, как синтаксис и фонетика. Это проистекает из того, что письменная речь стоит в ином отношении к внутренней речи, чем устная. Если развитие внешней речи предшествует внутренней, то письменная появляется после внутренней, предполагая уже ее наличие. Письменная речь, по Д. Джексону и Г. Хэду71, есть ключ к внутренней речи. Однако переход от внутренней речи к письменной и требует того, что было нами названо произвольной семантикой и что можно поставить в связь с произвольной фонетикой письменной речи. Грамматика мысли во внутренней и письменной речи не совпадает, смысловой синтаксис внутренней речи совсем иной, чем синтаксис устной и письменной речи. В нем господствуют совершенно другие законы построения целого и смысловых единиц. В известном смысле можно сказать, что синтаксис внутренней речи прямая противоположность синтаксису письменной речи. Между этими двумя полюсами стоит синтаксис устной речи.
Внутренняя речь есть максимально свернутая, сокращенная, стенографическая речь. Письменная речь есть максимально развернутая, формально даже более законченная, чем устная. В ней нет эллипсов. Внутренняя речь полна ими. Внутренняя речь по синтаксическому строению почти исключительно предикативна. Подобно тому как в устной речи синтаксис становится предикативным в тех случаях, когда подлежащее и относящиеся к нему члены предложения известны собеседникам, внутренняя речь, при которой подлежащее и вся ситуация разговора известны самому мыслящему человеку, состоит почти из одних сказуемых. Самим себе мы никогда не должны сообщать, о чем идет речь. Это всегда подразумевается и образует фон сознания. Отсюда и предикативность внутренней речи. Поэтому внутренняя речь, если бы она даже сделалась слышимой для постороннего человека, осталась не понятной никому, кроме самого гово-
239
рящего, так как никто не знает психического поля, в котором она протекает. Поэтому внутренняя речь полна идиоматизмов. Напротив, письменная речь, при которой ситуация должна быть восстановлена во всех подробностях, чтобы сделаться понятной собеседнику, наиболее развернута, и поэтому даже то, что опускается при устной речи, необходимо должно быть упомянуто в письменной. Это речь, ориентированная на максимальную понятность для другого. В ней надо все досказать до конца. Переход от максимально свернутой внутренней речи, речи для себя, к максимально развернутой письменной речи, речи для другого, требует от ребенка сложнейших операций произвольного построения смысловой ткани.
Вторая особенность письменной речи тесно связана с ее произвольностью; это есть большая сознательность письменной речи по сравнению с устной. Еще В. Вундт указывал на намеренность и сознательность письменной речи как на черты капитальной важности, отличающие ее от устной речи. По мнению Вундта, разница между развитием языка и развитием письма только та, что последним почти с самого начала управляет сознание и намерение, а потому здесь легко может явиться совершенно произвольная система знаков, например в клинообразном письме, тогда как процесс, изменяющий язык и его элементы, всегда остается бессознательным.
В нашем исследовании удалось установить в отношении онтогенеза письменной речи то, в чем Вундт видел самую существенную особенность филогенетического развития письма. Сознание и намерение с самого начала управляют письменной речью ребенка. Знаки письменной речи и их употребление усваиваются ребенком сознательно и произвольно в отличие от бессознательного употребления и усвоения звучащей стороны речи. Письменная речь заставляет ребенка действовать более интеллектуально. Она заставляет осознавать самый процесс говорения. Мотивы письменной речи более абстрактны, более интеллектуалистичны, более отдалены от потребности.
Если подвести итог этому краткому изложению результатов исследований по психологии письменной речи, можно сказать, что письменная речь есть совершенно иной с точки зрения психической природы образующих ее функций процесс, чем устная. Она есть алгебра речи, наиболее трудная и сложная форма намеренной и сознательной речевой деятельности. Этот вывод позволяет нам сделать два заключения: 1) мы находим в нем объяснение того, почему у школьника такое резкое расхождение между его устной и письменной речью; это расхождение определяется и измеряется расхождением в уровнях развития спонтанной, непроизвольной и неосознанной деятельности, с одной стороны, и абстрактной, произвольной и осознанной деятельно-
240
сти, с другой; 2) к началу обучения письменной речи все основные психические функции, лежащие в ее основе, не закончили и даже еще не начали настоящего процесса своего развития; обучение опирается на незрелые, только начинающие первый и основной циклы развития психические процессы.
Этот факт подтверждается и другими исследованиями: обучение арифметике, грамматике, естествознанию и т. д. не начинается в тот момент, когда соответствующие функции оказываются уже зрелыми. Наоборот, незрелость функций к началу обучения — общий и основной закон, к которому единодушно приводят исследования во всех областях школьного преподавания[67]. В наиболее чистом виде эта незрелость выступает при анализе психологии грамматического обучения. Поэтому мы и остановимся в заключение только на этом вопросе, не касаясь других школьных предметов и откладывая до следующей главы рассмотрение обучения, связанного с приобретением научных понятий как прямого предмета настоящего исследования.
Вопрос об обучении грамматике — один из самых сложных вопросов с методической и психологической точки зрения, так как грамматика — такой специфический предмет, который, казалось бы, мало нужен, мало полезен для ребенка, Арифметика дает ребенку новые умения. Ребенок, не умевший складывать или делить, благодаря знанию арифметики научается делать это. Но грамматика, казалось бы, никаких новых умений не дает ребенку. Ребенок уже до того, как он попал в школу, умеет склонять и спрягать. Чему же новому его учит грамматика? Согласно этому суждению, которое лежит в основе аграмматического движения, грамматика должна быть удалена из системы школьных предметов за ненужностью, ибо она не дает новых умений в области речи, которыми ребенок не обладал бы раньше. Между тем анализ грамматического обучения, как и анализ письменной речи, показывает ее огромное значение для общего развития детской мысли.
Ребенок, конечно, умеет склонять и спрягать задолго до школы. Задолго до школы он практически владеет всей грамматикой родного языка. Он склоняет и спрягает, но не знает, что он склоняет и спрягает[68]. Эта деятельность усвоена им чисто структурно, подобно фонетическому составу слов. Если попросить ребенка раннего возраста произнести какое-нибудь сочетание звуков, например «ск», он этого не сделает, так как такая произвольная артикуляция для него трудна, но в слове «Москва» он произносит эти же звуки непроизвольно и свободно. Внутри определенной структуры звуки сами собой возникают в детской речи. Вне ее эти же самые звуки не даются ребенку. Таким образом, ребенок умеет произносить какой-нибудь звук, но не умеет произносить его произвольно. Это центральный
241
факт, который относится и ко всем остальным речевым операциям ребенка на пороге школьного возраста.
Значит, ребенок владеет известными умениями в области речи, но не знает, что он ими владеет. Эти операции не осознаны. Это сказывается в том, что ребенок владеет ими спонтанно, в определенной ситуации, автоматически, т. е. тогда, когда ситуация в каких-то своих больших структурах вызывает его на проявление этих умений, но вне определенной структуры — произвольно, сознательно и намеренно — ребенок не умеет сделать того, что умеет делать непроизвольно. Он ограничен, следовательно, в пользовании своим умением[69].
Неосознанность и непроизвольность снова оказываются двумя частями единого целого. Это относится и к грамматическим навыкам ребенка, к склонениям и спряжениям. Ребенок употребляет верный падеж и верную глагольную форму в структуре определенной фразы, но он не отдает себе отчета в том, сколько существует таких форм, он не в состоянии просклонять существительное или проспрягать глагол. Ребенок дошкольного возраста владеет уже всеми основными грамматическими и синтаксическими формами. За время обучения родному языку он не приобретает существенно новых навыков грамматических и синтаксических форм и структур. С этой точки зрения обучение грамматике действительно бесполезное дело. Но ребенок научается в школе, и в частности благодаря письменной речи и грамматике, осознавать, что он делает, и, следовательно, произвольно оперировать собственными умениями. Его умение переводится из бессознательного, автоматического плана в план произвольный, намеренный и сознательный.
После того что мы знаем уже о сознательном и произвольном характере письменной речи, мы без всяких пояснений можем заключить, какое первостепенное значение для овладения письменной речью имеет это осознание собственной речи и овладение ею. Можно прямо сказать, что без развития обоих этих моментов письменная речь вообще невозможна. Как ребенок впервые осознает, что если он говорит «Москва», то в этом слове содержатся звуки м—о—с—к—в—а, т. е. осознает собственную звуковую деятельность и научается произвольно произносить каждый отдельный элемент звуковой структуры, так точно, когда ребенок научается писать, он начинает произвольно делать то же самое, что он прежде непроизвольно делал в области устной речи. Таким образом, и грамматика и письмо дают ребенку возможность подняться на высшую ступень в развитии речи.
Мы рассмотрели только два предмета — письмо и грамматику, но мы могли бы привести результаты исследования по всем основным школьным предметам, которые показали бы то же самое: незрелость мысли к началу обучения. Мы можем сейчас
242
сделать и более содержательный вывод из наших исследований. Мы видим, что школьное обучение, если взять его психологическую сторону, все время вращается вокруг оси основных новообразований школьного возраста: осознания и владения. Мы можем установить, что самые различные предметы обучения имеют как бы общую основу в психике ребенка и эта общая основа развивается и вызревает как основное новообразование школьного возраста в ходе и в процессе самого обучения, а не завершает цикл своего развития к началу этого возраста. Развитие психологической основы, обучения основным предметам не предшествует началу обучения, а совершается в неразрывной внутренней связи с ним, в ходе его поступательного движения.
2.[70] Вторая серия наших исследований была посвящена выяснению вопроса о временном -соотношении процессов обучения и развития. Исследования показали, что обучение всегда идет впереди развития. Ребенок раньше овладевает известными навыками по данному предмету, чем сознательно и произвольно научается применять их. Исследование показывает, что всегда существуют расхождения и никогда не обнаруживается параллелизм между ходом школьного обучения и развитием соответствующих функций.
Учебный процесс имеет свою последовательность, свою логику, свою сложную организацию. Он протекает в форме уроков или экскурсий. Сегодня в классе — одни уроки, завтра будут другие. В первом семестре прошли одно, во втором семестре пройдут другое. Он регулируется программой и расписанием. Было бы величайшей ошибкой предполагать, что эти внешние законы строения учебного процесса совершенно совпадают с внутренними законами строения тех процессов развития, которые вызываются к жизни обучением. Было бы неверно думать, что если в этом семестре ученик прошел по арифметике нечто, следовательно, и во внутреннем семестре своего развития сделал совершенно такие же успехи. Если попытаться символически изобразить последовательность учебного процесса в виде кривой и сделать то же по отношению к кривой развития психических функций, непосредственно участвующих в обучении, как это мы и попытались сделать в наших опытах, то обе эти кривые никогда не совпадут, но обнаружат очень сложные соотношения[71].
Обычно начинают учить сложению до деления. Есть какая-то внутренняя последовательность в изложении всех арифметических знаний и сведений. Но с точки зрения развития отдельные моменты, отдельные звенья этого процесса могут быть совершенно различной ценности. Может оказаться, что первое, второе, третье, четвертое звенья в ходе арифметического обучения для развития арифметического мышления несущественны и
243
только какое-то пятое звено оказалось решительным для развития[72]. Кривая развития здесь резко поднялась вверх и, может быть, забежала вперед по сравнению с последующими звеньями процесса обучения, которые будут усвоены совершенно иначе, чем предшествующие. В этом пункте обучения в развитии совершился перелом. Ребенок что-то окончательно понял, усвоил что-то существенное, в его «ага-переживании» прояснился общий принцип. Он, конечно, должен усвоить и последующие звенья программы, но они уже фактически содержатся в том, что он усвоил сейчас. В каждом предмете есть существенные моменты, конституирующие понятия. Если бы ход развития совершенно совпадал с ходом обучения, то каждый момент обучения имел одинаковое значение для развития, обе кривые совпадали бы. Каждый пункт кривой обучения имел бы свое зеркальное отражение в кривой развития. Исследование показывает обратное: в обучении и в развитии есть свои узловые моменты, которые господствуют над рядом предшествующих и последующих. Эти переломные пункты не совпадают на обеих кривых, но обнаруживают сложнейшие внутренние взаимоотношения[73]. Если бы обе кривые слились в одну, никакие вообще отношения между обучением и развитием были бы невозможны.
Развитие совершается другими темпами, если можно так выразиться, чем обучение. Здесь имеет место то, что обнаруживается всегда и неизменно при установлении в научном исследовании отношений между двумя связанными между собой процессами, каждый из которых измеряется собственной мерой.
Развитие осознания и произвольности не может совпадать по своему ритму с ритмом программы по грамматике. Даже самое грубое — сроки — не могут совпадать в одном и другом случае. Заранее даже нельзя допустить, чтобы срок овладения программой склонения имен существительных совпадал со сроком, необходимым для внутреннего осознания собственной речи и овладения ею в какой-то определенной части этого процесса. Развитие не подчиняется школьной программе, оно имеет внутреннюю логику. Никто не показал, что каждый урок арифметики может соответствовать каждому шагу в развитии, скажем, произвольного внимания, хотя в общем обучение арифметике, несомненно, существенно влияет на переход внимания из области низших в область высших психических функций. Было бы чудом, если бы существовало полное соответствие между одним и другим процессами. Исследование показывает обратное: оба процесса в известном смысле несоизмеримы в прямом смысле этого слова. Ведь ребенка не учат в школе десятичной системе как таковой. Его учат записывать числа, складывать, умножать, решать примеры и задачи, а в результате всего этого у него развивается какое-то общее понятие о десятичной системе.
244
Общий итог второй серии наших исследований может быть сформулирован так: в момент усвоения какой-либо арифметической операции, какого-либо научного понятия развитие этой операции и этого понятия не заканчивается, а только начинается, кривая развития не совпадает с кривой прохождения школьной программы; при этом обучение оказывается в основном идущим впереди развития.
3. Третья серия исследований была посвящена выяснению вопроса, сходного с проблемой Э. Торндайка в его экспериментальных исследованиях, которые имели целью опровергнуть теорию формальной дисциплины. Но мы экспериментировали в области высших, а не элементарных функций и в области школьного обучения, а не обучения таким вещам, как различение линейных отрезков и величины углов. Проще говоря, мы перенесли эксперимент в ту область, где можно было ожидать осмысленной связи между предметами обучения и участвующими в них функциями.
Исследования показали, что различные предметы школьного преподавания взаимодействуют в ходе развития ребенка. Развитие совершается гораздо более слитно, чем это можно было бы предположить на основании опытов Торндайка, в свете которых развитие приобретает атомистический характер. Опыты Торндайка показали, что развитие каждого частичного знания и умения состоит в образовании независимой цепи ассоциаций, которая никак не может облегчать возникновение других ассоциативных цепей. Все развитие оказалось независимым, изолированным и самостоятельным и совершенно одинаково происходящим по законам ассоциаций. Наши исследования показали, что умственное развитие ребенка не распределено и не совершается по предметной системе. Дело не происходит так, что арифметика развивает изолированно и независимо одни функции, а письменная речь — другие. У различных предметов оказывается в некоторой части общая психическая основа. Осознание и овладение одинаково выступают на первый план в развитии при обучении грамматике и письменной речи. С ними же мы встретились бы при обучении арифметике, и они же станут в центр нашего внимания при анализе научных понятий. Абстрактное мышление ребенка развивается на всех уроках, и развитие его вовсе не распадается на отдельные русла соответственно всем предметам, на которые распадается школьное обучение.
Мы могли бы сказать так: есть процесс обучения; он имеет свою внутреннюю структуру, последовательность, свою логику развертывания; и внутри, в голове каждого отдельного ученика, есть как бы внутренняя сеть процессов, которые вызываются к жизни и движутся в ходе школьного обучения, но которые име-
245
ют свою логику развития. Одной из основных задач психологии школьного обучения и является вскрытие этой внутренней логики, внутреннего хода развития, вызываемых к жизни тем или иным ходом обучения. Эксперимент с несомненностью устанавливает три факта: 1) значительную общность психической основы обучения различным предметам, которая уже сама но себе обеспечивает возможность влияния одного предмета на другой, — следовательно, формальную сторону любого предмета; 2) обратное влияние обучения на развитие высших психических функций, которое выходит далеко за пределы специального содержания и материала данного предмета и, следовательно, снова говорит о наличии формальной дисциплины, разной для разных предметов, но, как правило, присущей всем им; ребенок, пришедший к осознанию падежей, овладел тем самым такой структурой, которая в его мышлении переносится и на другие области, непосредственно не связанные с падежами и даже с грамматикой в целом; 3) взаимозависимость и взаимосвязь отдельных психических функций, преимущественно затрагиваемых при прохождении того или иного предмета; так, развитие произвольного внимания и логической памяти, отвлеченного мышления и научного воображения благодаря общей для всех психических функций высшего типа основе совершается как единый сложный процесс; этой общей основой всех высших психических функций, развитие которых составляет главное новообразование школьного возраста, является осознание и овладение.
4. Четвертая серия наших исследований была посвящена новому для современной психологии вопросу, который, по нашему мнению, занимает центральное место во всей проблеме обучения и развития в школьном возрасте.
Психологические исследования, связанные с проблемой обучения, ограничивались обычно установлением уровня умственного развития ребенка. Но определять состояние развития ребенка с помощью одного этого уровня представляется недостаточным. Как определяется обычно этот уровень? Средством для его определения служат задачи, самостоятельно решаемые ребенком. С их помощью мы узнаем, что ребенок умеет и знает на сегодняшний день, так как во внимание принимаются только самостоятельно решенные ребенком задачи. Очевидно, что с помощью этого метода мы можем установить только то, что у ребенка уже созрело на сегодняшний день. Мы определяем лишь уровень его актуального развития. Но состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью. Как садовник, желающий определить состояние своего сада, будет неправ, если вздумает оценивать его только по созревшим и принесшим плоды яблоням, а должен учесть и созревающие деревья, так и психолог неизбежно должен при оценке состояния
246
развития учитывать не только созревшие, но и созревающие функции, не только актуальный уровень, но и зону ближайшего развития. Как это сделать?
При определении уровня актуального развития применяются задачи, требующие самостоятельного решения и показательные только в отношении уже сложившихся и созревших функций. Но попробуем применить новый методический прием. Допустим, что мы определили умственный возраст двух детей, который оказался равным 8 годам. Если не остановиться на этом, а попытаться выяснить, как решают оба ребенка задачи, предназначенные для следующих возрастов, если прийти им на помощь путем показа, наводящего вопроса, начала решения и т.д., то окажется, что один из них с помощью, в сотрудничестве, по указанию решает задачи в возрасте до 12, другой — до 9 лет. Это расхождение между умственным возрастом, или уровнем актуального развития, который определяется с помощью самостоятельно решаемых задач, и уровнем, которого достигает ребенок при решении задач не самостоятельно, а в сотрудничестве, и определяет зону ближайшего развития. В нашем примере эта зона для одного ребенка выражается цифрой 4, для другого — 1. Можем ли мы считать, что оба ребенка стоят на одинаковом уровне умственного развития, что состояние их развития совпадает? Очевидно, нет. Как показывает исследование, между этими детьми в школе окажется гораздо больше различий, обусловленных расхождением их зон ближайшего развития, чем сходства, порожденного одинаковым уровнем их актуального развития. Это скажется в первую очередь в динамике их умственного развития в ходе обучения и в относительной успешности обучения. Исследование показывает, что зона ближайшего развития имеет более непосредственное значение для динамики интеллектуального развития и успешности обучения, чем актуальный уровень их развития.
Для объяснения этого факта, установленного в исследовании, мы можем сослаться на общеизвестное и бесспорное положение, которое гласит, что в сотрудничестве, под руководством, с чьей-то помощью ребенок всегда может сделать больше и решить более трудные задачи, чем самостоятельно. В данном случае мы имеем только частный случай этого общего положения. Но объяснение должно пойти дальше и вскрыть причины, лежащие в основе этого явления. В старой психологии и в житейском сознании укоренился взгляд на подражание как на чисто механическую деятельность. С этой точки зрения несамостоятельное решение считается обычно не показательным, не симптоматическим для развития собственного интеллекта ребенка. Считается, что подражать можно всему, чему угодно. То, что я способен сделать по подражанию, ничего еще не говорит о моем собст-
247
венном уме и, следовательно, никак не может характеризовать состояние его развития. Но этот взгляд ложный.
Можно считать установленным в современной психологии подражания, что подражать ребенок может только тому, что лежит в зоне его собственных интеллектуальных возможностей. Так, если я не умею играть в шахматы, если даже самый лучший шахматист покажет мне, как надо выиграть партию, я не сумею этого сделать. Если я знаю арифметику, но затрудняюсь при решении какой-либо сложной задачи, то показ решения сейчас же должен привести и к моему собственному решению, но если я не знаю высшей математики, то показ решения дифференциального уравнения не подвинет моей собственной мысли в этом направлении ни на один шаг. Чтобы подражать, надо иметь какую-то возможность перехода от того, что я умею, к тому, чего я не умею.
Мы можем, таким образом, ввести новое и существенное дополнение к тому, что сказано раньше о работе в сотрудничестве и подражании. Мы говорили, что в сотрудничестве ребенок может сделать всегда больше, чем самостоятельно. Но мы должны прибавить: не бесконечно больше, а только в известных пределах, строго определяемых состоянием его развития и его интеллектуальными возможностями. В сотрудничестве ребенок оказывается сильнее и умнее, чем в самостоятельной работе, он поднимается выше по уровню интеллектуальных трудностей, разрешаемых им, но всегда существует определенная, строго закономерная, дистанция, которая определяет расхождение при самостоятельной работе и при работе в сотрудничестве.
Наши исследования показали, что с помощью подражания ребенок не решает вообще все задачи, оставшиеся нерешенными. Он доходит до известной границы, различной для различных детей. В нашем примере для одного ребенка эта граница лежала очень низко и отстояла всего на 1 год от уровня его развития. У другого ребенка она отстояла на 4 года. Если бы подражать можно было всему, чему угодно, независимо от состояния развития, то оба ребенка с одинаковой легкостью решили бы все задачи, рассчитанные на все детские возрасты. На самом деле не только это не имеет места, но оказывается, что и в сотрудничестве ребенок легче решает ближайшие к его уровню развития задачи, далее трудность решения нарастает и наконец становится непреодолимой даже для решения в сотрудничестве. Большая или меньшая возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве, и оказывается самым чувствительным симптомом, характеризующим динамику развития и успешности умственной деятельности ребенка. Она вполне совпадает с зоной его ближайшего развития.
248
Уже В. Келер в известных опытах над шимпанзе столкнулся с этой проблемой. Умеют ли животные подражать интеллектуальным действиям других животных? Не являются ли разумные, целесообразные операции обезьян просто усвоенными по подражанию решениями задач, которые сами по себе совершенно недоступны интеллекту этих животных? Опыты показали, что подражание животного строго ограничено его собственными интеллектуальными возможностями. Иначе говоря, обезьяна (шимпанзе) может по подражанию осмысленно выполнить только то, что она способна выполнить самостоятельно. Подражание не продвигает ее дальше в области ее интеллектуальных, способностей. Правда, обезьяну можно путем дрессуры научить выполнять и неизмеримо более сложные операции, до которых она никогда не дошла бы собственным умом. Но в этом случае операция выполнялась бы просто автоматически и механически как бессмысленный навык, а не как разумное и осмысленное решение[74]. Сравнительная психология установила ряд симптомов, которые позволяют отличить интеллектуальное, осмысленное подражание от автоматической копировки. В первом случае решение усваивается сразу, раз и навсегда, не требует повторений, кривая ошибок круто и сразу падает от 100% до 0, решение явно обнаруживает все основные признаки, свойственные самостоятельному, интеллектуальному решению обезьяны: оно совершается с помощью схватывания структуры поля и отношений между предметами. При дрессировке усваивание происходит путем проб и ошибок; кривая ошибочных решений падает медленно и постепенно, усвоение требует многократных повторений, процесс выучки не обнаруживает никакой осмысленности, никакого понимания структурных отношений, он совершается слепо и не структурно.
Этот факт имеет фундаментальное значение для всей психологии обучения животных и человека. Замечательно то, что во всех трех теориях обучения, которые мы рассмотрели в настоящей главе, не делается никакого принципиального отличия между обучением животных и человека. Все три теории применяют один и тот же объяснительный принцип к дрессуре и обучению. Но уже из приведенного выше факта ясно, в чем заключается коренное и принципиальное различие между ними. Животное, даже самое умное, не в состоянии развивать свои интеллектуальные способности путем подражания или обучения. Оно не может усвоить ничего принципиально нового по сравнению с тем, чем оно уже обладает. Оно способно только к выучке путем дрессировки.
В этом смысле можно сказать, что животное вообще не обучаемо, если обучение понимать в специфическом для человека смысле.
249
Наоборот, у ребенка развитие из сотрудничества путем подражания, которое является источником возникновения всех специфически человеческих свойств сознания, развитие из обучения — основной факт. Таким образом, центральный для всей психологии обучения момент есть возможность подниматься в сотрудничестве на высшую интеллектуальную ступень, возможность перехода от того, что ребенок умеет, к тому, чего он не умеет, с помощью подражания. На этом основано все значение обучения для развития, а это, собственно, и составляет содержание понятия зоны ближайшего развития. Подражание, если понимать его в широком смысле, это главная форма, в которой осуществляется влияние обучения на развитие. Обучение речи, обучение в школе, в огромной степени строится на подражании. Ведь в школе ребенок обучается не тому, что он умеет делать самостоятельно, но тому, чего он еще делать не умеет, но что оказывается для него доступным в сотрудничестве с учителем и под его руководством. Основное в обучении именно то, что ребенок обучается новому. Поэтому зона ближайшего развития, определяющая эту область доступных ребенку переходов, и оказывается самым определяющим моментом в отношении обучения и развития.
Исследование с несомненностью показывает: то, что лежит в зоне ближайшего развития в одной стадии данного возраста, реализуется и переходит на уровень актуального развития во второй стадии. Иными словами, то, что ребенок умеет делать сегодня в сотрудничестве, он сумеет сделать завтра самостоятельно. Поэтому представляется правдоподобным, что обучение и развитие в школе относятся друг к другу, как зона ближайшего развития и уровень актуального развития. Только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед развития и ведет развитие за собой. Но обучить ребенка возможно только тому, чему он уже способен обучиться[75]. Обучение возможно там, где есть возможность подражания. Значит, обучение должно ориентироваться на уже пройденные циклы развития, на свой низший порог; однако оно опирается не столько на созревшие, сколько на созревающие функции. Оно всегда начинается с того, что у ребенка еще не созрело. Возможности обучения определяются зоной его ближайшего развития. Возвращаясь к нашему примеру, мы могли бы сказать, что у двоих детей, взятых в опыте, возможности обучения будут разные, несмотря на то что их умственный возраст одинаков, так как зоны их ближайшего развития резко расходятся. Упомянутые выше исследования показали, что всякий предмет школьного обучения строится всегда на не созревшей еще почве.
Какой отсюда следует сделать вывод? Можно рассуждать так: если письменная речь требует произвольности, абстракции
250
и других не созревших еще у школьника функций, надо отложить обучение до того времени, когда эти функции начнут созревать[76]. Но мировой опыт показал, что обучение письму — один из главнейших предметов школьного обучения в самом начале школы, что оно вызывает к жизни развитие всех тех функций, которые у ребенка еще не созрели. Так что, когда мы говорим, что обучение должно опираться на зону ближайшего развития, на не созревшие еще функции, мы не прописываем школе новый рецепт, а просто освобождаемся от старого заблуждения, будто развитие необходимо должно проделать свои циклы, полностью подготовить почву, на которой обучение может строить свое здание. В связи с этим меняется и принципиальный вопрос о педагогических выводах из психологических исследований. Прежде спрашивали: созрел ли ребенок для обучения чтению, арифметике и т. д.? Вопрос о созревших функциях остается в силе. Мы всегда должны определить низший порог обучения. Но этим дело не исчерпывается: мы должны уметь определить и высший порог обучения. Только в пределах между обоими этими порогами обучение может оказаться плодотворным. Только между ними заключен оптимальный период обучения данному предмету. Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития. Только тогда она сумеет в процессе обучения вызвать к жизни те процессы развития, которые сейчас лежат в зоне ближайшего развития.
Поясним это на простом примере. Как известно, во время господства комплексной системы школьного обучения этой системе давались «педагогические обоснования». Утверждалось, что комплексная система соответствует особенностям детского мышления. Основная ошибка заключалась в том, что принципиальная постановка вопроса была ложная. Она проистекала из того взгляда, что обучение должно ориентироваться на вчерашний день развития, на уже созревшие особенности детского мышления. Педагоги предлагали закреплять с помощью комплексной системы в развитии ребенка то, что он должен был оставить позади себя, придя в школу. Они ориентировались на то, что ребенок умеет делать самостоятельно в своем мышлении, и не учитывали возможности его перехода от того, что он умеет, к тому, чего он не умеет/ Они оценивали состояние развития, как глупый садовник: только по уже созревшим плодам. Они не, учитывали того, что обучение должно вести развитие впереди Они не учитывали зоны ближайшего развития. Они ориентировались на линию наименьшего сопротивления, на слабость ребенка, а не на его силу.
Положение меняется, когда мы начинаем понимать: именно потому, что ребенок, приходящий в школу с созревшими в дошкольном возрасте функциями, обнаруживает тенденцию к та-
251
ким формам мышления, которые находят соответствие в комплексной системе; именно поэтому комплексная система есть не что иное, как перенесение системы обучения, приноровленной к дошкольнику, в школу, закрепление на первых четырех годах школьного обучения слабых сторон дошкольного мышления? Это есть система, которая плетется в хвосте детского развития, вместо того чтобы вести его за собой.
Мы можем теперь, закончив изложение основных исследований, попытаться кратко обобщить то положительное решение вопроса об обучении и развитии, к которому они нас привели.
Мы видели, что обучение и развитие не совпадают непосредственно, а представляют собой два процесса, находящиеся в очень сложных взаимоотношениях. Обучение только тогда хорошо, когда оно идет впереди развития. Тогда оно пробуждается и вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития. В этом и заключается главнейшая роль обучения в развитии. Этим и отличается обучение ребенка от дрессуры животных. Этим отличается обучение ребенка, целью которого является его всестороннее развитие, от обучения специализированным, техническим умениям (писание на пишущей машинке, езда на велосипеде), которые не обнаруживают никакого существенного влияния на развитие. Формальная сторона каждого школьного предмета является той сферой, в которой совершается и осуществляется влияние обучения на развитие. Обучение было бы совершенно не нужно, если бы оно только могло использовать уже созревшее в развитии, если бы оно само не являлось источником развития, источником возникновения нового.
Поэтому обучение оказывается наиболее плодотворным только тогда, когда оно совершается в пределах периода, определяемого зоной ближайшего развития. Этот период многие современные педагоги, как Г. Фортуин, М. Монтессори и другие, называют сензитивным периодом. Как известно, этим словом знаменитый биолог Г. де Фриз72 обозначил те установленные им экспериментально периоды онтогенетического развития, когда организм особенно чувствителен к влияниям определенного рода. В этот период влияния оказывают воздействие на весь ход развития, вызывая в нем те или другие глубокие изменения. В другие периоды те же самые условия могут быть нейтральными или даже оказывать обратное действие на ход развития. Сензитивные периоды вполне совпадают с тем, что мы назвали выше оптимальными сроками обучения. Разница заключается в двух моментах: 1) мы пытались не только эмпирически, но и экспериментально и теоретически определить природу этих периодов и нашли объяснение специфической чувствительности этих периодов к обучению определенного рода в зоне ближайше-
252
го развития, что дало нам возможность разработать метод определения этих периодов; 2) Монтессори и другие авторы строят свое учение о сензитивных[77] периодах на прямой биологической аналогии между данными, найденными де Фризом о сензитивных периодах в развитии низших животных, и между такими сложными процессами развития, как развитие письменной речи.
Наши же исследования показали, что мы имеем дело в этих периодах с чисто социальной природой процессов развития высших психических функций, возникающих из культурного развития ребенка, развития, имеющего своим источником сотрудничество и обучение. Но самые факты, найденные Монтессори, сохраняют свою убедительность и силу. Ей удалось, например, показать, что при раннем обучении письму — в 4½—5 лет у детей наблюдается такое плодотворное, богатое спонтанное использование письменной речи, которое никогда не наблюдается в последующие возрасты и которое дало ей повод заключить, что именно в этом возрасте сосредоточены оптимальные сроки обучения письму, его сензитивные периоды. Монтессори назвала обильные и как бы взрывом обнаруживающиеся проявления детской письменной речи в этом возрасте эксплозивным письмом.
То же самое относится ко всякому предмету обучения, который имеет свой сензитивный период. Нам остается только окончательно разъяснить природу этого сензитивного периода. Совершенно понятно, что в сензитивный период определенные условия, в частности известного рода обучение, только тогда могут влиять на развитие, когда соответствующие циклы развития еще не завершены. Как только они закончены, те же самые условия могут оказаться уже нейтральными. Если развитие уже сказало свое последнее слово в данной области, сензитивный период по отношению к данным условиям закончился. Незавершенность процессов развития является необходимым условием для того, чтобы данный период мог оказаться сензитивным по отношению к определенным условиям. Это вполне совпадает с фактическим положением вещей, установленным в наших исследованиях!
Когда мы наблюдаем за ходом развития ребенка в школьном возрасте и за ходом его обучения, мы действительно видим, что всякий предмет обучения требует от ребенка больше, чем он может дать на сегодняшний день, т. е. ребенок в школе ведет деятельность, которая заставляет его подниматься выше самого себя. Это всегда относится к здоровому школьному обучению. Ребенка начинают обучать письму тогда, когда у него еще нет всех тех функций, которые обеспечивают письменную речь[78]. Именно поэтому обучение письменной речи и вызывает к жизни и ведет за собой развитие этих функций. Это фактическое положение вещей имеет место всегда, когда обучение плодотвор-
253
но. Неграмотный ребенок в группе грамотных детей будет так же отставать в своем развитии и в своей относительной успешности умственной деятельности, как грамотный — в группе неграмотных, хотя для одного продвижение в развитии и успешности затруднено тем, что обучение слишком трудно, а для второго — тем, что оно слишком легко. Эти противоположные условия приведут к одинаковому результату: в том и в другом случае обучение совершается вне зоны ближайшего развития, один раз оно расположено ниже, а другой раз — выше ее. Обучать ребенка тому, чему он не способен обучаться, так же бесплодно, как обучать его тому, что он уже умеет самостоятельно делать.
Мы могли бы установить, в чем заключаются специфические особенности обучения и развития именно в школьном возрасте, ибо обучение и развитие не встречаются в первый раз тогда, когда ребенок приходит в школу. Обучение происходит на всех ступенях детского развития, но, как увидим в следующей главе, на каждой возрастной ступени оно имеет не только специфические формы, но совершенно своеобразные отношения с развитием.
Сейчас мы могли бы ограничиться только тем чтобы обобщить уже приведенные данные исследования. Мы видели на примере письменной речи и грамматики, мы увидим далее на примере научных понятий, что психическая сторона обучения основным школьным предметам обнаруживает известную общую основу. Все главные функции, активно участвующие в школьном обучении, вращаются вокруг оси основных новообразований этого возраста: осознанности и произвольности[79]. Эти два момента, как мы показали выше, представляют собой основные отличительные черты всех высших психических функций, складывающихся в этом возрасте. Таким образом, мы могли бы заключить, что школьный возраст — оптимальный период обучения, или сензитивный период, по отношению к таким предметам, которые в максимальной мере опираются на осознанные и произвольные функции. Тем самым обучение этим предметам обеспечивает наилучшие условия для развития находящихся в зоне ближайшего развития высших психических функций. Обучение потому и может вмешаться в ход развития и оказать свое решительное воздействие, что эти функции еще не созрели к началу школьного возраста и что обучение может известным образом организовать дальнейший процесс их развития и тем самым определить их судьбу.
Но то же самое относится всецело и к основной нашей проблеме — к проблеме развития научных понятий в школьном возрасте. Как мы уже видели, особенности этого развития состоят в том, что источником его является школьное обучение. Поэтому
254
проблема обучения и развития центральная при анализе происхождения и образования научных понятий.
5
Начнем с анализа основного факта, установленного в сравнительном исследовании научных и житейских понятий у школьника. Для выяснения своеобразия научных понятий естественно было бы для первого шага в новой области избрать путь сравнительного изучения понятий, приобретенных ребенком в школе, с его житейскими понятиями, путь от известного к неизвестному. Мы знаем целый ряд особенностей, обнаруженных при изучении житейских понятий школьника. Естественно желание посмотреть, как обнаруживаются эти же самые особенности в научных понятиях. Для этого нужно дать одинаковые по структуре экспериментальные задачи, один раз совершаемые в сфере научных, а другой раз в сфере житейских понятий. Основной факт, к установлению которого приводит исследование, заключается в том, что те и другие понятия, как мы и ожидали, не обнаруживают одинакового уровня развития. Установление причинно-следственных отношений и зависимостей, как и отношений последовательности, в операциях с научными и житейскими понятиями оказалось доступным ребенку в разной мере. Сравнительный анализ житейских и научных понятий на одном возрастном этапе показал, что при наличии соответствующих программных моментов в образовательном процессе развитие научных понятий опережает развитие спонтанных. В научных понятиях мы встречаемся с более высоким уровнем мышления, чем в житейских. Кривая решений задач (окончания фраз, обрывающихся на словах «потому что» и «хотя») на научные понятия идет все время выше кривой решений тех же задач на житейские понятия (рис. 2). Это первый факт, который нуждается в разъяснении.
Чем можно объяснить повышение уровня решения подобной задачи, как только она переносится в сферу научных понятий? Мы должны сразу отбросить первое, само собой напрашивающееся объяснение. Можно было бы думать, что установление причинно-следственных зависимостей в области научных понятий более доступно ребенку просто потому, что ему помогают в этом деле школьные знания, а недоступность аналогичных задач в сфере житейских понятий имеет своей причиной недостаток знаний. Но это предположение отпадает с самого начала, если принять во внимание, что основной прием исследования исключал всякую возможность влияния этой причины. Уже Ж. Пиаже подбирал так материал в испытаниях, что недостаток знаний никогда не мог мешать ребенку правильно решить соот-
255
ветствующую задачу. Речь шла в опытах Пиаже и наших о таких вещах и отношениях, которые, безусловно, хорошо известны ребенку. Ребенок должен был заканчивать фразы, взятые из его же обиходной речи, но только оборванные в середине и требующие дополнения. В спонтанной речи ребенка аналогичны фразы, правильно построенные, встречаются на каждом шагу! Особенно несостоятельным становится это объяснение, если принять во внимание, что научные понятия дали более высокую кривую решений. Трудно допустить, чтобы ребенок хуже решал
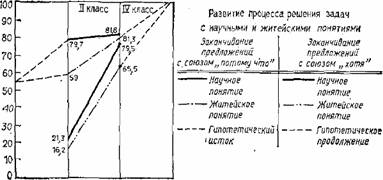
Рис 2. Кривая развития житейских и научных понятий.
задачу со спонтанными понятиями («Велосипедист упал с велосипеда, потому что…», «Корабль с грузом затонул в море, потому что…»), чем задачу с научными понятиями, требовавшими установления причинных зависимостей между фактами и понятиями из области обществоведения, из-за того, что падение с велосипеда и гибель корабля ему менее известны, чем классовая борьба, эксплуатация и Парижская Коммуна. Несомненно, что превосходство опыта и знаний было именно на стороне житейских понятий, и все же операции с ними давались ребенку хуже. Очевидно, это объяснение не может удовлетворить нас.
Для того чтобы прийти к верному объяснению, постараемся установить, почему для ребенка трудно закончить такую фразу, как приведенная выше. На этот вопрос можно дать только один ответ: задача требует от ребенка осознанно и произвольно сделать то, что спонтанно и непроизвольно ребенок делает каждый день неоднократно. В определенной ситуации ребенок правильно употребляет союз «потому что». Если бы ребенок 8—9 лет видел, как велосипедист упал на улице, он никогда не сказал бы,
256
что он упал и сломал ногу, потому что его свезли в больницу, а при решении задачи дети говорят это или подобное этому. Мы уже выяснили фактически существующее различие между произвольным и непроизвольным выполнением какой-либо операции. Но ребенок, который в спонтанной речи безукоризненно правильно употребляет союз «потому что», еще не осознал самого понятия «потому что». Он пользуется этим отношением раньше, чем его осознает. Ему недоступно произвольное употребление тех структур, которыми он овладел в соответствующей ситуации. Мы знаем, следовательно, чего не хватает ребенку для правильного решения задачи: осознанности и произвольности в употреблении понятий[80].
Теперь обратимся к задачам, взятым из области обществоведения. Каких операций требуют они от ребенка? Ребенок так заканчивает предъявленную ему неоконченную фразу: «В СССР возможно вести хозяйство по плану, потому что в СССР нет частной собственности — все земли, фабрики, заводы, электростанции в руках рабочих и крестьян». Ребенок знает причину, если он хорошо занимался в школе, если этот вопрос был проработан по программе. Но знает он, правда, и причину того, почему затонул корабль, или того, почему велосипедист упал. Что же он делает, когда отвечает на вопрос по обществоведению? Нам думается, что операция, которую производит школьник при решении этих задач, может быть объяснена так: эта операция имеет свою историю, она не сложилась в тот момент, когда был проделан опыт, эксперимент является как бы заключительным звеном, которое может быть понято только в связи с предшествующими звеньями. Учитель, работая, с учеником над темой, объяснял, сообщал знания, спрашивал, исправлял, заставлял самого ученика объяснять. Вся эта работа над понятиями, весь процесс их образования прорабатывался ребенком в сотрудничестве со взрослым, в процессе обучения. И когда ребенок сейчас решает задачу, чего она требует от него? Умения по подражанию, с помощью учителя решить эту задачу, несмотря на то что в момент решения мы не имеем актуальной ситуации и сотрудничества. Она лежит в прошлом. Ребенок должен на этот раз самостоятельно воспользоваться результатами прежнего сотрудничества[81].
Существенным отличием между первой задачей на житейские понятия и второй на общественные понятия является то, что ребенок должен решить ее с помощью учителя. Ведь когда мы говорим, что ребенок действует по подражанию, это не значит, что он глядит в глаза другому человеку и подражает. Если я сегодня видел что-нибудь и завтра делаю то же самое, следовательно, я делаю это по подражанию. Когда ученик дома решает задачи после того, как ему в классе показали образец, он
257
продолжает действовать в сотрудничестве, хотя в данную минуту учитель не стоит около него[82]. С психологической точки зрения мы вправе рассматривать решение второй задачи по аналогии с решением задач дома как решение с помощью учителя. Эта помощь, этот момент сотрудничества незримо присутствует, содержится в самостоятельном по внешнему виду решении ребенка, Если мы примем, что в задаче первого рода — на житейские понятия — и в задаче второго рода — на научные понятия — от ребенка требуются две по существу разные операции, т. е. один раз он должен сделать произвольно нечто такое, что он спонтанно легко применяет, а другой раз он должен уметь в сотрудничестве с учителем сделать нечто такое, чего он сам не сделал бы даже спонтанно, то нам станет ясно: расхождение в решениях одних и других задач не может иметь другого объяснения, кроме данного нами сейчас. Мы знаем, что в сотрудничестве ребенок может сделать больше, чем самостоятельно. Если верно, что решение обществоведческих задач есть в скрытом виде решение в сотрудничестве, то становится понятным, почему это решение опережает решение житейских задач.
Теперь обратимся ко второму факту. Он состоит в том, что решение задач с союзом «хотя» дает в соответствующем классе совсем другую картину. Кривая решений задач на житейские и научные понятия сливается. Научные понятия не обнаруживают превосходства над житейскими. Это не может найти другого объяснения, кроме того, что категория противительных отношений, более поздно созревающих, чем категория причинных отношений, появляется и в спонтанном мышлении ребенка более поздно. Очевидно, спонтанные понятия в этой области не созрели еще настолько, чтобы научные понятия смогли подняться над ней. Осознать можно только то, что имеешь. Подчинить себе можно только уже действующую функцию. Если ребенок к этому возрасту уже выработал спонтанное применение «потому что», он может в сотрудничестве осознать его и произвольно употребить. Если он даже в спонтанном мышлении не овладел еще отношениями, выражаемыми союзом «хотя», естественно, что он и в научном мышлении не может осознать того, чего не имеет, и не может овладеть отсутствующими функциями. Поэтому кривая научных понятий в этом случае и должна располагаться так же низко, как и кривая решения задач на житейские понятия, и даже сливаться с ней.
Третий факт, установленный исследованиями, состоит в том, что решение задач на житейские понятия обнаруживает быстрый прирост, кривая решений этих задач неуклонно поднимается, все более приближаясь к кривой решений задач на научные понятия, и в конце концов сливается с ними. Житейские поня-
258
тия как бы догоняют опередившие их научные понятия и сами поднимаются на их уровень. Естественно предположить, что овладение более высоким уровнем в области научных понятий влияет и на прежде сложившиеся спонтанные понятия ребенка. Оно ведет к повышению уровня житейских понятий, которые перестраиваются под влиянием того факта, что ребенок овладел научными понятиями. Это тем более вероятно, что мы не можем представить процесс образования и развития понятий иначе, как структурно, а это означает: если ребенок овладел какой-либо высшей структурой, соответствующей осознанию и овладению в области одних понятий, он не должен заново проделывать ту же самую работу в отношении каждого сложившегося прежде спонтанного понятия, а по основным структурным законам прямо переносит раз сложившуюся структуру на прежде выработанные понятия.
Подтверждение этого объяснения мы видим в установленном исследованием четвертом факте, состоящем в следующем: категория противительных отношений, характеризующая связь житейских и научных понятий, обнаруживается в IV классе. Здесь прежде сливавшиеся кривые решения задач обоего рода резко расходятся, кривая научных решений опять опережает кривую решения задач на житейские понятия. Далее эта последняя обнаружит быстрый прирост, быстрое приближение к первой кривой и, наконец, сольется с ней. Таким образом, можно сказать, что кривые научных и житейских понятий при операциях с союзом «хотя» обнаруживают те же самые закономерности и ту же динамику взаимоотношений, что и кривые научных и житейских понятий в операциях с союзом «потому что», но только на два года позже. Это целиком подтверждает нашу мысль, что описанные выше закономерности в развитии тех или иных понятий являются общими закономерностями, независимо от того, на каком году они проявляются и с какими операциями они связаны.
Нам думается, что все эти факты позволяют выяснить с большой вероятностью наиболее важные моменты в интересующих нас вопросах, именно соотношение научных и житейских понятий в самые первые моменты развития системы знаний по какому-нибудь предмету. Они позволяют нам выяснить узловой пункт в развитии тех и других понятий с достаточной определенностью, так что, идя от этого узлового пункта, мы можем, опираясь на известные нам факты относительно природы тех и других понятий, гипотетически представить кривые развития спонтанных и неспонтанных понятий.
Анализ приведенных фактов позволяет заключить, что в начальном узловом пункте развитие научных понятий идет путем, противоположным тому, каким идет развитие спонтанного поня-
259
тия ребенка. Эти пути в известном отношении обратны друг другу. На поставленный раньше вопрос, как развиваются такие понятия, как «брат» и «эксплуатация», мы могли бы сейчас сказать, что они развиваются как бы в обратном направлении одно по отношению к другому.
В этом заключается кардинальный пункт нашей гипотезы.
В самом деле, как известно, оперируя спонтанными понятиями, ребенок относительно поздно приходит к их осознанию, к словесному определению понятия, к возможности дать его словесную формулировку, к произвольному употреблению этого понятия при установлении сложных логических отношений между понятиями. Ребенок уже знает данные вещи, он имеет понятие предмета. Но что представляет собой само это понятие, еще остается смутным для ребенка. Он имеет понятие о предмете и осознает самый предмет, представленный в понятии, но он не осознает самого понятия, своего собственного акта мысли, с помощью которого он представляет данный предмет. Развитие научного понятия как раз и начинается с того, что остается еще недоразвитым на всем протяжении школьного возраста в спонтанных понятиях. Оно начинается обычно с работы над самим понятием как таковым, со словесного определения понятия, с таких операций, которые предполагают неспонтанное применение этого понятия.
Итак, мы можем заключить, что научные понятия начинают жизнь с того уровня, до которого еще не дошло в своем развитии спонтанное понятие ребенка. Работа над новым научным понятием требует в процессе обучения как раз тех операций и соотношений, которые невозможны для этого возраста (как показал Пиаже, даже такое понятие, как «брат», обнаруживает свою несостоятельность до 11—12 лет[83]).
Исследование показывает, что из-за различия в уровне, на котором стоит у одного и того же школьника одно и другое понятие, сила и слабость житейских и научных понятий оказываются различными. То, в чем сильно понятие «брат», проделавшее длинный путь развития и исчерпавшее большую часть своего эмпирического содержания, оказывается слабой стороной научного понятия, и обратно: то, в чем сильно научное понятие (понятие «закон Архимеда» или «эксплуатация»), оказывается слабой стороной житейского понятия. Ребенок великолепно знает, что такое брат, это знание насыщено большим опытом, но, когда ему надо решать отвлеченную задачу о брате брата, как в опытах Пиаже[84], он путается. Для него непосильно оперировать с этим понятием в неконкретной ситуации, как с понятием отвлеченным, как с чистым значением. Это настолько обстоятельно выяснено в работах Пиаже, что мы можем сослаться на его исследования по данному вопросу.
260
Когда ребенок усваивает научное понятие, он сравнительно скоро начинает овладевать именно теми операциями, в которых обнаруживается слабость житейского понятия «брат». Он легко определяет понятие, применяет его в различных логических операциях, находит его отношение к другим понятиям. Но как раз в той сфере, где понятие «брат» оказывается сильным понятием, т. е. в сфере спонтанного употребления, применения его к бесчисленному множеству конкретных ситуаций, богатства его эмпирического содержания и связи с личным опытом, научное понятие школьника обнаруживает свою слабость. Анализ спонтанного понятия ребенка убеждает нас, что ребенок в гораздо большей степени осознал предмет, чем самое понятие. Анализ научного понятия убеждает нас, что ребенок в самом начале гораздо лучше осознает самое понятие, чем представленный в нем предмет. Поэтому опасность, которая грозит благополучному развитию житейского и научного понятий, оказывается совершенно иной по отношению к одному и к другому.
Приводимые примеры подтвердят это. На вопрос, что такое революция, ученики III класса во второй половине года, после проработки тем о 1905 и 1917 гг., отвечают: «Революция — это война, где класс угнетенных воюет с классом угнетателей»; «Она называется гражданской войной. Граждане одной страны воюют друг с другом»[85]. В этих ответах отражается развитие сознания ребенка. В них есть классовый критерий. Но осознание этого материала качественно отлично по глубине и полноте от понимания его взрослыми.
Следующий пример еще ярче освещает выдвинутые нами положения: «Крепостными мы называем тех крестьян, которые были собственностью помещика». — «Как же жилось помещику при крепостном праве?» — «Хорошо очень. Все у них богато так было. Дом в 10 этажей, комнат много, нарядные все. Электричество дугой горело» и т. д. И в этом примере мы видим своеобразное, хотя и упрощенное, понимание ребенком сущности крепостного строя. Оно в большей мере образное представление, чем научное понятие в собственном смысле слова[86]. Совершенно иначе обстоит дело с таким понятием, как «брат». Неумение подняться над ситуационным значением этого слова, неумение подойти к понятию «брат» как к отвлеченному понятию, невозможность избежать логических противоречий при оперировании этим понятием — опасности, самые реальные и самые частые на пути развития житейских понятий.
Мы могли бы для ясности схематически представить путь развития спонтанных и научных понятий ребенка в виде двух линий, имеющих противоположное направление, из которых одна идет сверху вниз, достигая определенного уровня в той точке, к которой другая подходит, направляясь снизу вверх.
261
Если обозначить более рано вызревающие, более простые, более элементарные свойства понятия как низшие, а более поздно развивающиеся, более сложные, связанные с осознанностью и произвольностью свойства понятия как высшие, то можно было бы условно сказать, что спонтанное понятие ребенка развивается снизу вверх, от более элементарных и низших свойств к высшим, а научные понятия развиваются сверху вниз, от более сложных и высших свойств к более элементарным и низшим. Это различие связано с упоминавшимся выше различным отношением научного и житейского понятия к объекту.
Первое зарождение спонтанного понятия обычно связано с непосредственным столкновением ребенка с теми или иными вещами, правда, с вещами, которые одновременно объясняются взрослыми, но все-таки с живыми реальными вещами. И только путем длительного развития ребенок приходит к осознанию предмета, к осознанию самого понятия и к отвлеченным операциям с ним. Зарождение научного понятия, напротив, начинается не с непосредственного столкновения с вещами, а с опосредованного отношения к объекту. Если там ребенок идет от вещи к понятию, то здесь он часто вынужден идти обратным путем — от понятия к вещи. Не удивительно поэтому, что то, в чем сказывается сила одного понятия, является как раз слабой стороной другого. Ребенок па первых же уроках обучается устанавливать логические отношения между понятиями, но движение этого понятия идет, как бы прорастая внутрь, пробивая себе дорогу к объекту, связываясь с опытом, который есть в этом отношении у ребенка, и вбирая его в себя. Житейские и научные понятия находятся у одного и того же ребенка приблизительно в пределах одного и того же уровня; в детской мысли нельзя отделить понятия, которые он приобрел в школе, от понятий, которые он приобрел дома. Но с точки зрения динамики у них совершенно разная история: одно понятие достигло этого уровня, проделав какой-то участок своего развития сверху, другое достигло того же уровня, проделав нижний отрезок своего развития.
Если, таким образом, развитие научного и житейского понятий идет по противоположно направленным путям, то оба эти процесса внутренне и глубочайшим образом связаны друг с другом. Развитие житейского понятия должно достигнуть известного уровня для того, чтобы ребенок вообще мог усвоить научное понятие и осознать его. Ребенок должен дойти в спонтанных понятиях до того, порога, за которым вообще становится возможным осознание!
Так, исторические понятия ребенка начинают свой путь развития лишь тогда, когда достаточно дифференцировано его житейское понятие о прошлом, когда его жизнь и жизнь его близ-
262
ких и окружающих уложена в его сознании в рамки первичного обобщения «прежде и теперь».
Но, как показывают приведенные выше опыты, и житейское понятие находится в зависимости от научного понятия. Если верно, что научное понятие проделало тот участок развития, который предстоит еще проделать житейским понятиям, т. е. если оно впервые здесь сделало для ребенка возможным ряд операций, которые еще в отношении такого понятия, как понятие «брат», оказываются далеко не возможными, то это не может остаться безразличным для оставшейся части пути житейских понятий. Житейское понятие, проделавшее длинный путь развития снизу вверх, проторило пути для дальнейшего прорастания вниз научного понятия, так как оно создало ряд структур, необходимых для возникновения низших и элементарных свойств понятия. Так же точно научное понятие, проделав какой-то отрезок пути сверху вниз, проторило тем самым путь для развития житейских понятий, предуготовив ряд структурных образований, необходимых для овладения высшими свойствами понятия.
Научные понятия прорастают вниз через житейские. Житейские понятия прорастают вверх через научные. Утверждая это, мы только обобщаем найденные в опытах закономерности. Напомним факты: житейское понятие должно достигнуть известного уровня спонтанного развития для того, чтобы вообще оказалось возможным обнаружение превосходства научного понятия над ним, — это мы видим из того, что понятие «потому что» уже во II классе создает эти условия, а понятие «хотя» создает такую возможность только в IV классе, достигнув того уровня, которого «потому что» достигает во II классе. Но житейские понятия быстро пробегают проторенный научными понятиями верхний отрезок своего пути, преобразуясь по предуготованным научными понятиями структурам, — это мы видим из того, что житейские понятия, кривая которых раньше располагалась значительно ниже научных, круто поднимаются вверх, до того уровня, на котором находятся научные понятия ребенка.
Мы можем сейчас попытаться обобщить то, что мы нашли. Мы можем сказать, что сила научных понятий обнаруживается в той сфере, которая целиком определяется высшими свойствами понятий — осознанностью и произвольностью; как раз в этой сфере обнаруживают свою слабость житейские понятия ребенка, сильные в сфере спонтанного, ситуационно-осмысленного, конкретного применения, в сфере опыта и эмпиризма. Развитие научных понятий начинается в сфере осознанности и произвольности и продолжается далее, прорастая вниз в сферу личного опыта и конкретности[87]. Развитие спонтанных понятий начинается в сфере конкретности и эмпирии и движется в направлении
263
к высшим свойствам понятий: осознанности и произвольности. Связь между развитием этих двух противоположно направленных линий с несомненностью обнаруживает свою истинную природу: это есть связь зоны ближайшего развития и актуального уровня развития.
Совершенно несомненный, бесспорный и неопровержимый факт заключается в том, что осознанность и произвольность понятий, эти недоразвитые свойства спонтанных понятий школьника, всецело лежат в зоне его ближайшего развития, т. е. обнаруживаются и становятся действенными в сотрудничестве с мыслью взрослого. Это объясняет нам как то, что развитие научных понятий предполагает известный уровень спонтанных, при котором в зоне ближайшего развития появляется .осознанность и произвольность, так и то, что научные понятия преобразуют и поднимают на высшую ступень спонтанные, формируя их зону ближайшего развития: ведь то, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудничестве, он завтра будет в состоянии выполнять самостоятельно.
Мы видим, таким образом, что кривая развития научных понятий не совпадает с кривой развития спонтанных, но вместе с тем, и именно в силу этого, обнаруживает сложнейшие взаимоотношения с ней. Эти отношения были бы невозможны, если бы научные понятия просто повторяли историю развития спонтанных понятий. Связь между обоими процессами и огромное влияние, оказываемое одним на другой, возможны именно потому, что развитие тех и других понятий идет разными путями.
Мы можем поставить следующий вопрос: если бы путь развития научных понятий в основном повторял путь развития спонтанных, то что нового давало приобретение системы научных понятий в умственном развитии ребенка? Только увеличение, только расширение круга понятий, только обогащение его словаря. Но если научные понятия, как показывают опыты и как учит теория, задают какой-то не пройденный ребенком участок развития, если усвоение научного понятия забегает вперед, т. е. протекает в такой зоне, где у ребенка не созрели еще соответствующие возможности, тогда мы начинаем понимать, что обучение научным понятиям может действительно сыграть огромную и решающую роль в умственном развитии ребенка.
Прежде чем перейти к объяснению влияния научных понятий на общий ход умственного развития ребенка, мы хотим остановиться на упомянутой выше аналогии этого процесса с процессами усвоения иностранного языка, так как эта аналогия показывает с несомненностью, что намечаемый нами гипотетический путь развития научных понятий представляет только частный случай более обширной группы процессов развития, источником которого является систематическое обучение.
264
Вопрос становится более ясным и убедительным, если обратиться к ряду аналогичных историй развития. Развитие никогда не совершается во всех областях по единой схеме, пути его очень многообразны. И то, о чем мы трактуем здесь, очень похоже на развитие иностранного языка у ребенка по сравнению с развитием родного языка. Ребенок усваивает в школе иностранный язык в совершенно ином плане, чем родной. Можно сказать, что усвоение иностранного языка идет путем, прямо противоположным тому, которым идет развитие родного языка. Ребенок никогда не начинает усвоение родного языка с изучения азбуки, с чтения и письма, с сознательного и намеренного построения фразы, с определения значения слова, с изучения грамматики, но все это обычно стоит в начале усвоения иностранного языка. Ребенок усваивает родной язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный — начиная с осознания и намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие родного языка идет снизу вверх, в то время как развитие иностранного языка идет сверху вниз. В первом случае раньше возникают элементарные, низшие свойства речи и только позже развиваются ее сложные формы, связанные с осознанием фонетической структуры языка, его грамматических форм и произвольным построением речи. Во втором случае раньше развиваются высшие, сложные свойства речи, связанные с осознанием и намеренностью, и только позже возникают более элементарные свойства, связанные со спонтанным, свободным пользованием чужой речью[88].
В этом отношении и можно сказать, что интеллектуалистические теории развития детской речи, как теория В. Штерна, предполагающие развитие речи в самом начале исходящим из овладения принципом языка, отношением между знаками и значением, оказываются правильными только для усвоения иностранного языка и приложимыми только к нему. Но усвоение иностранного языка, его развитие сверху вниз обнаруживает то, что мы нашли и в отношении понятий: то, в чем сказывается сила иностранного языка у ребенка, составляет слабость его родного языка, и обратно, в той сфере, где родной язык обнаруживает свою силу, иностранный язык оказывается слабым. Так, ребенок превосходно и безукоризненно пользуется в родном языке всеми грамматическими формами, но не осознает их. Он и склоняет и спрягает, но не осознает, что он это делает. Он не умеет часто определить род, падеж, грамматическую форму, верно применяемую им в соответствующей фразе. Но в иностранном языке он с самого начала отличает слова мужского и женского рода, осознает склонения и грамматические модификации.
То же самое в отношении фонетики. Безукоризненно пользуясь звуковой стороной родной речи, ребенок не отдает себе отчета в том, какие звуки он произносит. При письме поэтому
265
он с большим трудом бухштабирует[89] слово, с трудом расчленяет его на отдельные звуки. В иностранном языке он делает это с легкостью. Его письменная речь в родном языке значительно отстает от его устной речи, но в иностранном языке она не обнаруживает этого расхождения и очень часто забегает вперед по сравнению с устной речыо. Таким образом, слабые стороны родного языка являются как раз сильными сторонами иностранного. Но верно и обратное — сильные стороны родного языка оказываются слабыми сторонами иностранного. Спонтанное пользование фонетикой, так называемое произношение, — величайшая трудность для школьника, усваивающего иностранный язык. Свободная, живая, спонтанная речь — с быстрым и правильным применением грамматических структур — достигается с величайшим трудом только в самом конце развития[90]. Если развитие родного языка начинается со свободного, спонтанного пользования речью и завершается осознанием речевых форм и овладением ими, то развитие иностранного языка начинается с осознания языка и произвольного овладения им и завершается свободной, спонтанной речью. Оба пути оказываются противоположно направленными.
Но между этими противоположно направленными путями развития существует обоюдная взаимная зависимость, точно так же, как между развитием научных и спонтанных понятий. Такое сознательное и намеренное усвоение иностранного языка совершенно очевидно опирается на известный уровень развития родного языка. Ребенок усваивает иностранный язык, обладая уже системой значений в родном языке и перенося ее в сферу другого языка. Но и обратно: усвоение иностранного языка проторяет путь для овладения высшими формами родного языка. Оно позволяет ребенку понять родной язык как частный случай языковой системы, следовательно, дает ему возможность обобщить явления родного языка, а это и значит осознать собственные речевые операции и овладеть ими. Так же как алгебра есть обобщение и, следовательно, осознание арифметических операций и овладение ими, так же развитие иностранного языка на фоне родного означает обобщение языковых явлений и осознание речевых операций, т. е. перевод их в высший план осознанной и произвольной речи. Именно в этом смысле надо понимать изречение Тёте, говорившего, что кто не знает ни одного иностранного языка, тот не знает до конца и своего собственного.
Мы остановились на этой аналогии по трем соображениям. Первое — она помогает нам разъяснить и лишний раз подтвердить ту мысль, что с функционально-психологической точки зрения путь развития двух, казалось бы, одинаковых, структур в разных возрастах и в разных реальных условиях развития может и должен быть совершенно разным. Есть, в сущности гово-
266
ря[91], только две, исключающие друг друга, возможности объяснения того, как происходит на высшей возрастной ступени развитие аналогичной структурной системы по сравнению с той, которая развилась в более раннем возрасте в другой сфере. Есть только два пути для объяснения отношений между развитием устной и письменной речи, родного и иностранного языков, логики действия и логики мысли, логики наглядного и логики вербального мышления. Один путь объяснения — это закон сдвига, или смещения, закон повторения или воспроизведения на высшей ступени ранее проделанных процессов развития, путь, связанный с возвращением в высшей сфере развития основных перипетий более раннего развития. Этот путь неоднократно применялся в психологии для решения всех указанных выше конкретных проблем. В последнее время его обновил и бросил в игру в качестве последней карты Пиаже. Другой путь объяснения — это развиваемый в нашей гипотезе закон зоны ближайшего развития, закон противоположной направленности развития аналогичных систем в высшей и низшей сферах, закон взаимной связанности низшей и высшей систем в развитии, закон, который мы нашли и подтвердили на фактах развития спонтанных и научных понятий, на фактах развития родного и иностранного языков, на фактах развития устной и письменной речи и который мы попытаемся приложить ниже к фактам, полученным Пиаже при сравнительном анализе развития логики наглядного и логики вербального мышления, и к его теории вербального синкретизма.
В этом плане эксперимент с развитием научных и спонтанных понятий в полном смысле этого слова experimentum crucis[92], который позволяет разрешить спор между двумя исключающими друг друга возможными объяснениями с окончательной и непререкаемой ясностью. В этом отношении нам и важно было показать, что, с одной стороны, усвоение научного понятия отличается от усвоения житейского понятия приблизительно так же, как усвоение иностранного языка в школе отличается от усвоения родного языка, и что, с другой — развитие одних понятий так же приблизительно связано с развитием других, как связаны между собой процессы развития иностранного и родного языков. Нам важно было показать, что научные понятия в иной ситуации окажутся так же несостоятельными, как житейские понятия в научной ситуации, и это полностью совпадает с тем, что иностранный язык оказывается слабым в тех ситуациях, где проявляется сила родного, и сильным там, где родной язык обнаруживает свою слабости.
Второе соображение, заставившее нас остановиться на этой аналогии, заключается в том, что в основе ее лежит не случайное совпадение двух только с формальной стороны сводных про-
267
цессов развития, не имеющих между собой ничего общего с внутренней стороны, но, напротив, глубочайшее внутреннее родство аналогизируемых нами процессов развития, которое способно объяснить величайшее совпадение во всей динамике их развертывания, установленное нами выше. В сущности говоря, в нашей аналогии все время идет речь о развитии двух сторон одного и того же по своей психической природе процесса: словесного мышления. В одном случае (в случае иностранного языка) на первый план выдвигается внешняя, звучащая, фазическая сторона речевого мышления, в другом (в случае развития научных понятий) — семантическая сторона этого же процесса. Усвоение иностранного языка требует, конечно, хотя и в меньшей мере, овладения и семантической стороной чужой речи так же, как развитие научных понятий требует, хотя и в меньшей мере, усилий для овладения научным языком, научной символикой, которая выступает особенно отчетливо при усвоении терминологии и символических систем, например арифметической. Поэтому естественно было ожидать с самого начала, что здесь должна сказаться развитая нами выше аналогия. Но так как мы знаем: развитие фазической и семантической сторон речи не повторяет друг друга, а идет своеобразными путями, естественно ожидать, что наша аналогия окажется неполной, как всякая аналогия, что усвоение иностранного языка по сравнению с родным обнаружит сходство с развитием научных понятий сравнительно с житейскими только в определенных отношениях, а в других отношениях обнаружит глубочайшие различия.
Это приводит нас непосредственно к третьему соображению, заставившему остановиться на данной аналогии. Как известно, школьное усвоение иностранного языка предполагает уже сложившуюся систему значений в родном языке. При усвоении иностранного языка ребенку не приходится заново развивать семантику речи, заново образовывать значения слов, усваивать новые понятия о предметах. Он должен усвоить новые слова, соответствующие пункт за пунктом уже приобретенной системе понятий. Благодаря этому возникает совершенно новое, отличное от родного языка, отношение слова к предмету. Иностранное слово, усваиваемое ребенком, относится к предмету не прямо и не непосредственно, а опосредованно через слова родного языка. До этого пункта проводимая нами аналогия сохраняет свою силу. То же наблюдаем мы и в развитии научных понятий, которые относятся к своему объекту не прямо, а опосредованно, через другие, прежде образованные понятия.
Аналогия может быть продолжена до следующего пункта. Благодаря такой опосредующей роли, которую играют слова родного языка в установлении отношений между иностранными словами и предметами, слова родного языка значительно разви-
268
ваются с семантической стороны. Значение слова или понятия, поскольку оно может быть уже выражено двумя различными словами на одном и другом языках, как бы отрывается от своей непосредственной связи со звуковой формой слова в родном языке, приобретает относительную самостоятельность, дифференцируется от звучащей стороны речи и, следовательно, осознается как таковое. То же самое наблюдаем мы и в житейских понятиях ребенка, которые опосредуют отношение между новым научным понятием и объектом, к которому они относятся.
Как увидим ниже, житейское понятие, становясь между научный понятием и его объектом, приобретает целый ряд новых отношений с другими понятиями и само изменяется в своем отношении к объекту. Аналогия и здесь сохраняет свою силу. Но дальше она уступает место противоположности. В то время как при усвоении иностранного языка система готовых значений дана заранее в родном языке и образует предпосылку для развития новой системы, при развитии научных понятий система возникает вместе с их развитием и оказывает преобразующее действие на житейские понятия. Противоположность в этом пункте гораздо существеннее, чем сходство во всех остальных, ибо она отражает то специфическое, что содержится в развитии научных понятий в отличие от развития новых форм речи, как иностранный язык или письменная речь. Проблема системы — центральный пункт всей истории развития реальных понятий ребенка, которую никогда не могло уловить исследование экспериментальных искусственных понятий.
6
Обратимся к освещению этой последней и центральной проблемы нашего исследования.
Всякое понятие есть обобщение. Это несомненно. Но до сих пор мы оперировали в нашем исследовании отдельными и изолированными понятиями. Между тем возникают вопросы: в каком отношении находятся понятия друг к другу? Как отдельное понятие, эта клеточка, вырванная нами из живой, целостной ткани, вплетена и воткана в систему детских понятий, внутри которой она только и может возникать, жить и развиваться? Ведь понятия не возникают в уме ребенка, подобно гороху, насыпаемому в мешок. Они не лежат рядом друг с другом или одно над другим без всякой связи и без всяких отношений. Иначе была бы невозможна никакая мыслительная операция, требующая соотношения понятий, невозможно было бы мировоззрение ребенка, короче говоря, вся сложная жизнь его мысли. Более того, без каких-то определенных отношений к другим по-
269
нятиям было бы невозможно и существование каждого отдельного понятия, так как самая сущность понятия и обобщения предполагает, вопреки учению формальной логики, не обеднение, а обогащение действительности, представленной в понятии, по сравнению с чувственным и непосредственным восприятием и созерцанием этой действительности. Но если обобщение обогащает непосредственное восприятие действительности, очевидно, это не может происходить иным психическим путем, кроме как путем установления сложных связей, зависимостей и отношений между предметами, представленными в понятии, и остальной действительностью. Таким образом, самая природа каждого отдельного понятия предполагает уже наличие определенной системы понятий, вне которой оно не может существовать.
Изучение системы детских понятий на каждой определенной ступени показывает, что общность (различия и отношения общности — растение, цветок, роза) есть самое основное, самое естественное и самое массовое отношение между значениями (понятиями), в которых наиболее полно обнаруживается и раскрывается их природа. Если каждое понятие есть обобщение, то очевидно, что отношение одного понятия к другому есть отношение общности. Изучение этих отношений общности между понятиями давно составляло одну из центральных проблем логики. Можно сказать, что логическая сторона этого вопроса разработана и изучена с достаточной полнотой. Но этого нельзя сказать относительно генетических и психологических проблем, связанных с этим вопросом. Обычно изучали логическое отношение общего и частного в понятиях. Надо изучить генетическое и психологическое отношение этих типов понятий. Здесь раскрывается перед нами самая грандиозная, завершительная проблема нашего исследования.
Известно, что ребенок в развитии понятий вовсе не идет по логическому пути от более частных к более общим. Ребенок раньше усваивает слово «цветок», чем слово «роза», более общее, чем более частное. Но каковы закономерности этого движения понятий от общего к частному и от частного к общему в процессе их развития и функционирования в живой и реальной мысли ребенка? Это оставалось до последнего времени совершенно невыясненным. Мы попытались в исследовании реальных понятий ребенка приблизиться к установлению самых основных закономерностей, существующих в этой области.
Прежде всего нам удалось выяснить, что общность (различие ее) не совпадает со структурой обобщения и ее различными ступенями, установленными нами при экспериментальном исследовании образования понятий: синкретами[93], комплексами, предпонятиями и понятиями.
270
Во-первых, понятия разной общности возможны в одной и той же структуре обобщения. Например, в структуре комплексных понятий возможно наличие понятий разной общности: «цветок» и «роза». Правда, мы сразу должны сделать оговорку, что при этом отношение общности «цветок — роза» будет иным в каждой структуре обобщения, например в комплексной и предпонятийной структуре.
Во-вторых, могут быть понятия одной общности в разных структурах обобщения. Например, в комплексной и понятийной структуре «цветок» одинаково может быть общим значением для всех видов и относиться ко всем цветам. Правда, мы снова должны сделать оговорку, что эта общность окажется в разных структурах обобщений одинаковой только в логическом и предметном, но не в психологическом смысле, т. е. отношение общности «цветок — роза» будет иным в комплексной и понятийной структуре. У двухлетнего ребенка это отношение будет более конкретным; более общее понятие стоит как бы рядом с более частным, оно заменяет его, в то время как у восьмилетнего одно понятие стоит над другим и включает в себя более частное.
Таким образом, мы можем установить, что отношения общности не совпадают прямо и непосредственно со структурой обобщения, но и не являются чем-то посторонним друг другу, чем-то не связанным между собой. Между ними существует сложная взаимная зависимость, которая, кстати сказать, была бы совершенно невозможна и недоступна нашему изучению, если бы мы заранее не могли установить, что отношение общности и различия в структурах обобщения не совпадают между собой непосредственно. Если бы они совпадали, между ними невозможны были бы никакие отношения. Как видно уже из сказанного ранее, отношения общности и структуры обобщения не совпадают друг с другом, но не абсолютно, а только в известной части; хотя в разных структурах обобщения могут существовать понятия одинаковой общности и, наоборот, в одной и той же структуре обобщения могут существовать понятия разной общности, тем не менее эти отношения общности будут различными в каждой определенной структуре обобщения: и там, где они по виду будут одинаковыми с логической стороны, и там, где различными.
Основной и главный результат исследования показывает, что отношения общности между понятиями связаны со структурой обобщения, т. е. со ступенями развития понятий, как они изучены нами в экспериментальном исследовании процесса образования понятий, и притом связаны самым тесным образом: каждой структуре обобщения (синкрет, комплекс, предпонятие, понятие) соответствует своя специфическая система общности и отношений общности общих и частных понятий, своя мера
271
единства, абстрактного и конкретного, мера, определяющая конкретную форму данного движения понятий, данной операции мышления на той или иной ступени развития значений слов.
Поясним это примером. В наших экспериментах неговорящий, немой ребенок усваивает без большого труда значения пяти слов: стул, стол, шкаф, диван, этажерка. Он мог бы в значительной мере удлинить этот ряд. Каждое новое слово не представляет для него особенного труда. Но он оказывается не в состоянии усвоить в качестве шестого слово «мебель», являющееся более общим понятием по отношению к пяти изученным словам, хотя любое другое слово из того же ряда соподчиненных понятий одинаковой общности ребенок усваивает без труда. Совершенно очевидно, что усвоить слово «мебель» означает для ребенка не только прибавить шестое слово к пяти уже имеющимся, а нечто принципиально иное: овладеть отношением общности, приобрести первое высшее понятие, включающее в себя весь ряд более частных понятий, подчиненных ему, овладеть новой формой движения понятий не только по горизонтали, но и по вертикали[94].
Так же точно этот ребенок оказывается в состоянии усвоить новый ряд слов: рубашка, шапка, шуба, ботинки, штаны, но не может выйти из этого ряда, который он мог бы продолжить в том же направлении значительно дальше, усвоить слово «одежда». Исследование показывает, что на известной стадии развития значения детских слов это движение по вертикали, эти отношения общности между понятиями вообще недоступны для ребенка. Все понятия представляют только понятия одного ряда, соподчиненные, лишенные иерархических отношений, непосредственно относящиеся к объекту и разграниченные между собой совершенно по образу и подобию разграничения представленных в них предметов. Это наблюдается в автономной детской речи — переходной ступени от доинтеллектуальной, лепетной речи ребенка к овладению языком взрослых.
Разве не ясно, что при таком построении системы понятий, когда между ними возможны только те отношения, которые существуют между непосредственно отраженными в них отношениями предметов, и никакие другие, в словесном мышлении ребенка должна господствовать логика наглядного мышления. Вернее сказать, никакое словесное мышление вообще невозможно, поскольку понятия не могут быть поставлены ни в какие отношения друг с другом, кроме предметных отношений. На этой стадии словесное мышление возможно только как несамостоятельная сторона наглядного предметного мышления. Вот почему это совершенно специфическое построение понятий и соответствующая ему ограниченная сфера доступных операций мышления дают все основания выделить эту стадию как особую до-
272
синкретическую ступень в развитии значений детских слов. Вот почему появление первого высшего понятия, стоящего над рядом прежде образованных понятий, появление первого слова типа «мебель» или «одежда», не менее важный симптом прогресса в развитии смысловой стороны детской речи, чем появление первого осмысленного слова. Далее, на следующих ступенях развития понятий начинают складываться отношения общности, но на каждой ступени они, как показывают исследования, образуют совершенно особую и специфическую систему отношений.
Это общий закон. В этом ключ к изучению генетических и психологических отношений общего и частного в детских понятиях. Существует своя система отношений и общности для каждой ступени обобщения; согласно строению этой системы располагаются в генетическом порядке общие и частные понятия, так что движение от общего к частному и от частного к общему в развитии понятий оказывается иным на каждой ступени развития значений в зависимости от господствующей на этой ступени структуры обобщения. При переходе от одной ступени к другой меняется система общности и весь генетический порядок развития высших и низших понятий.
Только на высших ступенях развития значений слов и, следовательно, отношений общности возникает то явление, которое имеет первостепенное значение для всего нашего мышления и которое определяется законом эквивалентности понятий. Этот закон гласит, что всякое понятие может быть обозначено бесчисленным количеством способов с помощью других понятий. Закон нуждается в пояснении[95].
В ходе исследований мы натолкнулись на необходимость для обобщения и осмысления найденных явлений ввести понятия, без которых мы были бессильны уяснить самое существенное во взаимной зависимости понятий между собой.
Если условно представить себе, что все понятия, наподобие всех точек земной поверхности, располагаются между Северным и Южным полюсами на известном градусе долготы, между полюсами непосредственного, чувственного, наглядного схватывания предмета и максимально обобщенного, предельно абстрактного понятия, то как долготу данного понятия можно обозначить место, занимаемое им между полюсами крайне наглядной и крайне отвлеченной мысли о предмете. Понятия тогда будут различаться по своей долготе в зависимости от той меры, в которой представлено единство конкретного и абстрактного в каждом данном понятии. Если, далее, вообразить себе, что сфера земного шара может символизировать для нас всю полноту и все многообразие представленной в понятиях действительности, то можно будет обозначить как широту понятия место, занимаемое им среди других понятий той же долготы, но относя-
273
щихся к другим точкам действительности, подобно тому как географическая широта обозначает пункт земной поверхности в градусах земных параллелей.
Долгота понятия будет, таким образом, характеризовать в первую очередь природу самого акта мысли, самого схватывания предметов в понятии с точки зрения заключенного в нем единства конкретного и абстрактного. Широта понятия будет характеризовать в первую очередь отношения понятия к объекту, точку приложения понятия к определенному пункту действительности. Долгота и широта понятия вместе должны дать исчерпывающее представление о природе понятия с точки зрения обоих моментов — заключенного в нем акта мысли и представленного в нем предмета. Тем самым они должны заключать в себе узел всех отношений общности, существующих в сфере данного понятия как по горизонтали, так и по вертикали, т. е. как по отношению к соподчиненным понятиям, так и по отношению к высшим и низшим по степени общности понятиям. Это место понятия в системе всех понятий, определяемое его долготой и широтой, этот узел, содержащийся в понимании его отношений с другими понятиями, мы называем мерой общности данного понятия.
Вынужденное пользование метафорическими обозначениями, заимствованными из географии, требует оговорки, без которой эти обозначения могут привести к существенным недоразумениям. В то время как в географии между линиями долготы и линиями широты, между меридианами и параллелями существуют линейные отношения, так что обе линии пересекаются только в одной точке, одновременно определяющей их положение на меридиане и на параллели, в системе понятий эти отношения оказываются более сложными и не могут быть выражены на языке линейных отношений. Высшее по долготе понятие вместе с тем и более широкое по содержанию; оно охватывает целый отрезок линий широты подчиненных ему понятий, отрезок, который нуждается в ряде точек для своего обозначения.
Благодаря существованию меры общности для каждого понятия и возникает его отношение ко всем другим понятиям, возможность перехода от одних понятий к другим, установление отношений между ними по бесчисленным и бесконечно многообразным путям, возникает возможность эквивалентности понятий. Для пояснения этой мысли возьмем два крайних случая: с одной стороны, автономную детскую речь, в которой, как мы видели, отношения общности между понятиями вообще невозможны, и развитые научные понятия, скажем понятия чисел, как они развиваются в результате изучения арифметики. Ясно, что в первом случае эквивалентность понятий вообще не может
274
существовать. Понятие может быть выражено только через само себя, но не через другие понятия. Во втором случае, как известно, понятие любого числа в любой системе исчисления может быть выражено бесконечным количеством способов в силу бесконечности числового ряда и в силу того, что вместе с понятием каждого числа в системе чисел даны одновременно все возможные его отношения ко всем остальным числам. Так, единица может быть выражена и как 1000000 минус 999999, и вообще как разность любых двух смежных чисел, и как отношение любого числа к самому себе, и еще бесконечным количеством способов. Это есть чистый пример закона эквивалентности понятий.
В автономной детской речи понятие может быть выражено только одним-единственным способом, оно не имеет эквивалентов из-за того, что оно не имеет отношений общности к другим понятиям. Это возможно только потому, что есть долгота и широта понятий, есть различные меры общности понятий, допускающие переход от одних понятий к другим.
Закон эквивалентности понятий различен и специфичен на каждой ступени развития обобщения. Поскольку эквивалентность понятий непосредственно зависит от отношения общности между понятиями, а эти последние, как мы выяснили выше, специфичны для каждой структуры обобщения, совершенно очевидно, что каждая структура обобщения определяет возможную в ее сфере эквивалентность понятий.
Мера общности, как показывает исследование, — это первый и исходный момент в любом функционировании любого понятия, так же как и в переживании понятия, как показывает феноменологический анализ. Когда нам называют какое-нибудь понятие, например «млекопитающее», мы переживаем следующее: нас поставили в определенный пункт сети линий широты и долготы, мы заняли определенную позицию для нашей мысли, мы получили исходный ориентировочный пункт, мы испытываем готовность двигаться в любом направлении от этого пункта. Это сказывается в том, что всякое понятие, изолированно возникающее в сознании, образует как бы группу готовностей, группу предрасположений к определенным движениям мысли. В сознании поэтому всякое понятие представлено как фигура на фоне соответствующих ему отношений общности. Мы выбираем из этого фона нужный для нашей мысли путь движения. Поэтому мера общности с функциональной стороны определяет всю совокупность возможных операций мысли с данным понятием. Как показывает изучение детских определений понятий, эти определения являются прямым выражением закона эквивалентности понятий, господствующего на данной ступени развития значений слов. Так же точно любая операция (сравнение, установление
276
различия и тождества двух мыслей), всякое суждение и умозаключение предполагают определенное структурное движение по сетке линий долготы и широты понятий.
В случаях болезненного распада понятий нарушается мера общности, происходит распад единства абстрактного и конкретного в значении слова. Понятия теряют свою меру общности, свое отношение к другим понятиям (высшим, низшим и своего ряда), движение мысли начинает совершаться по изломанным, неправильным, перескакивающим линиям, мысль становится алогичной и ирреальной, поскольку акт схватывания объектов понятий и отношения понятия к объекту перестают образовывать единство. В процессе развития изменяющиеся с каждой новой структурой обобщения отношения общности вызывают изменения и во всех доступных ребенку на данной ступени операциях мышления. В частности, давно установленная экспериментами независимость запоминания мысли от слов как одна из основных особенностей нашего мышления, согласно данным исследования, возрастает по мере развития отношения общности и эквивалентности понятий. Ребенок раннего возраста целиком связан буквальным выражением усвоенного им смысла. Школьник уже передает сложное смысловое содержание в значительной мере независимо от того словесного выражения, в котором он усвоил это содержание. По мере развития отношений общности расширяется независимость понятия от слова, смысла — от его выражения и возникает все большая и большая свобода смысловых операций самих по себе и в их словесном выражении.
Мы долго и тщетно искали надежный симптом для квалификации структуры обобщения в реальных значениях детских слов и тем самым возможность перехода, моста от экспериментальных к реальным понятиям. Только установление связи между структурой обобщения и отношениями общности дали нам в руки ключ к решению этого вопроса. Если изучить отношение общности какого-либо понятия, его меру общности, мы получим самый надежный критерий структуры обобщения реальных понятий. Быть значением — это все равно, что стоять в определенных отношениях общности к другим значениям, т. е. иметь специфическую меру общности. Таким образом, природа понятия — синкретическая, комплексная, предпонятийная — раскрывается наиболее полно в специфических отношениях данного понятия к другим понятиям. Исследование реальных детских понятий, например «буржуа», «капиталист», «помещик», «кулак», привело нас к установлению специфических отношений общности, господствующих на каждой ступени понятия — от синкрета до истинного понятия, позволило нам не только перебросить мост от исследования экспериментальных понятий к реальным понятиям, но и выяснить такие существенные стороны основных
276
структур обобщения, которые в искусственном эксперименте вообще не могли быть изучены.
Самое большее, что мог дать искусственный эксперимент, — общую генетическую схему, охватывающую основные ступени в развитии понятия. Анализ реальных понятий ребенка помог нам изучить малоизвестные свойства синкретов, комплексов, предпонятий и установить, что в каждой из этих сфер мышления существует иное отношение к объекту и иной акт схватывания объекта в мысли, т. е. два основных момента, характеризующие понятия, обнаруживают свое различие при переходе от ступени к ступени. Отсюда природа этих понятий и все их свойства различны: из иного отношения к объекту вытекают иные в каждой сфере возможные связи и отношения между объектами, устанавливаемые в мысли; из иного акта схватывания вытекают иные связи мыслей, иной тип психических операций. Внутри каждой из этих сфер обнаруживаются свои свойства, определяемые природой понятия: 1) иное отношение к предмету и к значению слова, 2) иные отношения общности, 3) иной круг возможных операций.
Но мы обязаны исследованию реальных понятий ребенка еще большим, чем возможностью перехода от экспериментальных к реальным значениям слов и раскрытия их новых свойств, которые невозможно было установить на искусственно образованных понятиях. Мы обязаны этому новому исследованию тем, что оно привело нас к восполнению основного пробела прежнего исследования и тем самым к пересмотру его теоретического значения.
В прежнем исследовании мы брали всякий раз заново на каждой ступени (синкретов, комплексов, понятий) отношение слова к предмету, игнорируя то, что всякая новая ступень в развитии обобщения опирается на обобщение предшествующих ступеней. Новая ступень обобщения возникает не иначе, как на основе предыдущей. Новая структура обобщения возникает не из заново проделанного мыслью непосредственного обобщения предметов, а из обобщения обобщенных в прежней структуре предметов. Она возникает как обобщение обобщений, но не просто как новый способ обобщения единичных предметов. Прежняя работа мысли, выразившаяся в обобщениях, господствовавших на предшествовавшей ступени, не аннулируется и не пропадает зря, но включается и входит в качестве необходимой предпосылки в новую работу мысли*.
Поэтому наше первое исследование не могло установить как действительное самодвижение в развитии понятий, так и вну-
277
треннюю связь между отдельными ступенями развития. Нас упрекали в обратном: в том, что мы даем саморазвитие понятий, в то время как следует каждую новую ступень понятия выводить из внешней, всякий раз новой причины. В действительности же слабостью прежнего исследования являлось отсутствие действительного самодвижения, связи между ступенями развития. Этот недостаток обусловлен природой эксперимента, который по своему строению исключал возможность: 1) выяснения связи между ступенями в развитии понятий и перехода от одной ступени к другой и 2) раскрытия отношений общности, так как по методике эксперимента испытуемый, во-первых, всякий раз после неправильного решения должен был аннулировать проделанную работу, разрушить прежде образованные обобщения и начинать работу снова с обобщений единичных предметов; во-вторых, так как понятия, выбранные для эксперимента, стояли на том же уровне развития, что и автономная детская речь, т. е. имели возможность соотнесения только по горизонтали, но не могли различаться по долготе. Поэтому мы и вынуждены были расположить ступени как ряд расширяющихся кругов, вместо того чтобы расположить их как спираль рядом связанных и восходящих кругов.
Обращение к исследованию реальных понятий в их развитии привело нас к возможности заполнить этот пробел. Анализ развития общих представлений дошкольника, который соответствует тому, что в экспериментальных понятиях мы назвали комплексами, показал: общие представления как высшая ступень в развитии и значении слов возникают не из обобщенных единичных представлений, а из обобщенных восприятий, т. е. из обобщений, господствовавших на прежней ступени. Этот фундаментальной важности вывод, который, мы могли сделать из экспериментального исследования, в сущности решает всю проблему. Аналогичные отношения новых обобщений к прежним были нами установлены при исследовании арифметических и алгебраических понятий. Здесь в отношении перехода от предпонятий школьника к понятиям подростка удалось установить то же самое, что в прежнем исследовании удалось установить в отношении перехода от обобщенных восприятий к общим представлениям, т. е. от синкретов к комплексам.
Как там оказалось, что новая ступень в развитии обобщений достигается не иначе, как путем преобразования, но отнюдь не аннулирования прежней, путем обобщения уже обобщенных в прежней системе предметов, а не путем заново совершаемого обобщения единичных предметов, так и здесь исследование обнаружило, что переход от предпонятий (типическим примером которых является арифметическое понятие школьника) к истинным понятиям подростка (типическим примером которых явля-
278
ются алгебраические понятия) совершается путем обобщения прежде обобщенных объектов.
Предпонятие есть абстракция числа от предмета и основанное на этой абстракции обобщение числовых свойств предмета. Понятие есть абстракция от числа и основанное на ней обобщение любых отношений между числами. Абстракция и обобщение мысли принципиально отличны от абстракции и обобщения вещей. Это не дальнейшее движение в .том же направлении, не его завершение, а начало нового направления, переход в новый и высший план мысли. Обобщение собственных арифметических операций и мыслей есть нечто высшее и новое по сравнению с обобщением числовых свойств предметов в арифметическом понятии. Новое понятие, новое обобщение возникает не иначе, как на основе предшествующего. Это выступает очень отчетливо в том обстоятельстве, что параллельно с нарастанием алгебраических обобщений идет нарастание свободы операций. Освобождение от связанности числовым полем происходит иначе, чем освобождение от связанности зрительным полем. Нарастание свободы по мере роста алгебраических обобщений объясняется возможностью обратного движения от высшей ступени к низшей, содержащейся в высшем обобщении: низшая операция рассматривается уже как частный случай высшей.
Так как арифметические понятия сохраняются и тогда, когда мы усваиваем алгебру, то естественно возникает вопрос: чем отличается арифметическое понятие подростка, владеющего алгеброй, от понятия младшего школьника? Исследование показывает: тем, что за ним стоит алгебраическое понятие; тем, что арифметическое понятие рассматривается как частный случай более общего понятия; тем, что операция с ним более свободна, так как идет от общей формулы, и поэтому независима от определенного арифметического выражения.
У младшего школьника арифметическое понятие есть завершающая ступень. За ним ничего нет. Поэтому движение в плане этих понятий всецело связано условиями арифметической ситуации; младший школьник не может стать над ситуацией, подросток может. Эту возможность обеспечивает ему вышестоящее алгебраическое понятие. Мы могли это видеть на опытах с переходом от десятичной системы к любой другой системе счисления. Ребенок раньше научается действовать в плане десятичной системы, чем осознает ее, поэтому ребенок не владеет системой, а связан ею.
Осознание десятичной системы, т. е. обобщение, приводящее к пониманию ее как частного случая всякой вообще системы счисления, приводит к возможности произвольного действия в этой и в любой другой системе. Критерий осознания содержится в возможности перехода к любой другой системе, ибо это озна-
279
чает обобщение десятичной системы, образование общего понятия о системах счисления. Поэтому переход к другой системе есть прямой показатель обобщения десятичной системы. Ребенок переводит из десятичной системы в пятеричную иначе до общей формулы, чем после нее. Таким образом, исследование всегда показывает наличие связи высшего обобщения с низшим и через него с предметом.
Нам остается сказать, что исследование реальных понятий привело к нахождению и последнего звена всей цепи интересующих нас отношений перехода от одной ступени к другой. Мы уже говорили и о связи между синкретами-комплексами при переходе от раннего детства к дошкольному возрасту, и о связи предпонятий с понятиями при переходе от младшего школьника к подростку. Настоящее исследование научных и житейских понятий обнаруживает недостающее среднее звено. Как увидим ниже, исследование позволяет выяснить ту же самую зависимость при переходе от общих представлений дошкольника к предпонятиям школьника. Таким образом, оказывается полностью решенным вопрос о связях и переходах между отдельными ступенями развития понятия, т. е. о самодвижении развивающихся понятий, — вопрос, который мы не смогли разрешить в первом исследовании.
Исследование реальных понятии ребенка дало нам и нечто большее. Оно позволило выяснить не только межступенчатое движение в развитии понятий, но и внутриступенчатое, основанное на переходах внутри данной ступени обобщения, например при переходах от одного типа комплексных обобщений к другому, высшему типу. Принцип обобщения обобщений остается в силе и здесь, но в ином выражении. При переходах внутри одной ступени на ее высшем этапе сохраняется более близкое к прежнему этапу отношение к предмету, не перестраивается так резко вся система отношений общности. При переходе от ступени к ступени наблюдается скачок и резкая перестройка отношения понятия к объекту и отношений общности между понятиями.
Эти исследования заставляют пересмотреть вопрос о том, как совершается самый переход от одной ступени в развитии значений к другой. Если, как мы представляли прежде, в свете первого исследования, новая структура обобщения просто аннулирует прежнюю и замещает ее, сводя на нет всю прежнюю работу мысли, то переход к новой ступени не может означать ничего другого, как образование заново всех прежде уже существовавших в другой структуре значений слов. Сизифов труд!
Новое исследование показывает, что переход совершается иным путем: ребенок образует новую структуру обобщения сперва на немногих понятиях, обычно вновь приобретаемых, например в процессе обучения; когда он овладел этой новой структурой, он благодаря одному этому перестраивает, преобразует и
280
структуру всех прежних понятий. Таким образом, не пропадает прежняя работа мысли, понятия не воссоздаются заново на каждой новой ступени, каждое отдельное значение не должно проделывать всю работу по перестройке структуры. Это совершается, как и все структурные операции мышления, путем овладения новым принципом на немногих понятиях, которые затем уже распространяются и переносятся в силу структурных законов и на всю сферу понятий в целом.
Мы видели, что новая структура обобщения, к которой приходит ребенок в ходе обучения, создает возможность для его мысли перейти в новый и более высокий план логических операций. Старые понятия, вовлекаясь в эти операции мышления высшего по сравнению с прежним типа, сами собой изменяются в строении.
Наконец, исследование реальных понятий ребенка привело нас к решению еще одного немаловажного вопроса, давно поставленного перед теорией мышления. Еще со времен работ вюрцбургской школы известно, что неассоциативные связи определяют движение и течение понятий, соединение и сцепление мыслей. К. Бюлер показал, например, что запоминание и воспроизведение мыслей совершаются не по законам ассоциации, а по смысловой связи. Однако не решенным остается до сих пор вопрос, какие же именно связи определяют течение мыслей. Эти связи описывались феноменально и внепсихологически, например как связи цели и средства для ее достижения. В структурной психологии была сделана попытка определить эти связи как связи структур, но это определение имеет два существенных недостатка.
1. Связи мышления оказываются при этом совершенно аналогичными связям восприятия, памяти и всех других функций, которые, как и мышление, подчинены структурным законам; следовательно, связи мышления не содержат в себе ничего нового, высшего и специфического по сравнению со связями восприятия и памяти, и тогда непонятно, каким образом в мышлении возможно движение и сцепление понятий и иного рода и иного типа, чем структурные сцепления восприятий и образов памяти. В сущности говоря, структурная психология целиком и полностью повторяет ошибку ассоциативной психологии, так как исходит из тождественности связей восприятия, памяти и мышления и не видит специфичности мышления в ряду этих процессов, совершенно так же как старая психология исходила из этих же двух принципов. Новое заключается только в том, что принцип ассоциации заменен принципом структуры, однако способ объяснения остался прежним. В этом отношении структурная психология не только не продвинула вперед проблему мышления, но даже пошла в этом вопросе назад по сравнению с
281
вюрцбургской школой, установившей, что законы мышления не тождественны законам памяти и что мышление, следовательно, представляет собой, деятельность особого рода, подчиненную собственным законам; для структурной же психологии мышление не имеет особых законов и подлежит объяснению с точки зрения тех законов, которые господствуют в сфере восприятия и памяти.
2. Сведение связей в мышлении к структурным связям и отождествление первых со связями восприятия и памяти совершенно исключают всякую возможность развития мышления и понимания мышления как высшего и своеобразного вида деятельности сознания по сравнению с восприятием и памятью. Отождествление законов движения мыслей с законами сцепления образов памяти находится в непримиримом противоречии с установленным нами фактом возникновения на каждой новой ступени развития понятий новых и высших по типу связей между мыслями.
Мы видели, что на первой стадии в автономной детской речи еще не существует отношений общности между понятиями, из-за чего между ними возможны только те связи, которые могут быть установлены в восприятии, т. е. на этой стадии оказывается вообще невозможным мышление как самостоятельная и независимая от восприятия деятельность. По мере развития структуры обобщения и возникновения все более сложных отношений общности между понятиями становится возможным мышление как таковое и постепенное расширение образующих его связей и отношений, как и переход к новым и высшим типам связи и переходы между понятиями, невозможные прежде. Этот факт необъясним с точки зрения структурной теории, он сам по себе является достаточным доводом для того, чтобы ее отвергнуть.
Какие же, спрашивается, связи, специфические для мышления, определяют движение и сцепление понятий? Что такое связь по смыслу? Для того чтобы ответить на эти вопросы, надо перейти от изучения изолированного понятия как отдельной клетки к исследованию тканей мышления. Тогда откроется, что понятия связываются не по типу агрегата ассоциативными нитками и не по принципу структур воспринимаемых или представляемых образов, а по самому существу своей природы, по принципу отношения к общности.
Всякая операция мысли — определение понятия, сравнение и различение, понятий, установление логических отношений между понятиями и т. д. — совершается, по данным исследования, не иначе, как по линиям, связывающим понятия между собой отношениями общности и определяющим вообще возможные пути движения от понятия к понятию. Определение понятия основывается на законе эквивалентности понятий и предполагает воз-
282
можность такого движения от одних понятий к другим, при котором присущая определяемому понятию долгота и широта, его мера общности, характеризующая содержащийся в понятии акт мыслей и его отношение к объекту, может быть выражена сцеплением понятий другой долготы и широты, другой меры общности, содержащих другие акты мыслей и иной тип схватывания предмета, которые в целом, однако, являются по долготе и широте эквивалентными определяемому понятию. Так точно сравнение или различение понятий необходимо предполагает их обобщение, движение по линии отношений общности к высшему понятию, подчиняющему себе оба сравниваемых понятия. Равным образом установление логических отношений между понятиями в суждениях и умозаключениях требует движения по тем же линиям отношения общности по горизонталям и вертикалям всей системы понятий.
Поясним это на примере продуктивного мышления. М. Вертгаймер показал, что обычный силлогизм, как он приводится в учебниках формальной логики, не принадлежит к типу продуктивной мысли. Мы приходим в конце к тому, что нам было известно в самом начале. Вывод не содержит в себе ничего нового по сравнению с посылками. Для возникновения настоящего продуктивного акта мышления, приводящего мысль к совершенно новому пункту, к открытию, к «ага-переживанию», необходимо, чтобы X, составляющий проблему нашего размышления и входящий в структуру A, неожиданно вошел и в структуру B. Следовательно, разрушение структуры, в которой первоначально возникает проблематический пункт X, и перенос этого пункта в совершенно другую структуру являются основными условиями продуктивного мышления. Но как можно, чтобы X, входящий в структуру A, вошел одновременно и в B? Для этого, очевидно, необходимо выйти за пределы структурных зависимостей, вырвав проблематический пункт из той структуры, в которой он дан нашей мысли, и включить его в новую структуру. Исследование показывает, что это осуществляется путем движения по линиям отношений общности, через высшую меру общности, через высшее понятие, которое стоит над структурами A и B и подчиняет их себе. Мы как бы поднимаемся над понятием A и затем спускаемся к понятию B. Это своеобразное преодоление структурных зависимостей становится возможным только благодаря наличию определенных отношений общности между понятиями.
Но мы знаем, что каждой структуре обобщения соответствует специфическая система отношений общности в силу того, что обобщения различной структуры не могут не находиться в различной системе отношений общности между собой. Следовательно, каждой структуре обобщения соответствует и специфическая система возможных при данной структуре логических операций
283
мышления. Этот один из важнейших законов всей психологии понятий означает в сущности единство структуры и функции мышления, единство понятия и возможных для него операций.
7
Мы можем на этом закончить изложение основных результатов нашего исследования и перейти к выяснению того, как в свете этих результатов раскрывается различная природа житейских и научных понятий. После всего сказанного мы можем сформулировать тот центральный пункт, который определяет целиком и полностью различие в психической природе тех и других понятий. Этот центральный пункт есть отсутствие или наличие системы. Вне системы понятия стоят в ином отношении к объекту, чем когда они входят в определенную систему. Отношение слова «цветок» к предмету у ребенка, не знающего еще слов «роза», «фиалка», «ландыш», и у ребенка, знающего эти слова, оказывается совершенно иным. Вне системы в понятиях возможны только связи, устанавливаемые между самими предметами, т. е. эмпирические связи. Отсюда господство логики действия и синкретических связей по восприятию в раннем возрасте. Вместе с системой возникают отношения понятий к понятиям, опосредованное отношение понятий к объектам через их отношение к другим понятиям, возникает вообще иное отношение понятий к объекту; в понятиях становятся возможными над эмпирические связи.
Можно было бы в специальном исследовании показать, что все особенности детской мысли, установленные Пиаже (синкретизм, нечувствительность к противоречию, тенденции к рядоположению и др.), целиком проистекают из внесистемности понятий ребенка. Сам Пиаже, как мы видели, понимает, что центральный пункт отличия между спонтанным понятием ребенка и понятием взрослого заключается в несистематичности первого и в систематичности второго, поэтому выдвигает принцип освобождения высказывания ребенка от всякого следа системы, чтобы раскрыть содержащиеся в нем спонтанные понятия. Этот принцип безусловный и верный. По своей природе спонтанные понятия внесистемны. Ребенок, говорит Пиаже, мало систематичен, его мысль недостаточно связана, дедуктивна, вообще чужда потребности избегать противоречий, склонна к рядоположению суждений вместо их синтеза и довольствуется синкретическими схемами вместо анализа. Иначе говоря, мысль ребенка стоит ближе к совокупности установок, проистекающих одновременно из действия и грезы, чем к мысли взрослого, которая является систематической и осознанной. Таким образом, сам Пиаже склонен видеть в отсутствии системы существеннейший признак
284
спонтанных понятий. Он только не видит того, что несистематичность — это не один из признаков детской мысли в ряду других признаков, а как бы корень, из которого вырастают все перечисленные им особенности мышления ребенка.
Можно показать, что все эти особенности прямо и непосредственно вытекают из внесистемности спонтанных понятий; можно объяснить каждую из названных особенностей в отдельности и все вместе из тех отношений общности, которые господствуют в комплексной системе спонтанных понятий. В специфической системе отношений общности, присущей комплексной структуре понятий дошкольника, содержится ключ ко всем феноменам, описанным и изученным Пиаже.
Хотя это составляет тему нашего особого исследования, попытаемся схематически пояснить это положение применительно к указанным Пиаже особенностям детской мысли. Недостаточная связанность детской мысли есть прямое выражение недостаточного развития отношений общности между понятиями. В частности, недостаточность дедукции прямо проистекает из недоразвитости связей между понятиями по долготе, по вертикальным линиям отношения общности. Отсутствие потребности избегать противоречий, как легко показать на простом примере, необходимо должно возникнуть в такой мысли, в которой отдельные понятия не подчинены единому стоящему над ними высшему понятию. Для того чтобы противоречие могло ощущаться как помеха для мысли, необходимо, чтобы два противоречащих друг другу суждения рассматривались как частные случаи единого общего понятия. Но именно этого нет и не может быть в понятиях вне системы.
Ребенок в опытах Пиаже утверждает один раз, что шарик растворился в воде, потому что он маленький; другой раз про другой шарик он утверждает, что он растворился, потому что он большой. Если мы выясним, что происходит в нашем мышлении, когда мы чувствуем явное противоречие между обоими суждениями, мы поймем, чего не хватает детской мысли для того, чтобы уловить эту противоречивость. Как показывает исследование, противоречие замечается тогда, когда оба понятия, относительно которых высказываются противоречивые суждения, входят в структуру единого стоящего над ними высшего понятия. Тогда мы чувствуем, что мы высказали об одном и том же два противоположных суждения. Но у ребенка оба понятия лишены еще из-за недоразвития отношений общности возможности объединения в единую структуру высшего понятия, поэтому он высказывает два исключающих друг друга суждения с точки зрения своей собственной мысли не об одном и том же, а о двух единичных вещах. В логике его мысли возможны только те отношения между понятиями, которые возможны между
285
самими предметами. Его суждения носят чисто эмпирический констатирующий характер. Логика восприятия вообще не знает противоречия. Ребенок с точки зрения этой логики высказывает два одинаково правильных суждения. Они противоречивы с точки зрения взрослого, но не с точки зрения ребенка; это противоречие существует для логики мыслей, но не для логики восприятия. Ребенок мог бы в подтверждение абсолютной правильности своего высказывания сослаться на очевидность и неопровержимость фактов. В наших опытах дети, которых мы пытались натолкнуть на это противоречие, часто отвечали: «Я сам видел». Он действительно видел, что один раз растворился маленький, а другой раз — большой шарик. Мысль, заключенная в его суждении, в сущности и означает только следующее: я видел, что маленький шарик растворился; я видел, что большой шарик растворился; его «потому что», появляющееся в ответ на вопрос экспериментатора, не означает по существу установления причинной зависимости, которая непонятна ребенку, а относится к тому классу неосознанных и непригодных для произвольного употребления «потому что», который мы встречаем при решении задачи с окончанием оборванных фраз.
Так точно рядоположение неизбежно должно возникать там, где отсутствует движение мысли от высших по мере общности к низшим понятиям. Синкретические схемы также типичное выражение господства в мышлении ребенка эмпирических связей и логики восприятия. Поэтому связь своих впечатлений ребенок принимает за связь вещей.
Как показывает исследование, научные понятия ребенка не обнаруживают этих феноменов и не подчиняются этим законам, а перестраивают их. Господствующая на каждой ступени развития понятий структура обобщения определяет соответствующую систему отношений общности между понятиями и тем самым весь круг возможных на канной ступени типических операций мышления. Поэтому раскрытие общего источника, из которого проистекают все описанные Пиаже феномены детской мысли, необходимо приводит к коренному пересмотру его же объяснения всех этих феноменов. Источником особенностей оказывается не эгоцентризм детской мысли, этот компромисс между логикой мечты и логикой действия, а те своеобразные отношения общности между понятиями, которые существуют в мысли, сотканной из спонтанных понятий. Не потому, что понятия ребенка стоят дальше от действительных предметов, чем понятия взрослых, и пропитаны еще автономной логикой аутистического мышления, а потому, что они стоят в ином, более близком и непосредственном отношении к объекту, чем понятия взрослого, возникают у ребенка те своеобразные движения мысли, которые описал Пиаже.
286
Поэтому закономерности, управляющие этим своеобразным движением мысли, действительны только в сфере спонтанных понятий. Научные понятия того же ребенка обнаруживают с самого начала иные черты, свидетельствующие об их иной природе. Возникая сверху, из недр других понятий, они рождаются с помощью устанавливаемых в процессе обучения отношений общности между понятиями. По своей природе они заключают в себе нечто от этих отношений, от системы. Формальная дисциплина изучения научных понятий сказывается в перестройке и всей сферы спонтанных понятий ребенка. В этом заключается величайшее значение научных понятий в истории умственного развития ребенка.
В сущности говоря[96], все это содержится в скрытом виде в учении Пиаже, так что принятие этих положений не только не оставляет нас в недоумении перед фактом, раскрытым Пиаже, но впервые позволяет нам дать фактам адекватное и истинное объяснение. Можно сказать, что этим самым вся система Пиаже взрывается изнутри огромной силой вдавленных в нее и скованных обручем ошибочной мысли фактов. Сам Пиаже ссылается на закон осознания Э. Клапареда: чем более понятия способны к спонтанному применению, тем менее они осознаются. Спонтанные понятия, следовательно, по своей природе в силу того, что их делает спонтанными, должны быть неосознанны и непригодны к произвольному применению. Неосознанность, как мы видели, означает отсутствие обобщения, т. е. недоразвитие системы отношений общности. Таким образом, спонтанность и неосознанность понятия, спонтанность и внесистемность — синонимы. И обратно: неспонтанные научные понятия по своей природе в силу одного того, что их делает неспонтанными, должны с самого начала быть осознанными, должны с самого начала иметь систему. Весь наш спор с Пиаже в этом вопросе сводится только к одному: вытесняют ли системные понятия внесистемные и заступают их место по принципу замещения, или, развиваясь на основе внесистемных понятий, они позже преобразуют последние по собственному типу, создавая впервые в сфере понятий ребенка определенную систему. Система, таким образом, является тем кардинальным пунктом, вокруг которого, как вокруг центра, вращается вся история развития понятий в школьном возрасте. Она есть то новое, что возникает в мышлении ребенка вместе с развитием его научных понятий и что поднимает его умственное развитие на высшую ступень.
В свете этого центрального значения системы, вносимой в мышление ребенка развитием научных понятий, становится ясным и общий теоретический вопрос об отношениях между развитием мышления и приобретением знаний, между обучением и развитием. Пиаже, как известно, разрывает то и другое; поня-
287
тия, усвоенные ребенком в школе, не представляют для него никакого интереса с точки зрения изучения особенностей детской мысли. Особенности детской мысли растворились здесь в особенностях зрелого мышления. Поэтому изучение мышления строится у Пиаже вне процессов обучения. Он исходит из следующего: все, что возникает у ребенка в процессе обучения, не может представлять интереса для исследования развития мыслей. Обучение и развитие оказываются у него несоизмеримыми процессами. Это два независимых друг от друга процесса. То, что ребенок учится, и то, что он развивается, не имеет отношения друг к другу.
В основе этого лежит исторически сложившийся в психологии разрыв между изучением структуры и функции мышления.
На первых порах изучение мышления в психологии сводилось к анализу содержания мышления. Считалось, что более развитой в умственном отношении человек отличается от менее развитого прежде всего количеством и качеством тех представлений, которыми он располагает, и числом тех связей, которые существуют между этими представлениями, но что операции мышления одинаковы и на самых низких ступенях мышления, и на самых высоких. Книга Э. Торндайка (Е. Torndike, 1901) об измерении интеллекта явилась грандиозной попыткой защитить тот тезис, что развитие мышления заключается главным образом в образовании новых и новых элементов связи между отдельными представлениями и что можно построить одну непрерывную кривую, которая будет символизировать всю лестницу умственного развития, начиная от дождевого червя и до американского студента. Впрочем, в настоящее время мало кто склонен защищать эту точку зрения.
Реакция против этого взгляда, как часто бывает, привела к тому, что вопрос был перевернут с не меньшим преувеличением в противоположную сторону. Стали обращать внимание на то, что представления вообще никакой роли в мышлении не играют, и сосредоточивать внимание на самих операциях мышления, на его функциях, на том процессе, который совершается в уме человека, когда он мыслит. Вюрцбургская школа довела эту точку зрения до крайности и пришла к выводу, что мышление есть такой процесс, в котором объекты, представляющие внешнюю действительность, в том числе и слово, не играют никакой роли, что мышление является духовным актом, заключающимся в чисто отвлеченном, не чувственном схватывании отвлеченных отношений. Как известно, положительная сторона этой работы в том, что исследователи, проводившие ее, выдвинули целый ряд практических положений на основе экспериментального анализа и обогатили наши представления о действительном своеобразии интеллектуальных операций. Но вопрос о
288
том, как представлена, отражена и обобщена действительность в мышлении, был выброшен из психологии вообще.
Сегодня мы снова присутствуем при том, как эта точка зрения до конца скомпрометировала себя, обнаружила свою односторонность и неплодотворность и как возникает новый интерес к тому, что раньше составляло единственный предмет исследования. Становится ясно, что функции мышления зависят от строения мыслей, которые действуют. Ведь всякое мышление устанавливает связь между каким-то образом, представленным в сознании частями действительности. Следовательно, то, как эта действительность представлена в сознании, не может быть безразличным для возможных операций мышления. Иначе говоря, различные функции мышления не могут не зависеть от того, что функционирует, что движется, что является основой этого процесса. Еще проще: функция мышления зависит от структуры самой мысли, от того, как построена мысль, которая функционирует, зависит характер операций, доступных для данного интеллекта. Работа Пиаже является крайним выражением интереса к структуре самой мысли. Он довел до крайности односторонний интерес к структуре, как и современная структурная психология, утверждая, что функции в развитии вообще не меняются; изменяются строения, и в зависимости от этого функция приобретает новый характер. Возвращение к анализу самого строения детской мысли, ее внутренней структуры, ее содержательного наполнения и составляет основную тенденцию работ Пиаже.
Но и Пиаже не смог устранить целиком разрыв между структурой и функцией мышления. Это и является причиной того, что обучение оторвано от развития. Исключение одного аспекта в пользу другого неизбежно приводит к тому, что школьное обучение становится невозможным для психологического исследования. Если знание заранее рассматривается как нечто не соизмеримое с мышлением, этим самым заранее преграждается путь ко всякой попытке найти связь между обучением и развитием. Но если попытаться, как мы сделали в настоящей работе, связать воедино оба аспекта исследования мышления — структурный и функциональный, если принять следующее: что функционирует определяет до известной степени как функционирует, эта проблема окажется не только доступной, но и разрешимой.
Если самое значение слова принадлежит к определенному типу структуры, то только определенный круг операций становится возможным в пределах данной структуры, а другой круг операций становится возможным в пределах другой структуры. В развитии мышления мы имеем дело с некоторыми очень сложными процессами внутреннего характера, изменяющими внутреннюю структуру самой ткани мысли.
Есть лишь две стороны, с которыми мы всегда сталкиваемся
289
в конкретном изучении мышления, и обе имеют первостепенное значение.
Первая сторона — это рост и развитие детских понятий, или значений слов. Значение слова есть обобщение. Различная структура этих обобщений означает различный способ отражения действительности в мысли. Это, в свою очередь, не может уже не означать различных отношений общности между понятиями. Наконец, различные отношения общности определяют и различные типы возможных для данного уровня мышления операций. В зависимости от того, что функционирует и как построено то, что функционирует, определяются способ и характер самого функционирования. Это и составляет вторую сторону всякого исследования мышления. Эти аспекты внутренне связаны, и везде, где мы имеем исключение одного аспекта в пользу другого, мы делаем это в ущерб полноте исследования.
Соединение в одном исследовании обоих аспектов приводит к возможности видеть связь, зависимость и единство там, где исключительное и одностороннее изучение только одного аспекта заставляло видеть метафизическую противоположность, антагонизм, перманентный конфликт и, в лучшем случае, возможность компромисса между двумя непримиримыми крайностями. Спонтанные и научные понятия оказались в свете нашего исследования связанными между собой сложными внутренними связями. Более того: спонтанные понятия ребенка, если довести их анализ до конца, представляются тоже до известной степени аналогичными научным понятиям, так что в будущем открывается возможность единой линии исследования тех и других. Обучение начинается не только в школьном возрасте, обучение есть и в дошкольном возрасте. Будущее исследование, вероятно, покажет, что спонтанные понятия ребенка являются таким же продуктом дошкольного обучения, как научные понятия — продуктом школьного обучения.
Мы уже сейчас знаем, что в каждом возрасте существует особый тип отношений между обучением и развитием. Не только развитие меняет свой характер в каждом возрасте, не только обучение на каждой ступени имеет совершенно особую организацию, своеобразное содержание, но, что самое важное, отношение между обучением и развитием специфично для каждого возраста. В другой работе73 мы имели возможность развить эту мысль подробнее. Скажем только, что будущее исследование должно обнаружить следующее: своеобразная природа спонтанных понятий ребенка целиком зависит от того отношения между обучением и развитием, которое господствует в дошкольном возрасте и которое мы обозначаем как спонтанно-реактивный тип обучения, образующий переход от спонтанного типа обучения в раннем детстве к реактивному типу обучения в школе.
290
Мы не станем сейчас гадать, что конкретно должно обнаружить это будущее исследование. Сейчас мы сделали только шаг в новом направлении и в оправдание этого шага скажем: как бы он ни усложнял наши представления о, казалось бы, простых вопросах обучения и развития, спонтанных и научных понятиях, он не может не быть самым грубым упрощением по сравнению с истинной грандиозной сложностью действительного положения вещей.
8
Сравнительное исследование житейских и научных (обществоведческих) понятий и их развития в школьном возрасте, проведенное Ж. И. Шиф, имеет в свете сказанного двойное значение. Первой и ближайшей задачей исследования была экспериментальная проверка конкретной части нашей рабочей гипотезы относительно своеобразного пути развития, проделываемого научными понятиями по сравнению с житейскими. Второй задачей исследования было попутное разрешение на этом частном случае общей проблемы отношений обучения и развития. Мы не станем повторять, как решены в исследовании оба вопроса. Отчасти об этом уже сказано выше, а главное содержится в самом исследовании. Скажем только, что нам представляется первоначальное разрешение этих вопросов в экспериментальном плане вполне удовлетворительным.
Попутно с этими вопросами не могли не встать еще два, на фоне которых оба упомянутых выше вопроса только и могут быть поставлены в исследовательском плане.
Это, во-первых, вопрос о природе спонтанных понятий ребенка, до сих пор считавшихся единственным достойным изучения предметом психологического исследования, и, во-вторых, общая проблема психического развития школьника, вне которой никакое частное исследование детских понятий невозможно. Эти вопросы, конечно, не могли занять того места в исследовании, как первые два. Они стояли не в центре, но на периферии внимания исследователя. Поэтому мы можем говорить только о косвенных данных, полученных в исследовании для решения этих вопросов. Но косвенные данные, думается нам, скорее подтверждают, чем отвергают развитые в нашей гипотезе предположения по обоим этим вопросам.
Главнейшее значение этого исследования заключается в том, что оно приводит к новой постановке проблемы развития понятия в школьном возрасте, дает рабочую гипотезу, хорошо объясняющую все найденные в прежних исследованиях факты и находящую себе подтверждение в экспериментально установленных новых фактах, наконец, в том, что оно разработало метод иссле-
291
дования реальных, в частности научных, понятий ребенка и тем самым не только перебросило мост от исследования экспериментальных понятий к анализу реальных жизненных понятий, но и открыло новую, практически бесконечно важную и теоретически плодотворную область исследования, едва ли не центральную по своей роли для всей истории умственного развития школьника. Оно показало, как можно исследовать развитие научных понятий.
Наконец, практическое значение исследования мы видим в том, что оно раскрыло перед детской психологией возможности действительно психологического анализа, т. е. анализа, руководимого принципом развития в обучении системе научных знаний. Вместе с этим из исследования вытекает и ряд непосредственных педагогических выводов по отношению к преподаванию обществоведения, освещая пока, конечно, только в самых грубых, общих и схематических чертах то, что совершается в голове отдельного ученика в процессе обучения обществоведению.
Мы видим в исследовании три существеннейших недостатка, которые оказались, к сожалению, непреодолимыми в этом первом опыте, идущем в новом направлении. Первый из недостатков заключается в том, что обществоведческие понятия ребенка взяты более с общей, чем со специфической стороны. Они служили для нас более прототипом всякого научного понятия вообще, чем определенным и своеобразным типом одного специфического вида научных понятий. Это вызвано тем, что на первых порах исследования в новой области необходимо было отграничить научные понятия от житейских, вскрыть присущее обществоведческим понятиям как частному случаю научных понятий. Различия же, существующие внутри отдельных видов научных понятий (арифметические, естественнонаучные, обществоведческие понятия), могли сделаться предметом исследования не раньше, чем была проведена демаркационная линия, разделяющая научные и житейские понятия. Такова логика научного исследования: сперва находятся общие и слишком широкие черты для данного круга явлений, затем отыскиваются специфические различия внутри самого круга.
Этим обстоятельством объясняется то, что круг введенных в исследование понятий не представляет собой какой-либо системы основных, конституирующих логику самого предмета коренных понятий, а скорее образовался из ряда эмпирически подобранных на основании программного материала отдельных, прямо не связанных между собой понятий. Этим объясняется и то, что исследование дает гораздо больше общих закономерностей развития научных понятий сравнительно с житейскими, чем специфических закономерностей обществоведческих понятий как таковых, и то, что обществоведческие понятия подвергались
292
сравнению с житейскими понятиями, взятыми не из той же области общественной жизни, а из других областей.
Второй недостаток, очевидный для нас и содержащийся в работе, заключается снова в слишком общем, суммарном, недифференцированном и нерасчлененном изучении структуры понятий, отношений общности, присущих данной структуре, и функций, определяемых данной структурой и данными отношениями общности. Точно так же как первый недостаток привел к тому, что внутренняя связь обществоведческих понятий — эта важнейшая проблема развивающейся системы понятий — оставалась без надлежащего освещения, так и второй недостаток неизбежно приводит к тому, что проблема системы понятий, проблема отношений общности, центральная для всего школьного возраста и единственно могущая перебросить мост от изучения экспериментальных понятий и их структуры к изучению реальных понятий с их единством структуры и функций обобщения мыслительной операции, осталась недостаточно разработанной. Это неизбежное на первых порах упрощение, допущенное нами в самой постановке экспериментального исследования и продиктованное необходимостью поставить вопрос наиболее узко, вызвало, в свою очередь, ори других условиях непозволительное упрощение анализа тех интеллектуальных операций, которые вводились в эксперимент. Так, в примененных нами задачах не были расчленены различные виды причинно-следственных зависимостей (эмпирические, психологические и логические «потому что»), как это сделал Пиаже, на стороне которого в данном случае оказывается колоссальное превосходство, — это само собой привело и к стушевыванию возрастных границ внутри суммарно взятого школьного возраста. Но мы должны были сознательно потерять в тонкости и расчлененности психологического анализа, чтобы иметь хоть какой-нибудь шанс выиграть в точности и определенности ответа на основной вопрос — о своеобразном характере развития научных понятий.
Наконец, третьим дефектом работы, по нашему мнению, является недостаточная экспериментальная проработка двух упомянутых выше, попутно вставших перед исследованием вопросов — о природе житейских понятий и о структуре психического развития в школьном возрасте. Вопрос о связи между структурой детского мышления, как она описана Пиаже, и основными чертами, характеризующими самую природу житейских понятий (внесистемность и непроизвольность), и вопрос о развитии осознания и произвольности из нарождающейся системы понятий, этот центральный вопрос всего умственного развития школьника, — оба оказались не только не разрешенными экспериментально, но и не поставленными в качестве задачи, подлежащей разрешению в эксперименте. Это вызвано тем,
293
что оба вопроса для сколько-нибудь полной своей разработки нуждались в особом исследовании. Но это неизбежно привело к тому, что критика основных положений Пиаже, развиваемая в нашей работе, оказалась недостаточно подкрепленной логикой эксперимента и потому недостаточно сокрушительной.
Мы потому так подробно остановились в заключение на очевидных для нас недостатках работы, что они позволяют наметить основные перспективы, открывающиеся за последней страницей нашего исследования, и вместе с тем установить единственно правильное отношение к этой работе как к первому и в высшей степени скромному шагу в новой и бесконечно плодотворной с теоретической и практической сторон области психологии детского мышления.
Нам остается сказать о том, что в ходе самого исследования, от начала и до завершения, наша рабочая гипотеза и экспериментальное исследование складывались иначе, чем это представлено здесь. В живом ходе исследовательской работы дело никогда не обстоит так, как в ее закопченном литературном оформлении. Построение рабочей гипотезы не предшествовало экспериментальному исследованию, а исследование не могло опираться с самого начала на готовую и до конца разработанную гипотезу. Гипотеза и эксперимент, эти, по выражению К. Левина74, два полюса единого динамического целого, складывались, развивались и росли совместно, взаимно оплодотворяя и продвигая друг друга.
И одно из важнейших доказательств правдоподобности и плодотворности нашей гипотезы мы видим в том, что совместно складывавшиеся экспериментальное исследование и теоретические предположения гипотезы привели нас не только к согласным, но к совершенно единым результатам. Они показали то, что является центральным пунктом, основной осью и главной мыслью всей нашей работы: в момент усвоения нового слова процесс развития соответствующего понятия не заканчивается, а только начинается. В момент первоначального усвоения новое слово стоит не в конце, а в начале своего развития и является всегда в этот период незрелым словом. Постепенное внутреннее развитие его значения приводит и к созреванию самого слова. Развитие смысловой стороны речи здесь, как и везде, оказывается основным и решающим процессом в развитии мышления и речи ребенка. Как говорит Л. Н. Толстой, «слово почти всегда готово, когда готово понятие» (1903, с. 143), в то время как обычно полагали, будто понятие почти всегда готово, когда готово слово.
МЫСЛЬ И СЛОВО
Я слово позабыл, что я хотел сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
О. Э. Мандельштам*
1
Мы начали наше исследование с попытки выяснить внутреннее отношение, существующее между мыслью и словом на самых крайних ступенях фило- и онтогенетического развития. Мы нашли, что начало развития мысли и слова, доисторический период в существовании мышления и речи, не обнаруживает никаких определенных отношений и зависимостей между генетическими корнями мысли и слова. Таким образом, оказывается, что искомые нами внутренние отношения между мыслью и словом не есть изначальная, заранее данная величина, которая является предпосылкой, основой и исходным пунктом дальнейшего развития, но сами возникают и складываются только в процессе исторического развития человеческого сознания, сами являются не предпосылкой, но продуктом становления человека.
Даже в высшем пункте животного развития — у антропоидов — вполне человекоподобная в фонетическом отношении речь оказывается никак не связанной с — тоже человекоподобным — интеллектом. И в начальной стадии детского развития мы могли с несомненностью констатировать наличие доинтеллектуальной стадии в процессе формирования речи и доречевой стадии в развитии мышления. Мысль и слово не связаны между собой изначальной связью. Эта связь возникает, изменяется и разрастается в ходе самого развития мысли и слова.
Вместе с тем было бы неверно, как мы старались выяснить в начале нашего исследования, представлять себе мышление и речь как два внешних друг по отношению к другу процесса, как две независимые силы, которые протекают и действуют параллельно друг другу или пересекаясь в отдельных точках пути и вступая в механическое взаимодействие. Отсутствие изначальной связи между мыслью и словом ни в какой мере не означает, будто эта связь может возникать только как внешняя связь двух разнородных по существу видов деятельности сознания. Напротив, как мы стремились показать, основной методологический
295
порок огромного большинства исследований мышления и речи, порок, обусловивший бесплодность этих работ, состоит как раз в таком понимании отношений между мыслью и словом, которое рассматривает оба эти процесса как два независимых, самостоятельных и изолированных элемента, из внешнего объединения которых возникает речевое мышление со всеми присущими ему свойствами.
Мы стремились показать, что вытекающий из такого понимания метод анализа заранее обречен на неудачу, ибо он для объяснения свойств речевого мышления как целого разлагает это целое на образующие его элементы — на речь и мышление, которые не содержат в себе свойств, присущих целому, и тем самым закрывает дорогу к объяснению этих свойств. Исследователя, пользующегося этим методом, мы уподобляли человеку, который попытался бы для объяснения того, почему вода тушит огонь, разложить воду на кислород и водород .и с удивлением увидел бы, что кислород поддерживает горение, а водород сам горит. Мы хотели показать далее, что анализ, пользующийся методом разложения на элементы, не есть в сущности анализ в собственном смысле слова, приложимый к разрешению конкретных проблем в какой-либо определенной области явлений. Это есть, скорее, возведение к общему, чем внутреннее расчленение и выделение частного, содержащегося в подлежащем объяснению феномене. По самой своей сущности этот метод приводит скорее к обобщению, чем к анализу. В самом деле, сказать, что вода состоит из водорода и кислорода, значит сказать нечто такое, что одинаково относится ко всей воде вообще и ко всем ее свойствам в равной мере: к Великому океану в такой же мере, как к дождевой капле, к свойству воды тушить огонь в такой же мере, как к закону Архимеда. Так же точно сказать, что речевое мышление содержит в себе интеллектуальные процессы и собственно речевые функции, означает сказать нечто такое, что относится ко всему речевому мышлению в целом и ко всем его отдельным свойствам в одинаковой степени, тем самым означает не сказать ничего по поводу каждой конкретной проблемы, встающей перед исследованием речевого мышления.
Мы пытались поэтому с самого начала встать на другую точку зрения, поставить всю проблему по-другому и применить в исследовании другой метод анализа. Анализ, пользующийся методом разложения на элементы, мы пытались заменить анализом, расчленяющим сложное единство речевого мышления на единицы, понимая под последними такие продукты анализа, которые в отличие от элемента образуют первичные моменты не по отношению ко всему изучаемому явлению в целом, но только по отношению к отдельным конкретным его сторонам и свойствам и которые, далее, также в отличие от элементов не
296
утрачивают свойств, присущих целому и подлежащих объяснению, но содержат в себе в самом простом, первоначальном виде те свойства целого, ради которых предпринимается анализ. Единица, к которой мы приходим в анализе, содержит в себе в каком-то наипростейшем виде свойства, присущие речевому мышлению как целому.
Мы нашли эту единицу, отражающую в наипростейшем виде единство мышления и речи, в значении слова. Значение слова, как мы пытались выяснить выше, это такое далее неразложимое единство обоих процессов, о котором нельзя сказать, что оно представляет собой: феномен речи или феномен мышления. Слово, лишенное значения, не есть слово, оно есть звук пустой. Следовательно, значение есть необходимый, конституирующий признак самого слова. Оно есть само слово, рассматриваемое с внутренней стороны. Таким образом, мы как будто вправе рассматривать его с достаточным основанием как феномен речи.
Но значение слова с психологической стороны, как мы неоднократно убеждались на протяжении исследования, есть не что иное как обобщение, или понятие. Обобщение и значение слова суть синонимы. Всякое же обобщение, всякое образование понятия есть самый специфический, самый подлинный, самый несомненный акт мысли. Следовательно, мы вправе рассматривать значение слова как феномен мышления.
Таким образом, значение слова оказывается одновременно речевым и интеллектуальным феноменом, причем это не чисто внешняя сопринадлежность его к двум различным областям психической жизни. Значение слова есть феномен мышления лишь в той мере, в какой мысль связана со словом и воплощена в слове, и обратно: оно есть феномен речи лишь в той мере, в какой речь связана с мыслью и освещена ее светом. Оно есть феномен словесной мысли или осмысленного слова, оно есть единство слова и мысли.
Нам думается, что этот основной тезис нашего исследования едва ли нуждается в новых подтверждениях после всего сказанного. Наши экспериментальные исследования, думается нам, всецело подтвердили и оправдали это положение, показав, что, оперируя значением слова как единицей речевого мышления, мы действительно находим реальную возможность конкретного исследования развития речевого мышления и объяснения его главнейших особенностей на различных ступенях. Но главным результатом является не это положение само по себе, а дальнейшее, которое есть важнейший и центральный итог наших исследований. Это исследование раскрыло, что значения слов развиваются. Открытие изменения значений слов и их развития есть то новое и существенное, что внесло наше исследование в учение о мышлении и речи, оно есть главное наше открытие,
297
которое позволяет впервые окончательно преодолеть лежавший в основе прежних учений о мышлении и речи постулат о константности и неизменности значения слова.
С точки зрения старой психологии связь между словом и значением есть простая ассоциативная связь, устанавливающаяся благодаря многократному совпадению в сознании восприятий слова и вещи, обозначаемой данным словом. Слово напоминает о своем значении так точно, как пальто человека напоминает об этом человеке или внешний вид дома напоминает о людях, живущих в нем. С этой точки зрения значение слова, раз установившееся, не может ни развиваться, ни вообще изменяться. Ассоциация, связывающая слово и значение, может закрепляться или ослабляться, может обогащаться рядом связей с другими предметами того же рода, может распространяться по сходству или смежности на более широкий круг предметов или, наоборот, суживать или ограничивать этот круг, другими словами, она может претерпевать ряд количественных и внешних изменений, но не может изменять своей внутренней психологической природы, так как для этого она должна была бы перестать быть тем, что она есть, т. е. ассоциацией.
Естественно, что с этой точки зрения развитие смысловой стороны речи, развитие значения слов становится вообще необъяснимым и невозможным. Это нашло свое выражение как в лингвистике, так и в психологии речи ребенка и взрослого. Тот отдел языкознания, который занимается изучением смысловой стороны речи, т. е. семасиология, усвоив ассоциативную концепцию слова, рассматривает до сих пор значение слова как ассоциацию между звуковой формой слова и его предметным содержанием. Поэтому все решительно слова — самые конкретные и самые абстрактные — оказываются построенными со смысловой стороны одинаково и все не содержат в себе ничего специфического для речи как таковой, поскольку ассоциативная связь, объединяющая слово и значение, в такой же мере составляет психологическую основу осмысленной речи, в какой и основу таких процессов, как воспоминания о человеке при виде его пальто. Слово заставляет нас вспомнить о своем значении, как вообще любая вещь может напомнить нам другую вещь. Не удивительно поэтому, что, не находя ничего специфического в связи слова со значением, семантика не могла и поставить вопроса о развитии смысловой стороны речи, о развитии значений слов. Все развитие сводилось исключительно к изменению ассоциативных связей между отдельными словами и отдельными предметами; слово могло означать раньше один предмет, а затем ассоциативно связаться с другим предметом. Так, пальто, переходя от одного владельца к другому, могло раньше напоминать об одном человеке, а затем о другом. Развитие смысловой сто-
298
роны речи исчерпывается для лингвистики изменениями предметного содержания слов, но ей остается чужда мысль, что в ходе исторического развития языка изменяется смысловая структура значения слова, изменяется психологическая природа этого значения, что от низших и примитивных форм обобщения языковая мысль переходит к высшим и наиболее сложным формам, находящим свое выражение в абстрактных понятиях, что, наконец, не только предметное содержание слова, по самый характер отражения и обобщения действительности в слове изменялся в ходе исторического развития языка.
Так же точно эта ассоциативная точка зрения приводит к невозможности и к необъяснимости развития смысловой стороны речи в детском возрасте. У ребенка развитие значения слова может сводиться только к чисто внешним и количественным изменениям ассоциативных связей, объединяющих слово и значение, к обогащению и закреплению этих связей. Что самая структура и природа связи между словом и значением может изменяться и фактически изменяется в ходе развития детской речи — это с ассоциативной точки зрения необъяснимо.
Наконец, в функционировании речевого мышления у зрелого развитого человека мы также с этой точки зрения не можем найти ничего иного, кроме непрерывного линейного движения в одной плоскости по ассоциативным путям от слова к его значению и от значения к слову. Понимание речи заключается в цепи ассоциаций, возникающих в уме под влиянием знакомых образов слов. Выражение мысли в слове есть обратное движение по тем же ассоциативным путям от представленных в мысли предметов к их словесным обозначениям. Ассоциация всегда обеспечивает эту двустороннюю связь между двумя представлениями: один раз пальто может напомнить о человеке, носящем его, другой раз вид человека может заставить нас вспомнить о его пальто. В понимании речи и в выражении мысли в слове не содержится, следовательно, ничего нового и ничего специфического по сравнению с любым актом припоминания и ассоциативного связывания.
Несмотря на то что несостоятельность ассоциативной теории была осознана, экспериментально и теоретически доказана сравнительно давно, это никак не отразилось на судьбе ассоциативного понимания природы слова и его значения. Вюрцбургская школа, которая считала главной задачей доказать несводимость мышления к ассоциативному течению представлений, невозможность объяснить движение, сцепление, припоминание мыслей с точки зрения законов ассоциации и доказать наличие особых закономерностей, управляющих течением мыслей, не только ничего не сделала для пересмотра ассоциативных воззрений на природу отношения между словом и значением, но не сочла
299
нужным даже высказать мысль о необходимости этого пересмотра. Она разделила речь и мышление, воздав богу богово и кесарю кесарево. Она освободила мысль от пут всего образного, чувственного, вывела ее из-под власти ассоциативных законов, превратила ее в чисто духовный акт, возвратившись тем самым к истокам донаучной спиритуалистической концепции Августина75 и Р. Декарта76, и пришла в конце концов к крайнему субъективному идеализму в учении о мышлении, уйдя дальше Декарта и заявляя устами О. Кюльпе: «Мы не только скажем: «мыслю, значит, существую», но также «мир существует, как мы его устанавливаем и определяем» (1914, с. 81). Таким образом, мышление как богово было отдано богу. Психология мышления стала открыто двигаться по пути к идеям Платона, как признал сам Кюльпе.
Одновременно с этим, освободив мысль от плена всякой чувственности и превратив ее в чистый, бесплотный, духовный акт, эти психологи оторвали мышление от речи, предоставив последнюю всецело во власть ассоциативных законов. Связь между словом и его значением продолжала рассматриваться как простая ассоциация и после работ вюрцбургской школы. Слово, таким образом, оказалось внешним выражением мысли, ее одеянием, не принимающим никакого участия в ее внутренней жизни. Никогда еще мышление и речь не оказывались столь разъединенными и столь оторванными друг от друга в представлении психологов, как в вюрцбургскую эпоху. Преодоление ассоцианизма в области мышления привело к еще большему закреплению ассоциативного понимания речи[97]. Как кесарево, оно было отдано кесарю.
Те из психологов этого направления, которые оказались продолжателями данной линии, не только не смогли изменить ее, но продолжали ее углублять и развивать. Так, О. Зельц, показавший всю несостоятельность констелляционной, т. е. в конечном счете ассоциативной, теории продуктивного мышления, выдвинул на ее место новую теорию, которая углубила и усилила разрыв между мыслью и словом, определившийся с самого начала в работах этого направления. Зельц продолжал рассматривать мышление в себе, оторванное от речи, и пришел к выводу о принципиальной тождественности продуктивного мышления человека с интеллектуальными операциями шимпанзе — настолько слово не внесло никаких изменений в природу мысли, настолько велика независимость мышления от речи.
Даже Н. Ах, который сделал значение слова прямым предметом специального исследования и первый встал на путь преодоления ассоцианизма в учении о понятиях, не сумел пойти дальше признания наряду с ассоциативными тенденциями детерминирующих тенденций в процессе образования понятий.
300
Поэтому он не вышел за пределы прежнего понимания значения слова. Он отождествлял понятие и значение слова и тем самым исключал всякую возможность изменения и развития понятий. Раз возникшее значение остается неизменным и постоянным. В момент образования значения слова путь его развития оказывается законченным. Но этому же учили и те психологи, против мнения которых боролся Ах. Разница между ним и его противниками заключается только в том, что они по-разному рисуют этот начальный момент в образовании значения слова, но для него и для них в одинаковой мере начальный момент является в то же самое время и конечным пунктом всего развития понятия.
То же самое положение создалось и в современной структурной психологии в учении о мышлении и речи. Это направление глубже, последовательнее, принципиальнее других пыталось преодолеть ассоциативную психологию в целом. Оно поэтому не ограничилось половинчатым решением вопроса, как сделали его предшественники. Оно пыталось не только мышление, но и речь вывести из-под власти ассоциативных законов и подчинить и то и другое в одинаковой степени законам структурообразования. Это направление не только не пошло вперед в учении о мышлении и речи, но сделало глубокий шаг назад по сравнению со своими предшественниками.
Прежде всего оно сохранило глубочайший разрыв между мышлением и речью. Отношение между мыслью и словом представляется в свете нового учения как простая аналогия, как приведение к общему структурному знаменателю того и другого. Происхождение верных осмысленных детских слов исследователи этого направления представляют себе по аналогии с интеллектуальной операцией шимпанзе в опытах В. Келера. Слово входит в структуру вещи, поясняют они, и приобретает известное функциональное значение, подобно тому как палка для обезьяны входит в структуру ситуации добывания плода и приобретает функциональное значение орудия. Таким образом, связь между словом и значением не мыслится уже более как простая ассоциативная связь, но представляется как структурная. Это шаг вперед. Но, если присмотреться внимательно к тому, что дает нам новое понимание вещей, нетрудно убедиться: этот шаг вперед является простой иллюзией, а в сущности мы остались на прежнем месте у разбитого корыта ассоциативной психологии.
В самом деле, слово и обозначаемая им вещь образуют единую структуру. Но эта структура совершенно аналогична всякой вообще структурной связи между двумя вещами. Она не содержит в себе ничего специфического для слова как такового. Любые две вещи, все равно, палка и плод или слово и обозначаемый им предмет, смыкаются в единую структуру по одним и тем же
301
законам. Слово снова оказывается не чем иным, как одной из вещей в ряду других вещей. Слово есть вещь и объединяется с другими вещами по общим структурным законам объединения вещей. То, что отличает слово от всякой другой вещи и структуру слова отличает от всякой другой структуры, то, как слово представляет вещь в сознании, то, что делает слово словом, — все это остается вне поля зрения исследователей. Отрицание специфичности слова и его отношения к значениям и растворение этих отношений в море всех и всяческих структурных связей целиком сохраняются в новой психологии не в меньшей мере, чем в старой.
Мы могли бы, в сущности, для уяснения идеи структурной психологии о природе слова целиком воспроизвести тот самый пример о человеке и его пальто, на котором мы пытались уяснить идею ассоциативной психологии о природе связи между словом и значением. Слово напоминает свое значение так же, как пальто напоминает нам человека, на котором мы привыкли его видеть. Это положение сохраняет силу и для структурной психологии, ибо для нее пальто и носящий его человек образуют таким же образом единую структуру, как слово и обозначаемая им вещь. То, что пальто может напомнить нам о владельце, как вид человека может напомнить нам о его пальто, объясняется с точки зрения новой психологии также структурными законами.
Таким образом, на место принципа ассоциации становится принцип структуры, но этот новый принцип так же универсально и недифференцированно распространяется на все вообще отношения между вещами, как и старый принцип. Мы слышим от представителей старого направления, что связь между словом и его значением образуется так же, как связь между палкой и бананом. Но разве это не та же самая связь, о которой говорится в нашем примере? Суть дела заключается в том, что в новой психологии, как и в старой, исключается заранее всякая возможность объяснения специфических отношений слова и значения. Эти отношения признаются принципиально ничем не отличающимися от всяких других, любых, всевозможных отношений между предметами. Все кошки оказываются серыми в сумерках всеобщей структурности, как раньше их нельзя было различить в сумерках универсальной ассоциативности.
Н. Ах пытался преодолеть ассоциацию с помощью детерминирующей тенденции, гештальтпсихология — с помощью принципа структуры, но и там и здесь целиком сохраняются оба основных момента старого учения: во-первых, признание принципиальной тождественности связи слова и значения с связью любых других двух вещей и, во-вторых, признание неразвиваемости значения слова. Так же как для старой психологии, для гештальтпсихологии остается в силе то положение, согласно
302
которому развитие значения слова заканчивается в момент его возникновения. Вот почему смена различных направлений в психологии, так сильно продвинувших такие разделы, как учение о восприятии и памяти, производит впечатление утомительного и однообразного топтания на месте, вращения по кругу, когда дело идет о проблеме мышления и речи. Один принцип сменяет другой. Новый оказывается радикально противоположным прежнему. Но в учении о мышлении и речи они оказываются похожими друг на друга, как однояйцевые близнецы. Как говорит французская пословица, чем больше это меняется, тем больше остается тем же самым.
Если в учении о речи новая психология остается на старом месте и целиком сохраняет представление о независимости мысли от слова, то в учении о мышлении она делает значительный шаг назад. Это сказывается прежде всего в том, что гештальтпсихология склонна отрицать наличие специфических закономерностей мышления как такового и растворять их в общих структурных законах. Вюрцбургская школа возвела мысль в ранг чисто духовного акта и представила слово во власть низменных чувственных ассоциаций. В этом ее основной порок, но она все же умела различать специфические законы сцепления, движения и течения мыслей от более элементарных законов сцепления и течения представлений и восприятий. В этом отношении она стояла выше новой психологии. Гештальтпсихология, приведя к всеобщему структурному знаменателю восприятие домашней курицы, интеллектуальную операцию шимпанзе, первое осмысленное слово ребенка и развитое продуктивное мышление взрослого человека, стерла не только всякие границы между структурой осмысленного слова и структурой палки и банана, но также и границы между мышлением в его самых высших формах и самым элементарным восприятием.
Если попытаться подытожить то, к чему приводит нас беглый критический обзор основных современных учений о мышлении и речи, легко можно свести к двум основным положениям то общее, что присуще всем этим учениям. Во-первых, ни одно из этих направлений не схватывает в психологической природе слова самого главного, основного и центрального, что делает слово словом и без чего слово перестает быть самим собой: заключенного в нем обобщения как совершенно своеобразного способа отражения действительности в сознании. Во-вторых, все эти учения рассматривают слово и его значение вне развития. Оба эти момента внутренне связаны между собой, ибо только адекватное представление о психической природе слова может привести нас к пониманию возможности развития слова и его значения. Поскольку оба эти момента сохраняются во всех сменяющих друг друга направлениях, постольку все они в ос-
303
ловном повторяют друг друга. Поэтому борьба и смена отдельных направлений в современной психологии мышления и речи напоминают юмористическое стихотворение Г. Гейне, где рассказывается о царствовании верного себе почтенного и старого Шаблона, который был умерщвлен кинжалом восставших против него:
Когда с торжеством разделили
Наследники царство и трон,
То новый Шаблон — говорили —
Похож был на старый Шаблон.
2
Открытие непостоянства и неконстантности, изменчивости значений слов и их развития представляет собой главное и основное открытие, которое одно только и может вывести из тупика все учение о мышлении и речи. Значение слова неконстантно. Оно изменяется в ходе развития ребенка. Оно изменяется и при различных способах функционирования мысли. Оно представляет собой скорее динамическое, чем статическое, образование. Установление изменчивости значений сделалось возможным только тогда, когда была правильно определена природа самого значения. Природа его раскрывается прежде всего в обобщении, которое содержится как основной и центральный момент во всяком слове, ибо всякое слово уже обобщает.
Но раз значение слова может изменяться в своей внутренней природе, значит, изменяется и отношение мысли к слову. Для того чтобы понять изменчивость и динамику отношений мысли к слову, необходимо внести в развитую нами в основном исследовании генетическую схему изменения значений как бы поперечный разрез. Необходимо выяснить функциональную роль словесного значения в акте мышления.
Мы ни разу еще не имели случая на всем протяжении нашей работы остановиться на процессе словесного мышления в целом. Однако мы собрали уже все необходимые данные, для того чтобы представить себе в основных чертах, как совершается этот процесс. Попытаемся сейчас представить себе в целом виде сложное строение всякого реального мыслительного процесса и связанное с ним его сложное течение от первого, самого смутного момента зарождения мысли до ее окончательного завершения в словесной формулировке. Для этого мы должны перейти из генетического плана в план функциональный и обрисовать не процесс развития значений и изменения их структуры, а процесс функционирования значений в живом ходе словесного мышления. Если мы сумеем это сделать, мы тем самым сумеем показать, что на каждой ступени развития существует не только
304
своя особенная структура словесного значения, но также определяемое этой структурой свое особое отношение между мышлением и речью. Как известно, функциональные проблемы разрешаются легче всего тогда, когда исследование имеет дело с развитыми высшими формами какой-нибудь деятельности, в которой вся сложность функциональной структуры представлена в .расчлененном и зрелом виде. Поэтому оставим на некоторое время вопросы развития и обратимся к изучению отношений мысли и слова в развитом сознании.
Как только мы попытаемся осуществить это, сейчас же перед нами раскроется грандиозная, сложнейшая картина, которая превосходит по тонкости архитектоники все, что могли представить себе по этому поводу схемы самых богатых воображений исследователей. Подтверждаются слова Л. Н. Толстого, что «отношение слова к мысли и образование новых понятий есть такой сложный, таинственный и нежный процесс души» (1903, с. 143).
Прежде чем перейти к схематическому описанию этого процесса, мы, предвосхищая результаты дальнейшего изложения, скажем относительно основной и руководящей идеи, развитием и разъяснением которой должно служить все последующее исследование. Эта центральная идея может быть выражена в общей формуле: отношение мысли к слову есть прежде всего не вещь, а процесс, это отношение есть движение от мысли к слову и обратно — от слова к мысли. Это отношение предстает в свете психологического анализа как развивающийся процесс, проходящий через ряд фаз и стадий, претерпев все те изменения, которые по своим существенным признакам могут быть названы развитием. Разумеется, это не возрастное развитие, а функциональное, но движение самого процесса мышления от мысли к слову есть развитие. Мысль не выражается в слове, но совершается в слове. Можно было бы поэтому говорить о становлении (единстве бытия и небытия) мысли в слове. Всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то, установить отношение между чем-то и чем-то. Всякая мысль имеет движение, течение, развертывание, одним словом, мысль выполняет какую-то функцию, какую-то работу, решает какую-то задачу. Это течение мысли совершается как внутреннее движение через целый ряд планов, как переход мысли в слово и слова в мысль. Поэтому первейшей задачей анализа, желающего изучить отношение мысли к слову как движение от мысли к слову, является изучение тех фаз, из которых складывается это движение, различение ряда планов, через которые проходит мысль, воплощающаяся в слове. Здесь перед исследователем раскрывается многое такое, «что и не снилось мудрецам», по выражению В. Шекспира.
305
В первую очередь наш анализ приводит нас к различению двух планов в самой речи. Исследование показывает, что внутренняя, смысловая, семантическая сторона речи и внешняя, звучащая, фазическая хотя и образуют подлинное единство, но имеют каждая свои особые законы движения. Единство речи есть сложное единство, а не гомогенное и однородное. Прежде всего наличие своего движения в семантической и в фазической сторонах речи обнаруживается из целого ряда фактов, относящихся к области речевого развития ребенка. Укажем на два главнейших факта.
Известно, что внешняя сторона речи развивается у ребенка от слова к сцеплению двух или трех слов, затем к простой фразе и к сцеплению фраз, еще позже — к сложным предложениям и к связной, состоящей из развернутого ряда предложений речи. Ребенок, таким образом, идет в овладении фазической стороной речи от частей к целому. Но известно также, что по значению первое слово ребенка есть целая фраза — односложное предложение. В развитии семантической стороны речи ребенок начинает с целого, с предложения, и только позже переходит к овладению частными смысловыми единицами, значениями отдельных слов, расчленяя свою слитную, выраженную в однословном предложении мысль на ряд отдельных, связанных между собой словесных значений. Таким образом, если охватить начальный и конечный моменты в развитии семантической и фазической сторон речи, можно легко убедиться, что это развитие идет в противоположных направлениях.
Смысловая сторона речи развивается от целого к части, от предложения к слову, а внешняя сторона речи идет от части к целому, от слова к предложению.
Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы убедить нас в необходимости различать движение смысловой и звучащей речи. Движения в том и другом плане не совпадают, сливаясь в одну линию, но могут совершаться, как показано в рассматриваемом нами случае, по противоположно направленным линиям. Это отнюдь не означает разрыва между обоими планами речи или автономности и независимости каждой из двух ее сторон. Напротив, различение обоих планов есть первый и необходимый шаг для установления их внутреннего единства. Единство их предполагает наличие своего движения у каждой из двух сторон речи и наличие сложных отношений между движением той и другой. Но изучать отношения, лежащие в основе единства речи, возможно только после того, как мы с помощью анализа различили те стороны ее, между которыми только и могут существовать эти сложные отношения. Если бы обе стороны речи представляли собой одно и то же, совпадали друг с другом и сливались в одну линию, нельзя было бы вообще говорить ни
306
о каких отношениях во внутреннем строении речи, ибо невозможны никакие отношения вещи к самой себе. В нашем примере это внутреннее единство обеих сторон речи, имеющих противоположное направление в процессе детского развития, выступает с не меньшей ясностью, чем их несовпадение друг с другом. Мысль ребенка первоначально рождается как смутное и нерасчлененное целое, именно поэтому она должна найти свое выражение в речевой части в отдельном слове. Ребенок как бы выбирает для своей мысли речевое одеяние по мерке. В меру того, что мысль ребенка расчленяется и переходит к построению из отдельных частей, ребенок в речи переходит от частей к расчлененному целому. И обратно — в меру того, что ребенок в речи переходит от частей к расчлененному целому в предложении, он может и в мысли от нерасчлененного целого перейти к частям.
Таким образом, мысль и слово оказываются с самого начала вовсе не скроенными по одному образцу. В известном смысле можно сказать, что между ними существует скорее противоречие, чем согласованность. Речь по своему строению не представляет простого зеркального отражения строения мысли. Поэтому она не может надеваться на мысль, как готовое платье. Речь не служит выражением готовой мысли. Мысль, превращаясь в речь, перестраивается и видоизменяется. Мысль не выражается, но совершается в слове. Поэтому противоположно направленные процессы развития смысловой и звуковой сторон речи образуют подлинное единство именно благодаря противоположной направленности.
Другой, не менее капитальный факт относится к более поздней эпохе развития. Как мы упоминали, Пиаже установил, что ребенок раньше овладевает сложной структурой придаточного предложения с союзами «потому что», «несмотря на», «так как», «хотя», чем смысловыми структурами, соответствующими этим синтаксическим формам. Грамматика в развитии ребенка идет впереди его логики. Ребенок, который совершенно правильно и адекватно употребляет союзы, выражающие причинно-следственные, временны́е, противительные, условные и другие зависимости, в спонтанной речи и в соответствующей ситуации, еще на всем протяжении школьного возраста не осознает смысловой стороны этих союзов и не умеет произвольно пользоваться ими. Это значит, что движения семантической и фазической сторон слова в овладении сложными синтаксическими структурами не совпадают в развитии. Анализ слова мог бы показать, что это несовпадение грамматики и логики в развитии детской речи опять, как и в прежнем случае, не только не исключает их единства, но, напротив, только оно и делает возможным это внутреннее единство значения и слова, выражающее сложные логические отношения.
367
Менее непосредственно, но зато еще более рельефно выступает несовпадение семантической и фазической[98] сторон речи в функционировании развитой мысли. Для того чтобы обнаружить это, мы должны перевести свое рассмотрение из генетического плана в функциональный. Но прежде заметим, что уже факты, почерпнутые нами из генезиса речи, позволяют сделать некоторые существенные выводы м в функциональном отношении. Если, как мы видели, развитие смысловой и звуковой сторон речи идет в противоположных направлениях на всем протяжении раннего детства, совершенно понятно, что в каждый данный момент, в какой бы точке мы ни стали рассматривать соотношения этих двух планов речи, между ними никогда не может оказаться полного совпадения.
Гораздо показательнее факты, непосредственно извлекаемые из функционального анализа речи. Эти факты хорошо известны современному психологически ориентированному языкознанию. Из всего ряда относящихся сюда фактов на первом месте должно быть поставлено несовпадение грамматического и психологического подлежащего и сказуемого.
Едва ли существует, говорит Г. Фослер, более неверный путь для истолкования душевного смысла какого-либо языкового явления, чем путь грамматической интерпретации. На этом пути неизбежно возникают ошибки понимания, обусловленные несоответствием психологического и грамматического членения речи. Л. Уланд77 начинает пролог к «Герцогу Эрнсту Швабскому» словами: «Суровое зрелище откроется перед вами». С точки зрения грамматической структуры «суровое зрелище» есть подлежащее, «откроется» — сказуемое. Но с точки зрения психологической структуры фразы, с точки зрения того, что хотел сказать поэт, «откроется» есть подлежащее, а «суровое зрелище» — сказуемое. Поэт хотел сказать этими словами: то, что пройдет перед вами, это трагедия. В сознании слушающего первым было представление о том, что перед ним пройдет зрелище. Это и есть то, о чем говорится в данной фразе, т. е. психологическое подлежащее. То новое, что высказано об этом подлежащем, есть представление о трагедии, которое и есть психологическое сказуемое.
Еще отчетливее это несовпадение грамматического и психологического подлежащего и сказуемого может быть пояснено на следующем примере. Возьмем фразу «Часы упали», в которой «часы» — подлежащее, «упали» — сказуемое, и представим себе, что эта фраза произносится дважды в различной ситуации и, следовательно, выражает в одной и той же форме две разные мысли. Я обращаю внимание на то, что часы остановились, и спрашиваю, почему это случилось. Мне отвечают: «Часы упали». В этом случае в моем сознании раньше было представление о часах, часы есть в этом случае психологическое подлежащее, то,
308
о чем говорится. Вторым возникло представление о том, что они упали. «Упали» есть в данном случае психологическое сказуемое, то, что говорится о подлежащем. В этом случае грамматическое и психологическое членение фразы совпадает, но оно может и не совпадать.
Работая за столом, я слышу шум от упавшего предмета и спрашиваю, что упало. Мне отвечают той же фразой: «Часы упали». В этом случае в сознании раньше было представление об упавшем. «Упали» есть то, о чем говорится в этой фразе, т. е. психологическое подлежащее. То, что говорится об этом подлежащем, что вторым возникает в сознании, есть представление — часы, которое и будет в данном случае психологическим сказуемым. В сущности эту мысль можно выразить так: «Упавшее есть часы». В этом случае и психологическое и грамматическое сказуемое совпали бы, в нашем же случае они не совпадают.
Анализ показывает, что в сложной фразе любой член предложения может стать психологическим сказуемым, и тогда он несет на себе логическое ударение, семантическая функция которого и заключается как раз в выделении психологического сказуемого. Грамматическая категория представляет до некоторой степени окаменение психологической, по мнению Г. Пауля78, и поэтому она нуждается в оживлении с помощью логического ударения, выявляющего ее семантический строй. Пауль показал, как за одной и той же грамматической структурой может скрываться самое разнородное душевное мнение. Быть может, соответствие между грамматическим и психологическим строем речи встречается не так часто, как мы полагаем. Скорее даже оно только постулируется нами и редко или никогда не осуществляется на самом деле. Везде — в фонетике, морфологии, лексике и в семантике, даже в ритмике, метрике и музыке — за грамматическими или формальными категориями скрываются психологические. Если в одном случае они, по-видимому, покрывают друг друга, то в других они опять расходятся. Можно говорить не только о психологических элементах формы и значениях, о психологических подлежащих и сказуемых, но с тем же правом можно говорить и о психологическом числе, роде, падеже, местоимении, превосходной степени, будущем времени и т. д. Наряду с грамматическими и формальными понятиями подлежащего, сказуемого, рода пришлось допустить существование их психологических двойников, или прообразов. То, что с точки зрения языка является ошибкой, может, если оно возникает из самобытной натуры, иметь художественную ценность. Пушкинское:
Как
уст румяных без улыбки,
Без
грамматической ошибки
Я русской речи не люблю —
309
имеет более глубокое значение, чем это обычно думают. Полное устранение несоответствий в пользу общего и, безусловно, правильного выражения достигается лишь по ту сторону языка и его навыков — в математике. Первым, кто увидел в математике мышление, происходящее из языка, но преодолевающее его, был, по-видимому, Декарт. Можно сказать только одно: наш обычный разговорный язык из-за присущих ему колебаний и несоответствий грамматического и психологического находится в состоянии подвижного равновесия между идеалами математической и фантастической гармонии и в непрестанном движении, которое мы называем эволюцией.
Все эти примеры приведены нами для того, чтобы показать несовпадение фазической и семантической сторон речи, вместе с тем они же показывают, что это несовпадение не только не исключает единства той и другой, но, напротив, с необходимостью предполагает это единство. Ведь это несоответствие не только не мешает осуществляться мысли в слове, но является необходимым условием для того, чтобы движение от мысли к слову могло реализоваться. Мы поясним на двух примерах, как изменения формальной и грамматической структур приводят к глубочайшему изменению всего смысла речи, для того чтобы осветить эту внутреннюю зависимость между двумя речевыми планами. И. А. Крылов в басне «Стрекоза и Муравей» заменил лафонтеновского кузнечика стрекозой, придав ей неприложимый к ней эпитет «попрыгунья». По-французски кузнечик женского рода и потому вполне годится для того, чтобы в его образе воплотить женское легкомыслие и беззаботность. Но по-русски в переводе «кузнечик и муравей» этот смысловой оттенок в изображении ветрености неизбежно пропадает, поэтому у Крылова грамматический род возобладал над реальным значением — кузнечик оказался стрекозой, сохранив тем не менее все признаки кузнечика (попрыгунья, пела, хотя стрекоза не прыгает и не поет). Адекватная передача всей полноты смысла требовала непременного сохранения и грамматической категории женского рода для персонажа басни.
Обратное случилось с переводом стихотворения Г. Гейне «Сосна и пальма». В немецком языке слово «сосна» мужского рода. Благодаря этому вся история приобретает символическое значение любви к женщине. Чтобы сохранить смысловой оттенок немецкого текста, Ф. И. Тютчев заменил сосну кедром — «кедр одинокий стоит». М. Ю. Лермонтов, переводя точно, лишил стихотворение этого смыслового оттенка и тем самым придал ему существенно иной смысл — более отвлеченный и обобщенный. Так, изменение одной, казалось бы, грамматической детали приводит при соответствующих условиях к изменению и всей смысловой стороны речи.
310
Если попытаться подвести итоги тому, что мы узнали из анализа двух планов речи, можно сказать, что несовпадение этих планов, наличие второго, внутреннего, плана речи, стоящего за словами, самостоятельность грамматики мысли, синтаксиса словесных значений заставляют нас в самом простом речевом высказывании видеть не раз навсегда данное, неподвижное и константное отношение между смысловой и звуковой сторонами речи, но движение, переход от синтаксиса значений к словесному синтаксису, превращение грамматики мысли в грамматику слов, видоизменение смысловой структуры при ее воплощении в словах.
Если же фазическая и семантическая стороны речи не совпадают, то очевидно, что речевое высказывание не может возникнуть сразу во всей своей полноте, так как семантический и словесный синтаксис возникают, как мы видели, не одновременно и совместно, а предполагают переход и движение от одного к другому. Но этот сложный процесс перехода от значений к звукам развивается, образуя одну из основных линий в совершенствовании речевого мышления. Это расчленение речи на семантику и фонологию не дано сразу и с самого начала, а возникает только в ходе развития: ребенок должен дифференцировать обе стороны речи, осознать их различие и природу каждой из них для того, чтобы сделать возможным то нисхождение по ступеням, которое, естественно, предполагается в живом процессе осмысленной речи. Первоначально мы встречаем у ребенка неосознанность словесных форм и словесных значений и недифференцированность тех и других. Слово и его звуковое строение воспринимаются ребенком как часть вещи или как свойство ее, неотделимое от ее других свойств. Это явление, по-видимому, присуще всякому примитивному языковому сознанию.
В. Гумбольдт79 приводит анекдот, в котором рассказывается, как простолюдин, слушая разговор студентов-астрономов о звездах, обратился к ним с вопросом: «Я понимаю, что с помощью всяких приборов людям удалось измерить расстояние от Земли до самых отдаленных звезд и узнать их расположение и движение. Но мне хотелось бы знать: как узнали названия звезд?» Он предполагал, что названия звезд могли быть узнаны только из них самих. Простые опыты с детьми показывают, что еще в дошкольном возрасте ребенок объясняет названия предметов их свойствами. «Корова называется “корова”, потому что у нее рога, “теленок” — потому что у него рога еще маленькие, “лошадь” — потому что у нее нет рогов, “собака” — потому что у нее нет рогов и она маленькая, “автомобиль” — потому что он совсем не животное».
На вопрос, можно ли заменить название одного предмета другим, например корову назвать чернилами, а чернила —
311
коровой, дети отвечают, что это совершенно невозможно, потому что чернилами пишут, а корова дает молоко. Перенос имени означает как бы и перенос свойства одной вещи на другую, настолько тесно и неразрывно связаны между собой свойства вещи и ее название. Как трудно переносить ребенку название одной вещи на другую, видно из опытов, в которых по инструкции устанавливаются условные названия предметов. В опыте заменяются названия «корова — собака» и «окно — чернила». «Если у собаки рога есть, дает ли собака молоко?» — спрашивают у ребенка. «Дает». — «Есть ли у коровы рога?» — «Есть». — «Корова — это же собака, а разве у собаки есть рога?» — «Конечно, раз собака — это корова, раз так называется — корова, то и рога должны быть. Раз называется корова, значит, и рога должны быть. У такой собаки, которая называется корова, маленькие рога обязательно должны быть».
Мы видим, как трудно ребенку отделить имя вещи от ее свойств и как свойства вещи следуют при перенесении за именем, как имущество за владельцем. Такие же результаты получаем при вопросах о свойствах чернил и окна при перемене их названий. Вначале следуют с большим затруднением правильные ответы, но на вопрос, прозрачны ли чернила, получаем отрицательный ответ. «Но ведь чернила — это окно, окно — чернила». — «Значит, чернила — все-таки чернила и непрозрачные».
Мы хотели этим примером проиллюстрировать то положение, что звуковая и слуховая сторона слова для ребенка представляют непосредственное единство, недифференцированное и неосознанное. Одна из важнейших линий речевого развития ребенка как раз и состоит в том, что это единство начинает дифференцироваться и осознаваться. Таким образом, в начале развития имеет место слияние обоих планов речи и постепенное их разделение, так что дистанция между ними увеличивается вместе с возрастом и каждой ступени в развитии словесных значений и их осознанности соответствует свое специфическое отношение семантической и фазической сторон речи и свой специфический путь перехода от значения к звуку. Недостаточная дифференцированность обоих речевых планов связана с ограниченностью возможности выражения мысли и понимания ее в ранних возрастах.
Если мы примем во внимание то, что было сказано в начале нашего исследования о коммуникативной функции значений, станет ясно, что общение ребенка с помощью речи находится в непосредственной связи с дифференциацией словесных значений в его речи и их осознанием.
Для уяснения этой мысли мы должны остановиться на чрезвычайно существенной особенности значений слов, которую мы уже упоминали при анализе результатов наших экспериментов.
312
Мы различали в семантической структуре слова его предметную отнесенность и его значение и стремились показать, что то и другое не совпадают. С функциональной стороны это привело нас к различению индикативной и номинативной функции слова, с одной стороны, и его сигнификативной функции, с другой. Если мы сравним эти структурные и функциональные отношения в начале, середине и в конце развития, мы сумеем убедиться в наличии следующей генетической закономерности. В начале развития в структуре слова существует исключительно его предметная отнесенность, а из функций — только индикативная и номинативная. Значение, независимое от предметной отнесенности, и сигнификация, независимая от указания и наименования предмета, возникают позже и развиваются по тем путям, которые мы пытались проследить и обрисовать выше.
При этом оказывается, что с самого начала возникновения этих структурных и функциональных особенностей слова они у ребенка отклоняются по сравнению с особенностями слов в обе противоположные стороны. С одной стороны, предметная отнесенность слова выражена у ребенка гораздо ярче и сильнее, чем у взрослого: для ребенка слово представляет часть вещи, одно из ее свойств, оно неизмеримо теснее связано с предметом, чем слово взрослого. Это и обусловливает гораздо больший удельный вес предметной отнесенности в детском слове. С другой стороны, именно из-за того, что слово связано у ребенка с предметом теснее, чем у нас, и представляет как бы часть вещи, оно легче, чем у взрослого, может оторваться от предмета, заместить его в мыслях и жить самостоятельной жизнью. Таким образом, недостаточная дифференцированность предметной отнесенности и значения слова приводит к тому, что слово ребенка одновременно и ближе к действительности и дальше от нее, чем слово взрослого. Ребенок первоначально не дифференцирует словесного значения и предмета, значения и звуковой формы слова. В ходе развития эта дифференциация происходит в меру развития обобщения, и в конце развития, там, где мы встречаемся уже с подлинными понятиями, возникают все те сложные отношения между расчлененными планами речи, о которых мы говорили выше.
Эта растущая с годами дифференциация двух речевых планов сопровождается и развитием того пути, который проделывает мысль при превращении синтаксиса значений в синтаксис слов. Мысль накладывает печать логического ударения на одно из слов фразы, выделяя тем психологическое сказуемое, без которого любая фраза становится непонятной. Говорение требует перехода из внутреннего плана во внешний, а понимание предполагает обратное движение — от внешнего плана речи к внутреннему.
313
Но мы должны сделать еще один шаг по намеченному пути и проникнуть несколько глубже во внутреннюю сторону речи. Семантический план речи есть только начальный и первый из всех ее внутренних планов. За ним перед исследователем раскрывается план внутренней речи. Без правильного понимания ее психологической природы нет и не может быть никакой возможности выяснить отношения мысли к слову в их действительной сложности. Эта проблема представляется едва ли не самой запутанной из всех вопросов, относящихся к учению о мышлении и речи.
Путаница начинается с терминологической неясности. Термин «внутренняя речь», или «эндофазия», прилагается в литературе к самым различным явлениям. Отсюда возникает целый ряд недоразумений, так как исследователи спорят часто о разных вещах, обозначая их одним и тем же термином. Нет возможности привести в какую-либо систему наши знания о природе внутренней речи, если раньше не попытаться внести терминологическую ясность в этот вопрос. Так как эта работа никем еще не проделана, то неудивительно, что мы не имеем до сих пор ни у одного из авторов сколько-нибудь систематического изложения даже простых фактических данных о природе внутренней речи.
По-видимому, первоначальным значением этого термина было понимание внутренней речи как вербальной памяти. Я могу прочитать наизусть заученное стихотворение, но я могу и воспроизвести его только в памяти. Слово может быть так же заменено представлением о нем или образом памяти, как и всякий другой предмет. В этом случае внутренняя речь отличается от внешней точно так же, как представление о предмете отличается от реального предмета. Именно в этом смысле понимали внутреннюю речь французские авторы, изучая, в каких образах памяти — акустических, оптических, моторных и синтетических — реализуется это воспоминание слов. Как мы увидим ниже, память представляет один из моментов, определяющих природу внутренней речи. Но сама по себе она, конечно, не только не исчерпывает этого понятия, но и не совпадает с ним непосредственно. У старых авторов мы находим всегда знак равенства между воспроизведением слов по памяти и внутренней речью. На самом же деле это два разных процесса, которые следует различать.
Второе значение термина «внутренняя речь» связывается с сокращением обычного речевого акта. Внутренней речью называют в этом случае непроизносимую, незвучащую, немую речь, т. е. речь минус звук, по известному определению Миллера. По
314
мнению Д. Уотсона, она представляет собой ту же внешнюю речь, но только не доведенную до конца. В. М. Бехтерев80 определял ее как не выявленный в двигательной части речевой рефлекс, И. М. Сеченов81 — как рефлекс, оборванный на двух третях своего пути. И это понимание внутренней речи может входить в качестве одного из подчиненных моментов в научное понятие внутренней речи, но и оно, так же как первое, не только не исчерпывает всего понятия, но и не совпадает с ним вовсе. Беззвучно произносить какие-либо слова еще ни в какой мере не означает процессов внутренней речи. В последнее время Шиллинг предложил «говорение», обозначая последним термином содержание, которое вкладывали в понятие внутренней речи только что упомянутые авторы. От внутренней речи это понятие отличается количественно тем, что оно имеет в виду только активные, а не пассивные процессы речевой деятельности, и качественно тем, что оно имеет в виду начально моторную деятельность речевой функции. Внутреннее говорение с этой точки зрения есть частичная функция внутренней речи, речедвигательный акт инициального характера, импульсы которого не находят вовсе выражения в. артикуляционных движениях или проявляются в неясно выряженных и беззвучных движениях, но которые сопровождают, подкрепляют или тормозят мыслительную функцию.
Наконец, третье и наиболее расплывчатое из всех пониманий этого термина придает внутренней речи чрезвычайно расширительное толкование. Не будем останавливаться на его истории, но обрисуем кратко то его современное состояние, с которым мы сталкиваемся в работах многих авторов.
Внутренней речью К. Гольдштейн82 называет все, что предшествует моторному акту говорения, всю вообще внутреннюю сторону речи, в которой он различает два момента: во-первых, внутреннюю речевую форму лингвиста, или мотивы речи В. Вундта, и, во-вторых, наличие того ближайшим образом неопределенного, не сенсорного или моторного, но специфически речевого переживания, которое так же хорошо известно всякому, как и не поддается точной характеристике. Соединяя, таким образом, в понятии внутренней речи всю внутреннюю сторону всякой речевой деятельности, смешивая воедино понимание внутренней речи французскими авторами и слово-понятие немецкими, Гольдштейн выдвигает ее в центр всей речи. Здесь верна негативная сторона определения, а именно указание, что сенсорные и моторные процессы имеют во внутренней речи подчиненное значение, но очень запутана и потому неверна позитивная сторона. Нельзя не возражать против отождествления центрального пункта всей речи с интуитивно постигаемым переживанием, не поддающимся никакому функциональному, струк-
315
турному и вообще объективному анализу, как нельзя не возражать и против отождествления этого переживания с внутренней речью, в которой тонут и растворяются без остатка хорошо различаемые с помощью психологического анализа отдельные структурные планы. Это центральное речевое переживание является общим для любого вида речевой деятельности и уже благодаря лишь этому совершенно не годится для выделения той специфической и своеобразной речевой функции, которая одна только и заслуживает названия внутренней речи. В сущности говоря, если быть последовательным и довести точку зрения Гольдштейна до конца, надо признать, что его внутренняя речь есть вовсе не речь, а мыслительная и аффективно-волевая деятельность, так как она включает в себя мотивы речи и мысль, выражаемую в слове. В лучшем случае она охватывает в нерасчлененном виде все внутренние процессы, протекающие до момента говорения, т. е. всю внутреннюю сторону внешней речи.
Правильное понимание внутренней речи должно исходить из того положения, что внутренняя речь есть особое по психологической природе образование, особый вид речевой деятельности, имеющий совершенно специфические особенности и состоящий в сложном отношении к другим видам речевой деятельности. Для того чтобы изучить эти отношения внутренней речи, с одной стороны, к мысли и, с другой — к слову, необходимо прежде всего найти ее специфические отличия от того и другого и выяснить ее совершенно особую функцию. Небезразлично, думается нам, говорю ли я себе или другим. Внутренняя речь есть речь для себя. Внешняя речь есть речь для других. Нельзя допустить, что это коренное и фундаментальное различие в функциях той и другой речи может остаться без последствий для структурной природы обеих речевых функций. Поэтому, думается нам, неправильно рассматривать, как это делают Д. Джексон и Г. Хэд, внутреннюю речь как отличающуюся от внешней по степени, а не по природе. Дело здесь не в вокализации. Само наличие или отсутствие вокализации есть не причина, объясняющая нам природу внутренней речи, а следствие, вытекающее из этой природы. В известном смысле можно сказать, что внутренняя речь не только не есть то, что предшествует внешней речи или воспроизводит ее в памяти, но противоположна внешней. Внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова, ее материализация и объективация. Внутренняя — обратный по направлению процесс, идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль*. Отсюда и структура этой речи со всеми ее отличиями от структуры внешней речи.
316
Внутренняя речь представляет собой едва ли не самую трудную область исследования психологии. Именно поэтому мы находим в учении о внутренней речи огромное количество совершенно произвольных конструкций и умозрительных построений и не располагаем почти никакими возможными фактическими данными. Эксперимент к этой проблеме прилагался лишь показательный. Исследователи пытались уловить наличие едва заметных, в лучшем случае третьестепенных по значению и во всяком случае лежащих вне центрального ядра внутренней речи, сопутствующих двигательных изменений в артикуляции и дыхании. Проблема эта оставалась почти недоступной для эксперимента до тех пор, пока к ней не удалось применить генетический метод. Развитие и здесь оказалось ключом к пониманию одной из сложнейших внутренних функций человеческого сознания. Поэтому нахождение адекватного метода исследования внутренней речи сдвинуло фактически всю проблему с мертвой точки. Мы остановимся поэтому прежде всего на методе.
Ж. Пиаже, по-видимому, первый обратил внимание на особую функцию эгоцентрической речи ребенка и сумел оценить ее теоретическое значение. Заслуга его заключается в том, что он не прошел мимо этого повседневно повторяющегося, знакомого каждому, кто видел ребенка, факта, а пытался изучить его и теоретически осмыслить. Но Пиаже остался совершенно слеп к самому важному, что заключает в себе эгоцентрическая речь, именно к ее генетическому родству и связи с внутренней речью, и вследствие этого ложно истолковал ее собственную природу с функциональной, структурной и генетической сторон.
Мы в наших исследованиях внутренней речи выдвинули в центр, отталкиваясь от Пиаже, именно проблему отношения эгоцентрической речи с внутренней речью. Это, думается нам, привело впервые к возможности с небывалой полнотой изучить природу внутренней речи экспериментальным путем.
Мы изложили выше все основные соображения, заставляющие нас прийти к выводу, что эгоцентрическая речь представляет собой ряд ступеней, предшествующих развитию внутренней речи. Напомним, что эти соображения были троякого характера: функционального (мы нашли, что эгоцентрическая речь выполняет интеллектуальные функции подобно внутренней), структурного (мы нашли, что эгоцентрическая речь по строению приближается к внутренней) и генетического (мы сопоставили наблюдаемый Пиаже факт отмирания эгоцентрической речи к моменту наступления школьного возраста с рядом фактов, заставляющих отнести к этому же моменту начало развития внутренней речи, и сделали отсюда заключение, что на пороге школьного возраста происходит не отмирание эгоцентрической речи, а ее переход и перерастание во внутреннюю речь). Эта новая рабо-
317
чая гипотеза о структуре, функции и судьбе эгоцентрической речи дала нам возможность не только перестроить радикальным образом все учение об эгоцентрической речи, но и проникнуть в глубину вопроса о природе внутренней речи. Если наше предположение, что эгоцентрическая речь представляет собой ранние формы внутренней речи, заслуживает доверия, то тем самым решается вопрос о методе исследования внутренней речи.
Эгоцентрическая речь в этом случае ключ к исследованию внутренней речи. Первое удобство заключается в том, что она представляет собой еще вокализованную, звучащую речь, т. е. речь внешнюю по способу проявления и вместе с тем внутреннюю по функциям и структуре. При исследовании сложных внутренних процессов для того, чтобы экспериментировать, объективизировать наблюдаемый внутренний процесс, приходится специально создавать его внешнюю сторону, связывая его с какой-либо внешней деятельностью, выносить его наружу. Это позволяет сделать возможным его объективно-функциональный анализ, основывающийся па наблюдениях внешней стороны внутреннего процесса. Но в случае эгоцентрической речи мы имеем дело как бы с естественным экспериментом, построенным по этому типу. Это есть доступная прямому наблюдению и экспериментированию внутренняя речь, т. е внутренний по природе и внешний по проявлениям процесс. В этом главная причина того, почему изучение эгоцентрической речи и является в наших глазах основным методом исследования внутренней речи.
Второе преимущество метода состоит в том, что он позволяет изучить эгоцентрическую речь не статически, а динамически, в процессе ее развития, постепенного убывания одних ее особенностей и медленного нарастания других. Благодаря этому возникает возможность судить о тенденциях развития внутренней речи, анализировать то, что для нее несущественно я что отпадает в ходе развития, как и то, что для нее существенно и что в ходе развития усиливается и нарастает. И наконец, возникает возможность, изучая генетические тенденции внутренней речи, заключить с помощью методов интерполяции, что́ представляет собой движение от эгоцентрической речи к внутренней в пределе, т. е. какова природа внутренней речи.
Прежде чем перейти к изложению основных результатов, которые мы добыли с помощью этого метода, остановимся на общем понимании природы эгоцентрической речи, для того чтобы окончательно уяснить теоретическую основу нашего метода. При изложении будем исходить из противопоставления двух теорий эгоцентрической речи — Пиаже и нашей. Согласно учению Пиаже, эгоцентрическая речь ребенка представляет собой прямое выражение эгоцентризма детской мысля, который, в свою очередь, является компромиссом между изначальным
318
аутизмом детского мышления и постепенной его социализацией — компромиссом, особым для каждой возрастной ступени, так сказать, динамическим компромиссом, где по мере развития ребенка убывают элементы аутизма и нарастают элементы социализованной мысли, благодаря чему эгоцентризм в мышлении, как и в речи, постепенно сходит на нет.
Из такого понимания природы эгоцентрической речи вытекает воззрение Пиаже на структуру, функцию и судьбу этого вида речи. В эгоцентрической речи ребенок не должен приспосабливаться к мысли взрослого; поэтому его мысль остается максимально эгоцентрической, что находит свое выражение в непонятности эгоцентрической речи для другого, в ее сокращенности и других структурных особенностях. По функции эгоцентрическая речь в этом случае не может быть ни чем иным, как простым аккомпанементом, сопровождающим основную мелодию детской деятельности и ничего не меняющим в самой этой мелодии. Это скорее сопутствующее явление, чем явление, имеющее самостоятельное функциональное значение. Эта речь не выполняет никакой функции в поведении и мышлении ребенка. И наконец, поскольку она является выражением детского эгоцентризма, а последний обречен на отмирание в ходе детского развития, естественно, что ее генетическая судьба есть тоже умирание, параллельное умиранию эгоцентризма в мысли ребенка. Поэтому развитие эгоцентрической речи идет по убывающей кривой, вершина которой расположена в начале развития и которая падает до нуля на пороге школьного возраста.
Таким образом, об эгоцентрической речи можно сказать словами Ф. Листа о вундеркиндах, что все ее будущее в прошлом. Она не имеет будущего. Она не возникает и не развивается вместе с ребенком, а отмирает и замирает, представляя собой скорее инволюционный по природе, чем эволюционный процесс. Если развитие эгоцентрической речи совершается по непрерывно затухающей кривой, естественно, что эта речь на всяком данном этапе детского развития возникает из недостаточной социализации детской речи, изначально индивидуальной, и является прямым выражением степени этой недостаточности и неполноты социализации.
Согласно противоположной теории, эгоцентрическая речь ребенка представляет собой один из феноменов перехода от интерпсихических функций к интрапсихическим, т. е. от форм социальной, коллективной деятельности ребенка к его индивидуальным функциям. Этот переход является общим законом, как мы показали в одной из наших прежних работ*, для развития
319
всех высших психических функций, которые возникают первоначально как формы деятельности в сотрудничестве и лишь затем переносятся ребенком в сферу своих психических форм деятельности. Речь для себя возникает путем дифференциации изначально социальной функции речи для других. Не постепенная социализация, вносимая в ребенка извне, но постепенная индивидуализация, возникающая на основе внутренней социальности ребенка, является главным трактом детского развития. В зависимости от этого изменяются и наши воззрения на вопрос о структуре, функции и судьбе эгоцентрической речи. Структура ее, представляется нам, развивается параллельно обособлению ее функций и в соответствии с ее функциями. Иначе говоря, приобретая новое назначение, речь, естественно, перестраивается и в структуре сообразно с новыми функциями. Мы ниже подробно остановимся на этих структурных особенностях. Скажем пока, что эти особенности не отмирают и не сглаживаются, не сходят на нет и не инволюционируют, по усиливаются и нарастают, эволюционируют и развиваются вместе с возрастом ребенка, так что развитие их, как и всей, впрочем, эгоцентрической речи, идет не по затухающей, а по восходящей кривой.
Функция эгоцентрической речи представляется нам в свете наших экспериментов родственной функции внутренней речи: это менее всего аккомпанемент, это самостоятельная мелодия, самостоятельная функция, служащая целям умственной ориентировки, осознания, преодоления затруднений и препятствий, соображения и мышления, это речь для себя, обслуживающая самым интимным образом мышление ребенка. И наконец, генетическая судьба эгоцентрической речи представляется нам менее всего похожей на ту, которую рисует Пиаже. Эгоцентрическая речь развивается не по затухающей, но по восходящей кривой. Ее развитие есть не инволюция, а истинная эволюция. Она менее всего напоминает те хорошо известные в биологии и педиатрии инволюционные процессы, которые проявляются в отмирании, как процессы рубцевания пупочной раны и отпадения пуповины или облитерация Боталлова протока и пупочной вены в период новорожденности. Гораздо больше она напоминает все процессы детского развития, направленные вперед и представляющие по своей природе конструктивные, созидательные, полные позитивного значения процессы развития. С точки зрения нашей гипотезы эгоцентрическая речь представляет собой речь внутреннюю по психической функции и внешнюю по структуре. Ее судьба — перерастание во внутреннюю речь.
По сравнению с гипотезой Пиаже эта гипотеза имеет в наших глазах ряд преимуществ. Она позволяет нам адекватнее и лучше объяснить с теоретической стороны структуру, функцию и судьбу эгоцентрической речи. Она лучше согласуется с найденными
320
нами экспериментальными фактами возрастания коэффициента эгоцентрической речи при затруднениях в деятельности, требующей осознания и размышления, фактами, необъяснимыми с точим зрения Пиаже.
Но самое главное и решающее ее преимущество состоит в том, что она дает удовлетворительное объяснение парадоксальному и необъяснимому иначе положению вещей, описанному Пиаже. В самом деле, согласно теории Пиаже, эгоцентрическая речь отмирает с возрастом, уменьшаясь количественно по мере развития ребенка. И мы вправе были бы ожидать, что ее структурные особенности также должны убывать, а не возрастать вместе с ее отмиранием, ибо трудно представить, чтобы отмирание охватывало только количественную сторону процесса и никак не отражалось на его внутреннем строении. При переходе от 3 к 7 годам, т. е. от высшей к низшей точке в развитии эгоцентрической речи, эгоцентризм детской мысли уменьшается в огромной степени. Если структурные особенности эгоцентрической речи коренятся именно в эгоцентризме, естественно ожидать, что эти структурные особенности, находящие суммарное выражение в непонятности этой речи для других, будут так же стушевываться, постепенно сходя на нет, как и сами проявления этой речи. Короче говоря, следовало ожидать, что процесс отмирания эгоцентрической речи найдет свое выражение и в отмирании ее внутренних структурных особенностей, т. е. что эта речь и по внутреннему строению будет все более приближаться к социализованной речи и, следовательно, будет становиться все понятнее.
Что же говорят факты на этот счет? Чья речь более непонятна — трехлетки или семилетки? Одним из важнейших и самым решающим по значению фактическим результатом нашего исследования является установление того, что структурные особенности эгоцентрической речи, выражающие ее отклонения от социальной речи и обусловливающие ее непонятность для других, не убывают, а увеличиваются вместе с возрастом, что они минимальны в 3 года и максимальны в 7 лет, что они, следовательно, не отмирают, а эволюционируют, что они обнаруживают обратные закономерности развития по отношению к коэффициенту эгоцентрической речи. В то время как последний непрерывно падает в ходе развития, сходя на нет и равняясь нулю на пороге школьного возраста, эти структурные особенности проделывают развитие в противоположном направлении, поднимаясь почти от нуля в 3 года до почти стопроцентной по своеобразному строению совокупности структурных отличий.
Этот факт не только необъясним с точки зрения Пиаже, так как совершенно непонятно, каким образом процессы отмирания детского эгоцентризма и эгоцентрической речи и внутрен-
321
не присущие ей особенности могут так бурно расти, но он одновременно позволяет нам осветить и тот единственный факт, на котором Пиаже строит, как на краеугольном камне, всю теорию эгоцентрической речи, т. е. факт убывания коэффициента эгоцентрической речи по мере роста ребенка.
Что означает в сущности факт падения коэффициента эгоцентрической речи? Структурные особенности внутренней речи и ее функциональная дифференциация с внешней речью увеличиваются вместе с возрастом. Что же убывает? Падение эгоцентрической речи не говорит ни о чем кроме того, что убывает исключительно одна-единственная особенность этой речи, именно ее вокализация, звучание. Можно ли отсюда сделать вывод, что отмирание вокализации и звучания равносильно отмиранию всей эгоцентрической речи? Эта кажется нам недопустимым, потому что в этом случае становится совершенно необъяснимым факт развития ее структурных и функциональных особенностей. Наоборот, в свете этого фактора становится совершенно осмысленным и понятным само убывание коэффициента эгоцентрической речи. Противоречие между стремительным убыванием одного симптома эгоцентрической речи (вокализации) и столь же стремительным нарастанием других симптомов (структурной, функциональной дифференциации) оказывается только кажущимся, видимым, иллюзорным противоречием.
Будем рассуждать, исходя из несомненного, экспериментально установленного нами факта. Структурные и функциональные особенности эгоцентрической речи нарастают вместе с развитием ребенка. В 3 года отличие этой речи от коммуникативной речи почти равно нулю. В 7 лет перед нами речь, которая почти по всем функциональным и структурным особенностям отличается от социальной речи трехлетки. В этом факте находит выражение прогрессирующая с возрастом дифференциация двух речевых функций и обособление речи для себя и речи для других из общей, нерасчлененной речевой функции, выполняющей в раннем возрасте оба эти назначения почти совершенно одинаковым способом. Это несомненно. Это факт, а с фактами, как известно, трудно спорить.
Но если это так, все остальное становится понятным само собой. Если структурные и функциональные особенности эгоцентрической речи, т. е. ее внутреннее строение и способ ее деятельности, все больше и больше развиваются и обособляют ее от внешней речи, то совершенно в меру того как возрастают эти специфические особенности эгоцентрической речи, ее внешняя, звучащая сторона должна отмирать, ее вокализация должна стушевываться и сходить на нет, ее внешние проявления должны падать до нуля, что и находит выражение в убывании коэффициента эгоцентрической речи в период от 3 до 7 лет. По
322
мере обособления функции эгоцентрической речи, этой речи для себя, ее вокализация становится в той же мере функционально ненужной и бессмысленной (мы знаем свою задуманную фразу раньше, чем мы ее произнесли), а в меру нарастания структурных особенностей эгоцентрической речи вокализация ее в той же мере становится невозможной. Совершенно отличная по строению речь для себя никак не может найти своего выражения в совершенно чужеродной по природе структуре внешней речи; особая по строению форма речи, возникающая в этот период, необходимо должна иметь и особую форму выражения, так как фазическая сторона ее перестает совпадать с фазической стороной внешней речи. Нарастание функциональных особенностей эгоцентрической речи, ее обособление в качестве самостоятельной речевой функции, постепенное 'складывание и образование ее самобытной внутренней природы неизбежно приводят к тому, что эта речь становится беднее во внешних проявлениях, все больше отдаляется от внешней речи, все больше теряет свою вокализацию. И в известный момент развития, когда обособление эгоцентрической речи достигает необходимого предела, когда речь для себя окончательно отделится от речи для других, она должна перестать быть звучащей речью и, следовательно, должна создать иллюзию своего исчезновения и полного отмирания.
Но это есть именно иллюзия. Считать падение коэффициента эгоцентрической речи до нуля за симптом умирания эгоцентрической речи совершенно то же самое, что считать отмиранием счета тот момент, когда ребенок перестает пользоваться пальцами при перечислении и от счета вслух переходит к счету в уме. В сущности за этим симптомом отмирания, негативным, инволюционным симптомом, скрывается совершенно позитивное содержание. Падение коэффициента эгоцентрической речи, убывание ее вокализации, теснейшим образом связанные, как мы показали только что, с внутренним ростом и обособлением этого нового вида детской речи, являются только по видимости негативными, инволюционными симптомами. А по сути дела это эволюционные симптомы вперед идущего развития. За ними скрывается не отмирание, а нарождение новой формы речи.
На убывание внешних проявлений эгоцентрической речи следует смотреть как на проявление развивающейся абстракции от звуковой стороны речи, которая есть один из основных конституирующих признаков внутренней речи, как на прогрессирующую дифференциацию эгоцентрической речи от коммуникативной, как на признак развивающейся способности ребенка мыслить слова, представлять их, вместо того чтобы произносить, оперировать образом слова — вместо самого слова. В этом положительное значение симптома падения коэффициента эгоцен-
323
трической речи. Ведь это падение имеет совершенно определенный смысл: оно совершается в определенном направлении, причем в том же самом, в котором совершается развитие функциональных и структурных особенностей эгоцентрической речи, именно в направлении к внутренней речи. Коренным отличием внутренней речи от внешней является отсутствие вокализации.
Внутренняя речь есть немая, молчаливая речь. Это ее основное отличие. Именно в этом направлении, в постепенном нарастании этого отличия, и происходит эволюция эгоцентрической речи. Ее вокализация падает до нуля, она становится немой речью. Но так и должно быть, если эгоцентрическая речь представляет собой генетически ранние этапы в развитии внутренней речи. Тот факт, что этот признак развивается постепенно, что эгоцентрическая речь раньше обособляется в функциональном и структурном отношении, чем в отношении вокализации, указывает только на следующее: внутренняя речь развивается не путем внешнего ослабления звучащей стороны, переходя от речи к шепоту и от шепота к немой речи, а путем функционального и структурного обособления от внешней речи, переходя от нее к эгоцентрической и от эгоцентрической к внутренней речи. Это мы и положили в основу нашей гипотезы о развитии внутренней речи.
Таким образом, противоречие между отмиранием внешних проявлений эгоцентрической речи и нарастанием ее внутренних особенностей оказывается видимым противоречием. На деле за падением коэффициента эгоцентрической речи скрывается положительное развитие одной из центральных особенностей внутренней речи — абстракции от звуковой стороны речи и окончательной дифференциации внутренней и внешней речи. Следовательно, все три основные группы признаков (функциональные, структурные и генетические), все известные нам факты из области развития эгоцентрической речи (в том числе и факты Пиаже) согласно говорят об одном и том же: эгоцентрическая речь развивается в направлении к внутренней речи, и весь ход ее развития не может быть понят иначе, как ход постепенного прогрессивного нарастания всех основных отличительных свойств внутренней речи.
В этом мы видим неопровержимое подтверждение развиваемой нами гипотезы о происхождении и природе эгоцентрической речи и столь же бесспорное доказательство в пользу того, что изучение эгоцентрической речи является основным методом к познанию природы внутренней речи. Но для того чтобы наше гипотетическое предположение превратилось в теоретическую достоверность, должны быть найдены возможности для критического эксперимента, который мог бы с несомненностью ре-
324
шить, которое из двух противоположных пониманий процесса развития эгоцентрической речи соответствует действительности. Рассмотрим данные этого критического эксперимента.
Напомним теоретическую ситуацию, которую призван был разрешить наш эксперимент. Согласно мнению Пиаже, эгоцентрическая речь возникает из недостаточной социализации изначально индивидуальной речи. Согласно нашему мнению, она возникает из недостаточной индивидуализации изначально социальной речи, из ее недостаточного обособления и дифференциации, из ее невыделенности. В первом случае эгоцентрическая речь — пункт на падающей кривой, кульминация которой лежит позади. Эгоцентрическая речь отмирает. В этом и состоит ее развитие. У нее есть только прошлое. Во втором случае эгоцентрическая речь — пункт на восходящей кривой, кульминационная точка которой лежит впереди. Она развивается во внутреннюю речь. У нее есть будущее. В первом случае речь для себя, т. е. внутренняя речь, вносится извне вместе с социализацией — так, как белая вода вытесняет красную по упомянутому уже нами принципу. Во втором случае речь для себя возникает из эгоцентрической, т. е. развивается изнутри.
Для того чтобы окончательно решить, какое из этих двух мнений справедливо, необходимо экспериментально выяснить направление, в котором будут действовать на эгоцентрическую речь ребенка двоякого рода изменения ситуации — ослабление социальных моментов ситуации, способствующих возникновению социальной речи, и их усиление. Все доказательства, которые мы приводили до сих пор в пользу нашего понимания эгоцентрической речи и против Пиаже, как ни велика их роль в наших глазах, имеют все же косвенное значение и зависят от общей интерпретации. Этот же эксперимент мог бы дать прямой ответ на интересующий нас вопрос. Поэтому мы и рассматриваем его как experimentum crucis.
В самом деле, если эгоцентрическая речь ребенка проистекает из эгоцентризма его мышления и недостаточной его социализации[99], то всякое ослабление социальных моментов в ситуации, всякое уединение ребенка и освобождение его от связи с коллективом, всякое содействие его психологической изоляции и утрате психологического контакта с другими людьми, всякое освобождение его от необходимости приспособляться к мыслям других и, следовательно, пользоваться социализованной речью необходимо должны привести к резкому повышению коэффициента эгоцентрической речи за счет социализованной, потому что все это должно создать максимально благоприятные условия для свободного и полного выявления недостаточности социализации мысли и речи ребенка. Если же эгоцентрическая речь проистекает из недостаточной дифференциации речи для себя от
325
речи для других, из недостаточной индивидуализации изначально социальной речи, из необособленности и невыделенности речи для себя из речи для других, то все изменения ситуации должны сказаться в резком падении эгоцентрической речи ребенка.
Таков был вопрос, стоявший перед нашим экспериментом. Отправными точками для его построения мы избрали моменты, отмеченные самим Пиаже в эгоцентрической речи и, следовательно, не представляющие никаких сомнений в смысле их фактической принадлежности к кругу изучаемых нами явлений.
Хотя Пиаже не придает этим моментам никакого теоретического значения, описывая их, скорее, как внешние признаки эгоцентрической речи, тем не менее нас с самого начала не могут не поразить три особенности этой речи: 1) то, что она представляет собой коллективный монолог, т. е. проявляется не иначе как в детском коллективе при наличии других детей, занятых той же деятельностью, а не тогда, когда ребенок остается сам с собой; 2) то, что этот коллективный монолог сопровождается, как отмечает сам Пиаже, иллюзией понимания; то, что ребенок верит и полагает, будто его ни к кому не обращенные эгоцентрические высказывания понимаются окружающими; 3) наконец, то, что эта речь для себя имеет характер внешней речи, совершенно напоминая социализованную речь, а не произносится шепотом, невнятно, про себя. Все эти три существенные особенности не могут быть случайны. Эгоцентрическая речь субъективно, с точки зрения самого ребенка, не отделена еще от социальной (иллюзия понимания), объективна от ситуации (коллективный монолог) и по форме (вокализация), не отделена и не обособлена от социальной речи. Уже это одно склоняет нашу мысль не в сторону учения о недостаточной социализации как источника эгоцентрической речи. Эти особенности говорят, скорее, в пользу слишком большой социализации и недостаточной обособленности речи для себя от речи для других. Ведь они говорят о том, что эгоцентрическая речь, речь для себя, протекает в объективных и субъективных условиях, свойственных социальной речи для других.
Наша оценка этих трех моментов не является следствием предвзятого мнения. Это видно из того, что к подобной оценке без всякого экспериментирования, только на основании интерпретации данных самого Пиаже, приходит А. Грюнбаум, на которого мы не можем не сослаться. В некоторых случаях, по его словам, поверхностное наблюдение заставляет думать, что ребенок целиком погружен в самого себя. Это ложное впечатление возникает из того, что мы ожидаем от трехлетнего ребенка логического отношения к окружающему. Так как этот род отношений к действительности несвойствен ребенку, мы легко до-
326
пускаем, что он живет погруженный в собственные мысли и фантазии и что ему свойственна эгоцентрическая установка. Дети 3—5 лет во время совместной игры заняты часто каждый только самим собой, говорят часто только каждый самому себе. Если издали это и производит впечатление разговора, то при ближайшем рассмотрении оказывается коллективным монологом, участники которого не прислушиваются друг к другу и друг другу не отвечают. Но в конечном счете и этот, казалось бы, ярчайший пример эгоцентрической установки ребенка является на самом деле доказательством социальной связанности детской психики. При коллективном монологе нет места намеренной изоляции от .коллектива или аутизму в смысле современной психиатрии, но есть то, что по психической структуре прямо противоположно этому. Пиаже, который подчеркивает эгоцентризм ребенка и делает его краеугольным камнем всего своего объяснения психических особенностей ребенка, должен все же признать: при коллективном монологе дети верят, что они говорят друг другу и что другие их слушают. Верно, что они ведут себя, как бы не обращая внимания на других. Но это происходит только потому, что они полагают: каждая их мысль, которая не выражена вовсе или выражена недостаточно, есть все же общее достояние.
Это и является, в глазах Грюнбаума, доказательством недостаточной обособленности индивидуальной психики ребенка от социального целого.
Но, повторяем снова, окончательное решение вопроса принадлежит не той шли иной интерпретации, а критическому эксперименту. Мы попытались в нашем эксперименте динамизировать те три особенности эгоцентрической речи, о которых говорили выше (вокализация, коллективный монолог, иллюзия понимания), усиливая их или ослабляя, для того чтобы получить ответ на интересующий нас вопрос о природе и происхождении эгоцентрической речи.
В первой серии экспериментов мы пытались уничтожить возникающую при эгоцентрической речи у ребенка иллюзию понимания его другими детьми. Для этого мы помещали ребенка, коэффициент эгоцентрической речи которого был нами предварительно измерен в ситуации совершенно сходной с опытами Пиаже, в другую ситуацию: либо организовывали его деятельность в коллективе глухонемых детей, либо помещали его в коллектив детей, говорящих на иностранном языке. В остальном ситуация оставалась неизменной как по структуре, так и во всех деталях. Переменной величиной в эксперименте являлась только иллюзия понимания, естественно возникавшая в первой и исключенная во второй ситуации. Как же вела себя эгоцентрическая речь при исключении иллюзии понимания? Коэффициент ее в
327
критическом опыте без иллюзии понимания стремительно падал, в большинстве случаев достигая нуля и в остальных случаях сокращаясь в среднем в 8 раз.
Эти опыты не оставляют сомнения в том, что иллюзия понимания не случайна, что она не является побочным и незначащим придатком, эпифеноменом по отношению к эгоцентрической речи, а функционально неразрывно связана с ней. С точки зрения теории Пиаже, найденные нами результаты не могут не показаться парадоксальными. Чем менее выражен психологический контакт между ребенком и окружающими его детьми, чем более ослаблена его связь с коллективом, чем менее ситуация предъявляет требования к социализованной речи и к приспособлению своих мыслей к мыслям других, тем свободнее должен выявляться эгоцентризм в мышлении, а следовательно, и в речи ребенка.
К этому выводу мы необходимо должны были бы прийти, если бы эгоцентрическая речь ребенка действительно проистекала из недостаточной социализации его мысли и речи. В этом случае выключение иллюзии понимания должно было не снизить, как это имеет место на деле, а повысить коэффициент эгоцентрической речи. Но с точки зрения защищаемой нами гипотезы эти экспериментальные данные, думается нам, невозможно рассматривать иначе как прямое доказательство того, что недостаточная индивидуализация речи для себя, невыделенность ее из речи для других — истинный источник эгоцентрической речи, которая самостоятельно и вне социальной речи не может жить и функционировать[100].
Достаточно исключить иллюзию понимания, этот важнейший психологический момент всякой социальной речи, как эгоцентрическая речь замирает.
Во второй серии экспериментов мы ввели в качестве переменной величины при переходе от основного к критическому опыту коллективный монолог ребенка. Снова первоначально измерялся коэффициент эгоцентрической речи в основной ситуации, в которой этот феномен проявлялся в форме коллективного монолога. Затем деятельность ребенка переносилась в ситуацию, где возможность коллективного монолога исключалась (ребенок помещался в среду незнакомых для него детей, с которыми он не вступал в разговор ни до, ни после, ни во время опыта, или помещался изолированно от детей, за другим столом в углу комнаты, или работал совсем один, вне коллектива, или, наконец, при такой работе вне коллектива экспериментатор в середине опыта выходил, оставляя ребенка совсем одного, но сохраняя возможность видеть и слышать его). Общие результаты этих опытов совершенно согласуются с теми, к которым нас привела первая серия экспериментов. Уничтожение
328
коллективного монолога в ситуации, которая в остальном остается неизменной, приводит, как правило, к резкому падению коэффициента эгоцентрической речи, хотя это снижение во втором случае обнаруживалось в несколько менее рельефных формах, чем в первом. Коэффициент резко падал до нуля. Среднее отношение коэффициента в первой и во второй ситуациях составляло 6: 1. Различные приемы исключения коллективного монолога из ситуации обнаружили явную градацию в снижении эгоцентрической речи. Но основная тенденция к снижению ее коэффициента была во второй серии выявлена с очевидностью.
Мы поэтому могли бы повторить только что развитые рассуждения относительно первой серии. Очевидно, коллективный монолог не случайное и побочное явление, не эпифеномен по отношению к эгоцентрической речи, а функционально неразрывно связанное с ней. С точки зрения оспариваемой нами гипотезы это снова парадокс. Исключение коллектива должно было бы дать простор и свободу для выявления эгоцентрической речи и привести к быстрому нарастанию ее коэффициента, если эта речь для себя действительно проистекает из недостаточной социализации детского мышления и речи. Но наши данные не только парадоксальны, но снова представляют собой логически необходимый вывод из защищаемой нами гипотезы: если в основе эгоцентрической речи лежит недостаточная дифференциация, недостаточная расчлененность речи для себя и речи для других, необходимо предположить, что исключение коллективного монолога необходимо должно привести к падению коэффициента эгоцентрической речи ребенка. Факты всецело подтверждают это предположение.
Наконец, в третьей серии экспериментов мы выбрали в качестве переменной величины при переходе от основного к критическому опыту вокализацию эгоцентрической речи. После измерения коэффициента эгоцентрической речи в основной ситуации ребенок переводился в другую ситуацию, где была затруднена или исключена возможность вокализации. Ребенка усаживали на далекое расстояние от других детей, также рассаженных с большими промежутками в большом зале, или за стенами лаборатории, в которой шел опыт, играл оркестр или производился шум, совершенно заглушавший не только чужой, но и собственный голос; наконец, ребенку специальной инструкцией запрещалось говорить громко и предлагалось вести разговор не иначе, как тихим или беззвучным шепотом. Во всех критических опытах мы снова наблюдали с поразительной закономерностью то же самое, что и в первых двух случаях: стремительное паление кривой коэффициента эгоцентрической речи. Правда, в этих опытах снижение коэффициента было выражено несколько сложнее, чем во второй серии (отношение коэффициента в основ-
329
ном и критическом опытах выражалось 5(4) : 1); градация при различных способах исключения или затруднения вокализации была выражена еще резче, чем во второй серии. Но основная закономерность, выражающаяся в снижении коэффициента эгоцентрической[101] речи при исключении вокализации, проступает и в этих опытах с очевидной несомненностью. И снова мы не можем рассматривать эти данные иначе, как парадокс с точки зрения гипотезы эгоцентризма, как сущность речи для себя, и иначе, как прямое подтверждение гипотезы внутренней речи, как сущность речи для себя у детей, не овладевших еще внутренней речью в собственном смысле слова.
Во всех трех сериях мы преследовали одну и ту же цель: мы взяли за основу исследования те три феномена, которые возникают при всякой почти эгоцентрической речи ребенка (иллюзию понимания, коллективный монологи вокализацию). Все эти три феномена общие для эгоцентрической речи и для социальной. Мы экспериментально сравнили ситуации с наличием и отсутствием этих феноменов и увидели, что исключение этих моментов, сближающих речь для себя с речью для других, неизбежно приводит к замиранию эгоцентрической речи. Отсюда мы вправе сделать вывод, что эгоцентрическая речь ребенка есть выделившаяся уже в функциональном и структурном отношении особая форма речи, но по своему проявлению она еще не отделилась окончательно от социальной речи, в недрах которой все время развивалась и созревала.
Чтобы уяснить себе смысл развиваемой нами гипотезы, обратимся к воображаемому примеру: я сижу за рабочим столом и разговариваю с находящимся у меня за спиной человеком, которого я, естественно, при таком положении не вижу; незаметно для меня мой собеседник оставляет комнату; я продолжаю говорить, руководясь иллюзией, что меня слушают и понимают[102]. Моя речь в этом случае будет с внешней стороны напоминать эгоцентрическую речь, речь наедине с собой, речь для себя. Но психологически, по своей природе, она, конечно, является социальной речью. Сравним с этим примером эгоцентрическую речь ребенка. С точки зрения Пиаже, положение здесь будет обратное: психологически, субъективно, с точки зрения самого ребенка, его речь является эгоцентрической речью для себя, речью наедине с собой, и только по внешнему проявлению она является речью социальной. Ее социальный характер есть такая же иллюзия, как эгоцентрический характер моей речи в воображаемом примере.
С точки зрения развиваемой нами гипотезы положение здесь окажется гораздо более сложным: психологически речь ребенка в функциональном и структурном отношении эгоцентрическая речь, т. е. особая и самостоятельная форма речи, однако не до
330
конца, так как она в отношении свой психологической природы субъективна, не осознается еще как внутренняя речь и не выделяется ребенком из речи для других. И в объективном отношении эта речь представляет собой отдифференцированную от социальной речи функцию, но снова не до конца, так как она может функционировать только в ситуации, делающей социальную речь возможной. Таким образом, с субъективной и объективной сторон эта речь представляет собой смешанную, переходную форму от речи для других к речи для себя, причем — и в этом заключается основная закономерность развития внутренней речи — речь для себя, внутренняя речь, становится внутренней больше по функции и по структуре, т. е. по своей психологической природе, чем по внешним формам проявления.
Мы, таким образом, приходим к подтверждению выдвинутого нами положения: исследование эгоцентрической речи и проявляющихся в ней динамических тенденций к нарастанию одних и ослаблению других ее особенностей, характеризующих ее функциональную и структурную природу, есть ключ к изучению психологической природы внутренней речи. Мы можем теперь перейти к изложению основных результатов наших исследований и к сжатой характеристике третьего из намеченных нами планов движения от мысли к слову — плана внутренней речи.
4
Изучение психологической природы внутренней речи с помощью того метода, который мы пытались обосновать экспериментально, привело нас к убеждению: внутреннюю речь следует рассматривать не как речь минус звук, а как совершенно особую и своеобразную по строению и способу функционирования речевую функцию, которая именно благодаря тому, что она организована совершенно иначе, чем внешняя речь, находится с этой последней в неразрывном динамическом единстве переходов из одного плана в другой. Первая и главнейшая особенность внутренней речи — ее совершенно особый синтаксис. Изучая синтаксис внутренней речи в эгоцентрической речи ребенка, мы подметили существенную особенность, которая обнаруживает несомненную динамическую тенденцию нарастания по мере развития эгоцентрической речи. Эта особенность заключается в кажущейся отрывочности, фрагментарности, сокращенности внутренней речи по сравнению с внешней.
В сущности говоря, это наблюдение не ново. Все, кто внимательно изучал внутреннюю речь даже с бихевиористской точки зрения, как Д. Уотсон, останавливались на этой особенности как на ее центральной, характерной черте. Только авторы, сводящие внутреннюю речь к воспроизведению в образах памяти
331
внешней речи, рассматривали внутреннюю речь как зеркальное отражение внешней[103]. Но дальше описательного и констатирующего изучения этой особенности никто, сколько мы знаем, не пошел. Больше того, даже описательный анализ этого основного феномена внутренней речи никем не был предпринят, так что целый ряд феноменов, подлежащих внутреннему расчленению, оказался смешанным в одну кучу, в один запутанный клубок благодаря тому, что во внешнем проявлении все эти различные феномены находят свое выражение в отрывочности и фрагментарности внутренней речи.
Мы попытались, идя генетическим путем, во-первых, расчленить запутанный клубок отдельных явлений, характеризующих природу внутренней речи, и, во-вторых, найти ему причины и объяснения. Основываясь на явлениях короткого замыкания, наблюдающегося при приобретении навыков, Уотсон полагает, будто то же самое происходит и при беззвучном говорении или мышлении. Даже если бы мы могли развернуть все скрытые процессы и записать их на чувствительной пластине или на цилиндре фонографа, все же в них имелось бы так много сокращений, коротких замыканий и экономии, что они были бы неузнаваемы, если только не проследить их образования от исходной точки, где они совершенны и социальны по характеру, до их конечной стадии, где они будут служить для индивидуальных, но не для социальных приспособлений. Внутренняя речь, таким образом, даже если мы могли бы записать ее на фонографе, оказалась бы сокращенной, отрывочной, бессвязной, неузнаваемой и непонятной по сравнению с внешней речью.
Совершенно аналогичное явление наблюдается в эгоцентрической речи ребенка с той только разницей, что это явление растет у нас на глазах, переходя от возраста к возрасту, и, таким образом, по мере приближения эгоцентрической речи к внутренней на пороге школьного возраста достигает максимума. Изучение динамики его нарастания не оставляет никаких сомнений в том, что, если продолжить эту кривую дальше, она в пределе должна привести нас к совершенной непонятности, отрывочности и сокращенности внутренней речи. Но вся выгода изучения эгоцентрической речи в том и заключается, что мы можем проследить шаг за шагом, как возникают эти особенности внутренней речи от первой до последней ступени. Эгоцентрическая речь также оказывается, как заметил Пиаже, непонятной, если не знать той ситуации, в которой она возникает, отрывочной и сокращенной по сравнению с внешней речью.
Постепенное прослеживание нарастания этих особенностей эгоцентрической речи позволяет расчленить и объяснить ее загадочные свойства. Генетическое исследование показывает прямо и непосредственно, как и из чего возникает сокращенность, на
332
которой мы остановимся как на первом и самостоятельном феномене. В виде общего закона мы могли бы сказать, что эгоцентрическая речь по мере развития обнаруживает не простую тенденцию к сокращению и опусканию слов, не простой переход к телеграфному стилю, но совершенно своеобразную тенденцию к сокращению фразы и предложения, где сохраняется сказуемое и относящиеся к нему части предложения за счет опускания подлежащего и относящихся к нему слов. Тенденция к предикативности синтаксиса внутренней речи проявлялась во всех наших опытах со строгой и почти не знающей исключений правильностью и закономерностью, так что в пределе мы, пользуясь методом интерполяции, должны предположить чистую и абсолютную предикативность как основную синтаксическую форму внутренней речи.
Чтобы уяснить себе эту особенность, первичную из всех, необходимо сравнить ее с аналогичной картиной, возникающей в определенных ситуациях во внешней речи. Чистая предикативность, как показывают наши наблюдения, возникает во внешней речи в двух основных случаях: или в ситуации ответа, или в ситуации, где подлежащее высказываемого суждения заранее известно собеседникам. На вопрос, хотите ли вы стакан чаю, никто не станет отвечать развернутой фразой: «Нет, я не хочу
стакана чаю». Ответ будет чисто предикативным: «Нет». Он будет заключать в себе только одно сказуемое. Очевидно, что такое предикативное предложение возможно только потому, что его подлежащее — то, о чем говорится в предложении, — подразумевалось собеседниками. Так же точно на вопрос: «Прочитал ли ваш брат эту книгу?» — никогда не последует ответ: «Да, мой брат прочитал эту книгу», а чисто предикативный ответ: «Да» или «Прочитал».
Совершенно аналогичное положение создается и во втором случае в ситуации, где подлежащее высказываемого суждения известно собеседникам. Представим, что несколько человек ожидают на остановке трамвай «Б», для того чтобы поехать в определенном направлении. Никогда кто-либо из людей, заметив приближающийся трамвай, не скажет в развернутом виде: «Трамвай «Б», который мы ожидаем, для того чтобы поехать туда-то, идет», но всегда высказывание[104] будет сокращено до одного сказуемого: «Идет» или «Б». Очевидно, что в этом случае предикативное предложение возникло в живой речи только потому, что подлежащее и относящиеся к нему слова непосредственно известны из ситуации, в которой находились собеседники.
Часто подобные предикативные суждения дают повод для комических недоразумений и всяческого рода квипрокво[105], вследствие того что слушатель относит высказанное сказуемое
333
не к тому подлежащему, которое имелось в виду говорящим, а к другому, содержащемуся в его мысли. В обоих случаях чистая предикативность возникает тогда, когда подлежащее высказываемого суждения содержится в мыслях собеседника. Если их мысли совпадают и оба имеют в виду одно и то же, тогда понимание осуществляется сполна при помощи одних сказуемых. Если в их мыслях сказуемое относится к разным подлежащим, возникает неизбежное непонимание.
Яркие примеры таких сокращений внешней речи и сведения ее к одним предикатам мы находим в романах Л. Н. Толстого, не раз возвращавшегося к психологии понимания. «Никто не расслышал того, что он (умирающий Николай Левин. — Л. В.) сказал, одна Кити поняла. Она понимала потому, что не переставая следила мыслью за тем, что ему нужно было» (1893, т. 10, с. 311). Мы могли бы сказать, что в ее мыслях, следивших за мыслью умирающего, было то подлежащее, к которому относилось никем не понятое его слово. Но пожалуй, самым замечательным примером является объяснение Кити и Левина посредством начальных букв слов. «Я давно хотел спросить у вас одну вещь». — «Пожалуйста, спросите». — «Вот, — сказал он и написал начальные буквы: К, В, М, О: Э, Н, М, Б, 3, Л, Э, Н, И, Т». Буквы эти значили: «Когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это никогда или тогда?». Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу. «Я поняла»,— сказала она, покраснев. «Какое это слово?» — сказал он, указывал на «Н», которым означалось слово «никогда». «Это слово значит «никогда», — сказала она, — но это неправда». Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: «Т, Я, Н, М, И, О». Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «Тогда я не могла иначе ответить». Она писала начальные буквы: «Ч, В, М, 3, И, П, Ч, Б». Это значило: «Чтобы вы могли забыть и простить, что было». Он схватил мел напряженными дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: «Мне нечего забывать и прощать. Я не переставал любить вас». —«Я поняла», — шепотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не опрашивая его, так ли, взяла мел и тотчас же ответила. Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог подставить те слова, которые она разумела; но в прелестных, сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ: да. В разговоре их все было сказано; было сказано, что она любит его и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром» (1893, т. 10, с, 145—146).
334
Этот пример имеет совершенно исключительное психологическое значение потому, что он, как и весь эпизод объяснения в любви Левина и Кити, заимствован Толстым из своей биографии. Именно таким образом он сам объяснился в любви С. А. Берс, своей будущей жене. Пример этот, как и предыдущий, имеет ближайшее отношение к интересующему нас явлению, центральному для всей внутренней речи: проблеме ее сокращенности. При одинаковости мыслей собеседников, при одинаковой направленности их сознания роль речевых раздражений сводится до минимума. Но между тем понимание происходит безошибочно. Толстой обращает внимание на то, что между людьми, живущими в тесном психологическом контакте, понимание с помощью только сокращенной речи, с полуслова является скорее правилом, чем исключением. «Левин уже привык теперь смело говорить свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова: он знал, что жена в такие любовные минуты, как теперь, поймет, что он хочет сказать, с намека, и она понимала его» (1893, т. 11, с. 13).
Изучение подобного рода сокращений в диалогической речи позволяет Л. П. Якубинскому83 сделать вывод: понимание догадкой и соответственно этому высказывание намеком при условии знания, в чем дело, известная общность апперципирующих масс у собеседников играет огромную роль при речевом обмене. Понимание речи требует знания, в чем дело. По мнению Е. Д. Поливанова84, в сущности все, что мы говорим, нуждается в слушателе, понимающем, в чем дело. Если бы все, что мы желаем высказать, заключалось в формальных значениях употребляемых слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в действительности. Мы говорим только необходимыми намеками. Якубинский совершенно прав, полагая, что в случаях этих сокращений разговор идет о своеобразии синтаксического строя речи, о его объективной простоте по сравнению с более дискурсивным говорением. Упрощенность синтаксиса, минимум синтаксической расчлененности, высказывание мысли в сгущенном виде, значительно меньшее количество слов — все это черты, характеризующие тенденцию к предикативности, как она проявляется во внешней речи при определенных ситуациях.
Полной противоположностью подобного рода понимания при упрощенном синтаксисе являются те комические случаи непонимания, о которых мы упоминали выше и которые послужили образцом для известной пародии на разговор двух глухих, где каждый совершенно разобщен с другим в своих мыслях.
Глухой
глухого звал к суду судьи глухого.
Глухой
кричал: моя им сведена корова!
Помилуй, возопил глухой ему в ответ:
335
Сей
пустошью владел еще покойный дед.
Судья
решил: чтоб не было разврата,
Жените
молодца, хоть девка виновата.
Если сопоставить эти два крайних случая — объяснение Кити с Левиным и суд глухих, мы найдем оба полюса, между которыми вращается интересующий нас феномен сокращенности внешней речи. При наличии общего подлежащего в мыслях собеседников понимание осуществляется сполна с помощью максимально сокращенной речи с крайне упрощенным синтаксисом; в противоположном случае понимание совершенно не достигается даже при развернутой речи. Так, иногда не удается сговориться между собой не только двум глухим, но и просто двум людям, вкладывающим разное содержание в одно и то же слово или стоящим на противоположных точках зрения. Как говорит Толстой, все люди, самобытно и уединенно думающие, туги к пониманию другой мысли и особенно пристрастны к своей. Наоборот, у людей, находящихся в контакте, возможно то понимание с полуслова, которое Толстой называет лаконическим и ясным, почти без слов, сообщением самых сложных мыслей.
5
Изучив на этих примерах феномен сокращенности во внешней речи, мы можем вернуться обогащенными к интересующему нас тому же феномену во внутренней речи. Здесь, как мы говорили неоднократно, этот феномен проявляется не только в исключительных ситуациях, но и всегда, когда имеет место функционирование внутренней речи. Значение этого феномена станет окончательно ясным, если мы обратимся к сравнению внешней речи с письменной, с одной стороны, и с внутренней, с другой[106].
По мысли Е. Д. Поливанова, если бы все, что мы желаем высказать, заключалось в формальных значениях употребленных нами слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в действительности. Но именно этот случай имеет место в письменной речи. Там в гораздо большей мере, чем в устной, высказываемая мысль выражается в формальных значениях употребленных нами слов. Письменная речь — речь в отсутствие собеседника. Поэтому она максимально развернута, в ней синтаксическая расчлененность достигает максимума. В ней благодаря разделенности собеседников редко возможны понимание с полуслова и предикативные суждения. Собеседники при письменной речи находятся в разных ситуациях, что исключает возможность наличия в их мыслях общего подлежащего. Поэтому письменная речь по сравнению с устной представляет в этом от-
336
ношении максимально развернутую и сложную по синтаксису форму речи, в которой нам нужно употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем в устной. Как говорит Г. Томпсон, в письменном изложении употребляются обыкновенно слова, выражения и конструкции, которые казались бы неестественными в устной речи. Грибоедовское «и говорит, как пишет» имеет в виду этот комизм перенесения многословного и синтаксически сложно построенного и расчлененного языка письменной речи в устную.
В последнее время в языкознании выдвинулась на одно из первых мест проблема функционального многообразия речи. Язык оказывается, даже с точки зрения лингвиста, не единой формой речевой деятельности, а совокупностью многообразных речевых функций. Рассмотрение языка с функциональной точки зрения, с точки зрения условий и цели речевого высказывания, стало в центре внимания исследователей. Уже В. Гумбольдт ясно осознал функциональное многообразие речи применительно к языку поэзии и прозы, которые в своем направлении и средствах отличны друг от друга и, собственно, никогда не могут слиться, потому что поэзия неразлучна с музыкой, а проза предоставлена исключительно языку. Проза, по Гумбольдту, отличается тем, что здесь язык пользуется своими собственными преимуществами, но подчиняя их законодательно господствующей цели; посредством подчинения и сочетания предложений в прозе совершенно особым образом развивается соответствующая развитию мысли логическая эвритмия, в которой прозаическая речь настраивается своей собственной целью. В том и другом виде речи язык имеет свои особенности в выборе выражений, в употреблении грамматических форм и синтаксических способов совокупления слов в речь.
Таким образом, мысль Гумбольдта заключается в следующем: различные по функциональному назначению формы речи имеют каждая свою особую лексику, свою грамматику и свой синтаксис. Это мысль величайшей важности. Хотя ни сам Гумбольдт, ни перенявший и развивший его мысль А. А. Потебня не оценили этого положения во всем его принципиальном значении и не пошли дальше различения поэзии и прозы, а внутри прозы — дальше различения образованного и обильного мыслями разговора и повседневной или условной болтовни, которая служит только сообщением о делах без возбуждения идей и ощущений, тем не менее их мысль, основательно забытая лингвистами и воскрешаемая в последнее время, имеет огромнейшее значение не только для лингвистики, но и для психологии языка. Как говорит Якубинский, самая постановка вопросов в такой плоскости чужда языкознанию и сочинения по общему языковедению этого вопроса не касаются.
337
Психология речи, так же как и лингвистика, идя своим самостоятельным путем, приводит нас к той же задаче различения функционального многообразия речи. В частности, для психологии речи, так же как и для лингвистики, первостепенное значение приобретает фундаментальное различение диалогической и монологической форм речи. Письменная и внутренняя речь, с которыми мы сравниваем в данном случае устную речь, — монологические формы речи. Устная же речь в большинстве случаев диалогическая.
Диалог всегда предполагает то знание собеседниками сути дела, которое, как мы видели, дозволяет целый ряд сокращений в устной речи и создает в определенных ситуациях чисто предикативные суждения. Диалог предполагает всегда зрительное восприятие собеседника, его мимики и жестов и акустическое восприятие всей интонационной стороны речи. То и другое, взятое вместе, допускает то понимание с полуслова, то общение с помощью намеков, примеры которого мы приводили. Только в устной речи возможен такой разговор, который, по выражению Г. Тарда85, является лишь дополнением к бросаемым друг на друга взглядам[107]. Так как мы уже говорили относительно тенденции устной речи к сокращению, мы остановимся только на акустической стороне речи и приведем классический пример из записей Ф. М. Достоевского86, который показывает, насколько интонация облегчает тонко дифференцированное понимание значения слов.
Ф. М. Достоевский рассказывает о языке пьяных, который состоит просто-напросто из одного нелексиконного существительного. «Однажды в воскресенье уже к ночи мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного. Вот один парень резко и энергически произносит это существительное, чтобы выразить о чем-то, о чем раньше у них общая речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле, именно в смысле полного сомнения в правильности отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут ввязывается опять второй парень в негодовании на третьего, на обидчика, и останавливает его в таком смысле: «Что дескать, что же ты так, парень, влетел. Мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся — лезешь Фильку ругать». И вот всю эту мысль он проговорил тем же самым словом, одним заповедным словом, тем
328
же крайне односложным названием одного предмета, разве что только поднял руку и взял третьего парня за плечо. Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть, вдруг отыскав разрешение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в восторге, приподнимая руку, кричит… Эврика, вы думаете? Нашел, нашел? Нет, совсем не эврика и не нашел; он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения, и, кажется, слишком уж сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню, это не понравилось, и он мигом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом…. да все то же самое, запрещенное при дамах существительное, что, впрочем, ясно и точно обозначало: «чего орешь, глотку дерешь». Итак, не проговоря ни единого другого слова, они повторили это одно только излюбленное ими словечко шесть раз кряду один за другим и поняли друг друга вполне. Это — факт, которому я был свидетелем» (1929, с. 111 —112)87.
Здесь мы видим в классической форме еще один источник, из которого берет начало тенденция к сокращенности устной речи. Первый источник мы нашли во взаимном понимании собеседников, условившихся заранее относительно подлежащего или темы всего разговора. В данном примере речь идет о другом. Можно, как говорит Достоевский, выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие размышления одним словом. Это оказывается возможным тогда, когда интонация передает внутренний психологический контекст, внутри которого только и может быть понят смысл данного слова. В разговоре, подслушанном Достоевским, этот контекст один раз заключается в самом презрительном отрицании, другой раз — в сомнении, третий — в негодовании и т. д. Очевидно, тогда, когда внутреннее содержание мысли может быть передано в интонации, речь обнаруживает самую резкую тенденцию к сокращению и целый разговор может произойти с помощью одного только слова.
Совершенно понятно, что оба эти момента, которые облегчают сокращение устной речи, — знание подлежащего и непосредственная передача мысли через интонацию — совершенно исключены письменной речью. Именно поэтому в письменной речи мы вынуждены употреблять для выражения одной и той же мысли гораздо больше слов, чем в устной. Поэтому письменная речь есть самая многословная, точная и развернутая форма речи. В ней приходится передавать словами то, что в устной речи передается с помощью интонации и непосредственного восприятия ситуации. Л. В. Щерба88 отмечает, что для устной речи диалог является самой естественной формой. Он полагает, что монолог
339
в значительной степени искусственная языковая форма и что подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге. Действительно, с психологической стороны диалогическая речь — первичная форма речи. Выражая ту же мысль, Якубинский говорит, что диалог, будучи, несомненно, явлением культуры, в то же время в большей мере явление природы, чем монолог. Для психологического исследования несомненно, что монолог представляет собой высшую, более сложную форму речи, исторически позднее развившуюся, чем диалог. Но нас сейчас интересует сравнение этих двух форм только в отношении тенденции к сокращению речи и редуцирования ее до чисто предикативных суждений.
Быстрота темпа устной речи не благоприятствует протеканию речевой деятельности в порядке сложного волевого действия, т. е. с обдумыванием, борьбой мотивов, выбором и пр., наоборот, быстрота темпа речи, скорее, предполагает протекание ее в порядке простого волевого действия, и притом с привычными элементами. Это последнее констатируется для диалога простым наблюдением; действительно, в отличие от монолога (и особенно письменного) диалогическое общение подразумевает высказывание сразу и даже как попало. Диалог — это речь, состоящая из реплик, это цепь реакций. Письменная речь, как мы видели, с самого начала связана с сознательностью и намеренностью. Поэтому диалог почти всегда заключает в себе возможность недосказывания, неполного высказывания, ненужности мобилизовать слова, которые должны бы были быть мобилизованы для обнаружения такого же мыслимого комплекса в условиях монологической речи. В противоположность композиционной простоте диалога монолог представляет определенную композиционную сложность, которая вводит речевые факты в светлое поле сознания, внимание гораздо легче -на них сосредоточивается. Здесь речевые отношения становятся определителями, источниками переживаний, появляющихся в сознании по поводу их самих (т. е. речевых отношений).
Совершенно понятно, что письменная речь представляет полярную противоположность устной. В письменной речи отсутствует заранее ясная для обоих собеседников ситуация и всякая возможность выразительной интонации, мимики и жеста. Следовательно, здесь заранее исключена возможность сокращений, о которых мы говорили по поводу устной речи. Здесь понимание производится за счет слов и их сочетаний. Письменная речь содействует протеканию речи в порядке сложной деятельности. На этом же основано и пользование черновиком. Путь от «начерна» к «набело» и есть путь сложной деятельности. Но даже при отсутствии фактического черновика момент обдумывания в письменной речи очень силен; мы очень часто скажем сначала
340
про себя, а потом пишем; здесь налицо мысленный черновик. Этот мысленный черновик письменной речи и есть, как мы постарались показать в предыдущей главе, внутренняя речь. Роль внутреннего черновика эта речь играет не только при письме, но и в устной речи. Поэтому мы должны остановиться сейчас на сравнении устной и письменной речи с внутренней речью относительно[108] интересующей нас тенденции к сокращению.
Мы видели, что в устной речи тенденция к сокращению и к чистой предикативности суждений возникает в двух случаях: когда ситуация, о которой идет речь, ясна обоим собеседникам и когда говорящий выражает психологический контекст высказываемого с помощью интонации. Оба эти случая совершенно исключены в письменной речи. Поэтому письменная речь не обнаруживает тенденции к предикативности и является самой развернутой формой речи. Но как обстоит дело в этом отношении 'С внутренней речью? Мы потому так подробно остановились на тенденции к предикативности устной речи, что анализ этих проявлений позволяет с полной ясностью выразить одно из самых темных, запутанных и сложных положений, к которому мы пришли в результате наших исследований внутренней речи, именно положение о предикативности внутренней речи, положение, которое имеет центральное значение для всех связанных с этим вопросом проблем. Если в устной речи тенденция к предикативности возникает иногда (в известных случаях довольно часто и закономерно), если в письменной речи она не возникает никогда, то во внутренней речи она возникает всегда. Предикативность — основная и единственная форма внутренней речи, которая вся состоит с психологической точки зрения из одних сказуемых, и притом здесь мы встречаемся не с относительным сохранением сказуемого за счет сокращения подлежащего, а с абсолютной предикативностью. Для письменной речи состоять из развернутых подлежащих и сказуемых есть закон, но такой же закон для внутренней речи — всегда опускать подлежащие и состоять из одних сказуемых.
На чем же основана эта полная и абсолютная, постоянно наблюдающаяся, как правило, чистая предикативность внутренней речи? Впервые мы могли ее установить в эксперименте просто как факт. Однако задача заключалась в том, чтобы обобщить, осмыслить и объяснить этот факт. Это мы сумели сделать, только наблюдая[109] динамику нарастания чистой предикативности от ее самых начальных до конечных форм и сопоставляя в теоретическом анализе эту динамику с тенденцией к сокращению в письменной и в устной речи с той же тенденцией в речи внутренней.
Мы начнем со второго пути — сопоставления внутренней речи с устной и письменной, тем более что этот путь уже пройден
341
нами почти до самого конца и подготовлено все для окончательного выяснения мысли. Дело заключается в том, что те же самые обстоятельства, которые создают иногда в устной речи возможность чисто предикативных суждений и которые совершенно отсутствуют в письменной речи, являются постоянными и неизменными спутниками внутренней речи, неотделимыми от нее. Поэтому та же самая тенденция к предикативности неизбежно должна возникать и, как показывает опыт, неизбежно возникает во внутренней речи в качестве постоянного явления, и притом в самой чистой и абсолютной форме. Поэтому если письменная речь полярно противоположна устной в смысле максимальной развернутости и полного отсутствия тех обстоятельств, которые вызывают опускание подлежащего в устной речи, то внутренняя речь также полярно противоположна устной, но в обратном отношении, так как в ней господствует абсолютная и постоянная предикативность. Устная речь, таким образом, занимает среднее место между речью письменной, с одной стороны, и внутренней, с другой.
Рассмотрим ближе эти обстоятельства, способствующие сокращению, применительно к внутренней речи. Напомним еще раз, что в устной речи возникают элизии и сокращения тогда, когда подлежащее высказываемого суждения заранее известно обоим собеседникам. Но такое положение — абсолютный и постоянный закон для внутренней речи. Мы всегда знаем, о чем идет речь в нашей внутренней речи. Мы всегда в курсе нашей внутренней ситуации. Тема нашего внутреннего диалога всегда известна нам. Мы знаем, о чем мы думаем. Подлежащее нашего внутреннего суждения всегда наличествует в наших мыслях. Оно всегда подразумевается. Пиаже как-то заметил, что себе самим мы легко верим на слово и поэтому потребность в доказательствах и умение обосновывать свою мысль рождаются только в процессе столкновения наших мыслей с чужими. С таким же правом мы могли бы сказать, что самих себя мы особенно легко понимаем с полуслова, с намека. В речи, которая протекает наедине с собой, мы всегда находимся в такой ситуации, которая время от времени, скорее как исключение, чем как правило, возникает в устном диалоге и примеры которой мы приводили. Если вернуться к этим примерам, можно сказать, что внутренняя речь всегда, как правило, протекает в такой ситуации, когда говорящий высказывает целые суждения на трамвайной остановке одним коротким сказуемым: «Б». Ведь мы всегда находимся в -курсе наших ожиданий и намерений. Наедине с собой нам никогда нет надобности прибегать к развернутым формулировкам: «Трамвай “Б”, которого мы ожидаем, чтобы поехать туда-то, идет». Здесь всегда оказывается необходимым и достаточным одно только сказуемое. Подлежащее всегда остается
342
в уме, подобно тому как школьник оставляет в уме при сложении переходящие за десяток остатки.
Больше того, во внутренней речи мы, как Левин в разговоре с женой, всегда смело высказываем свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова. Психическая близость собеседников, как показано выше, создает у говорящих общность апперцепции89, что, в свою очередь, является определяющим моментом для понимания с намека, для сокращенности речи.
Это общность апперцепции при общении с собой во внутренней речи полная, всецелая и абсолютная, поэтому во внутренней речи является законом то лаконическое и ясное, почти без слов сообщение самых сложных мыслей, о котором говорит Толстой как о редком исключении в устной речи, возможном только тогда, когда между говорящими существует глубоко интимная внутренняя близость. Во внутренней речи нам никогда нет надобности называть то, о чем идет речь, т. е. подлежащее. Мы всегда ограничиваемся только тем, что говорится об этом подлежащем, т. е. сказуемым. Но это и приводит к господству чистой предикативности во внутренней речи.
Анализ аналогичной тенденции в устной речи позволил нам сделать два основных вывода. Он показал, во-первых, что тенденция к предикативности возникает в устной речи тогда, когда подлежащее суждения заранее известно собеседникам, и тогда, когда имеется налицо в той или иной мере общность апперцепции у говорящих. Но то и другое, доведенное до предела в совершенно полной и абсолютной форме, имеет всегда место во внутренней речи. Уже одно это позволяет нам понять, почему во внутренней речи должно наблюдаться абсолютное господство чистой предикативности. Как мы видели, эти обстоятельства приводят в устной речи к упрощению синтаксиса, к минимуму синтаксической расчлененности, вообще к своеобразному синтаксическому строю. Но то, что намечается в устной речи как более или менее смутная тенденция, проявляется во внутренней речи в абсолютной форме, доведенной до предела как максимальная синтаксическая упрощенность, как абсолютное сгущение мысли, как совершенно новый синтаксический строй, который, строго говоря, означает не что иное, как полное упразднение синтаксиса устной речи и чисто предикативное строение предложений.
Наш анализ показывает, во-вторых, что функциональное изменение речи необходимо приводит и к изменению ее структуры. Опять то, что намечается в устной речи лишь как более или менее слабо выраженная тенденция к структурным изменениям под влиянием функциональных особенностей речи, во внутренней речи наблюдается в абсолютной форме и доведенным до
343
предела. Функция внутренней речи, как мы могли это установить в генетическом и экспериментальном исследовании, неуклонно и систематически ведет к тому, что эгоцентрическая речь, вначале отличающаяся от социальной .речи только в функциональном отношении, постепенно, по мере нарастания функциональной дифференциации, изменяется и в структуре, доходя в пределе до полного упразднения синтаксиса устной речи.
Если мы от этого сопоставления внутренней речи с устной обратимся к прямому исследованию структурных особенностей внутренней речи, мы сумеем проследить шаг за шагом нарастание предикативности. В самом начале эгоцентрическая речь в структурном отношении еще совершенно сливается с социальной речью. Но по мере развития и функционального выделения в качестве самостоятельной и автономной формы речи она все более и более обнаруживает тенденцию к сокращению, ослаблению синтаксической расчлененности, к сгущению. К моменту замирания и перехода во внутреннюю речь она уже производит впечатление отрывочной речи, так как почти целиком подчинена чисто предикативному синтаксису. Наблюдение во время экспериментов показывает, каким образом и из какого источника возникает этот новый синтаксис внутренней речи. Ребенок говорит по поводу того, чем он занят в эту минуту, по поводу того, что он сейчас делает, по поводу того, что находится у него перед глазами. Поэтому он все больше и больше опускает, сокращает, сгущает подлежащее и относящиеся к нему слова. И все больше редуцирует речь до одного сказуемого. Замечательная закономерность, которую мы могли установить в результате этих опытов, состоит в следующем: чем больше эгоцентрическая речь выражена как таковая в функциональном значении, тем ярче проступают особенности ее синтаксиса в смысле его упрощенности и предикативности. Если сравнить в наших опытах эгоцентрическую речь ребенка в тех случаях, когда она выступала в специфической роли внутренней речи как средство осмысления при помехах и затруднениях, вызываемых экспериментально, с теми случаями, когда она проявлялась вне этой функции, молено с несомненностью установить: чем сильнее выражена специфическая, интеллектуальная функция внутренней речи как таковой, тем отчетливее выступают и особенности ее синтаксического строя.
Предикативность внутренней речи еще не исчерпывает собой всего комплекса явлений, который находит внешнее суммарное выражение в сокращенности этой речи по 'сравнению с устной. Когда мы пытаемся проанализировать это сложное явление, мы узнаем, что за ним скрывается целый ряд структурных особенностей внутренней речи, из которых мы остановимся только на главнейших. В первую очередь здесь следует назвать редуциро-
344
вание фонетических моментов речи, с которыми мы столкнулись уже и в некоторых случаях сокращенности устной речи. Объяснение Кити « Левина, которое велось посредством начальных букв слов, и угадывание целых фраз уже позволили нам заключить, что при одинаковой направленности сознания роль речевых раздражений сводится до минимума (начальные буквы), а понимание происходит безошибочно. Но это сведе́ние к минимуму роли речевых раздражений опять-таки доводится до предела и наблюдается почти в абсолютной форме во внутренней речи, ибо одинаковая направленность сознания здесь достигает своей полноты.
В сущности во внутренней речи всегда существует та ситуация, которая в устной речи является редкостным и удивительным исключением. Во внутренней речи мы всегда находимся в ситуации разговора Кити и Левина. Поэтому во внутренней речи мы всегда играем в секретер, как назвал старый князь этот разговор, весь построенный на отгадывании сложных фраз по начальным буквам. Удивительную аналогию этому разговору мы находим в исследованиях внутренней речи А. Леметра. Один из исследованных Леметром подростков 12 лет мыслит фразу «Les montagnes de la Suisse sont belles»[110] в виде ряда букв: L, m, n, d, 1, S, s, b, за которым стоит смутное очертание линии горы (A. Lemetre, 1905, с. 5). Здесь мы видим в самом начале образования внутренней речи совершенно аналогичный способ сокращения речи, сведения фонетической стороны слова до начальных букв, как это имело место в разговоре Кити и Левина. Во внутренней речи нам никогда нет надобности произносить слова до конца. Мы понимаем уже по самому намерению, какое слово мы должны произнести.
Сопоставлением этих двух примеров мы не хотим сказать, что во внутренней речи слова всегда заменяются начальными буквами и речь развертывается с помощью того механизма, который оказался одинаковым в обоих случаях. Мы имеем в виду нечто гораздо более общее. Мы хотим сказать только то, что, подобно тому как в устной речи роль речевых раздражений сводится до минимума при общей направленности сознания, как это имело место в разговоре Кити и Левина, — подобно этому во внутренней речи редуцирование фонетической стороны имеет место как общее правило постоянно. Внутренняя речь есть в точном смысле речь почти без слов. Именно поэтому и кажется глубоко знаменательным совпадение наших примеров; то, что в известных редких случаях и устная, и внутренняя речь редуцируют слова до одних начальных букв, то, что там и здесь оказывается иногда возможным совершенно одинаковый механизм. еще более убеждает нас во внутренней родственности сопоставляемых явлений устной и внутренней речи,
345
Далее, за суммарной сокращенностью внутренней речи сравнительно с устной раскрывается еще один феномен, имеющий также центральное значение для понимания психологической природы всего этого явления в целом. Мы назвали до сих пор предикативность и редуцирование фазической стороны речи как два источника, откуда проистекает сокращенность внутренней речи. Уже оба эти феномена указывают на то, что во внутренней речи мы вообще встречаемся с совершенно иным, чем в устной, отношением семантической и фазической сторон речи. Фазическая сторона речи, ее синтаксис и фонетика сводятся до минимума, максимально упрощаются и сгущаются. На первый план выступает значение слова. Внутренняя речь оперирует преимущественно семантикой, но не фонетикой речи. Эта относительная независимость значения слова от его звуковой стороны проступает во внутренней речи чрезвычайно выпукло.
Для выяснения этого мы должны рассмотреть ближе третий источник интересующей нас сокращенности, которая, как уже сказано, является суммарным выражением многих связанных друг с другом, но самостоятельных и не сливающихся непосредственно феноменов. Третий источник мы находим в совершенно своеобразном семантическом строе внутренней речи. Как показывает исследование, синтаксис значений и весь строй смысловой стороны речи не менее своеобразен, чем синтаксис слов и ее звуковой строй. В чем же заключаются основные особенности семантики внутренней речи?
Мы могли в наших исследованиях установить три такие основные особенности, внутренне связанные между собой и образующие своеобразие смысловой стороны внутренней речи. Первая из их заключается в; преобладании смысла слова над его значением во внутренней речи. Ф. Полан90 оказал большую услугу психологическому анализу речи тем, что ввел различие между смыслом слова и его значением. Смысл слова, как показал Полан, представляет собой совокупность всех психологических фактов, возникающих в нашем сознании благодаря слову. Смысл слова, таким образом, оказывается всегда динамическим, текучим, сложным образованием, которое имеет несколько зон различной устойчивости. Значение есть только одна из зон того смысла, который приобретает слово в контексте какой-либо речи, и притом зона, наиболее устойчивая, унифицированная и точная. Как известно, слово в различном контексте легко изменяет свой смысл. Значение, напротив, есть тот неподвижный и неизменный пункт, который остается устойчивым при всех изменениях смысла слова в различном контексте. Изменение смысла мы могли установить как основной фактор при семантическом анализе речи. Реальное значение слова неконстантно. В одной операции слово выступает с одним значением, в другой оно
346
приобретает другое значение. Динамичность значения и приводит нас к проблеме Полана, к вопросу о соотношении значения и смысла. Слово, взятое в отдельности и лексиконе, имеет только одно значение. Но это значение есть не более как потенция, реализующаяся в живой речи, в которой это значение является только камнем в здании смысла.
Мы поясним различие между значением и смыслом слова на примере крыловской басни «Стрекоза и Муравей». Слово «попляши», которым заканчивается басня, имеет совершенно определенное, постоянное значение, одинаковое для любого контекста, в котором оно встречается. Но в контексте басни оно приобретает гораздо более широкий интеллектуальный и аффективный смысл. Оно означает в этом контексте одновременно: «веселись» и «погибни»[111]. Вот это обогащение слова смыслом, который оно вбирает в себя из всего контекста, и составляет основной закон динамики значений. Слово вбирает в себя, впитывает из всего контекста, в который оно вплетено, интеллектуальные и аффективные содержания и начинает значить больше или меньше, чем заключено в его значении, когда мы его рассматриваем изолированно и вне контекста: больше — потому что круг его значений расширяется, приобретая еще целый ряд зон, наполненных новым содержанием: меньше — потому что абстрактное значение слова ограничивается и сужается тем, что означает слово только в данном контексте. Смысл слова, говорит Полан, есть явление сложное, подвижное, постоянно изменяющееся в известной мере сообразно отдельным сознаниям и для одного и того же сознания в соответствии с обстоятельствами. В этом отношении смысл слова неисчерпаем. Слово приобретает свой смысл только во фразе, но сама фраза приобретает смысл только в контексте абзаца, абзац — в контексте книги, книга — в контексте всего творчества автора. Действительный смысл каждого слова определяется, в конечном счете, всем богатством существующих в сознании моментов, относящихся к тому, что выражено данным словом. Смысл Земли, по Полану, это Солнечная система, которая дополняет представление о Земле; смысл Солнечной системы — это Млечный Путь, а смысл Млечного Пути… это значит, что мы никогда не знаем полного смысла чего-либо и, следовательно, полного смысла какого-либо слова. Слово есть неисчерпаемый источник новых проблем. Смысл слова никогда не является полным. В конечном счете он упирается в понимание мира и во внутреннее строение личности в целом.
Но главная заслуга Полана заключается в том, что он подверг анализу отношение смысла и слова и сумел показать, что между смыслом и словом существуют гораздо более независимые отношения, чем между значением и словом. Слова могут диссоциироваться с выраженным в них смыслом. Давно из-
347
вестно, что слова могут менять свой смысл. Сравнительно недавно замечено, что следует изучить также, как смыслы меняют слова, или, вернее сказать, как понятия меняют свои имена. Полан приводит много примеров того, как слова остаются тогда, Когда смысл испаряется. Он подвергает анализу стереотипные обиходные фразы (например: «Как вы поживаете?»), ложь и другие проявления независимости слов от смысла. Смысл так же может быть отделен от выражающего его слова, как легко может быть фиксирован в каком-либо другом слове. Подобно тому, говорит Полан, как смысл слова связан со словом в целом, но не с каждым из его звуков, так точно смысл связан со всей фразой .в целом, но не с составляющими ее словами в отдельности. Поэтому случается так, что одно слово занимает место другого. Смысл отделяется от слова и таким образом сохраняется. Но, если слово может существовать без смысла, смысл в одинаковой мере может существовать без слов.
Мы снова воспользуемся анализом Полана, для того чтобы обнаружить в устной речи явление, родственное тому, которое мы могли установить экспериментально во внутренней речи. В устной речи, как правило, мы идем от наиболее устойчивого и постоянного элемента смысла, от его наиболее константной зоны, т. е. от значения слова к его более текучим зонам, к его смыслу в целом. Во внутренней речи, напротив, то преобладание смысла над значением, которое мы наблюдаем в устной речи в отдельных случаях как более или менее слабо выраженную тенденцию, доведено до математического предела и представлено в абсолютной форме. Здесь превалирование смысла над значением, фразы над словом, всего контекста над фразой не исключение, «о постоянное правило.
Из этого обстоятельства вытекают две другие особенности семантики внутренней речи. Обе касаются процесса объединения слов, их сочетания и слияния. Первая особенность может быть сближена с агглютинацией, которая наблюдается в некоторых языках как основной феномен, а в других — как более или менее редко встречаемый способ объединения слов. В немецком языке, например, .единое существительное часто образуется из целой фразы или из нескольких отдельных слов, которые выступают в этом случае в функциональном значении единого слова. В других языках такое слипание слов наблюдается как постоянно действующий механизм. Эти сложные слова, говорит В. Вундт, суть не случайные агрегаты слов, но образуются по определенному закону. Все эти языки соединяют большое число (слов, означающих простые понятия, в одно слово, которым не только выражают весьма сложные понятия, но обозначают и все частные представления, содержащиеся в понятии. В этой механической связи, или агглютинации элементов языка,
348
наибольший акцент всегда придается главному корню, или главному понятию, в чем и состоит главная причина легкой понятности языка. Так, в делаварском языке есть сложное слово, образовавшееся из слов «доставить», «лодка» и «нас» и буквально означающее: «достать на лодке нас», «переплыть к нам на лодке». Это слово, обычно употребляемое как вызов неприятелю переплыть реку, спрягается по всем многочисленным наклонениям и временам делаварских глаголов. Замечательны здесь два момента: во-первых, входящие в состав сложного слова отдельные слова часто претерпевают сокращения с звуковой стороны, так что из них в сложное слово входит часть слова; во-вторых, возникающее таким образом сложное слово, выражающее весьма сложное понятие, выступает с функциональной и структурной сторон как единое слово, а не как объединение самостоятельных слов. В американских языках, говорит Вундт, сложное слово рассматривается совершенно так же, как и простое, и точно так же склоняется и спрягается.
Нечто аналогичное наблюдали мы и в эгоцентрической речи ребенка. По мере приближения этой формы речи к внутренней речи агглютинация как способ образования единых сложных слов для выражения сложных понятий выступала все чаще и чаще, все отчетливее и отчетливее. Ребенок в эгоцентрических высказываниях все чаще обнаруживает параллельно падению коэффициента эгоцентрической речи эту тенденцию к асинтаксическому слипанию слов.
Третья и последняя из особенностей семантики внутренней речи снова может быть легче всего уяснена путем сопоставления с аналогичным явлением в устной речи. Сущность ее заключается в следующем: смыслы слов, более динамические и широкие, чем их значения, обнаруживают иные законы объединения и слияния друг с другом, чем те, которые могут наблюдаться при объединении и слиянии словесных значений. Мы назвали тот своеобразный способ объединения слов, который наблюдали в эгоцентрической речи, влиянием смысла, понимая это слово одновременно в его первоначальном буквальном значении (вливание) и в его переносном, ставшем сейчас общепринятым, значении. Смыслы как бы вливаются друг в друга и как бы влияют друг на друга, так что предшествующие как бы содержатся в последующем или его модифицируют.
Что касается внешней речи, то аналогичные явления мы наблюдаем особенно часто в художественной речи. Слово, проходя сквозь какое-либо художественное произведение, вбирает в себя все многообразие заключенных в нем смысловых единиц и становится по смыслу как бы эквивалентным произведению в целом. Это легко пояснить на примере названий художественных произведений. В художественной литературе название стоит
349
в ином отношении к произведению,
чем, например, в живописи или музыке. Название гораздо в большей степени
выражает и увенчивает все смысловое содержание произведения, чем, скажем, название
какой-либо картины. Такие слова, как «Дон-Кихот» и «Гамлет», «Евгений Онегин» и
«
«Мертвые души» — это не только умершие и числящиеся живыми крепостные, но и все герои поэмы, которые живут, но духовно мертвы.
Нечто аналогичное наблюдаем мы — снова в доведенном до предела виде — во внутренней речи. Здесь слово как бы вбирает в себя смысл предыдущих и последующих слов, расширяя почти безгранично рамки своего значения. Во внутренней речи слово гораздо более нагружено смыслом, чем во внешней. Оно, как и название гоголевской поэмы, является концентрированным сгустком смысла. Для перевода этого значения на язык внешней речи пришлось бы развернуть в целую панораму слов влитые в одно слово смыслы. Точно так же для полного раскрытия смысла названия гоголевской поэмы потребовалось бы развернуть ее до полного текста «Мертвых душ». Но подобно тому как весь многообразный смысл этой поэмы может быть заключен в тесные рамки двух слов, так точно огромное смысловое содержание может быть во внутренней речи влито в сосуд единого слова.
Эти особенности смысловой стороны внутренней речи приводят к тому, что всеми .наблюдателями отмечалось как непонятность эгоцентрической или внутренней речи. Понять эгоцентрическое высказывание ребенка невозможно, если не знать, к чему относится составляющее его сказуемое, если не видеть того, что делает ребенок и что находится у него перед глазами.
350
Уотсон полагает, что, если бы удалось записать внутреннюю речь на пластинке фонографа, она осталась бы для нас совершенно непонятной[112]. Непонятность внутренней речи, как и ее сокращенность, является фактом, отмечаемым всеми исследователями, но еще ни разу не подвергавшимся анализу. Между тем анализ показывает, что непонятность внутренней речи, как и ее сокращенность, производные очень многих факторов, суммарное выражение самых различных феноменов.
Уже все, отмеченное выше (своеобразный синтаксис внутренней речи, редуцирование ее фонетической стороны, ее особый семантический строй), в достаточной мере объясняет и раскрывает психологическую природу этой непонятности. Но мы хотели бы остановиться еще на двух моментах, которые более или менее непосредственно обусловливают эту непонятность и скрываются за ней. Из них первый представляется как бы интегральным следствием всех перечисленных выше моментов и непосредственно вытекает из фукционального своеобразия внутренней речи. По самой своей функции эта речь не предназначена для сообщения, это речь для себя, речь, протекающая совершенно в иных внутренних условиях, чем внешняя, и выполняющая совершенно иные функции. Поэтому следовало бы удивляться не тому, что эта речь непонятна, а тому, что можно ожидать понятности внутренней речи. Второй из моментов, обусловливающих непонятность внутренней речи, связан со своеобразием ее смыслового строения. Чтобы уяснить нашу мысль, снова обратимся к сопоставлению найденного нами феномена внутренней речи с родственным ему явлением во внешней речи. Толстой в «Детстве», «Отрочестве», «Юности» и в других произведениях рассказывает о том, как между живущими одной жизнью людьми легко возникают условные значения слов, особый диалект, особый жаргон, понятный только участвовавшим в его возникновении людям. Был свой диалект и у братьев Иртеньевых. Есть такой диалект у детей улицы. При известных условиях слова изменяют обычный смысл и значение и приобретают специфическое значение, придаваемое им определенными условиями их возникновения.
Совершенно понятно, что в условиях внутренней речи также необходимо должен возникнуть такой внутренний диалект. Каждое слово во внутреннем употреблении приобретает постепенно иные оттенки, иные смысловые нюансы, которые, слагаясь и суммируясь, превращаются в новое значение слова. Опыты показывают, что словесные значения во внутренней речи являются всегда идиомами, непереводимыми на язык внешней речи. Это всегда индивидуальные значения, понятные только в плане внутренней речи, которая так же полна идиоматизмов, как и элизий и пропусков.
351
В сущности, вливание многообразного смыслового содержания в единое слово представляет собой всякий раз образование индивидуального, непереводимого значения, т. е. идиомы. Здесь происходит то, что представлено в приведенном нами выше классическом примере из Достоевского. То, что произошло в разговоре шести пьяных мастеровых и что является исключением для внешней речи, является правилом для внутренней. Во внутренней речи мы всегда можем выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием. И разумеется, значение этого единого названия для сложных мыслей, ощущений и рассуждений окажется непереводимым на язык внешней речи, окажется не соизмеримым с обычным значением того же самого слова. Благодаря этому идиоматическому характеру всей семантики внутренней речи она, естественно, оказывается непонятной и трудно переводимой на обычный язык.
На этом мы можем закончить обзор особенностей внутренней речи, который мы наблюдали в наших экспериментах. Мы должны сказать только, что все эти особенности мы первоначально констатировали при экспериментальном исследовании эгоцентрической речи, но для истолкования этих факторов прибегли к сопоставлению их с аналогичными и родственными фактами в области внешней речи. Это было важно не только потому, что это путь обобщения найденных нами фактов и, следовательно, правильного их истолкования, не только средство уяснить на примерах устной речи сложные и тонкие особенности внутренней речи, но и потому главным образом, что это сопоставление показало: уже во внутренней речи заключены возможности образования этих особенностей, и тем самым подтвердило нашу гипотезу о генезисе внутренней речи из эгоцентрической и внешней речи. Важно, что все эти особенности могут при известных обстоятельствах возникнуть во внешней речи, важно, что это возможно вообще, что тенденции к предикативности, редуцированию фазической стороны речи, к превалированию смысла над значением слова, к агглютинации семантических единиц, к влиянию смыслов, идиом этичности речи могут наблюдаться и во внешней речи, что, следовательно, природа и законы слова это допускают, делают это возможным. Это, повторяем, в наших глазах лучшее подтверждение нашей гипотезы о происхождении внутренней речи путем дифференциации, разграничения эгоцентрической и социальной речи ребенка.
Все отмеченные нами особенности внутренней речи едва ли могут оставить сомнение в правильности основного, заранее выдвинутого нами тезиса о том, что внутренняя речь представляет собой совершенно особую, самостоятельную и самобытную функцию речи. Перед нами действительно речь, которая цели
352
ком и полностью отличается от внешней речи. Мы поэтому вправе ее рассматривать как особый внутренний план речевого мышления, опосредующий динамическое отношение между мыслью и словом. После всего сказанного о природе внутренней речи, о ее структуре и функции не остается никаких сомнений в том, что переход от внутренней речи ж внешней представляет собой не прямой перевод с одного языка на другой, не простое присоединение звуковой стороны к молчаливой речи, не простую вокализацию внутренней речи, а переструктурирование речи, превращение совершенно самобытного и своеобразного синтаксиса, смыслового и звукового строя внутренней речи в другие структурные формы, присущие внешней речи. Точно так же как внутренняя речь не есть речь минус звук, внешняя речь не есть внутренняя речь плюс звук. Переход от внутренней к внешней речи есть сложная динамическая трансформация — превращение предикативной и идиоматической речи в синтаксически расчлененную и понятную для других речь.
Мы можем теперь вернуться к тому определению внутренней речи и ее противопоставлению внешней, которые мы предпослали нашему анализу. Мы говорили, что внутренняя речь есть совершенно особая функция, что в известном смысле она противоположна внешней. Мы не соглашались с теми, кто рассматривает внутреннюю речь как то, что предшествует внешней, как ее внутреннюю сторону. Если внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова, материализация и объективация мысли, то здесь мы наблюдаем обратный по направлению процесс, процесс, как бы идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль. Но речь вовсе не исчезает и в своей внутренней форме. Сознание не испаряется вовсе и не растворяется в чистом духе. Внутренняя речь есть все же речь, т. е. мысль, связанная со словом. Но если мысль воплощается в слове во внешней речи, то слово умирает во внутренней речи, рождая мысль. Внутренняя речь есть в значительной мере мышление чистыми значениями, но, как говорит поэт, мы «в небе скоро устаем». Внутренняя речь оказывается динамическим, неустойчивым, текучим моментом, мелькающим между более оформленными и стойкими крайними полюсами изучаемого нами речевого мышления; между словом и мыслью. Поэтому истинное ее значение и место могут быть выяснены только тогда, когда мы сделаем в нашем анализе еще один шаг по направлению внутрь и сумеем составить себе хотя бы самое общее представление о следующем и твердом плане речевого мышления.
Этот новый плащ речевого мышления есть сама мысль. Первая задача нашего анализа — выделение этого плана, вычленение его из того единства, в котором он всегда встречается. Мы уже говорили, что всякая мысль стремится соединить что-то
353
с чем-то, имеет движение, сечение, развертывание, устанавливает отношение между чем-то и чем-то, одним словом, выполняет какую-то функцию, работу, решает какую-то задачу. Это течение и движение мысли не совпадают прямо и непосредственно с развертыванием речи. Единицы мысли и единицы речи не совпадают. Один и другой процессы обнаруживают единство, но не тождество. Они связаны друг с другом сложными переходами, сложными превращениями, но не покрывают друг друга, как наложенные друг на друга прямые линии. Легче всего убедиться в этом в тех случаях, когда работа мысли оканчивается неудачно, когда оказывается, что мысль не пошла в слова, как говорит Достоевский. Мы снова воспользуемся для ясности литературным примером, наблюдениями одного из героев Г. Успенского91. Сцена, где несчастный ходок, не находя слов для выражения огромной мысли, владеющей им, бессильно терзается и уходит молиться угоднику, чтобы бог дал понятие, оставляет невыразимо тягостное ощущение. И однако, по существу то, что переживает этот бедный, пришибленный ум, ничем не разнится от такой же муки слова поэта или мыслителя. Он и говорит почти теми же словами: «Я бы тебе, друг ты мой, сказал вот как, эстолького вот не утаил бы, да языка-то нет у нашего брата… вот что я скажу, будто как по мыслям и выходит, а с языка-то не слезает. То-то и горе наше дурацкое». По временам мрак сменяется мимолетными светлыми промежутками, мысль уясняется для несчастного, и ему, как поэту, кажется, вот-вот «приемлет тайна лик знакомый». Он приступает к объяснению: «Ежели я, к примеру, пойду в землю, потому я из земли вышел, из земли. Ежели я пойду в землю, например, обратно, каким же, стало быть, родом можно с меня брать выкупные за землю?»
«— А-а, — радостно произнесли мы.
— Погоди, тут надо еще бы слово… Видите ли, господа, как надо-то…
Ходок поднялся и стал посреди комнаты, приготовляясь отложить на руке еще один палец.
— Тут самого-то настоящего-то еще нисколько не сказано. А вот как надо: почему, например… — но здесь он остановился и живо произнес, — душу кто тебе дал?
— Бог.
— Верно. Хорошо. Теперь гляди сюда…
Мы было приготовились глядеть, но ходок снова запнулся, потеряв энергию, и, ударив руками о бедра, почти в отчаянии воскликнул:
— Нету! Ничего не сделаешь! Все не туды… Ах, боже мой! Да тут я тебе скажу нешто столько! Тут надо говорить вона откудова! Тут о душе-то надо — эво сколько! Нету, нету!» (1949, с. 184).
354
В этом случае отчетливо видна грань, отделяющая мысль от слова, непереходимый для говорящего рубикон, отделяющий мышление от речи. Если бы мысль непосредственно совпадала в строении и течении со строением и течением речи, случай, который описан Успенским, был бы невозможен. Но на деле мысль имеет свое особое строение и течение, переход от которых к строению и течению речи представляет большие трудности не для одного только героя показанной выше сиены. С этой проблемой мысли, скрывающейся за словом, столкнулись, пожалуй, раньше психологов художники сцепы. В частности, в системе К. С. Станиславского мы находим такую попытку воссоздать подтекст каждой реплики в драме, т. е. раскрыть стоящие за каждым высказыванием мысль и хотение. Обратимся снова к примеру.
Чацкий говорит Софье:
— Блажен, кто верует, тепло ему на свете.
Подтекст этой фразы Станиславский раскрывает как мысль: «Прекратим этот разговор». С таким же правом мы могли бы рассматривать ту же самую фразу как выражение другой мысли: «Я вам не верю. Вы говорите утешительные слова, чтобы успокоить меня». Или мы могли бы подставить еще одну мысль, которая с таким же основанием могла найти свое выражение в этой фразе: «Разве вы не видите, как вы мучаете меня. Я хотел бы верить вам. Это было бы для меня блаженством». Живая фраза, сказанная живым человеком, всегда имеет свой подтекст, скрывающуюся за ней мысль. В примерах, приведенных выше, в которых мы стремились показать несовпадение психологического подлежащего и сказуемого с грамматическим, мы оборвали наш анализ, не доведя его до конца. Одна и та же мысль может быть выражена в различных фразах, как одна и та же фраза может служить выражением для различных мыслей. Само несовпадение психологической и грамматической структур предложения определяется в первую очередь тем, какая мысль выражается в этом предложении. За ответом: «Часы упали», последовавшим за вопросом: «Почему часы остановились?», могла стоять мысль: «Я не виновата в том, что они испорчены, они упали». Но та же самая мысль могла бы быть выражена и другими словами: «Я не имею привычки трогать чужие вещи, я тут вытирала, пыль». Если мысль заключается в оправдании, она может найти выражение в любой из этих фраз. В этом случае самые различные по значению фразы будут выражать одну и ту же мысль.
Мы приходим, таким образом, к выводу, что мысль не совпадает непосредственно с речевым выражением. Мысль не состоит из отдельных слов — так, как речь. Если я хочу передать мысль: я видел сегодня, как мальчик в синей блузе и босиком бежал по улице, — я не вижу отдельно мальчика, отдельно блу-
355
зы, отдельно то, что она синяя, отдельно то, что он без башмаков, отдельно то, что он бежит. Я вижу все это вместе в едином акте мысли, но я расчленяю это в речи на отдельные слова. Мысль всегда представляет собой нечто целое, значительно большее по протяжению и объему, чем отдельное слово. Оратор часто в течение нескольких минут развивает одну и ту же мысль. Эта мысль содержится в его уме как целое, а отнюдь не возникает постепенно, отдельными единицами, как развивается его речь. То, что в мысли содержится симультанно, в речи развертывается сукцессивно. Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и ее воссоздания в словах. Именно потому, что мысль не совпадает не только со словом, но и со значениями слов, в которых она выражается, путь от мысли к слову лежит через значение. В нашей речи всегда есть задняя мысль, скрытый подтекст. Так как прямой переход от мысли к слову невозможен, а всегда требует прокладывания сложного пути, возникают жалобы на несовершенство слова и ламентации по поводу невыразимости мысли:
Как
сердцу высказать себя,
Другому
как понять тебя…92 —
или:
О, если б без слова сказаться душой было можно!93
Для преодоления этих жалоб возникают попытки плавить слова, создавая новые пути от мысли к слову через новые значения слов. В. Хлебников 94 сравнивал эту работу с прокладыванием пути из одной долины в другую, говорил о прямом пути из Москвы в Киев не через Нью-Йорк, называл себя путейцем языка.
Опыты учат, что, как мы говорили выше, мысль не выражается в слове, но совершается в нем. Но иногда мысль не совершается в слове, как у героя Успенского. Знал ли герой, что хочет подумать? Знал, как знают, что хотят запомнить, хотя запоминание не удается. Начал ли он думать? Начал, как начинают запоминать. Но удалась ли ему мысль как процесс? На этот вопрос надо ответить отрицательно. Мысль не только внешне опосредуется знаками, но и внутренне опосредуется значениями. Все дело в том, что непосредственное общение сознаний невозможно не только физически, но и психологически. Это может быть достигнуто только косвенным, опосредованным путем. Этот путь заключается во внутреннем опосредовании мысли сперва значениями, а затем словами. Поэтому мысль никогда не равна прямому значению слов. Значение опосредует мысль
356
на ее пути к словесному выражению, т. е. путь от мысли к слову есть непрямой, внутренне опосредованный путь.
Нам остается, наконец, сделать последний, заключительный шаг в анализе внутренних планов речевого мышления. Мысль — еще не последняя инстанция в этом процессе. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления. Если мы сравнили выше мысль с нависшим облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мысли мы должны были бы, если продолжить это образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в движение облака. Действительное и полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда мы вскрываем ее действенную, аффективно-волевую подоплеку. Это установление мотивов, приводящих к возникновению мысли и управляющих ее течением, можно проиллюстрировать на использованном уже нами примере раскрытия подтекста при сценической интерпретации какой-либо роли. За каждой репликой героя драмы стоит хотение, как учит Станиславский, направленное к выполнению определенных волевых задач. То, что в данном случае приходится воссоздавать методом сценической интерпретации, в живой речи всегда является начальным моментом всякого акта словесного мышления.
За каждым высказыванием стоит волевая задача. Поэтому параллельно тексту пьесы Станиславский намечал соответствующее каждой реплике хотение, приводящее в движение мысль и речь героя драмы. Приведем для примера текст и подтекст для нескольких реплик из роли Чацкого в интерпретации, близкой к Станиславскому.
|
Текст пьесы — реплики |
Параллельно намечаемые хотения |
|
|
|
|
Софья Ах,
Чацкий, я вам очень рада. |
Хочет
скрыть замешательство. |
|
Чацкий |
|
|
Вы
рады, в добрый час. |
Хочет
усовестить насмешкой. |
|
Однако
искренно кто ж радуется этак? |
Как
вам не стыдно! |
|
Мне
кажется, что напоследок. |
Хочет
вызвать на откровенность. |
|
Людей
и лошадей знобя, |
|
|
Я
только тешил сам себя. |
|
|
Лиза |
|
|
Вот,
сударь, если бы вы были за дверями, |
Хочет
успокоить. |
|
Ей-богу,
нет пяти минут, |
|
|
Как
поминали вас мы тут, Сударыня,
скажите сами! |
Хочет помочь Софье |
357
|
Софья Всегда,
не только что теперь Не
можете вы сделать мне упрека. |
Хочет
успокоить Чацкого. Я
ни в чем не виновата! |
|
Чацкий Положимте,
что так. Блажен,
кто верует, Тепло
ему на свете. |
Прекратим
этот разговор! |
При понимании чужой речи всегда оказывается недостаточным понимание только одних слов, но не мысли собеседника. Но и понимание мысли собеседника без понимания его мотива, того, ради чего высказывается мысль, есть неполное понимание. Точно так же в психологическом анализе любого высказывания мы доходим до конца только тогда, когда раскрываем последний и самый утаенный внутренний план речевого мышления: его мотивацию.
На этом и заканчивается наш анализ. Попытаемся окинуть единым взглядом то, к чему мы были приведены в его результате. Речевое мышление предстало нам как сложное динамическое целое, в котором отношение между мыслью и словом обнаружилось как движение через целый ряд внутренних планов, как переход от одного плана к другому. Мы вели наш анализ от самого внешнего плана к самому внутреннему. В живой драме речевого мышления движение идет обратным путем — от мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию се во внутреннем слове, затем — в значениях внешних слов и, наконец, в словах. Было бы, однако, неверным представлять себе, что только этот единственный путь от мысли к слову всегда осуществляется па деле. Напротив, возможны самые разнообразные, едва ли исчислимые при настоящем состоянии наших знаний в этом вопросе прямые и обратные движения, прямые и обратные переходы от одних планов к другим. Но мы знаем уже и сейчас в самом общем виде, что возможно движение, обрывающееся на любом пункте этого сложного пути в том и другом направлении: от мотива через мысль к внутренней речи; от внутренней речи к мысли; от внутренней речи к внешней и т. д. В наши задачи не входило изучение многообразных, реально осуществляющихся движений но основному тракту от мысли к слову. Нас интересовало только одно — основное и главное: раскрытие отношения между мыслью и словом как динамического процесса, как пути от мысли к слову, как совершения и воплощения мысли в слове.
Мы шли в исследовании несколько необычным путем. В проблеме мышления и речи мы пытались изучить ее внутреннюю сторону, скрытую от непосредственного наблюдения. Мы пытались подвергнуть анализу значение слова, которое для психологии всегда было другой стороной Луны, неизученной и неизвест-
358
ной. Смысловая и вся внутренняя сторона речи, которой речь обращена не вовне, а внутрь, к личности, оставалась до самого последнего времени для психологии неведомой и неисследованной землей. Изучали преимущественно фазическую сторону речи, которой она обращена к нам. Поэтому отношения между мыслью и словом понимались при самом различном истолковании как константные, прочные, раз навсегда закрепленные отношения вещей, а не внутренние, динамические, подвижные отношения процессов. Основной итог нашего исследования мы могли бы поэтому выразить в положении, что процессы, которые считались связанными неподвижно и единообразно, на деле оказываются подвижно связанными. То, что почиталось прежде простым построением, оказалось в свете исследования сложным. В нашем желании разграничить внешнюю и смысловую стороны речи, слово и мысль не заключено ничего, кроме стремления показать в более сложном виде и в более тонкой связи то единство, которое на самом деле представляет собой речевое мышление. Сложное строение этого единства, сложные подвижные связи и переходы между отдельными планами речевого мышления возникают, как показывает исследование, только в развитии. Отделения значения от звука, слова от вещи, мысли от слова — необходимые ступени в истории развития понятий.
Мы не имели никакого намерения исчерпать всю сложность структуры и динамики речевого мышления. Мы только хотели дать первоначальное представление о грандиозной сложности этой динамической структуры, и притом представление, основанное на экспериментально добытых и разработанных фактах, их теоретическом анализе и обобщении. Нам остается резюмировать в немногих словах то общее понимание отношений между мыслью и словом, которое возникает у нас в результате всего исследования.
Ассоциативная психология представляла себе отношение между мыслью и словом как внешнюю, образующуюся путем повторения, связь двух явлений, в принципе совершенно аналогичную возникающей при парном заучивании ассоциативной связи между двумя бессмысленными словами. Структурная психология заменила это представление представлением о структурной связи между мыслью и словом, но оставила неизменным постулат о неспецифичности этой связи, поместив ее в один ряд с любой другой структурной связью, возникающей между двумя предметами, например между палкой и бананом в опытах с шимпанзе. Теории, которые пытались иначе решить этот вопрос, поляризовались вокруг двух противоположных учений. Один полюс образует чисто бихевиористское95 понимание мышления и речи, нашедшее свое выражение в формуле: мысль есть речь минус звук. Другой полюс представляет крайне идеа-
359
листическое учение, развитое представителями вюрцбургской школы и А. Бергсоном о полной независимости мысли от слова, об искажении, которое вносит слово в мысль. «Мысль изреченная есть ложь» — этот тютчевский стих может служить формулой, выражающей самую суть этих учений. Отсюда возникает стремление психологов отделить сознание от действительности и, говоря словами Бергсона, разорвав рамку языка, схватить наши понятия в их естественном состоянии, в том виде, в каком их воспринимает сознание, — свободными от власти пространства. Эти учения обнаруживают одну общую точку, присущую почти всем теориям мышления и речи: глубочайший и принципиальный антиисторизм. Все они колеблются между полюсами чистого натурализма и чистого спиритуализма. Все они одинаково рассматривают мышление и речь вне истории мышления и речи.
Между тем только историческая психология, только историческая теория внутренней речи способна привести нас к правильному пониманию этой сложнейшей и грандиознейшей проблемы. Мы пытались идти именно этим путем в нашем исследовании. То, к чему мы пришли, может быть выражено в самых немногих словах. Мы видели, что отношение мысли к слову есть живой процесс рождения мысли в слове. Слово, лишенное мысли, есть прежде всего мертвое слово. Как говорит поэт:
И
как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова96.[113]
Но и мысль, не воплотившаяся в слове, остается стигийской тенью, «туманом, звоном и сиянием», как говорит другой поэт. Гегель рассматривал слово как бытие, оживленное мыслью. Это бытие абсолютно необходимо для наших мыслей.
Связь мысли со словом не есть изначальная, раз навсегда данная связь. Она возникает в развитии и сама развивается. «Вначале было слово»97. На эти евангельские слова Гете ответил устами Фауста: «Вначале было дело»98, желая тем обесценить слово. Но, замечает Г. Гуцман, если даже вместе с Гёте не оценивать слишком высоко слово как таковое, т. е. звучащее слово, и вместе с ним переводить библейский стих «Вначале было дело», то можно все же прочитать его с другим ударением, если взглянуть на него с точки зрения истории развития: вначале было дело. Гуцман хочет этим сказать, что слово представляется ему высшей ступенью развития человека по сравнению с самым высшим выражением действия. Конечно, он прав. Слово не было вначале. Вначале было дело. Слово образует скорее конец, чем начало развития. Слово есть конец, который венчает дело.
360
* * *
Мы не можем в заключение нашего исследования не остановиться в немногих .словах на тех перспективах, которые раскрываются за его порогом. Наше исследование подводит нас вплотную к порогу другой, еще более обширной, еще более глубокой, еще более грандиозной проблемы, чем проблема мышления, — к проблеме сознания. Наше исследование все время «мело в виду, как уже сказано, ту сторону слова, которая, как другая сторона Луны, оставалась неведомой землей для экспериментальной психологии. Мы старались исследовать отношение слова к предмету, к действительности. Мы стремились экспериментально изучить диалектический переход от ощущения к мышлению и показать, что в мышлении иначе отражена действительность, чем в ощущении, что основной отличительной чертой слова является обобщенное отражение действительности. Но тем самым мы коснулись такой стороны в природе слова, значение которой выходит за пределы мышления как такового и которая во всей своей полноте может быть изучена только в составе более общей проблемы: слова и сознания. Если ощущающее и мыслящее сознание располагает разными способами отражения действительности, то они представляют собой и разные типы сознания. Поэтому мышление и речь оказываются ключом к пониманию природы человеческого сознания. Если язык так же древен, как сознание, если язык и есть практическое, существующее для других людей, а следовательно, и для меня самого, сознание, то очевидно, что не одна мысль, но все сознание в целом связано в своем развитии с развитием слова. Действительные исследования на каждом шагу показывают, что слово играет центральную роль в сознании в целом, а не в его отдельных функциях. Слово и есть в сознании то, что, по выражению Л. Фейербаха, абсолютно невозможно для одного человека и возможно для двух. Оно есть самое прямое выражение исторической природы человеческого сознания.
Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле воды. Слово относится к сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно и есть малый мир сознания. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания.
Лекция 11
ВОСПРИЯТИЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Тема нашей сегодняшней лекции — проблема восприятия в детской психологии. Вы знаете, конечно, что ни одна глава современной психологии не обновилась коренным образом за последние 15—20 лет так, как глава, посвященная проблеме восприятия. Вы знаете, что в этой главе более остро, чем во всех остальных главах, произошла экспериментальная схватка между представителями старого и нового направлений. Нигде структурное направление в психологии так остро не противопоставляло новое понимание, новый экспериментальный метод исследования старому, ассоциативному, направлению в психологии, как в учении о восприятии. Поэтому если говорить сейчас о фактическом конкретном содержании, о богатстве экспериментального материала, то можно сказать, что глава о восприятии разработана с той полнотой, какой едва ли может похвастаться другая глава экспериментальной психологии.
Сущность этого изменения вы, вероятно, знаете, но я в двух словах напомню о нем.
Для ассоциативной психологии, исходя из закона ассоциации представлений как основного общего закона связи отдельных элементов психической жизни, центральной функцией, по образцу которой строились и понимались все остальные функции, была память. Отсюда восприятие в ассоциативной психологии понималось как ассоциированная совокупность ощущений. Предполагалось, что восприятие складывается из суммы отдельных ощущений путем ассоциирования этих ощущений между собой, совершенно по тому же закону, по которому отдельные представления или воспоминания, ассоциированные, объединенные между собой, создают стройную картину памяти. Из этого фактора и объяснялось, откуда появляется связность в восприятии.
Каким же образом вместо отдельных диспаратных[114], т. е. рассеянных[115], точек мы воспринимаем целую фигуру, ограничивающую поверхность тела? Каким образом мы воспринимаем значения этих тел? Так ставили вопрос в ассоциативной школе и от-
363
вечали, что связность в восприятии появляется таким же способом, каким она появляется в памяти. Отдельные элементы связываются, сцепляются, ассоциируются друг с другом, и, таким образом, возникает единое, связное, целостное восприятие. Как известно, эта теория предполагает, что физиологическим коррелятом связного целого восприятия является подобная картина, суммированная из отдельных равноценных диспаратных точек сетчатки[116], если речь идет о зрительном восприятии. Предполагалось, что находящийся перед глазами предмет каждой своей отдельной точкой возбуждает соответствующее раздражение в диспаратной точке сетчатки и все эти раздражения, суммируясь в центральной нервной системе, создают комплекс возбуждений, который является коррелятом этого предмета.
Несостоятельность такой теории восприятия и послужила отправным пунктом для отрицания теории ассоцианизма. Первоначально ассоциативная психология была атакована, следовательно, не в своей столице, т. е. не в учении о памяти, и до сих пор «структурная» атака оказывается наиболее слабой в этом самом защищенном пункте ассоциативной психологии. Действительно, структурная психология2 экспериментально атаковала ассоциативную точку зрения и стала доказывать структурное целостное возникновение психической жизни человека в области восприятия. Как известно, эта точка зрения заключается в том, что восприятие целого предшествует восприятию отдельных частей и связное целое каких-либо предметов, вещей, процессов, происходящих перед нашими глазами или ушами, — все это не суммируется в восприятии из отдельных диспаратных, рассеянных, ощущений и его физиологическим субстратом не является просто группа отдельных ассоциированных возбуждений[117]. Как известно, в ряде блестящих экспериментальных доказательств, защищая правильность нового понимания по сравнению со старым, структурная теория обнаружила такие факты, которые были собраны на совершенно различных ступенях развития и которые показали, что для их адекватного понимания необходима новая, структурная теория. В ее основе лежит мысль, что психическая жизнь не строится из отдельных ощущений, представлений, которые ассоциируются друг с другом, что она строится из отдельных целостных образований, которые называли то структурами, то образами, гештальтами. Этот принцип сохранялся и в других областях психической жизни, где представители структурной психологии пытались показать, что целостные образования психической жизни возникают как таковые. Все это было показано с большой ясностью в ряде экспериментальных исследований.
Напомню опыт В. Келера над домашней курицей. Этот опыт показал, что курица воспринимает пару цветов не как простое ассоциативное объединение, а воспринимает отношение между
364
этими цветами, т. е. восприятие целого светового поля предшествует восприятию отдельных частей и определяет эти части. Цвета, входящие в состав светового поля, могут изменяться, и тем не менее общий закон восприятия поля останется тем же самым. Эти опыты были перенесены с низших животных на человекоподобных обезьян, с известной модификацией поставлены и на ребенке. Они показали, что наше восприятие возникает как целостный процесс. Отдельные части могут меняться, а характер восприятия сохраняется. И обратно: структура, которая образует целостное восприятие, может изменяться, но при изменении этой структуры образуется иное целостное восприятие.
Напомню опыт Г. Фолькельта с пауком; этот опыт показал то, о чем мы говорим сейчас, в еще более целостном виде, хотя и менее ясно с экспериментальной стороны. Речь идет об известном опыте Фолькельта, показавшего, что паук, реагирующий на муху, попавшую в паутину, правильно и адекватно, когда ситуация сохраняется в целом, теряет эту способность, когда муха вырвана из паутины и положена в гнездо к пауку.
Напомню один из более поздних опытов К. Готтшальда3, который предъявлял испытуемому по нескольку сотен раз отдельные части сложной фигуры и добился того, что испытуемый прочно их заучил; однако если та же самая фигура, много сотен раз показанная испытуемому, предъявлялась в другом сочетании и если это целое было новым для испытуемого, то старая фигура оставалась не узнанной в новом структурном восприятии. Я не стану перечислять еще ряд опытов. Скажу лишь, что они получили широкое развитие, с одной стороны, в зоопсихологии, а с другой — в детской психологии. Аналогичные опыты ставятся со взрослыми людьми и подтверждают, что наше восприятие носит не атомистический, а целостный характер.
Это положение настолько хорошо известно, что останавливаться на нем нет надобности.
Однако спор этих направлений интересует нас с другой стороны. Что дает каждое из них для понимания развития в детском возрасте и как в новой структурной теории восприятия стоит вопрос относительно изменения и развития восприятия в детском возрасте?
Что касается ассоциативной теории восприятия, то здесь учение о развитии детского восприятия совершенно аналогично учению о психическом развитии вообще. Согласно этой точке зрения, основной рычаг, как выражались авторы теории, психической жизни дан уже с самого начала, вскоре после рождения. Этот основной рычаг заключается в способности к ассоциированию, связыванию того, что переживается одновременно или в близкой последовательности. Однако материал, который склеивается, спаивается этими ассоциативными связями, чрезвычай-
365
но мал у ребенка, и психическое развитие ребенка с точки зрения ассоциативной психологии в первую очередь заключается в том, что этот материал все больше и больше накопляется, в результате у ребенка образуются новые и новые, все более длинные и богатые ассоциативные связи между отдельными предметами; также соответственно этому растет и строится его восприятие: ребенок от восприятия отдельных ощущений переходит к восприятию связанных между собой групп ощущений, отсюда — к восприятию связанных между собой отдельных предметов и, наконец, целой ситуации. Известно, что с точки зрения традиционной ассоциативной психологии в начале развития восприятие младенцев характеризовалось как хаос, по выражению К. Бюлера, дикий танец разрозненных ощущений.
В те годы, когда я учился в университете, восприятие младенца рассматривалось таким образом: младенец способен воспринимать вкус — горький, кислый; он воспринимает тепло, холод; очень скоро после рождения он воспринимает звуки, цвета. Но все это разрозненные ощущения. Так как известные группы ощущений, принадлежащие к одним и тем же предметам, повторяются в известной комбинации особенно часто, то они начинают восприниматься ребенком комплексно, т. е. с помощью одновременного охвата. Благодаря этому возникает восприятие в собственном смысле слова.
Развитие или возникновение такого комплексного восприятия, в отличие от появления отдельных ощущений, те или иные исследователи относили к различным месяцам первого года жизни. Самые крайние представители говорили, что на четвертом месяце у младенца мы можем констатировать восприятие как связный целостный процесс. Другие отодвигали возникновение восприятия к седьмому-восьмому месяцу его жизни.
С точки зрения структурной психологии такое представление о развитии детского восприятия несостоятельно, как несостоятельна сама идея выведения сложного психического целого из суммы отдельных изолированных элементов. Структурная психология особенно дорожит данными, которые получены на низшей ступени развития и показывают, что целостность и есть первоначальная черта нашего восприятия.
В работе «Человеческое восприятие» Келер пытается показать, что в восприятии человека в основном действуют те же законы, что и в восприятии животного. Но эти законы находят свое более тонкое, более точное, более оформленное выражение в восприятии человека, которое является, с точки зрения Келера, как бы улучшенным восприятием животного.
В отношении детского восприятия структурная психология попала в тупик в том смысле, что она на самых ранних ступенях развития ребенка, в частности в опытах Фолькельта над мла-
366
денцем в первый месяц жизни показала: структурный характер восприятия может быть доказан, структурный характер восприятия первичный, возникает он в самом начале, а не в результате длительного развития. В чем же тогда заключается процесс развития детского восприятия, если самая существенная черта восприятия, его структурность, его целостный характер одинаково налицо и в самом начале развития, и у взрослого человека — в самом конце этого развития?
Разумеется, структурная психология здесь обнаружила одну из своих самых слабых сторон фактического и теоретического исследования. Нигде она так не показала свою несостоятельность, как в учении о восприятии. Мы знаем несколько попыток построить теорию детского психического развития, исходя из структурной точки зрения. Но как ни странно, в этих попытках теоретического анализа психологии развития ребенка структурная теория менее всего сумела оформить раздел о детском восприятии. Принципиальный отказ рассматривать восприятие ребенка в процессе развития до какой-то степени связан с основными методологическими установками этой теории, которые, как известно, придают метафизический характер самому понятию структуры.
В результате мы имеем две работы, появившиеся друг за другом и за работой Готтшальда: работу К. Коффки, который в отношении филогенетической проблемы пришел к отрицанию возможности выяснить эту разницу, и работу Фолькельта, где он на основании эксперимента над детьми раннего возраста пришел к утверждению, что мы имеем дело с теми свойствами восприятия, которые характеризуют примитивную целостную структуру на разных ступенях развития. Эти свойства Фолькельт объявляет, пользуясь крылатым словом Гёте, вечно детскими, т. с. категорией вечной, неизменной, сохраняющейся в процессе дальнейшего развития человека.
Для того чтобы показать, по каким путям пошли исследователи, стремясь обойти этот тупик или вернуться к этим проблемам несколько раз, чтобы избежать тупика, я должен остановиться на проблеме детского восприятия, так называемой проблеме ортоскопичности в детском возрасте. Проблема эта старая; первоначально ее ставил и пытался разрешить ряд психофизиологов, в частности большое место занимает этот вопрос в исследовании Г. Гельмгольца4. Потом она была оставлена и только в последние два десятилетия всплыла снова. Сущность проблемы заключается в том, что восприятие взрослого современного человека отличается рядом таких психических особенностей, которые кажутся нам необъяснимыми или непонятными.
Каковы свойства нашего восприятия, которые в высшей степени важны и с потерей которых наше восприятие становится
367
патологическим? Наше восприятие раньше всего характеризуется тем, что мы воспринимаем более или менее постоянную, упорядоченную, связную картину везде, на что бы мы ни направили свой глаз.
Если расчленить эту проблему на отдельные моменты, то их следует назвать в известном порядке, сообразно тому, как они возникли в экспериментальной психологии.
Первая — проблема постоянства восприятия величины предмета. Как известно, если я буду держать перед глазами два предмета одинаковой длины (два карандаша одинаковой длины), то на сетчатке будут два изображения одинаковой длины. Если я буду держать один карандаш, который в 5 раз больше другого, на сетчатке получится то же самое. По-видимому, в непосредственной зависимости от этого раздражения стоит тот факт, что я буду воспринимать один карандаш как более длинный по сравнению с другим. Если я продолжу опыт и больший карандаш отведу на расстояние в 5 раз больше, то изображение уменьшится в 5 раз и на сетчатке будет два изображения, одинаковые по своей величине. Спрашивается: чем же объясняется тот психологический факт, что карандаш, отнесенный на расстояние в 5 раз дальше, чем прежде, не кажется мне уменьшившимся в 5 раз? Почему я продолжаю его видеть на отдалении такой же величины, что позволяет мне при сходности этого изображения на сетчатке видеть этот карандаш как далеко расположенный, но большой в отличие от карандаша маленького?
Как объяснить, что предмет в отдалении сохраняет свою величину, несмотря на увеличение его расстояния от глаза и, самое замечательное, несмотря на то, что предмет действительно имеет тенденцию казаться меньше на большом расстоянии? Ведь на очень большом расстоянии огромные корабли кажутся маленькими точками. Известен опыт, заключающийся в следующем: если держать объект в непосредственной близости от глаз и затем быстро отодвигать, он тает на глазах и становится меньше. Как объяснить, что предметы имеют тенденцию становиться меньше по мере отдаления от глаз, но все-таки они относительно сохраняют свою величину? Проблема станет еще более интересной, когда мы вспомним, что она имеет огромное биологическое значение. Восприятие, с одной стороны, не выполнило бы своей биологической функции, если бы не имело этого ортоскопического характера, если бы изменяло величину предмета по мере отдаления от него. Животному, которое опасается хищника, последний должен казаться на расстоянии ста шагов уменьшившимся в 100 раз. С другой стороны, если бы восприятие не имело этой тенденции, то опять-таки биологически не могло бы возникнуть впечатление о близости или отдаленности предмета.
368
Следовательно, легко понять, насколько сложный биологический механизм заключен в том обстоятельстве, что предмет, с одной стороны, сохраняет постоянно свою величину, а с другой — теряет ее по мере удаления от глаз.
Возьмем постоянство восприятия цвета. Э. Геринг5 показал, что кусок мела в полдень отражает в 10 раз больше белых лучей, чем аналогичный кусок в сумерки. Тем не менее в сумерках мел белый, а уголь черный. В отношении других цветов исследования показали, что цвета также сохраняют относительное постоянство, несмотря на то что в зависимости от освещения, от реального количества падающих лучей, от цвета самого освещения на самом деле меняется качество непосредственного раздражения.
Так же как постоянство величины и цвета, возникает и постоянство формы. Лежащий передо мной портфель кажется мне портфелем, имеющим определенную форму, несмотря на то что я смотрю на него сверху вниз. Но, как говорит Гельмгольц, учителям живописи немало труда приходится потратить на то, чтобы показать ученикам, что в сущности они видят не полностью стол, а только срез этого стола.
Постоянство восприятия величины, формы, цвета можно было бы дополнить целым рядом других моментов. Это составляет в совокупности ту проблему, которую принято называть проблемой ортоскопического восприятия. Ортоскопический (по аналогии с орфографический) значит, что мы видим предметы правильно. Несмотря на зависимость от условий восприятия, мы видим предмет той величины, формы и цвета, каким он является постоянно. Благодаря ортоскопичности становится возможным восприятие устойчивых признаков предмета, не зависящих от случайных условий, от угла зрения, от тех движений, которые я произвожу. Иначе говоря, устойчивая, более или менее прочная и независимая от субъективных и случайных наблюдений картина становится возможной благодаря ортоскопическому восприятию[118].
Интерес к этой проблеме возрастает в связи с тем, что некоторые аналогичные восприятию явления обнаруживают другие психические свойства; в частности, вы знаете, вероятно, тот давно установленный факт, который сделался предметом ряда экспериментальных разработок и который заключается в том, что так называемые последовательные образы ведут себя в отношении ортоскопического восприятия совершенно иначе, чем подлинное восприятие. Если мы будем фиксировать красный квадрат на сером фоне, а затем снимем его с этого фона, то увидим квадрат, окрашенный в дополнительный цвет. Этот опыт показывает нам, чем было бы наше восприятие, если бы оно было лишено ортоскопичности. Квадрат будет расти, если я ста-
369
ну отодвигать экран. Если я придвину экран в два раза ближе, квадрат уменьшится в два раза. Восприятие его величины, местоположения или движения оказывается в зависимости от движения, угла зрения, от всех тех моментов, независимостью от которых отличается наше реальное восприятие. Эта проблема возникновения упорядоченного, устойчивого восприятия, мне кажется, может выражать круг вопросов, возникающих в проблеме развития восприятия и указывающих пути, по которым идет развитие детского восприятия там, где ассоциативная и структурная школы закрывали двери перед исследователями.
Как реально объясняется целый ряд фактов, которые я сейчас затронул? Еще Гельмгольц для объяснения этой проблемы выдвинул точку зрения, что ортоскопическое восприятие не первично, а возникает в процессе развития. Он останавливался на ряде фактов, на ряде шатких, но показательных моментов, в частности на воспоминаниях далекого детства, когда, проходя мимо колокольни, он принимал находящихся там людей за маленьких человечков. Он описывает наблюдения за другими детьми и делает вывод, что ортоскопическое восприятие не существует с самого начала. Один из его учеников высказал мысль, что только постепенно приобретенная восприятием устойчивая картина может отражать постоянное свойство предмета, что это составляет чуть ли не главное содержание в развитии детского восприятия.
Г. Гельмгольц пытался объяснить этот факт бессознательным умозаключением. Он предполагал, что карандаш, отнесенный от глаз на расстояние, в 10 раз большее, действительно воспринимается нами как карандаш, уменьшившийся в 10 раз, по к восприятию здесь прибавляется некоторое бессознательное суждение: прежний опыт мне подсказывает, что эту вещь я видел вблизи и что она удалена от глаз, т. е. к наличному восприятию присоединяется поправка, вносимая бессознательным умозаключением.
Такое объяснение было высмеяно рядом экспериментаторов, и, разумеется, с точки зрения непосредственного переживания Гельмгольц ставит вопрос наивно. Суть дела в том, что в реальном восприятии я воспринимаю карандаш как не уменьшившийся, хотя сознательно я знаю, что карандаш отнесен в 5 раз дальше. Простейшее наблюдение показывает, что с точки зрения непосредственного переживания объяснение, которое дает Гельмгольц, несостоятельно. Однако идея, или вернее сказать направление, которое он дал, верное, как показывает ряд экспериментальных исследований. Это направление заключается в том, чтобы не принимать ортоскопический характер восприятия как нечто изначально данное, а понимать его как продукт развития. Это во-первых. Во-вторых, надо уметь понять: постоян-
370
ство восприятия возникает не из изменения внутреннего состава и внутреннего свойства самого восприятия, а из того, что само восприятие начинает действовать в системе других функций.
Ссылка Гельмгольца на бессознательное умозаключение явилась неудачной гипотезой, которая на много лет затормозила поиски в этом направлении. Однако современные исследователи показывают, что ортоскопичность, в частности, зрительного восприятия возникает из действительно сложного наличного раздражения и раздражения, которое сливается с этим наличным раздражением и действует одновременно с ним. Можно позволить себе такой ход рассуждений. Я уже говорил вам, что, согласно гипотезе Гельмгольца, карандаш, отнесенный от глаза в 5 раз дальше, должен казаться уменьшившимся в 5 раз. Если бы перед нами был не карандаш, а его последовательное изображение, а сам предмет был бы убран, то при отдалении экрана в 5 раз образ этого карандаша увеличивался в 5 раз, согласно закону Эмерта. Однако при отодвигании экрана от глаз величина предмета не должна была бы изменяться. Я должен, следовательно, воспринимать предмет и его сетчаточный образ как взаимно компенсирующие друг друга. Образ увеличивается в 5 раз но мере удаления от экрана, предмет уменьшается в 5 раз, но если бы этот предмет был слит с последовательным образом, то, очевидно, наличное раздражение было бы неизменным.
Первоначально экспериментальные поиски шли в этом направлении: нельзя ли создать такое слияние наличного восприятия с последовательным образом, чтобы последовательный образ был дан с восприятием одновременно? Экспериментаторы вскоре разрешили эту задачу. Испытуемому предлагают фиксировать на экране какой-нибудь красный квадрат, но не бумажный, а его световое изображение. Затем оно удаляется, и вы видите зеленый дополнительный образ. Затем незаметно для испытуемого на изображение наводится реальный зеленый квадрат. Испытуемый того не замечает. Экспериментатор отодвигает экран, и происходит нарушение закона Эмерта.
Вместе с этими экспериментами была сделана в высшей степени смелая, блестящая попытка экспериментально создать постоянство этого образа, получить условия, при которых образ увеличивался бы непропорционально расстоянию, отступая от закона Эмерта. Если бы эта гипотеза была верна, то было бы необъяснимо, почему предмет на большом расстоянии кажется нам маленьким. При этом дело должно было происходить так, чтобы при быстром (мгновенном) отодвигании предмета от глаза я не замечал его уменьшения.
Такое полное постоянство восприятия биологически было бы так же вредно, как и изменчивость. Если бы мы жили в мире по-
371
стоянно изменяющихся предметов, то абсолютная устойчивость восприятия означала, что мы не могли бы заметить расстояния, разделяющего предмет от нас. Дальнейшие эксперименты, произведенные в маргбургской школе, показали, что исходным для объяснения этого факта восприятия является не последовательный образ, а так называемый эйдетический образ. Исследование независимо от этой проблемы показало, что эйдетический образ, который мы видим на экране после того, как убран предмет, не подчиняется закону Эмерта. По мере удаления предмета от глаз он растет не пропорционально, а значительно медленнее.
Исследования, осуществленные по описанной методике, т. е. при которых вызывалось слияние реального светового изображения с эйдетическим образом, показали, что это слияние дает экспериментальный эффект, наиболее близкий к реальному. Полученная здесь погрешность оказалась равной 1/10, т. е. теоретически вычисленная величина и экспериментально полученная величина оказались расходящимися только на 1/5.
Раньше, чем подводить теоретические итоги и делать выводы из той проблемы, которую я успел рассмотреть, полезно было бы остановиться еще на двух конкретных связанных с ней проблемах, которые вместе с первой позволят нам более легко и основательно сделать некоторые теоретические выводы.
Первая из них — проблема осмысленного восприятия. Исходя из развитого восприятия культурного взрослого человека, мы снова останавливаемся перед проблемой, аналогичной той, которую я развил перед вами только что.
Одна из характерных особенностей восприятия взрослого человека та, что наши восприятия устойчивы, ортоскопичны; другая особенность та, что наши восприятия осмыслены. Мы почти не в состоянии, как показал эксперимент, создать такие условия, чтобы наше восприятие было функционально отделено от осмысливания воспринимаемого предмета. Я держу сейчас перед собой блокнот; дело не происходит так, как представляли себе психологи ассоциативной школы, полагавшие, что я воспринимаю нечто белое, нечто четырехугольное и что ассоциативно с этим восприятием у меня связано знание о назначении этого предмета, т. е. понимание того, что это — блокнот. Понимание вещи, название предмета дано вместе с его восприятием, и, как показывают специальные исследования, само восприятие отдельных объективных сторон этого предмета находится в зависимости от того значения, от того смысла, которым сопровождается восприятие.
Вы знаете, вероятно, что опыты, которые начал Г. Роршах6, продолжены рядом экспериментаторов и в последнее время представлены особенно систематически и определенно молодым Э. Блейлером. Они показали, что идущая от А. Бине7 проблема так называемого восприятия бессмысленного[119] чернильного пят-
372
на действительно глубокая проблема, ведущая нас экспериментально к проблеме осмысливания наших восприятий. Почему я не вижу известную форму, вес, величину, но одновременно знаю, что передо мной стул или стол? Бине предложил в качестве эксперимента pour voir[120], как он выражался, следующий: посмотреть простую кляксу на листе бумаги, который он потом перегибал надвое, так что на обеих сторонах образовывалось симметричное бессмысленное и совершенно случайное по очертаниям пятно. Удивительно, говорит Бине, что при этом каждый раз получается что-то на что-нибудь да похожее и что дети, над которыми он ставил первые опыты, почти никогда не умели воспринять это бессмысленное чернильное пятно как пятно, а всегда воспринимали как собаку, облако, корову.
Г. Роршах создал систематическую серию таких бессмысленных цветовых симметричных фигур, которые он предлагает испытуемым, и, как известно, уже его опыты показали, что только в дементном состоянии, в частности при эпилептическом состоянии, пятно может восприниматься совсем бессмысленно. Именно в таких случаях мы слышим от испытуемых, что это просто пятно. В нормальном состоянии мы видим то лампу, то озеро, то облако и т. д. Меняется наше осмысливание, но тенденция видеть пятно осмысленно наличествует у нас всегда.
Эта тенденция к осмысливанию всякого восприятия была экспериментально использована Бюлером как средство для анализа осмысленности нашего развитого восприятия. Он показал: в такой же мере, как восприятие в развитом виде является восприятием устойчивым, постоянным, оно является осмысленным, или категориальным восприятием.
Я вижу сейчас перед собой не ряд отдельных внешних форм предмета, но вижу предмет, который мной воспринимается сразу как таковой, со всем значением и смыслом. Я вижу лампу, стол, людей, дверь. Во всех этих случаях, по выражению Бюлера, мое восприятие составляет неотъемлемую часть моего наглядного мышления. Одновременно с видимым мне дана категориальная упорядоченность той зрительной ситуации, которая является сейчас объектом моего восприятия.
Другие исследования, которые примыкают к этому направлению, показали, что в области так называемых иллюзий целый ряд восприятий возникает, казалось бы, именно благодаря тенденции к осмысливанию и, что самое главное, такое сложное осмысливание возникает в непосредственном восприятии и иногда приводит к иллюзии.
В качестве примера можно привести иллюзию Шарпантье. Если предложить определить одновременно или последовательно тяжесть двух цилиндров одинакового веса, формы и одинакового вида, но из которых один больше другого, нам всегда ка-
373
жется, что меньший из этих предметов более тяжелый. Хотя у вас на глазах взвешены оба цилиндра и вы убедились, что они равны по весу, вы все же, когда возьмете в руку тот и другой, не можете отделаться от этого ощущения. Объяснений этой иллюзии Шарпантье, как известно, предлагалось очень много, и только ряд исследований, проведенных в плане тех проблем, которые я раскрыл перед вами, показали: эта ошибка, в сущности говоря, возникает из-за того, что казавшееся ошибочным восприятие на деле является в известном смысле правильным восприятием[121]. Как указывал один из исследователей этой иллюзии, когда мы непосредственно оцениваем малый предмет как более тяжелый, мы оцениваем его правильно с точки зрения его относительного веса, так сказать, его плотности, отношения его веса к его объему: ведь этот предмет действительно «более тяжелый», и именно из-за того, что непосредственное восприятие тяжести подменено у нас условным осмысленным восприятием тяжести в соотношении с объемом. Именно благодаря этому и искажается непосредственное восприятие. Но достаточно закрыть глаза, чтобы мы оба эти предмета восприняли равными по тяжести. Однако самое интересное в исследовании иллюзии заключается в том, что, хотя каждый из взрослых людей всегда воспринимает меньший цилиндр как более тяжелый, а закрыв глаза, воспринимает их как равные по весу, слепые от рождения люди тоже подвержены иллюзии Шарпантье, т. е. не видящие в момент опыта цилиндров, но ощупывающие их слепые воспринимают меньший из этих цилиндров как более тяжелый.
Очевидно, это — осмысленное восприятие, в котором непосредственное ощущение тяжести сопоставляется с объемом предмета.
Чтобы подготовить материал для дальнейших теоретических выводов, я не могу не сказать еще несколько слов об этой иллюзии. Эксперименты показали, что глухонемые дети, несмотря на то что они видят, не подвержены иллюзии Шарпантье. Дальнейшие исследования показали, что эта иллюзия имеет чрезвычайно важное диагностическое значение. Это так называемый симптом Демора8, заключающийся в том, что у глубоко отсталых детей иллюзии Шарпантье не возникают, их восприятие так и остается неосмысленным и для них меньший цилиндр не кажется более тяжелым. Поэтому, когда вы имеете дело с ребенком 9—10 лет и хотите отличить диагностически глубокую степень отсталости от менее глубокой, отсутствие или наличие симптома Демора является в этом отношении чрезвычайно важным критерием. Идя по этому пути и проверяя данные Демора, Э. Клапаред высказал мысль, что иллюзии могут стать прекрасным симптомом развития детского восприятия, а исследования показали, что нормальные дети примерно до 5-летнего
374
возраста не подвержены иллюзии Шарпантье: маленький цилиндр им не кажется более тяжелым.
Таким образом, оказалось, что феномен, наблюдавшийся Шарпантье, возникает в развитии, что у глубоко отсталых детей он не возникает вовсе, что он не возникает и у большинства глухонемых детей, что он возникает у слепых и что это может служить надежным диагностическим критерием (по Демору) для отличения глубокой олигофрении от легкой степени умственной отсталости.
Кратко формулируя то, к чему привел эксперимент в этой области, я могу сказать, что он установил два положения, сходные с теми, с которыми мы имели дело, когда говорили о проблеме ортоскопического восприятия.
Эксперименты показали, с одной стороны, что осмысленность — свойство восприятия взрослого, не присущее ребенку, что она возникает на известной ступени, является продуктом развития, а не дана с самого начала. С другой стороны, опыты показали: подобно тому как устойчивость и постоянство нашего восприятия возникают из того, что самое восприятие тесно сливается с эйдетическим образом, здесь происходит непосредственное слияние процессов наглядного мышления и восприятия, так что одна функция неотделима от другой. Одна функция работает внутри другой как ее составная часть. Одна и другая образуют единое сотрудничество, которое можно расчленить только экспериментальным путем, так что только психологический эксперимент позволяет получить бессмысленное восприятие, т. е. вычленить из процесса осмысленного восприятия процесс непосредственного восприятия.
Третья проблема восприятия связана с только что обозначенной: это проблема категориального восприятия в собственном смысле слова. Типичным примером исследования этой области, которое началось давно, может служить опыт с восприятием картинок. Этот опыт в глазах прежних исследователей являлся ключом к пониманию того, как вообще развивается детское осмысленное восприятие. На картинке всегда изображена какая-то часть действительности. Подбирая картинки, показывая их детям разного возраста, следя за теми изменениями, которые возникают в восприятии картинок, можно обобщить с помощью статистического метода десятки тысяч накопленных данных. Мы получаем, таким образом, возможность судить относительно тех ступеней, через которые ребенок закономерно проходит в восприятии действительности.
Различные авторы по-разному определили и описали эти ступени. Один и тот же исследователь В. Штерн в разное время давал разные классификации ступеней. Однако, как показывает фактический материал, большинство авторов сходятся в том,
375
что если судить о различии детского восприятия по картинкам, то восприятие проходит четыре основные ступени. Сначала это восприятие отдельных предметов, стадия предметов; затем ребенок начинает называть предметы и указывать на те действия, которые проделываются этими предметами, — это стадия действия; позже ребенок начинает указывать на признаки воспринимаемого предмета, что составляет стадию качеств или признаков, и, наконец, ребенок начинает описывать картинку как целое, исходя из того, что она представляет в совокупности частей. На основании этих опытов ряд исследователей (в Германии особенно Штерн, у нас — П. П. Блонский) полагают, что мы тем самым получаем возможность судить об основных этапах развития осмысленного восприятия у ребенка. Ребенок сначала, как говорит Блонский, воспринимает картинку, мир как известную совокупность предметов, далее начинает воспринимать его как совокупность действующих и двигающихся предметов, затем начинает обогащать эту совокупность действующих предметов качествами, или свойствами, и, наконец, приходит к восприятию известной целостной картины, которая является для нас аналогом реальной, осмысленной целостной ситуации, восприятием целостной действительности. Сила исследования в том, что оно действительно подтверждается во всех таких опытах, и опыты Блонского, проведенные у нас, показали это в такой же примерно степени, как опыты Штерна, Неймана, М. Роллоф, М. Мухова и других исследователей в разных странах. Еще 15 лет назад указанное положение считалось незыблемым и принадлежало к числу так называемых основных законов развития детского восприятия; но за 15 лет экспериментальная психология проделала такую разрушительную работу, что от незыблемости этого положения почти ничего не осталось.
В самом деле, с точки зрения того, что мы знаем о восприятии, трудно допустить, чтобы восприятие ребенка шло от восприятия отдельных предметов с присоединением к нему действий, а затем и признаков, к восприятию целого. Ведь на основании экспериментальных данных мы знаем, что восприятию уже на самых ранних ступенях развития присущи структурность и целостность, что восприятие целого первично по отношению к восприятию частей. Таким образом, эти данные стоят в вопиющем противоречии с тем, что нам известно относительно структурности самого восприятия. С точки зрения ассоциативной атомистической психологии естественно предполагать, что ребенок идет от частей к целому, к этим частям он прибавляет действия, качества и в конце концов начинает воспринимать цельную ситуацию; с точки зрения структурной психологии нонсенс (бессмыслица) тот факт, будто ребенок и в восприятии идет от отдельных частей и, суммируя их, приходит к восприя-
376
тию целого, так как мы знаем, что путь развития восприятия обратный. Структурная психология показала: каждое повседневное наблюдение убеждает нас в том, что маленький ребенок вовсе не воспринимает только отдельные предметы, он воспринимает целую ситуацию, будет ли это ситуация игры или кормления. Везде и всюду восприятие младенца, не говоря о ребенке старшего возраста, будет определяться целостными ситуациями. В самом деле, как было бы трудно, если бы ребенок только около 10—12 лет приходил к возможности воспринимать целые осмысленные ситуации! Трудно представить, к чему реально должно было бы это привести в психическом развитии ребенка. Не будем говорить об экспериментах, показывающих, что восприятие движений и действий принадлежит часто к значительно более раннему восприятию, чем восприятие предметов.
Указанные соображения поставили на очередь экспериментальную проверку этого закона и привели к необходимости решить два вопроса. Во-первых, если этот закон изображает в ложном виде последовательность ступеней в развитии детского восприятия, то как же мы должны действительно представить их последовательность? Во-вторых, если этот закон изображает последовательность ступеней ложно, то почему же огромный материал подтверждает, что дети раннего возраста описывают картинку, выделяя лишь предметы, в следующем возрасте выделяют действия, признаки и т. д.?
Экспериментальные попытки решить этот вопрос начались в разных странах и шли разными путями. Наиболее интересные исследования были проведены Ж. Пиаже и В. Элиасбергом. Исследования Элиасберга показали, что восприятие ребенка раннего возраста не строится как восприятие отдельных предметов, оно полно недифференцированных связей. Исследования Пиаже показали, что восприятие детей раннего возраста синкретично, т. е. глобально связанные между собой группы предметов не выделены и воспринимаются в едином целом.
Значит, отправная точка, намеченная Штерном, неверна. Другие исследователи показали, что и последовательность ступеней не выдерживает критики.
На очереди встали два вопроса, о которых я говорил. Недостаточно было опровергнуть точку зрения Штерна, надо было показать, почему ребенок идет в описании картинки путем, противоположным реальному пути развития его остального восприятия. Грубо говоря, встала такая проблема: как объяснить тот факт, что ребенок в восприятии идет от целого к частям, а в восприятии картинок идет от частей к целому? Штерн пытался объяснить этот факт тем, что закон структурного развития восприятия от целого к частям действителен для непосредственного восприятия, описанная же нами последовательность действи-
377
тельна для осмысленного восприятия, т. е. восприятия, соединенного с наглядным мышлением. Но опыт Элиасберга имел дело с бессмысленным материалом, который был затем заменен осмысленным, и результат получился тот же. Элиасбергу удалось показать: чем осмысленнее материал, тем больше противоречат результаты тем, которых можно было бы ожидать на основании данных Штерна.
Во время Международного психотехнического конгресса в Москве мы имели случай слышать доклад Элиасберга о его новых исследованиях и его дискуссию со Штерном. Объяснения Штерна оказались явно неудачными. Экспериментальные исследования показали, что вопрос этот решается и гораздо более просто, и гораздо более сложно, чем представлял себе Штерн. В самом деле, уже простое наблюдение показывает: если такая последовательность ступеней (ступени предмета, действия, качества, отношений) не годится для описания хода развития детского восприятия, то она полностью совпадает со ступенями развития детской речи.
Ребенок всегда начинает с произнесения отдельных слов; этими словами в начале развития являются имена существительные; далее имена существительные снабжаются глаголами — возникают так называемые двучленные предложения. В третьем периоде появляются прилагательные и, наконец, с приобретением известного запаса фраз — рассказ с описанием картинок, так что эта последовательность ступеней относится не к последовательности в развитии восприятия, а к последовательности ступеней в развитии речи.
Сам по себе этот факт становится особенно показательным и интересным тогда, когда мы его анализируем экспериментально. Для простоты я позволю себе некоторую нескромность и сошлюсь на наши опыты (уже опубликованные), в которых мы пытались решить эту проблему экспериментально и которые показали убедительность наших доводов. Если мы предложим ребенку рассказать, что нарисовано на картинке, то действительно получим ту последовательность ступеней, которая отмечена всеми исследователями. Если ребенку того же возраста или тому же самому ребенку предложим сыграть в то, что нарисовано на картинке (при условии, что картинка доступна его пониманию), то он никогда не станет играть в отдельные предметы, нарисованные там. Скажем, если на картинке изображено, как человек водит медведя на цепи и показывает его, а кругом смотрят собравшиеся дети, то игра ребенка не будет просто сводиться к тому, что он раньше будет медведем, потом этими детьми, т. е. будет неверно предположение, что дети, передавая ряд деталей, будут играть в это. На самом деле дети всегда будут играть картинкой как целым, т. е. последовательность ре-
378
ального разыгрывания картинки оказывается тут иной. В частности, известная всем картинка, которая фигурировала у Бине и которая у нас применялась при опытах только из-за того, что она получила интернациональное распространение (картинка, где старик и мальчик на тачке перевозят вещи), показала аналогично всем исследованиям — и Неймана, и Штерна, и Мухова — совершенно иные результаты при попытке передать содержание соответствующей игрой.
Я не успею коснуться еще одной очень важной проблемы, потому что это значило бы остаться без того небольшого времени для теоретических выводов, без которых самый доброкачественный материал потерял бы свой смысл. Для того чтобы были выводы полнее, я позволю себе буквально в одной фразе указать на ряд новых исследований о развитии восприятия, которые заключаются в изучении примитивных восприятий у человека.
В последнее время экспериментальная психология стала заниматься глубже такими проблемами, как проблема обоняния, вкуса, и эти эксперименты на первых шагах привели исследователей к ошеломляющим с генетической точки зрения выводам. Оказалось, что непосредственная связь восприятия и наглядного мышления настолько отсутствует в примитивных восприятиях, что мы в отношении запаха не только в житейской практике, но и в научной теории не можем создать обобщения. Подобно тому как дети на ранних ступенях развития не имеют общего понятия о красном цвете, а знают только конкретное проявление красного цвета, мы не можем обобщить какой-нибудь запах, а обозначаем его так, как примитивные народы обозначают отдельные цвета. Оказалось, что категориальное восприятие не осуществляется в ряде биологических, рудиментарных, потерявших свое значение, не игравших существенной роли в культурном развитии человека явлениях, в частности таких, как восприятие запаха. Я сошлюсь на работы Т. К. Геннинга, создавшие целую эпоху в учении о примитивных формах восприятия, которые у человека пошли назад по сравнению с целым рядом высших млекопитающих животных.
Позвольте оставшиеся несколько минут потратить на схематические выводы. Возьмем ли мы проблему ортоскопического восприятия, или проблему осмысленного восприятия, или проблему связанности восприятия с речью — везде и всюду мы наталкиваемся на один первостепенной теоретической важности факт: в процессе детского развития на каждом шагу мы наблюдаем то, что принято называть изменением межфункциональных связей и отношений. В процессе детского развития возникает связь функции восприятия с функциями эйдетической памяти и тем самым возникает новое единое целое, в составе которого восприятие действует как его внутренняя часть. Возникает не-
379
посредственное слияние функций наглядного мышления с функциями восприятия, и это слияние оказывается таким, что мы не в состоянии отделить категориальное восприятие от непосредственного восприятия, т. е. восприятие предмета как такового от значения, смысла этого предмета. Опыт показывает, что здесь возникает связь речи или слова с восприятием, что обычный для ребенка ход восприятия изменяется, если мы рассмотрим это восприятие сквозь призму речи, если ребенок не просто воспринимает, а рассказывает воспринимаемое. Мы видим на каждом шагу, что всюду имеются эти межфункциональные связи и что благодаря возникновению новых связей, новых единств между восприятием и другими функциями возникают важнейшие изменения, важнейшие отличительные свойства развитого взрослого восприятия, которые необъяснимы, если рассматривать эволюцию восприятий в изолированном виде, не как части сложного развития сознания в целом. Это одинаково делали и ассоциативные и структурные психологи.
Если помните, там характерные свойства восприятия оказывались одними и теми же на ранней и поздней ступенях развития, и поэтому теории, рассматривавшие и рассматривающие до сих пор восприятие вне связи с остальными функциями, бессильны объяснить важнейшие отличительные свойства восприятия, возникающего в процессе развития. Сейчас, за неимением лучшего слова, я предложил бы назвать эти новые сложные образования психических функций, которые возникают в развитии ребенка и которые уже не являются отдельными функциями, поскольку речь идет о новом единстве, психологическими системами.
Итак, экспериментальные исследования показывают, как на протяжении развития ребенка возникают новые и новые системы, внутри которых восприятие действует и внутри которых оно только и получает ряд свойств, не присущих ему вне этой системы развития.
Интересно и то, что наряду с образованием новых межфункциональных связей восприятие в процессе развития, если можно так выразиться, раскрепощается, освобождается от целого ряда связей, характерных для него на ранних ступенях развития.
Чтобы не повторяться, скажу в одной фразе: исследования показали, что на ранних ступенях развития восприятие непосредственно связано с моторикой, оно составляет только один из моментов в целостном сенсомоторном процессе и лишь постепенно, с годами, начинает приобретать значительную самостоятельность и отрешаться от этой частичной связи с моторикой. По выражению К. Левина, который больше других трудился над этой проблемой, только с годами восприятие ребенка получает динамическое выражение в ряде внутренних процессов.
380
В частности, Левин показал, что только с освобождением, с дифференциацией восприятия от этой формы целостного психомоторного процесса становится возможной связь восприятия с наглядным мышлением.
Г. Фолькельт, Крюгер и другие лейпцигские исследователи показали: восприятие на ранних ступенях в такой же мере, как оно неотделимо от сенсомоторного процесса, так же неотделимо от эмоциональной реакции. Крюгер предложил назвать восприятие раннего возраста «чувствоподобным», «эмоционалноподобным восприятием». Его исследования показали: лишь с течением времени восприятие постепенно освобождается от связи с непосредственным аффектом, с непосредственной эмоцией ребенка.
В целом мы обязаны лейпцигским исследователям установлением чрезвычайно замечательного факта, который показал, что вообще в начале развития мы не можем констатировать достаточно дифференцированных отдельных психических функций, а наблюдаем гораздо более сложные недифференцированные единства, из которых постепенно путем развития и возникают отдельные функции. Среди них мы находим и восприятие.
Дальнейшие исследования оказались[122] совершенно не под силу лейпцигской школе с ее ложными методологическими взглядами. Лишь с совершенно иных методологических позиций становятся понятными факты дальнейшего развития восприятия.
Лекция 2
ПАМЯТЬ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Можно сказать, что ни в одной главе современной психологии нет столько споров, сколько их имеется в идеалистической и материалистической теориях, объясняющих явления памяти. Поэтому представить эту главу современной психологии совершенно невозможно вне той большой дискуссии, которая на протяжении нескольких десятков лет ведется в этой области. Без рассмотрения споров и самое понимание движения фактического материала в области памяти остается неосвещенным, неполным.
Вы знаете, вероятно, что в тех психологических направлениях, которые склонны самую психологию разделять на две отдельные, независимые науки — на объяснительную и описательную психологию, обычно называют главу о памяти как такую
381
главу, которая развивалась в материалистическом направлении. Г. Мюнстерберг9 и его школа и другие сторонники этой идеи указывают, что в объяснении памяти психология часто шла путем причинного мышления, искала причины, связанные с деятельностью мозга.
Сейчас уже частично оставлена в стороне теория, пытавшаяся объяснить явления памяти замыканием контактов между нейронами, и развивается теория проторения путей между различными участками, которые раньше не были прямо соединены. Все эти и многие другие теории продолжают выдвигаться, так как психологи, разрабатывающие эту проблему, понимают, что действительно всесторонних объяснений явлений памяти мы не можем получить, если не представим себе функций мозга, если не свяжем эту деятельность с материальным субстратом.
Правда, это стихийно материалистическое направление в учении о памяти никогда и нигде окончательно не проводилось именно как последовательно материалистическое учение о памяти; оно всегда увязывалось с идеалистическими воззрениями на отношения между психикой и мозгом. Все те авторы, которые разрабатывали вопросы памяти с точки зрения этой гипотезы и которые представляли образцы законченных теорий, так или иначе сохраняли концепцию психофизического параллелизма, т. е. все они не доводили до конца материалистическую концепцию памяти. Параллелизм шел по линии чрезвычайного упрощения, по линии механицизма, который элементарно сравнивал лежащие в основе памяти физиологические процессы с проторением путей в частицах мозга, с проторением путей в поле, с образованием контактов, с отдельными элементами мозговой деятельности. Такая чисто механистическая концепция не позволяла никому из психологов представить материалистическое объяснение явлений памяти как развернутое философское объяснение, достаточно последовательно продуманное в теоретическом плане.
Эта тенденция нашла отражение в экспериментальных исследованиях психологии памяти в знаменитой книжке Э. Геринга, где он дал классическую формулу памяти, сказав, что память есть общее свойство всей организованной материи. Герингом была сделана смелая попытка поставить явления человеческой памяти в связь с аналогичными явлениями сначала органической, а затем и неорганической природы. Отсюда открылись пути к естественно-биологическому объяснению, пониманию памяти. Но отсюда же открывалось бесконечное поле и для двух уклонений от этой научной линии: с одной стороны, для безудержного механицизма в толковании явлений памяти, а с другой — для параллелизма в объяснении человеческой психики.
382
Если в пределах и рамках, возможных для развития буржуазной науки, в психологическое учение о памяти проникла и материалистическая струя с теми ее особенностями, о которых я говорил, то совершенно естественно, что идеалистическая психология, подъем которой относится к началу XX в., поставила себе задачей показать ненаучность и несостоятельность механистической теории памяти; она пыталась показать, что память, как говорит один из вождей этой теории — А. Бергсон, есть процесс, на котором может быть раскрыто истинное отношение между материей и духом.
Книга Бергсона «Материя и память» имеет предметом как раз исследование отношений между духом и телом. Таким образом, проблема памяти превратилась здесь в проблему духа и материи в применении к конкретным условиям. В работе Бергсон привел богатейшие фактические материалы, привлек и патологический материал, давая анализ явлений амнезии и афазии, явлений забывания и нарушений речи при мозговых поражениях.
Основной тезис Бергсона, за которым пошла целая философская шла в учении о памяти, заключается в том, что, в сущности говоря, есть два различных, несводимых друг к другу вида памяти, т. е. что существуют две памяти[123]. Одна память аналогична другим процессам, происходящим в теле, и может рассматриваться как функция мозга. У ребенка параллельно развивается и другой вид памяти, представляющий собой деятельность духовную. Если бы мы хотели взять духовную деятельность в чистом виде, в чистой культуре, то мы должны были бы обратиться, по мнению Бергсона, не к общим идеям Платона, а к сфере памяти, к представлениям. Я напомню этот пример.
Представьте себе, говорит Бергсон, что мы заучиваем стихотворение. В результате заучивания мы с вами запоминали известный материал. Это один вид памяти. Он по структуре чрезвычайно напоминает двигательную привычку, которая создается путем упражнений, повторений, зависит от частоты этих повторений и их прочности, в результате чего прежде невозможная для нас деятельность становится возможной. Эту память Бергсон предложил назвать двигательной памятью. Но вот я не воспроизвожу то, что неоднократно повторял, а хочу представить то, как я читал это стихотворение; тогда я стараюсь воспроизвести в памяти однократно бывшее. Этот второй вид памяти, который связан с воскрешением образа, однажды бывшего, который не связан с упражнением, который не приводит к образованию ательной привычки, есть чисто духовная деятельность. Она, по мнению Бергсона, связана с мозгом лишь постольку, поскольку тело и мозг являются орудиями, без
383
которых чистая духовная деятельность не может осуществляться[124].
На анализе случаев поражения мозга Бергсон старается показать, что при соответствующем поражении память как двигательная привычка исчезает в первую очередь. Там же, где страдает память второго рода, она страдает не в такой непосредственной зависимости от мозгового поражения; она страдает просто потому, что человек не обладает достаточным аппаратом, достаточным орудием в виде мозга, для того чтобы проявить эту духовную деятельность. Иначе говоря, мозг участвует в одном и другом виде памяти совершенно по-разному. В одном виде он производит функцию, а во втором виде служит орудием чисто духовной деятельности, которая при поражении мозга не может проявиться ни в виде слов, ни в виде рассказа, ни в виде выразительных движений. Но сам по себе мозг не связан с этой чисто духовной деятельностью памяти.
Следует указать, что, как это всегда бывает, Бергсон использовал здесь главным образом слабые стороны всех механистических концепций памяти, которые были до него. Указав на несоответствие этих упрощенных концепций сложного явления, он использовал для подтверждения идеалистической концепции памяти учение о локализации и указал, что память не только не локализована в одном месте, но она вообще не является функцией мозга. Использовав пробелы теорий, господствовавших тогда как в области памяти, так и в области функций мозга, Бергсон строит свою теорию, в которой пытается показать, что с явлениями памяти на единичные события мы, собственно, вступаем в царство духа. В способности человеческого сознания воспроизводить образы прошлого так, как если бы мы видели их в действительности, Бергсон видит главное основание для утверждения независимости духовной функции человека от его тела.
Но то, что в борьбе материалистической и идеалистической концепций в учении о памяти формировалось на втором, идеалистическом полюсе, ни в какой мере не было завершением всей истории учения о памяти, завершением всей борьбы в теории этого вопроса. В самом деле, если бы мы хотели обратиться к теориям, появившимся за последние годы, то мы увидели бы, что материализм сделал известный поворот, и эта линия учения о памяти стала развиваться иначе. На смену Бергсону пришли другие — биологи, лабораторные или клинические работники. Их прежде всего не удовлетворял дуализм в разрешении проблемы памяти, их раздражало, как это бывает с учеными, придерживающимися позитивных взглядов, слишком вопиющее различие между результатами производимых каждодневно экспериментов и такими утверждениями, на которых базируется
384
Бергсон. Появилась тенденция связать обе памяти вместе и рассматривать память как одно целое. Этим соединением полярных точек зрения были сделаны попытки достигнуть цельности концепций, которые развивались, однако, в пределах не материалистической философии. Наиболее известна концепция А. Семона, который создал учение о мнеме. Он обозначил так способность сохранять следы прошлого, эту способность он считал одинаково присущей человеку и всем остальным представителям животного и растительного царства.
Это учение, с одной стороны, шло по линии воспроизведения Э. Геринга, но, с другой — по сути, с этим учением случилось то, что случается со всяким последовательно идеалистическим учением, когда оно приближается к проблеме подобного рода. Высшего расцвета эта теория достигла в учении Блейлера, теория которого претендует на то, чтобы занять третье место в борьбе витализма и механицизма. Основная работа Блейлера так и называется: «Механицизм, витализм и мнемизм».
Таким образом, учение о мнеме пытается разрешить проблему витализма и механицизма, т. е. тех двух тупиков, которые парализовали мысль естествоиспытателей.
Мнемизм является идеей, которая якобы позволяет преодолеть и тупик механицизма, и тупик витализма, как это будет видно из дальнейшего изложения. Прежде всего, мнемизм изложен в тесной связи с фактическим материалом. Как и Бергсон, Семон рассматривает память с двух сторон: с одной стороны, он говорит, что память — основа всякого сознания, что сознавать что-нибудь значит всегда иметь память о предшествующем намерении. С другой стороны, Э. Блейлер в работе, которую он написал в 1921 г., говорит, что мы должны допустить наличие психообразного фактора, который автор называет психоидом. Этим термином он означает психообразное начало, присущее всякой материи, оно содержится и в материи неорганической.
Идея Блейлера заключается в том, что функцией, которая перекидывает мост через пропасть между сознанием и материей, является память. Уже неорганической материи присущи свойство пластичности, свойство сохранения следов того или иного воздействия, которому подвергалась эта материя. Блейлер использует богатый материал, собранный его учениками, и показывает, в какой мере следы бывшего воздействия сохраняются в мертвой материи. По мнению Блейлера, от этого свойства идет непрерывная лестница ступеней, которая и служит основой для развития человеческой психики. Таким образом, функция памяти объединяет сознание со всей материальной природой, образует эту лестницу из ряда ступеней, по которой мы можем найти связь между материей и духом.
385
Таковы главнейшие моменты, из которых складывается сейчас философская борьба вокруг проблем памяти в буржуазной психологии. Наряду с этим, как это всегда бывает, фактический кризис какой-нибудь проблемы в науке не идет только из одной точки; и в обсуждении этой проблемы мы имеем ряд дискуссий, столкновение различных мнений, и не только в плане общих философских взглядов, но и в плане чисто фактического и теоретического исследования.
Основная линия борьбы идет прежде всего между атомистическими и структурными взглядами. Память была излюбленной главой, которая в ассоциативной психологии клалась в основу всей психологии: ведь с точки зрения ассоциации рассматривались и восприятие, и память, и воля. Иначе говоря, законы памяти эта психология пыталась распространить на все остальные явления и учение о памяти сделать центральным пунктом всей психологии. Структурная психология не могла атаковать ассоциативные позиции в области учения о памяти, и понятно, что в первые годы борьба между структурными и атомистическими направлениями развертывалась в отношении учения о восприятии, и только последние годы принесли ряд исследований практического и теоретического характера, в которых структурная психология пытается разбить ассоциативное учение о памяти.
Первое, что пытались показать в этих исследованиях: запоминание и деятельность памяти подчиняются тем же структурным законам, которым подчиняется и восприятие[125].
Многие помнят доклад К. Готтшальда в Москве в Институте психологии, вслед за ним автор выпустил специальную часть своей работы. Исследователь предъявлял различные комбинации фигур настолько долго, что эти фигуры усваивались испытуемым безошибочно. Но там, где та же самая фигура встречалась в более сложной структуре, испытуемый, который в первый раз видел эту структуру, скорее запоминал ее, чем тот, который 500 раз видел части этой структуры. А когда структура появлялась в новом сочетании, то виденное много сотен раз сводилось на нет и испытуемый не мог выделить из структуры хорошо известную ему часть. Идя по путям Келера, Готтшальд показал, что самое сочетание зрительных образов или запоминание зависит от структурных законов психической деятельности, т. е. от того целого, в составе которого мы видим тот или иной образ или его элемент. Я не буду останавливаться на известных опытах Келера и его сотрудников с животными и ребенком над восприятием цвета и т. д., которые уже неоднократно у нас описаны, и на тех данных, которые получаются при выработке навыков в связи с известной зрительной структурой. Мы всегда и везде, начиная от домашней курицы и кончая человеком, находим
386
структурный характер этих навыков, которые вырабатываются с помощью воспоминаний. Все эти факты объясняются у человека тем, что он всегда реагирует на известное целое.
Второе. Исследования К. Левина, которые выросли из изучения запоминания бессмысленных слогов, показали, что бессмысленный материал запоминается именно потому, что между его элементами с величайшим трудом образуется структура и что в запоминании частей не удается установить структурное соответствие. Успех памяти зависит от того, какую структуру материал образует в сознании испытуемого, который заучивает отдельные части[126].
Другие работы перебросили исследование деятельности памяти в новые области. Из них упомяну только два исследования, которые нужны для постановки некоторых проблем.
Первое, принадлежащее Б. В. Зейгарник10, касается запоминания законченных и незаконченных действий и наряду с этим законченных и незаконченных фигур. Исследование заключается в том, что мы предлагаем испытуемому проделать в беспорядке несколько действий, причем одни действия даем ему довести до конца, а другие прерываем раньше, чем они кончатся. Оказывается, прерванные, незаконченные действия запоминаются испытуемым в 2 раза лучше, чем действия законченные, в то время как в опытах с восприятием — наоборот: незаконченные зрительные образы запоминаются хуже, чем законченные[127]. Иначе говоря, запоминание собственных действий и запоминание зрительных образов подчиняется разным закономерностям. Отсюда только один шаг до наиболее интересных исследований структурной психологии в области памяти, которые освещены в проблеме забывания намерений. Дело в том, что всякие намерения, которые мы образуем, требуют участия нашей памяти. Если я решил что-нибудь сделать сегодня вечером, то я должен вспомнить, что я должен делать. По знаменитому выражению Спинозы, душа не может сделать ничего по своему решению, если она не вспомнит, что нужно сделать: «Намерение есть память».
Изучая влияние памяти на наше будущее, исследователи сумели показать, что законы запоминания предстают в новом виде в запоминании оконченных и .неоконченных действий по сравнению с заучиванием словесного и всякого другого материала. Иначе говоря, структурные исследования показали многообразие различных видов деятельности памяти и несводимость их к одному общему закону, и в частности к закону ассоциативному.
Широчайшую поддержку эти исследования встретили со стороны других исследователей. Как известно, К. Бюлер сделал следующее: он воспроизвел в отношении суждения опыт, который ассоциативная психология
387
ставит с запоминанием бессмысленных слогов, слов и т. д. Он составил ряд мыслей, причем каждая мысль имела вторую соответствующую ей мысль: члены этой пары давались вразбивку. Заучивание показало, что осмысленный материал запоминается легче, чем бессмысленный. Оказалось, что 20 пар мыслей для среднего человека, занимающегося умственным трудом, запоминаются чрезвычайно легко, в то время как 6 пар бессмысленных слогов оказываются непосильным материалом. Видимо, мысли движутся по иным законам, чем представления, и их запоминание происходит по законам смыслового отнесения одной мысли к другой.
Другой факт указывает на то же явление: я имею в виду, что мы запоминаем смысл независимо от слов. Например, в сегодняшней лекции мне приходится передавать содержание целого ряда книг, докладов. Я хорошо помню смысл, содержание этого, но в то же время затруднился бы воспроизвести словесные формы этого материала.
Независимость запоминаний смысла от словесного изложения — второй факт, к которому приходит ряд исследований. Эти положения подтверждались экспериментально добытыми фактами из зоопсихологии. Э. Торндайк установил два типа заучивания: первый тип, когда кривая ошибок падает медленно и постепенно, это показывает, что животное заучивает материал постепенно, и другой тип, когда кривая ошибок падает сразу. Однако Торндайк рассматривал второй тип запоминания скорее как исключение, чем как правило. Наоборот, Келер обратил внимание на второй тип заучивания — интеллектуальное запоминание, заучивание сразу. Этот опыт показал, что, имея дело с памятью в таком виде, мы можем получить два различных типа деятельности памяти.
Всякий учитель знает, что есть материал, который требует заучивания и повторений, и есть материал, который запоминается сразу; ведь нигде никто никогда не пытался заучивать решения арифметических задач. Достаточно один раз понять ход решения, для того чтобы в дальнейшем иметь возможность эту задачу решить. Так же точно изучение геометрической теоремы основывается не на том, на чем основывается изучение латинских исключений, изучение стихотворений или грамматических правил.
Вот это различие памяти, когда мы имеем дело с запоминанием мыслей, т. е. материала осмысленного, и с деятельностью памяти в отношении запоминания материала неосмысленного, вот это противоречие в различных отраслях исследования и стало выступать для нас все с большей и большей отчетливостью[128]. Пересмотр проблемы памяти в структурной психологии и опыты, которые шли с разных сторон и о которых я буду говорить в
388
конце, дали такой громадный материал, который поставил нас перед совершенно новым положением вещей.
Современные фактические знания по-иному ставят проблему памяти, чем ее ставили, например Блейлер; отсюда и возникает попытка, сообщив эти факты, передвинуть их на новое место.
Мне думается, мы не ошибемся, если скажем, что центральным фактором, в котором сосредоточен целый ряд знаний как теоретического, так и фактического характера о памяти, является проблема развития памяти. Нигде этот вопрос не оказывается таким запутанным, как здесь. С одной стороны, память есть уже в самом раннем возрасте. И если память в это время и развивается, то каким-то скрытым образом. Психологические исследования не давали какой-либо руководящей нити для анализа развития этой памяти; в результате как в философском споре, так и практически целый ряд проблем памяти ставился метафизически. Бюлеру кажется, что мысли запоминаются иначе, чем представления, но исследование показало: у ребенка представление запоминается лучше, чем мысли. Целый ряд исследований колеблет ту метафизическую почву, на которой строятся эти учения, в частности в интересующем нас вопросе о развитии детской памяти. Вы знаете, что вопрос о развитии памяти породил большие споры в психологии. Одни психологи утверждают, что память не развивается, а оказывается максимальной в самом начале детского развития. Эту теорию я излагать подробно не стану, но ряд наблюдений действительно показывает, что память чрезвычайно сильна в раннем возрасте и по мере развития ребенка становится слабее и слабее.
Достаточно вспомнить, какого труда стоит изучение иностранного языка для нас и с какой легкостью ребенок усваивает тот или иной иностранный язык, чтобы увидеть, что в этом отношении ранний возраст как бы создан для изучения языков. В Америке и Германии сделаны опыты педагогического характера: изучение языков перенесли из средней школы в дошкольное учреждение. Лейпцигские результаты показали, что два года обучения в дошкольном возрасте дают результаты значительно большие, чем семилетнее обучение этому же языку в средней школе. Эффективность овладения иностранным языком повышается по мере того, как мы сдвигаем изучение к раннему возрасту. Мы хорошо владеем только тем языком, которым мы овладели в раннем возрасте. Стоит вдуматься в это, чтобы увидеть: ребенок в раннем возрасте в отношении овладения языками имеет преимущества по сравнению с ребенком более зрелого возраста. В частности, практика воспитания с привитием ребенку нескольких иностранных языков в раннем возрасте показала, что овладение двумя-тремя языками не замедляет овладения каждым из них в отдельности. Имеется исследование серба
389
Павловича, который производил эксперименты над собственными детьми: он обращался к детям и отвечал на их вопросы только на сербском языке, а мать говорила с ними по-французски. Оказалось, что ни степень совершенствования в обоих языках, ни темпы продвижения не страдают от наличия двух языков одновременно. Ценны и исследования Иоргена, которые охватили 16 детей и показали, что три языка усваиваются с одинаковой легкостью, без взаимотормозящего влияния одного на другой.
Подытоживая опыты обучения детей грамоте и начальному счету в раннем возрасте, лейпцигская и американская школы приходят к убеждению, что обучение детей грамоте в 5—6 лет легче, чем обучение детей в возрасте 7—8 лет. Некоторые данные московских исследований говорят то же: дети, овладевающие грамотой на девятом году, наталкиваются на значительные трудности по сравнению с детьми, которые обучаются в раннем возрасте.
В педагогике приходят теперь к идее разгрузить школу от некоторых дисциплин в связи с тем, что в раннем возрасте ребенок может, шутя и играя, усваивать предметы, на которые в школе затрачивается большее количество времени. Я привожу это лишь как иллюстрацию того, в какой мере остра память в раннем возрасте. Память ребенка в раннем возрасте не идет ни в какое сравнение с памятью подростков и особенно взрослого человека. Но вместе с тем ребенок в 3 года, который легче усваивает иностранные языки, не может усваивать систематизированных знаний из области географии, а школьник в 9 лет, с трудом усваивающий иностранные языки, с легкостью усваивает географию, взрослый же превосходит ребенка в запоминании систематизированных знаний.
Наконец, находились психологи, которые пытались занять середину в этом вопросе. Они пытались установить, когда развитие памяти достигает кульминационной точки. В частности, Зейдель, один из учеников К. Грооса, охватил очень большой материал и пытался показать, что своей высоты память достигает у ребенка в возрасте около 10 лет, а затем начинается скатывание вниз.
Все эти три точки зрения (само наличие их) показывают, насколько упрощенно ставится вопрос о развитии памяти в указанных школах. Развитие памяти рассматривается в них как некоторое простое движение вперед или назад, как некоторое восхождение или скатывание, как некоторое движение, которое может быть представлено одной линией не только в плоскости, но и в линейном направлении. На самом деле, подходя с такими линейными масштабами к развитию памяти, мы сталкиваемся с противоречием: мы имеем факты, которые будут говорить и за,
390
и против, потому что развитие памяти — настолько сложный процесс, что в линейном разрезе он не может быть представлен.
Для того чтобы перейти к схематическому наброску решения этой проблемы, я должен затронуть два вопроса. Один освещен в целом ряде русских работ, и я только упомяну о нем. Речь идет о попытке различить в развитии детской памяти две линии, показать, что развитие детской памяти идет не однолинейно. В частности, это различие сделалось исходной точкой в ряде исследований памяти, с которыми я связан. В работе А. Н. Леонтьева и Л. В. Занкова11 дан экспериментальный материал, подтверждающий это. То, что психологически мы имеем дело с разными операциями, когда непосредственно что-нибудь запоминаем и когда запоминаем с помощью какого-нибудь дополнительного стимула, не подлежит сомнению. То, что мы иначе запоминаем, когда, например, завязываем узелок на память и когда запоминаем без этого узелка, также не подлежит сомнению. В исследовании мы представляли детям разного возраста одинаковый материал и просили этот материал запомнить двумя разными способами — первый раз непосредственно, а другой раз давали ряд вспомогательных средств, с помощью которых ребенок должен был усвоить заданный материал.
Анализ показывает, что ребенок, запоминающий с помощью вспомогательного средства, строит операции в ином плане, чем ребенок, запоминающий непосредственно, потому что от ребенка, употребляющего знаки и вспомогательные операции, требуется не столько память, сколько умение создать новые связи, новую структуру, богатое воображение, иногда хорошо развитое мышление, т. е. те психические качества, которые в непосредственном запоминании не играют сколько-нибудь существенной роли.
Опыт показал: если мы возьмем класс любой ступени и расставим учеников в ранговом порядке в зависимости от непосредственной силы памяти и в зависимости от опосредованного запоминания, то первый ранг со вторым не совпадает. Исследования обнаружили, что каждый из приемов непосредственного и опосредованного запоминания имеет собственную динамику, свою кривую развития. В частности, эту кривую развития А. Н. Леонтьев пытался представить схематически.
Так как все относящееся к этой работе отражено в ряде книг, большинству из вас известных, и в новых книгах, о которых я также упоминал, то я не буду останавливаться на этом, хотя и можно было бы посвятить этому вопросу целую лекцию.
Теоретические исследования подтвердили гипотезу, что развитие человеческой памяти в историческом развитии шло главным образом по линии опосредованного запоминания, т. е. человек вырабатывал новые приемы, с помощью которых он мог
391
подчинять память своим целям, контролировать ход запоминания, делать его все более и более волевым, делать его отображением все более специфических особенностей человеческого сознания. В частности, нам думается, что проблема опосредованного запоминания приводит к проблеме вербальной памяти, которая у современного культурного человека играет существенную роль и которая основывается на запоминании словесной записи событий, словесной их формулировки.
Таким образом, в этих исследованиях вопрос о развитии детской памяти был сдвинут с мертвой точки и перенесен в несколько иную плоскость. Я не думаю, чтобы эти исследования разрешали вопрос окончательно. Я склонен считать, что они, скорее, страдают колоссальным упрощением, в то время как вначале приходилось слышать, будто они усложняют психологическую проблему.
Я не хотел бы останавливаться на этой проблеме как на уже известной. Скажу только, что эти исследования приводят непосредственно к другой проблеме (ее хотелось бы сделать центральной в наших занятиях) — к проблеме, которая в развитии памяти находит ясное отражение. Речь идет о следующем: когда вы изучаете опосредованное запоминание, т. е. то, как человек запоминает, опираясь на известные знаки или приемы, то вы видите, что меняется место памяти в системе психических функций. То, что при непосредственном запоминании берется непосредственно памятью, то при опосредованном запоминании берется с помощью ряда психических операций, которые могут не иметь ничего общего с памятью; происходит, следовательно, как бы замещение одних психических функций другими.
Иначе говоря, с изменением возрастной ступени изменяется не только и не столько структура самой функции, которая обозначается как память, сколько изменяется характер функций, с помощью которых происходит запоминание, изменяется межфункциональное отношение, связывающее память с другими функциями.
В первой лекции я привел пример из этой области, к которому позволю себе вернуться. Замечательным оказывается не только то, что память ребенка более зрелого возраста иная, чем память младшего ребенка, а то, что она играет иную роль, чем в предшествующем возрасте.
Память в раннем детском возрасте— одна из центральных, основных психических функций, в зависимости от которых и строятся все остальные функции. Анализ показывает, что мышление ребенка раннего возраста во многом определяется его памятью. Мышление ребенка раннего возраста — это совсем не то, что мышление ребенка более зрелого возраста. Мыслить для ребенка раннего возраста — значит вспоминать, т. е. опи-
392
раться на свой прежний опыт, на его видоизменения. Никогда мышление не обнаруживает такой высокой корреляции с памятью, как в самом раннем возрасте, где мышление развивается в непосредственной зависимости от памяти. Приведу три примера. Первый касается определения понятий у детей. Определение понятий у ребенка основано на воспоминании. Например, когда ребенок отвечает, что такое улитка, он говорит: это маленькое, скользкое, ее давят ногой; если ребенка просят описать койку, он говорит, что она с «мягким сиденьем». В таких описаниях ребенок дает сжатый очерк воспоминаний, которые воспроизводят предмет.
Следовательно, предметом мыслительного акта при обозначении понятия является для ребенка не столько логическая структура самих понятий, сколько воспоминание, и конкретность детского мышления, его синкретический характер — другая сторона того же факта, который заключается в том, что детское мышление прежде всего опирается на память.
Другим примером могут служить исключительные случаи, с которыми мы сталкиваемся, наблюдая детей. Опыт показал, что у таких детей запоминание играет решающую роль во всех мыслительных построениях. В частности, у детей развивается наглядное понятие, их общее представление вытекает из конкретной сферы понятий, так что путем известных комбинаций возникает общее понятие, которое целиком связано с памятью и может еще не иметь характера абстракции.
Последние исследования форм детского мышления, о которых писал В. Штерн, и прежде всего исследования так называемой трансдукции, т. е. перехода от одного частного случая к другому, также показали, что это не что иное, как припоминание по поводу данного частного случая другого аналогичного частного случая.
Я мог бы указать и на последнее — на характер развития детских представлений и детской памяти в раннем возрасте. Их анализ, собственно, относится к анализу значений слов и непосредственно связан с нашей будущей темой. Но чтобы перебросить к ней мост, я хотел показать: исследования в этой области говорят о том, что связи, стоящие за словами, коренным образом отличаются у ребенка и у взрослого человека; образование значений детских слов построено иначе, чем наши представления и наши значения слов. Их отличие заключается в том, что за всяким значением слов для ребенка, как и для нас, скрывается обобщение. Но способ, с помощью которого ребенок обобщает вещи, и способ, с помощью которого мы с вами обобщаем вещи, отличаются друг от друга. В частности, способ, характеризующий детское обобщение, находится в непосредственной зависимости от того, что мышление ребенка всецело опирается на па-
393
мять. Детские представления, относящиеся к ряду предметов, строятся так, как у нас фамильные имена. Названия слов, явлений не столько знакомые понятия, сколько фамилии, целые группы наглядных вещей, связанных наглядной связью.
Таким образом, опыт ребенка и непосредственное влияние его опыта, документируемое в памяти, прямо определяют всю структуру детского мышления на ранних ступенях развития. Это и понятно с точки зрения психического развития: не мышление, и в частности не абстрактное мышление, стоит в начале развития, а определяющим моментом в начале развития является память ребенка. Однако на протяжении детского развития происходит перелом, и решающий сдвиг здесь наступает близко от юношеского возраста. Исследования памяти в этом возрасте показали, что к концу детского развития межфункциональные отношения памяти изменяются коренным образом в противоположную сторону: если для ребенка раннего возраста мыслить — значит вспоминать, то для подростка вспоминать — значит мыслить. Его память настолько логизирована, что запоминание сводится к установлению и нахождению логических отношений, а припоминание заключается в искании того пункта, который должен быть найден.
Логизация и представляет противоположный полюс, показывающий, как в процессе развития изменились эти отношения. В переходном возрасте центральный момент — образование понятий, и все представления и понятия, все мыслительные образования строятся уже не по типу фамильных имен, а по типу полноценных абстрактных понятий.
Мы видим, что та самая зависимость, которая определяла комплексный характер мышления в раннем возрасте, в дальнейшем изменяет характер мышления. Не может быть никаких сомнений в том, что запомнить один и тот же материал мыслящему в понятиях и мыслящему в комплексах — две совершенно разные задачи, хотя и сходные между собой. Когда я запоминаю какой-нибудь материал, лежащий передо мной, с помощью мышления в понятиях, т. е. с помощью абстрактного анализа, который заключен в самом мышлении, то передо мной совершенно иная логическая структура, чем когда я изучаю этот материал с помощью других средств. В одном и в другом случае смысловая структура материала различна.
Поэтому развитие детской памяти должно быть изучено не столько в отношении изменений, происходящих внутри самой памяти, сколько в отношении места памяти в ряду других функций. Мы видим, что в раннем детском возрасте память является господствующей функцией, которая определяет известный тип мышления, и что переход к абстрактному мышлению приводит к иному типу запоминания. Очевидно, когда вопрос о развитии
394
детской памяти ставят в линейном разрезе, этим не исчерпывается вопрос о ее развитии.
Центральным предметом следующей лекции мы сделаем проблему мышления. Я постараюсь показать, что из изменений соотношения памяти и мышления могут быть выведены основные формы мышления и что возможно дальнейшее изменение этих основных форм, превращение в новые формы мышления, характеристикой которых мы и займемся.
Лекция 3
МЫШЛЕНИЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Сегодня у нас на очереди проблема мышления и его развития. Мы снова начнем анализ проблемы со схематического очерка тех теоретических концепций, которые в приложении к проблеме мышления имеют сейчас актуальное значение для психологии.
Как всегда, на первом месте с исторической точки зрения должна быть поставлена попытка ассоциативной психологии, которая впервые экспериментально взялась за разрешение проблемы мышления. Ассоциативная психология наткнулась здесь на огромные трудности: с точки зрения ассоциативного течения наших представлений оказалось чрезвычайно сложно объяснить целенаправленный характер мышления. Ассоциативная связь представлений в том и заключается, что одно представление вызывает другое, которое с ним связано по смежности или времени. Однако откуда возникает в потоке представлений целенаправленность мышления? Почему из этого потока представлений возникают такие ассоциации, которые относятся к поставленной перед нашим мышлением задаче? Каким образом возникает логическая планировка, логическое строение ассоциативного потока представлений? Чем, наконец, отличается мышление человека при решении определенной задачи от простого ассоциирования, когда одно слово нанизывается вслед за другим в ассоциативную цепь? На все эти вопросы ассоциативная психология не могла ответить иначе, как сделав попытку ввести дополнительные понятия, до тех пор в экспериментальной психологии неизвестные.
Первая попытка экспериментально объяснить целенаправленность и логически упорядоченный ход ассоциации в мыслительном процессе была сделана с помощью введения понятия
395
персеверации, или персеверативной тенденции. Сущность ее в следующем: психологи стали допускать, что в нашем сознании наряду с ассоциативной тенденцией, которая заключается в том, что каждое представление, находящееся в сознании, имеет тенденцию вызывать другое, связанное с ним, была отмечена другая, как бы противоположная ей, персеверативная тенденция. Сущность ее в том, что всякое представление, проникшее в сознание, имеет тенденцию укрепиться в этом сознании, задержаться в нем, а если это представление вытесняется другим, связанным с ним, то обнаруживается персеверативная тенденция ворваться в течение ассоциативного процесса и возвратиться к прежним ассоциациям, как только для этого окажется возможность[129].
Экспериментальные исследования ряда авторов показали, что такая персеверативная тенденция действительно присуща нашим представлениям как в свободном течении ассоциаций, так и в упорядоченном течении, когда мы подбираем их по какому-нибудь установленному заранее порядку.
Из соединений ассоциативной и персеверативной тенденций психология того времени и пыталась объяснить процесс мышления. Наиболее красноречивое выражение эта идея нашла у Г. Эббингауза12, который дал классическое определение мышления, сказав, что оно представляет собой нечто среднее между навязчивой идеей и вихрем, скачкой идей.
Навязчивая идея является, как вы знаете, такой персеверацией в сознании, от которой человек не может освободиться. Она переживается как точка, в которую уперлось сознание, с которой оно не может быть сдвинуто произвольным усилием. Вихрь или скачка идей означает такое патологическое состояние нашего сознания, которое характеризуется обратным явлением: мышление не может длительно остановиться на одном пункте, но одна идея сменяется другой по внешнему созвучию, по образному сходству, по случайному совпадению, по внешнему впечатлению, которое врывается в ход этого мышления; в результате создается впечатление скачки идей, которая, как известно, обнаруживается в клинической картине маниакального возбуждения. По мнению Эббингауза, следовательно, мышление — нечто среднее между крайним выражением персеверативной тенденции, которая имеет место в навязчивой идее, и крайним выражением ассоциативной тенденции, которая проявляется в скачке или вихре идей.
Пример, который берет Эббингауз, чрезвычайно прост и груб и поясняет основные взгляды того времени с достаточной наглядностью. Представьте себе, говорит Эббингауз, человека, который находится в закрытой комнате, зная, что в доме пожар, и ищет средства спастись. Как он будет вести себя? С одной
396
стороны, поведение его будет напоминать поведение больного, который страдает скачкой идей. Он будет то бросаться от окна к двери, то ждать помощи и, не дождавшись, опять бросаться. Его мысли будут перепрыгивать с одного на другое. Но, с другой стороны, его поведение будет напоминать поведение человека с навязчивой идеей: что бы он ни предпринимал, имеется центральное представление, которое персеверирует в его сознании и определяет его течение идей, — это мысль о том, как бы спастись из горящей комнаты. Там, где мышление работает правильно, оно обеспечивает некоторый устойчивый момент, персеверирующее представление; в данном случае эту функциональную задачу выполняет то, о чем мы думаем, что является предметом нашего мышления; в эту минуту оно и является в сознании персеверирующим представлением, а вся развертывающаяся цепь ассоциаций, которая проходит в сознании и из которой мы отбираем то, что нужно нашей мысли, все это быстрое движение ассоциативной цепи будет олицетворять другую, противоположную тенденцию — ассоциативную.
Из расщепления этих двух тенденций Эббингауз объяснял мышление больного человека с навязчивым состоянием и со скачкой идей.
Он указал, что обе эти тенденции присущи нормальному сознанию, но находятся в расщепленном виде в психозе. Развитие ребенка объяснялось им следующим образом. Ребенок в самом раннем возрасте обнаруживает чрезвычайно ясную персеверативную тенденцию. Он с чрезвычайной стойкостью застревает на интересном впечатлении, вызывает его неутомимо, много раз подряд; как известно из ряда примеров, он вновь и вновь возвращается к занимающему его предмету. Таким образом, персеверативная тенденция, придающая всему процессу известное единство, свойственна ребенку с раннего возраста; точно так же свойственна ему и ассоциативная тенденция, тенденция к смене деятельности, к смене представлений. Вся беда в том, что у ребенка тенденции не объединены, не сотрудничают друг с другом настолько планомерно и согласованно, чтобы в результате получился процесс логического мышления, как это имеет место у взрослого человека.
Таким образом, процесс развития детского мышления для ассоциативной психологии, верной своим тенденциям, сводился к тому, что элементы, из которых строится функция мышления, — ассоциативная и персеверативная тенденции — с самого начала были не объединены и лишь в процессе развития возникает объединение этих тенденций, их цементирование, что и составляет главную линию в развитии детского мышления.
Несостоятельность этой точки зрения очень скоро обнаружилась в эксперименте, и была сделана последняя теоретическая
397
попытка спасти основной скелет ассоциативной концепции мышления, которая принадлежит немецкому психологу Н. Аху.
Как известно, Ах исходит в своих первых исследованиях, посвященных проблеме мышления, из недостаточности объяснения процессов мышления с помощью этих двух тенденций — ассоциативной и персеверативной. Он показывает, что с точки зрения одной только ассоциации и персеверации мы не в состоянии объяснить разумный характер мышления, ибо мы можем великолепно себе представить, что наличие и устойчивости представления, и разбегающихся от него в разные стороны ассоциативных цепей может отнюдь не быть связано с осмысленным, разумным характером движения этих ассоциативных цепей. Неудачи попыток такого объяснения и привели к тому, что дорога экспериментов детского мышления разбилась на три русла.
Одно русло приводит к современному бихевиоризму, оно воскрешает по существу это старое учение. Это русло представлено теорией Д. Уотсона и его единомышленников, которые рассматривают процесс мышления как простую ассоциативную смену первичных движений, проявляющихся либо в зачаточной, либо в открытой форме; теория Уотсона довела до конца эту идею, соединяя ассоциативную и персеверативную тенденции в теорию проб и ошибок. В теории проб и ошибок, которая первоначально была выдвинута для объяснения поведения животных в трудных ситуациях, мы находим действительно чистейшее психологическое выражение такой комбинации ассоциативной и персеверативной тенденций, ибо животное, действуя методом проб и ошибок, ведет себя совершенно так же, как гипотетический человек у Эббингауза, мышление которого выводится из комбинации ассоциативных и персеверативных тенденций.
По выражению одного из наиболее крупных представителей этой школы, гвоздь проблемы ассоциативизма заключается в том, чтобы объяснить, каким образом из механически действующих тенденций возникает осмысленная, разумная деятельность. Разрешение этой проблемы, говорит он, было подобно разрешению проблемы с колумбовым яйцом. Нужно было только объявить, что так называемая разумная деятельность при человеческом мышлении на самом деле является иллюзией, она нам только кажется или представляется разумной вследствие своей практической полезности, вследствие того, что она приводит к ценному приспособительному результату, а на самом деле она всегда строится по типу проб и ошибок, т. е. всегда возникает как случайный результат из слепой игры ассоциативных процессов, направляемых персеверирующим стимулом, который все время гонит эти ассоциативные процессы в определенном направлении. Таким образом закончилось одно из ответвлений, на которые разбилась сейчас мысль психологов.
398
Другие психологи пошли в противоположном направлении. У них не хватило ни мужества, ни достаточной веры в правду ассоциативных принципов (которые к этому времени зашатались), для того чтобы сделать последовательный вывод о том, что из неразумных элементов может быть построена модель разумной по существу деятельности. Они пытались во что бы то ни стало сохранить возможность объяснения действительно разумного характера человеческого мышления, не прибегая при этом к каким-нибудь идеям, которые коренным образом разрушили бы основные предпосылки ассоциативной психологии. Таков был путь всей серии работ Аха, в свое время составившего целую эпоху в изучении мышления. Н. Ах решил искать источник разумного человеческого мышления, возникающего из слепой игры механических тенденций, в воле. Его первая работа «Волевая деятельность и мышление» выясняет их соотношение. В экспериментальной работе Ах раскрыл волевую деятельность как деятельность, связанную с новой тенденцией, и к двум уже существовавшим в экспериментальной психологии общепризнанным тенденциям — персеверативной и ассоциативной — прибавил третью — детерминирующую тенденцию. Из комбинации трех тенденций он пытался вывести разумный характер человеческого мышления и наметить путь, противоположный тому, которым пошли бихевиористы. Существо детерминирующей тенденции в том, что наряду с такими первичными тенденциями, как ассоциативная и персеверативная, существует отдельное представление, которое обладает детерминирующей силой, т. е. способностью регулировать течение ассоциативного процесса так, как мы регулируем его сознательным волевым усилием, когда стараемся думать разумно и не даем нашим мыслям отвлечься. Такая способность детерминированно-ассоциативного представления, по Аху, присуща не всякому представлению, а только целевому, т. е. такому, которое в самом себе содержит цель деятельности.
Таким образом, вступив на телеологическую почву для выяснения этого явления, Ах пытался противопоставить свою теорию, с одной стороны, крайне идеалистической, виталистической теории вюрцбургской школы, которая исходила из первичного телеологического характера мышления, а с другой — старой механистической ассоциативной школе. Комбинацией этих трех тенденций Ах пытается объяснить главнейшие основы мышления и показать, как с присоединением телеологически действующего целевого представления, регулирующего ход слепой игры ассоциативного процесса, возникает разумный характер нашего мышления. Однако это был тупик, и теоретический и экспериментальный, как и тот путь, которым пошла ассоциативная психология.
399
Третий путь, исторически подготовленный всем развитием психологии, являющийся реакцией на атомистический характер ассоциативной школы, был путем открыто идеалистическим. Пересмотр основного учения ассоциативной школы был произведен так называемой вюрцбургской школой, группой психологов — учеников О. Кюльпе. Как известно, основная идея учеников Кюльпе, как и основная идея экспериментальных работ этой школы, заключалась в том, что мышление было строго-настрого отделено от остальных процессов психической деятельности. В то время как по отношению к памяти и к другим моментам психической деятельности ассоциативные законы признавались сохраняющими полную силу, по отношению к мышлению они объявлялись неосновательными.
Первое, что сделала вюрцбургская школа (она хорошо известна, и поэтому я могу остановиться на этом схематически), следующее: она подчеркнула абстрактный, нечувственный, ненаглядный, безо́бразный характер нашего мышления; она, как и парижская школа, работавшая в этом смысле с ней заодно, школа, которую возглавлял А. Бине, показала в ряде исследований, что состояния сознания, которые богаты образами (например, наши сновидения), бедны мыслью и, наоборот, состояния, богатые мыслью (например, игра великих шахматистов в исследовании Бине), бедны образами. Развитие этих исследований показало: здесь происходит переживание, при котором чрезвычайно трудно уловить какой-нибудь образный, конкретный характер, часто оно совершается так, что мы даже не можем уловить слов, сопровождающих мышление. Если образы и отдельные слова и появляются в нашем переживании и могут быть зарегистрированы при самонаблюдении, то в процессах мышления они, скорее, носят случайный и поверхностный характер, но никогда не образуют существенного ядра этих процессов. Догма о безобразном и нечувственном характере мышления сделалась исходным пунктом для крайне идеалистической концепции мышления, вышедшей из вюрцбургской школы. Основная философия этой школы заключалась в том, что мышление объявлялось столь же первичной деятельностью, как и ощущение. Эта буквальная формулировка, принадлежавшая Кюльпе, стала лозунгом всего этого движения.
В отличие от ассоциативной психологии психологи этой школы отказались выводить мышление из комбинации более элементарных тенденций, присущих нашему сознанию, и говорили, что мышление представляет, с одной стороны, совершенно иную психическую деятельность, чем более элементарные, низшие виды психической деятельности, а с другой — что мышление столь же первично, как и ощущение, что мышление, следовательно, не зависит от опыта. Таким образом, первичная функция
400
мышления понималась ими как необходимая психическая предпосылка сознания человека.
Когда мышление стало рассматриваться таким способом, то, по выражению Кюльпе, точно с помощью волшебной палочки неразрешимая для прежних поколений психологов задача вдруг отпала сама собой. Ведь трудность для естественнонаучных психологов (и в первую очередь ассоциативной школы) заключалась в объяснении разумного характера мышления; здесь же характер мышления принимался как нечто первичное, изначально присущее самой этой деятельности, столь же не требующее объяснения, как и способность человеческого сознания ощущать. Поэтому естественно, что эту школу приветствовал тогда впервые народившийся и себя до конца осознавший психовитализм в лице Г. Дриша и других исследователей, которые пытались показать, будто психология, идя от высшей формы абстрактного мышления взрослого человека, пролагает пути для того, чтобы понять: разумная жизненная сила представляет не поздний продукт длительного развития, но является чем-то изначально заложенным в живой материи. Допущение наличия разумного живого начала, говорит Дриш, столь же необходимо для объяснения развития человеческого мышления, как и для объяснения поведения какого-нибудь червяка. Целесообразность жизни стала рассматриваться виталистами в том же плане, как и разумная целесообразная деятельность, проявляющаяся в высших формах человеческого мышления.
Таковы были три разветвления экспериментальной мысли исследователей, пытавшихся вырваться из того тупика, в который проблема мышления была загнана бесконечными попытками ассоциативной психологии путем различных комбинаций вывести из бессмысленной игры ассоциативных тенденций разумный характер, осмысленную деятельность человеческого мышления.
Я не буду сейчас останавливаться ни на более сложных отношениях, существовавших между этими отдельными школами в учении о мышлении, ни на целом ряде новых путей разрешения этих проблем, которые возникали в это время или значительно позже. Всякий прекрасно знает, что если вюрцбургская школа и современные бихевиористы рождены неудовлетворенностью ассоциативной психологии, то по отношению друг к другу они представляли собой противоположные школы и бихевиоризм явился в известной мере реакцией на учение вюрцбургской школы.
В истории интересующей нас проблемы несколько своеобразное место занимает структурная теория мышления. В то время как все только что упомянутые разветвления возникли в противовес ассоциативной школе, правильное понимание гештальт
401
теории становится возможным, если принять во внимание некоторые исторические условия ее появления. Логически она противопоставлена ассоциативной психологии. Возникает иллюзия, что она появилась непосредственно после ассоциативной психологии. Исторически было иначе. Ассоциативная психология породила целый ряд направлений, из которых я указал на три главнейших. Эти направления привели к тупику, который проявился в том, что возникли в максимально чистом, как бы разложенном виде виталистическая и механистическая линии в теории мышления. Только тогда, когда они потерпели поражение, когда обе они завели экспериментальное исследование в тупик, только тогда возникает структурная теория.
Центральная задача структурной психологии — преодоление ассоциативной психологии, но преодоление ее не методом виталистического и вместе с тем не методом механистического мышления. Наиболее ценный эффект структурной психологии — это сделанные ею описания. Структурная психология попыталась перевести самое исследование в такую плоскость, где была бы сохранена возможность движения научного исследования без того, чтобы оно немедленно уперлось в один из двух тупиков буржуазной мысли — механицизм или витализм. Вся полемика, относящаяся сюда, хорошо изложена у К. Коффки. Подробно останавливаться на этом я не буду. Скажу только, что структурная психология оказалась наименее продуктивной для решения проблемы мышления. Если не считать исследования М. Вертгаймера «Психология продуктивного мышления» и работы А. Гельба и К. Гольдштейна, занимавшихся проблемами психопатологии, то структурная психология дала в области мышления только одну основную и очень известную работу Келера. Эта работа явилась в свое время большим шагом в зоопсихологии. Она хорошо известна, и о ней я говорить не буду.
Работа Келера, однако, как ни странно, привела к созданию своеобразной тенденции в психологии, которую легче всего иллюстрировать на примере концепции мышления в детской психологии, так близко стоящей к нашей теме. Речь идет о своеобразной биологической струе в теории мышления, достаточно хорошо экспериментально аранжированной и стремившейся в биологическом подходе к человеческому мышлению преодолеть крайне идеалистическое воззрение вюрцбургской школы.
Наиболее полное выражение течения, возникавшие в связи с этим новым этапом в развитии теории мышления, нашли во втором томе известного исследования О. Зельца, где целая часть посвящена соотнесению данных келеровских опытов над шимпанзе с данными опытов над продуктивностью мышления человека, полученными самим Зельцем. Указанные течения отражены и в работах К. Бюлера.
402
О. Зельц, как и Бюлер, вышел из вюрцбургской школы и стал на позицию, соединяющую вюрцбургскую школу с адептами структурной психологии, находя примирение тому и другому в биологической концепции мышления.
В детской психологии, как известно, широчайшее развитие этих взглядов представлено в работах Бюлера. Он прямо говорит, что биологическая точка зрения и детство были спасительным выходом из того кризиса, которым была охвачена теория мышления в вюрцбургской школе. Этот выход и дан в работах Бюлера, для которого мыслительная деятельность ребенка рассматривается прежде всего в биологическом плане и представляет недостающее звено между мышлением высшей обезьяны и мышлением исторически развитого человека.
Таким образом, помещая детское мышление между этими двумя крайними звеньями и рассматривая его как переходную биологическую форму от чисто животных к чисто человеческим формам мышления, эти авторы пытались из биологических особенностей ребенка вывести специфические особенности его мышления.
Как это ни покажется странным на первый взгляд, но мне думается, что к той же исторической ветви (или к той же исторической группе теорий) относится и теория Ж. Пиаже, достаточно известная у нас, для того чтобы на ней не останавливаться. Однако об этой теории непременно нужно упомянуть, потому что она не только связана с богатейшим фактическим материалом, который она внесла в современное учение о детском мышлении, но и потому, что некоторые вопросы, затронутые в ряде сходных учений только в зачаточном виде, здесь смело доведены до логического конца.
Идея соотношения биологических и социальных моментов в развитии мышления занимает основное место в этой теории. Концепция Пиаже в этом отношении чрезвычайно проста. Пиаже принимает вместе с психоанализом 3. Фрейда и с примыкающим к нему Э. Блейлером, что первичная ступень в развитии мышления ребенка — мышление, руководимое принципом удовольствия, иначе говоря, что ребенок раннего возраста мыслит по тем же мотивам, по каким он стремится ко всякой другой деятельности, т. е. для получения удовольствия. В зависимости от этого мышление ребенка раннего возраста представляется Пиаже, как и этим авторам, чисто биологической деятельностью полуинстинктивного порядка, направленной на получение удовольствия.
Эту мысль ребенка Блейлер называет аутистической мыслью, Пиаже называет по-разному—то ненаправленной (в отличие от логической, направленной, мысли ребенка более зрелого возраста), то сновидной, поскольку она находит более яркое выра-
403
жение в сновидениях, в частности в сновидениях ребенка. Во всяком случае, в качестве исходной точки Пиаже берет ту же аутистическую мысль, о которой он очень образно говорит, что она не столько мысль в нашем смысле, сколько свободно витающая мечта. Однако в процессе развития ребенка происходит его постоянное столкновение с социальной средой, которая требует приноровления к способу мышления взрослых людей. Здесь ребенок обучается языку, который диктует строгое расчленение мысли. Язык требует оформления социализации мысли. Поведение ребенка в среде требует от него понимания мысли других, ответа на эту мысль, сообщения собственной мысли.
Из всех этих способов общения возникает тот процесс, который Пиаже образно называет процессом социализации детской мысли. Процесс социализации детской мысли напоминает в его изображении процесс «социализации частной собственности». Детское мышление как нечто, принадлежащее ребенку, составляющее «его личную собственность» как известной биологической особи, вытесняется, замещается формами мышления, которые ребенку навязаны окружающей средой. Переходную, или смешанную, форму между этой аутистической, сновидной мыслью ребенка и социализированной, логической мыслью человека, которая потеряла характер «личной собственности», потому что она совершается в формах и понятиях, логически контролируемых, занимает, по Пиаже, эгоцентризм детской мысли — эта переходная ступень от детской мысли к социализированной и логической мысли взрослого человека. Таков подход Пиаже к основным вопросам мышления.
Если попытаться сделать некоторые общие выводы из беглого и схематического рассмотрения главнейших теоретических позиций, сложившихся в психологии мышления, то мне кажется, что, не отваживаясь на слишком большие обобщения исторического и теоретического характера, можно с несомненностью констатировать: эти течения в конечном счете концентрируются вокруг одной большой проблемы, которая была поставлена перед психологией в годы расцвета ассоциативной школы, на которой, в сущности говоря, потерпели крушение все эти направления и из различного разрешения которой берут начало все эти многообразные школы. Я имею в виду проблему мысли, того, как объяснить возникновение разумного, осмысленного характера мысли, наличия смысла в той деятельности, которая по преимуществу является деятельностью, направленной на установление смысла вещей. Проблема смысла, проблема разумного характера мышления в конечном счете и является центральной для целого ряда направлений, какими бы чуждыми друг другу они ни казались; более того, они именно потому и чужды друг другу, что исходят часто из диаметрально противоположных
404
попыток разрешить эту проблему, но и родственны друг другу потому, что все стремятся собраться в одну точку, чтобы, исходя из этой точки, разрешить основную проблему.
Как же, исходя из положений этих школ, понять возникновение разумной, целесообразной мыслительной деятельности в ряду других психических функций?
Как известно, невозможность разрешить эту проблему, с одной стороны, продиктовала вюрцбургской школе открытое идеалистическое движение в сторону Платона и его идей. Это сформулировал, определяя свой путь, сам Кюльпе. С другой стороны, невозможность разрешить эту проблему привела бихевиористов к утверждению, что разумность — иллюзия, что осмысленный характер этой деятельности просто объективно полезный приспособительный результат в сущности неразумных проб и ошибок[130].
Попытка так или иначе разрешить вопрос о происхождении смысла пронизывает и всю работу Пиаже. Как он пишет, им руководит ряд отдельных положений, взятых им от Э. Клапареда. Странным противоречием называет Пиаже то, что мышление ребенка в одно и то же время и разумно и неразумно.
Всякий знает из простейшего столкновения с детьми, что мышление ребенка действительно двойственно в этом отношении. Но поскольку, продолжает Пиаже, характер мышления двойствен, одни сосредоточивали свое внимание на неразумном характере мышления и ставили задачу доказать, что детское мышление неразумно, что ребенок мыслит нелогически, что там, где мы ожидали бы у ребенка логическую операцию, на самом деле выступает операция алогическая. Но, говорит он, ребенок с первых же моментов, как только формируется у него мышление, обладает всем, хотя и неразвернутым, но вполне законченным, аппаратом мышления.
Как известно, К. Бюлеру принадлежит идея, что мышление в готовом виде содержится уже в простейших формах интеллектуальной жизни ребенка. Мы видим, говорит он, что в первые 3 года жизни основной путь развития логического мышления завершается и нет ни одного такого принципиально нового шага в области мышления, который делает ребенок за всю последующую жизнь и который не содержался бы уже в инвентаре мышления трехлетнего ребенка.
Таким образом, одни на первый план выдвигали апологию детского мышления, сближали его с мышлением взрослого человека и делали попытки абсолютизировать логический характер детского мышления в раннем возрасте; другие, наоборот, пытались доказать глупость ребенка, доказать, что ребенок не способен к нашему мышлению. Задачей Пиаже было охватить оба этих противоречивых аспекта мышления, так как они даны на-
405
блюдателю одновременно, и постараться показать, как детское мышление соединяет в себе черты логики и алогизма[131]. Для этого, говорит он, лучшей гипотезы, чем искать источник этих противоречий в двух разных ключах, пробивающихся из земли в разных местах.
Логическое начало мышления Пиаже выводит из социальной жизни ребенка, алогический характер детского мышления — из первичной аутистической детской мысли[132]. Таким образом, картина детского мышления на каждой новой возрастной ступени объясняется тем, что в ней в разных пропорциях смешано логическое, которое, по Пиаже, всегда социализировано и идет извне, с алогическим, присущим самому ребенку. Эта идея, говорит исследователь, единственно оставшийся путь для психологии, чтобы спасти само мышление. Она определяет и научный метод его работы, выводящий проблему из тупика бихевиоризма. Для последнего самое мышление превращалось в деятельность, о которой Уотсон говорил, что она принципиально ничем не отличается ни от игры в лаун-теннис[133], ни от плавания.
В этой невозможности подойти к изучению происхождения разумных, осмысленных форм мышления и состоит тот тупик, к которому пришла современная буржуазная психология.
Позвольте мне во второй части лекции, как мы обычно делаем, перейти от общего рассмотрения теоретических вопросов к изложению фактического материала и попыток решения той проблемы, которая стоит в центре всех путей исследования. Эта проблема может иметь, мне думается, центральное значение для современных исследований детского мышления. Это проблема смысла, или разумности детской речи.
Откуда и как возникает разумный характер детского мышления? Эта проблема, как мы видели, центральная для теоретических концепций, которые я затрагивал до сих пор.
Конкретно, я думаю, лучше остановиться на одном узком аспекте проблемы, потому что ни один вопрос детской психологии сейчас не является настолько обширным и богатым по содержанию, трудно исчерпываемым в коротких лекциях, как этот; поэтому целесообразно сосредоточить внимание на чем-то одном, что может представлять центральное значение для ряда проблем.
Эта сторона прежде всего сводится к проблеме мышления и речи и их взаимоотношениям в детском возрасте. Дело в том, что проблема смысла, разумности детской речи также в конечном счете упиралась во всех указанных направлениях в проблему мышления и речи. Как мы знаем, вюрцбургская школа видела доказательство первичности мышления в неречевом характере мышления. Одно из основных положений вюрцбургского учения о мышлении то, что слова играют роль внешнего одея-
406
ния для мысли и могут служить более или менее надежным ее передатчиком, но никогда не имеют существенного значения ни для структуры процессов мышления, ни для его функционирования.
Наоборот, в бихевиористской школе, как известно, имелась тенденция противоположного характера, выражающаяся в тезисе: мышление — это и есть речь, ибо, желая вытравить из мышления все, что не укладывается в рамки навыков, исследователь естественно приходит к тому, что рассматривает речевую деятельность как мышление в целом, как деятельность, которая не только представляет речевую форму мышления, не только образует известную сторону мышления, но и исчерпывает его в целом.
Вопрос об отношении речи и мышления[134] стоит в центре тех психологических фактов, к которым мы обратимся. Мы рассмотрим это на примерах, связанных с развитием детской речи. Известно, что в развитии речи, в овладении внешней стороной речи ребенок идет от отдельных слов к фразе и от фразы простой к фразе сложной, к сочетанию фраз и предложений; столь же ясно и столь же давно было открыто, что в овладении семической (смысловой) стороной речи ребенок идет обратным путем[135].
В овладении внешней стороной речи ребенок сначала произносит слово, затем предложение из 2 слов, затем из 3—4 слов, из простой фразы постепенно развивается сложная фраза, и только через несколько лет ребенок овладевает сложным предложением, главными и придаточными частями и цепью этих предложений, составляющих более или менее связный рассказ. Ребенок идет, таким образом, казалось бы, подтверждая основные положения ассоциативной психологии, от части к целому.
Когда в детской психологии господствовала догма о том, что смысловая сторона речи — это слепок с внешней стороны, психологи делали ряд ошибочных выводов. В частности, сюда относится фигурирующее во всех учебниках положение, которое, мне кажется, сейчас атакуется более, чем другое какое-нибудь положение старой психологии, именно положение о том, что и в развитии представлений о внешней действительности ребенок идет тем же путем, каким он идет в развитии речи. Как речь ребенка начинается с отдельных слов, имен существительных, обозначающих отдельные конкретные предметы, так же, полагали некоторые исследователи, в частности В. Штерн, и восприятие действительности начинается с восприятия отдельных предметов. Это — знаменитая субстанциональная, или предметная стадия, отмеченная у Штерна и у других авторов. Параллельно с тем, как во внешней стороне речи ребенка появляется двухсловное предложение, вводится сказуемое и ребенок овладевает
407
глаголом, в восприятии появляется действие, вслед за ним качество, отношение, иначе говоря, наблюдается полный параллелизм между развитием разумного представления ребенка об окружающей действительности и овладением внешней стороной речи. Для того чтобы не упрощать эту теорию, я должен сказать, что уже Штерну было известно, когда он впервые формулировал эту идею, что хронологического параллелизма здесь не существует, т. е. все эти стадии в развитии детского представления, детской апперцепции, как говорит Штерн, не совпадают хронологически с соответствующими стадиями в развитии внешней стороны детской речи, например, когда ребенок находится на стадии изолированных слов, он стоит на предметной стадии и в восприятии. Факты показали, что предметная стадия в восприятии длится значительно дольше. То же самое относится и к стадии действия, когда ребенок начинает произносить двухсловные предложения. И здесь происходит хронологический разрыв во внешней стороне речи и смысловой деятельности ребенка. Однако Штерн и ряд других исследователей полагали: при хронологическом разрыве существует логически полное соответствие, как он выражается, между продвижением ребенка в овладении логической структурой речи и в овладении ребенком внешней стороной речи.
Ж. Пиаже использовал это положение, показав, что́ при этом раскрывается в проблеме речи и мышления. Ведь речь как основной источник социализации мысли является для Пиаже главным фактором, с помощью которого в нашу мысль вносятся логические законы, свойства, позволяющие ребенку общаться с другими. Наоборот, все связанное с алогическим источником собственной детской мысли — это мысль несловесная, несмысловая.
Таким образом, во всех этих теориях проблема осмысленности, разумного характера мышления в конечном счете в качестве центрального практического вопроса ставит вопрос об отношении мышления и речи. Я не буду останавливаться на тех материалах и соображениях по этому вопросу, которые худо ли, хорошо ли, но достаточно широко и пространно изложены в ряде работ, в том числе и русских.
Я ставлю этот вопрос вне обсуждения и сосредоточу внимание лишь на тех узловых пунктах, где смысл мышления, его разумный характер связывается с речью, иначе говоря, на тех пунктах, где, как говорит Пиаже, тончайший волосок отделяет логическое от алогического в детском мышлении. Эта проблема в современном экспериментальном исследовании как психологии взрослого человека, так и психологии ребенка стала занимать все более и более центральное место. Я не нашел лучшей возможности привести в коротком изложении эту проблему, чем
408
суммарно остановиться на выводах из соответствующих работ.
Главнейший итог работ—установление того, что речевое мышление — это сложное образование неоднородного характера. Вся осмысленная речь в функционально развитом виде имеет две стороны, которые должны отчетливо различаться экспериментаторами. Это то, что принято называть в современных исследованиях фазической стороной речи, имея в виду ее вербальную сторону, то, что связано с внешней стороной речи, и семической (или семантической) стороной речи, т. е. смысловой стороной, которая заключается в наполнении смыслом того, что мы говорим, в извлечении смысла из того, что мы видим, слышим, читаем.
Отношение этих сторон обычно формулировалось в негативной форме. Исследователями было установлено и на ряде фактов подтверждено, что фазическая и семическая, т. е. вербальная и смысловая, стороны речи не появляются сразу в готовом виде и в развитии не идут одна параллельно другой, не являются слепком одна другой.
Возьмем простой пример, на котором исследователи часто иллюстрируют свои идеи. Пиаже использовал этот пример для того, чтобы показать: логические ступени, по которым проходит разумное мышление ребенка, плетутся в хвосте его речевого развития. Трудно, говорит Пиаже, найти более разительное доказательство того факта, что именно речь внедряет логические категории в мышление ребенка. Не будь речи, ребенок никогда не пришел бы к логике. Полное замыкание ребенка внутри себя никогда, по мнению Пиаже, не пробило бы и легчайшей бреши в стене алогизма, который окружает детское мышление.
Однако исследования показали, что самое трагическое в этом вопросе, как установлено теми же авторами, в частности Штерном, следующее: все нам известное о смысловом развитии детской речи противоречит этому тезису. И психологически просто непонятно, как Штерн, такой сильный мыслитель в области психологии, и другие не заметили зияющего противоречия между отдельными частями своей системы. В частности, самое интересное из того, что в прошлом году говорил Штерн в Москве, относилось к его психологической исповеди о том, как для него в течение десятков лет оставалась незамеченной такая простая мысль, которая теперь кажется ему столь же очевидной, «как письменный прибор на столе».
Сущность заключается в том, что смысловая сторона первого детского слова не имя существительное, а однословное предложение, мысль, которую хорошо описал сам Штерн[136]. Уже отсюда ясно, что ребенок, который произносит отдельные слова, на самом деле в смысловую сторону слова вкладывает не познание предмета (как взрослый), а целое, обычно очень сложное, пред-
409
ложение или цепь предложений. Если детское однословное предложение перевести на наш язык, то нам потребуется целая фраза. Как показал А. Валлон, нужно употребить развернутую фразу, состоящую из ряда предложений, для того чтобы в мысли взрослого дать эквивалент простого, однословного предложения ребенка. Превосходство исследований этих авторов над работами Штерна проистекает из того, что Штерн был лишь наблюдателем своих собственных детей, в то время как Валлон и другие подошли к проблеме экспериментально и стали выяснять, что скрывается за значением первого детского слова. Так получился первый вывод, который является отправным пунктом и который я мог бы сформулировать: в то время как при овладении внешней стороной речи ребенок идет от одного слова к фразе и от простой фразы к сочетанию фраз, при овладении смыслом он идет от сочетания фраз к выделению отдельной фразы и от отдельной фразы к выделению сочетания слов и лишь в конце — к выделению отдельных слов.
Оказалось, что пути развития семической и фазической сторон детской речи не только не представляют собой зеркального слепка, а в известном отношении обратны друг другу.
Я обещал не называть относящихся сюда отдельных экспериментальных исследований, но не могу мимоходом не указать значения проблемы в целом, которая стала нам ясна только сейчас. В экспериментальном исследовании развития смысловой стороны детской речи, как она проявляется в опыте с описанием картинки, мы могли установить, что все намечаемые стадии предметности, действия и т. д. являются, в сущности говоря, не стадиями, по которым течет процесс развития детского разумного восприятия действительности, а ступенями, по которым проходит развитие речи. Прослеживая процесс развития деятельности драматизации, мы сумели показать, что там развитие идет обратным путем, и ребенок, стоящий на фазе называния предметов, в действии передает содержание в целом. Аналогичные опыты, проделанные на основании указаний А. Валлона, Люиса и других, показали, что, когда ребенок поставлен в необходимость систематизировать значение своего первого слова, он в этой ситуации передает значение связно и отнюдь не указывает на какой-нибудь отдельный предмет.
Не сознавая этого, Пиаже в совершенно другом исследовании в сущности тоже чрезвычайно близко подошел к этому предмету, но истолковал его с той же точки зрения, как истолковывал раньше. Он указывал, что категории детского мышления идут параллельно развитию речи, но только проходят эти ступени позже, что они плетутся в обозе; он показал, что ребенок раньше овладевает речевыми синтаксическими структурами вроде «потому что», «так как», «несмотря на», «хотя», «если бы»,
410
«после того как» и т. д., т. е. овладевает сложными речевыми структурами, назначение которых передать причинные, пространственные, временные, условные, противопоставительные и другие зависимости и взаимоотношения между мыслями, задолго до того, как в его мышлении дифференцируются эти сложные связи. Пиаже приводит этот факт в доказательство своей излюбленной мысли, что логика внедряется в ребенка извне вместе с речью, что ребенок, овладевая внешней речью и не овладевая соответствующими формами мышления, еще находится на эгоцентрической ступени мышления. Однако (ставя это в контекст того, о чем идет речь) Пиаже говорит о том, что и во временно́м отношении моменты овладения речевым выражением сложного предложения и моменты овладения синтезом и логическим выражением в этих синтаксических формах не совпадают. Вся дальнейшая работа Пиаже показала, что они не только хронологически не совпадают, как утверждает Пиаже, но они не совпадают и с точки зрения структуры. Иначе говоря, последовательность в овладении логическими структурами, которые для нас выражаются в синтаксической форме речи, с одной стороны, и последовательность в развитии этих синтаксических форм речи, с другой, не только не совпадают во времени, но и по структуре идут противоположными путями. Вспомните, что развитие детской речи идет от слова к фразе, в то время как развитие смысла в детских высказываниях идет от целой фразы к отдельным словам.
Если бы мы обратились к другой области современного экспериментального исследования, то увидели бы, что в функционировании развитой человеческой мысли, как оно представляется каждому из нас, сами процессы мышления и речи не совпадают друг с другом. В отрицательной части этот тезис известен давно, но экспериментаторам он стал доступен буквально несколько лет назад. Что же показывают эти исследования? Они показывают то, что, строго говоря, в психологическом и лингвистическом анализе в общей форме было установлено и раньше, но что экспериментально удалось создать, проанализировать и раскрыть в причинной связи и зависимости только недавно.
Если мы рассмотрим любую грамматическую, синтаксическую форму, любое речевое предложение, то увидим, что грамматическая форма этого предложения не совпадает с соответствующим смысловым единством, которое выражается в данной форме.
Самое простое соображение идет из области простейшего анализа языковых форм. Скажем, если в школьной грамматике старого времени учили, что существительное есть название предмета, то с логической точки зрения мы знаем, что имя существительное — одна из грамматических форм — фактически обозна-
411
чает различные грамматические категории, например, слово «изба» является существительным, названием предмета, слово «белизна» аналогично слову «изба» по грамматической стороне, но слово «белизна» — это название качества, как «борьба», «ходьба» — названия действия. В результате несовпадения логического значения с грамматической формой и возникла в грамматике борьба между школами, по-разному подходившими к необходимости различать языковые формы, их судьбу и типы, смысловое наполнение этих форм. Сравнительные исследования Першица выражения мысли на разных языках, в которых существуют разные грамматические формы, например на французском и русском языках (во французском языке существует несколько видов прошедшего времени и два вида будущего времени, а в русском языке — только одна форма будущего времени), показали, что и здесь семантическое наполнение фраз, т. е. смысловое наполнение, речевая сторона не совпадают по структуре. В частности, приведу последний из примеров этого ряда — пример из опытов, которые были поставлены в связи с предложением Пешковского, занимавшегося психологическим анализом русского синтаксиса. Эти опыты показали, что в различных психологических ситуациях различная по психологической природе мысль находит одну и ту же речевую формулировку, что психологически подлежащее и сказуемое никогда не совпадают непосредственно с грамматическим сказуемым и подлежащим и что ход мысли часто бывает обратным ходу построения соответствующей фразы.
Все эти факты, взятые вместе, дополненные экспериментальными наблюдениями и исследованиями над патологическим материалом, т. е. над различными формами нарушения, расстройства речи и мышления, привели исследователей к убеждению: фазическая и смысловая стороны речевого мышления, являясь теснейшим образом связанными между собой и представляя, в сущности говоря, два момента единой, очень сложной деятельности, тем не менее не совпадают друг с другом. Эти стороны неоднородны по психической природе и имеют своеобразные кривые развития, из соотношения которых только и может быть правильно объяснено состояние развития детской речи и детского мышления на каждой данной ступени. Иначе говоря, ни старое представление, что смысловая сторона речи — это простое отражение внешней речевой структуры, ни то представление, на котором настаивал Пиаже, что смысловая структура и категории плетутся в хвосте за речевым развитием, не подтвердились экспериментально — оба оказались противоречащими экспериментальным данным.
Возникает вопрос о положительном значении этого факта: как же в свете новых экспериментальных данных можно с пози-
412
тивной стороны охарактеризовать отношения, существующие между словом и его значением, между речевой деятельностью и человеческим мышлением?
Я могу остановиться только на двух центральных моментах, которые характеризуют эту проблему с положительной стороны, чтобы дать схематическое представление о направлении отдельных работ.
Первый момент заключается опять в кратко формулируемом тезисе, представляющем как бы сгущенный итог ряда разрозненных исследований различных авторов, которых я не имею возможности называть в отдельности. Этот итог можно сформулировать так: значения детских слов развиваются. Иначе говоря, с усвоением значения какого-нибудь слова еще не заканчивается работа над этим словом. Поэтому, хотя внешне создается иллюзия, будто ребенок уже понимает обращенные к нему слова и сам осмысленно употребляет эти слова так, что мы можем его понять, хотя внешне создается впечатление, что ребенок достиг в развитии значения слов того же самого, что и мы, однако экспериментальный анализ показывает: это только первый шаг к развитию значения детских слов.
Развитию значения детских слов, т. е. выяснению той лестницы, из ступеней которой строится семантическая сторона детской речи, посвящен ряд исследований. Их я сейчас имею в виду13. В частности, в современной детской психологии предложены конкретные схемы, характеризующие ту или иную сторону в развитии значений детских слов. Ни одна из этих попыток не может рассматриваться не только как окончательное, но даже как сколько-нибудь предварительное решение вопроса; однако же все вместе они дают богатый материал для того, чтобы представить грандиозную сложность развития смысла детских слов, детского знания.
Первичное приближение раскрывает перед исследователем факт чрезвычайной сложности, с которой вряд ли может справиться современная экспериментальная мысль, если только не понять той трудности, которая необходима, чтобы описать возникающие здесь процессы. Выводы, которые делаются из этого положения, имеют существенное значение для детской психологии и для выяснения всей проблемы мышления в двух отношениях.
Старое представление о том, что развитие детской речи, или, как выражается Штерн, основная работа по развитию детской речи заканчивается в 5 лет, когда ребенок овладел лексиконом, грамматикой и синтаксисом родного языка, неправильно: оказывается, не главная, а лишь предварительная работа заканчивается к 5 годам. Возраст, который рассматривали в отношении речевого развития как период, не вносящий ничего нового, —
413
первый школьный возраст, — который рассматривали как период лишь дальнейшего количественного роста детских представлений и дальнейшего уточнения элементов и их связей внутри данного представления, этот возраст теперь выдвигается на первое место по богатству и сложности процессов, происходящих в развитии детского слова.
Методическое значение этих исследований заключается в том, что они научили психологов сложному и трудному искусству изучения, как выражается О. Зельц, скрытых процессов развития значения слов. В самом деле, вот перед вами ребенок, у которого вы наблюдаете развитие речи. Вы констатируете с помощью простого наблюдения, что он переходит от простого слова к употреблению трех слов[137], целых фраз, но, когда вы хотите констатировать, каким путем идет знание ребенка, вы должны обратиться к вскрытию таких процессов, которые не даны в непосредственном наблюдении и которые образуют, по выражению Зельца, скрытый процесс развития. Его и должна изучать психология.
Психология в значительной степени уточнила свою методику, но, пожалуй, основное значение этих исследований заключается в том, что она позволила дать предварительный, но все же конкретный, построенный на экспериментальных исследованиях ответ на одну из центральных проблем современного учения о психических функциях ребенка, о чем я говорил много раз вскользь, — пролить свет на проблему системных отношений и связей между отдельными психическими функциями ребенка в их развитии.
Известно, что психология всегда исходила из этого положения как из постулата. Всегда предполагалось, что все психические функции действуют совместно, что они друг с другом связаны; однако никогда не исследовалась природа связей, то, как функции связаны между собой и что в них изменяется в зависимости от этой связи. Больше того, предполагалось, что связь остается неизменной на всем протяжении детского развития. Затем ряд исследований показал, что это предположение неверно, и постулат сделался проблемой, т. е. заранее положенное без критики допущение стало предметом реального исследования.
Мы с вами в анализе восприятия и памяти подошли к таким проблемам современного экспериментального исследования этих функций, которые (проблемы) оказались неразрешимыми вне того, чтобы привлечь к объяснению их судьбы развитие межфункциональных связей и отношений. В предыдущих лекциях нам пришлось бегло затрагивать проблему системы психических функций. Это позволило выдвинуть гипотезу, кажущуюся мне не только плодотворной, но в известном смысле служащей точкой опоры для целого ряда исследований; она как раз
414
исходит из гипотезы детского мышления в том плане, о котором я говорю. Сущность гипотезы заключается в том, что вся система отношений функций друг с другом определяется в основном господствующей на данной ступени развития формой мышления. Иначе говоря, мы можем утверждать: в зависимости от того, какой степени достиг ребенок в развитии значения слов, находятся все основные системы его психических функций. Будем ли мы иметь дело с осмысленным, ортоскопическим или синкретическим восприятием — все это зависит от ступени развития значения детских слов.
Таким образом, центральным для всей структуры сознания и для всей системы деятельности психических функций является развитие мышления. С этим тесно связана и идея интеллектуализации всех остальных функций, т. е. изменения их в зависимости от того, что мышление приводит на определенной ступени к осмысливанию этих функций, что ребенок начинает разумно относиться к своей психической деятельности. В зависимости от этого целый ряд функций, которые действовали автоматически, начинают действовать сознательно, логически. Эта идея психологического исследования представляется мне точкой опоры, от которой берет начало целый ряд исследований, проводящих практическую проверку этой гипотезы. Еще более широкое значение заключается в том, что отсюда делаются попытки (и в этом, мне кажется, значение этой идеи для педагогики) показать: степень развития детской мысли, степень развития ее категорий являются психологической предпосылкой развертывания определенной системы осознанной или неосознанной детской мысли.
Так же как и основные формальные ступени, по которым идет построение личности ребенка, эти ступени связаны непосредственно со степенью развития его мышления, ибо в зависимости от того, в какой системе знаний реализуется весь внешний и внутренний опыт ребенка, стоит и то, каким психическим аппаратом расчленяется, анализируется, связывается, обрабатывается его внешний и внутренний опыт. В частности, одна из центральных проблем, стоящих перед нашей психологией, проблема психологического освещения, с одной стороны, путей, которые приводят ребенка к политехническому воспитанию, а с другой — путей, по которым действует политехническое воспитание, соединяющее практическую деятельность ребенка с усвоением научных знаний. Эта проблема, мне думается, ни в одной из развернутых детской психологией глав не находит такой близкой точки соприкосновения, от которой открываются пути для реального, конкретного исследования, как в учении о зависимости всей деятельности ребенка и всего его мышления от внешней действительности, зависимости ее от развития смысловой стороны детской речи.
415
ЭМОЦИИ И ИХ РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Современное состояние учения об эмоциях в психологии и теоретическое развитие этого учения представляют большое своеобразие по сравнению с остальными главами психологии: в этой главе психологии безраздельно до самого последнего времени господствует чистый натурализм, который был глубоко чужд остальным главам психологии. Эти главы, о которых шла речь выше, к чисто натуралистическим теориям в завершенном виде пришли лишь с появлением бихевиоризма и других поведенческих направлений[138]. В этом смысле можно сказать, что в главе старого учения об эмоциях содержится в методологическом отношении весь будущий бихевиоризм, так как в известной мере бихевиористское направление в психологии представляет резкий контраст, резкую реакцию на прежнюю спиритуалистическую интроспективную психологию. Отсюда естественно, что глава об эмоциях, которая разрабатывалась преимущественно в чисто натуралистическом плане, являлась белой вороной среди остальных глав, из которых складывалась тогдашняя психология.
Причин этому было много. Для нас достаточно указать на ближайший повод, который связан с именем Ч. Дарвина. Дарвин, завершая большую и старую традицию биологии, в работе «Происхождение выразительных движений человека» поставил в генеральную связь эмоции человека с соответствующими аффективными и инстинктивными реакциями, наблюдаемыми в животном мире. Дарвину в этюде об эволюции и происхождении человеческих выразительных движений, разумеется, была дорога его основная эволюционная идея. Ему было важно, как он говорит в одном из писем, недавно опубликованном на русском языке, показать, что чувства человека, которые считались внутренней «святая святых» человеческой души, имеют животное происхождение, как и весь человек в целом. И действительно, общность эмоциональных выражений человека и, во всяком случае, высших животных, стоящих наиболее близко к человеку, настолько очевидна, что почти не поддается никакому оспариванию.
Как известно, английская психология, временно находившаяся под властью схоластической мысли с сильными средневековыми религиозными традициями, относилась с чрезвычайной хитростью, как говорит один из современных историков, к идее Дарвина. Как ни странно, эта психология, проникнутая
416
религиозными традициями, встретила дарвинские положения, развитые его учениками, чрезвычайно сочувственно, исходя из того, что Дарвин доказал: земные страсти человека, его корыстные влечения, эмоции, связанные с заботами о собственном теле, действительно имеют животное происхождение.
Таким образом, сразу был дан толчок для двух направлений, по которым пошла работа психологической мысли: с одной стороны, продолжая в положительном направлении дарвинские идеи, ряд психологов (частью Г. Спенсер14 и его ученики, частью французские позитивисты — Т. Рибо15 и его школа, частью немецкая биологически ориентированная психология) стали развивать идеи о биологическом происхождении человеческих эмоций из аффективных и инстинктивных реакций животных. Отсюда и создалась та теория эмоций (рудиментарная, как называют ее в литературе), которая вошла почти во все учебники, в том числе и наши.
С точки зрения этой теории выразительные движения, сопровождающие наш страх, рассматриваются, по известному выражению, как рудиментарные остатки животных реакций при бегстве и обороне, а выразительные движения, сопровождающие наш гнев, рассматриваются как рудиментарные остатки движений, сопровождавших некогда у наших животных предков реакцию нападения. По известной формуле, страх стал рассматриваться как заторможенное бегство, а гнев — как заторможенная драка[139]. Иначе говоря, все выразительные движения стали рассматриваться ретроспективно. В этом отношении замечательны слова Рибо, что эмоции являются единственной[140] областью в человеческой психике, или, как говорит он, «государством в государстве», которые могут быть поняты только ретроспективно. Идея Рибо заключалась в том, что эмоции есть «умирающее племя», или «цыгане нашей психики». Действительно, с этой точки зрения единственный вывод, к которому приходили психологические теории, заключался в том, что аффективные реакции у человека — остатки его животного существования, остатки, которые бесконечно ослаблены во внешнем выражении и внутреннем течении.
Таким образом, получилось впечатление, что кривая развития эмоций идет вниз. И если мы сравним, как предлагал один из последних учеников Спенсера, животное и человека, ребенка и взрослого и, наконец, примитивного и культурного человека, то увидим, что вместе с ходом развития эмоции отступали на задний план. Отсюда, как известно, знаменитое предсказание о том, что человек будущего — человек безэмоциональный, который, по сути дела, должен дойти до логического конца и утратить последние остаточные звенья той реакции, которая имела известный смысл в древнюю эпоху его существования.
417
Само собой разумеется, что с этой точки зрения только одна глава в психологии эмоций могла разрабатываться в адекватном плане — глава об эмоциональной реакции животных и развитии эмоций в животном мире. Эта глава разработана современной психологией наиболее глубоко и обстоятельно. Что касается психологии человека, то, наоборот, такая постановка вопроса исключила возможность адекватного изучения того, что составляет специфические особенности эмоций человека. Такая постановка вопроса, вместо того чтобы выявлять, как обогащаются эмоции в детском возрасте, наоборот, учила, как подавляются, ослабляются, устраняются те непосредственные эмоциональные разряды, которые свойственны раннему детскому возрасту. Что касается изменения силы эмоций от первобытного человека до нашего времени, то этот путь рассматривали как прямое продолжение эволюции, заключающееся в следующем: в то время как развитие человеческой психики шло вперед, эмоции отступали назад. Это была, говорит Рибо, славная история умирания целой области психической жизни.
Если рассматриваемая с биологической стороны эмоциональная жизнь казалась умиранием целой сферы психической жизни, то непосредственный психологический опыт, а затем и экспериментальные исследования наглядно доказали абсурд этой мысли.
Еще Н. Н. Ланге 16 и У. Джемс поставили себе задачу, каждый идя разным путем (Джемс — более сознательно как психолог, а Ланге — более бессознательно как физиолог), найти источник живучести эмоций, как говорит Джемс, в самом организме человека и тем самым освободиться от ретроспективного подхода[141] к человеческим эмоциям. Ланге и Джемс нашли источник живучести эмоций в органических реакциях, сопровождающих наши эмоциональные процессы. Эта теория настолько широко известна, настолько вошла в учебники, что останавливаться на ее изложении нет надобности. Напомню, что главнейшим поворотным моментом в этой теории было изменение традиционной последовательности тех моментов, из которых складываются эмоциональные реакции.
Известно, что для психологов до Джемса и Ланге ход эмоционального процесса представляется таким образом: первым звеном является внешнее или внутреннее событие, восприятие которого вызывает эмоцию (скажем, встреча с опасностью), затем переживание самой эмоции (чувства страха) и потом соответствующее телесное, органическое выражение (сердцебиение, побледнение, дрожь, пересыхание горла — все симптомы, сопровождающие страх). Если раньше психологи намечали такую последовательность: восприятие, чувство, выражение, то Джемс и Ланге предложили рассматривать этот процесс в иной последовательности, указывая на то, что непосредственно за вос-
418
приятием того или иного события возникают рефлекторно вызываемые органические изменения (для Ланге преимущественно вазомоторные, для Джемса — висцеральные, т. е. совершающиеся во внутренних органах). Эти изменения, происходящие рефлекторным путем при страхе и других эмоциях, воспринимаются нами, а восприятие собственных органических реакций и составляет основу эмоций[142].
Согласно этому учению, в классической формуле Джемса, которая сейчас на много ладов переиначивается, потому что каждая теория старается показать свою противоположность с ней, говорится: обычно считали, что мы плачем, потому что огорчены, дрожим, потому что испуганы, бьем, потому что раздражены, а на самом деле следовало бы сказать — мы огорчены, потому что плачем, мы испуганы, потому что дрожим, и мы раздражены, потому что бьем.
Согласно точке зрения Джемса, достаточно подавить внешнее проявление эмоции и она исчезнет и обратно: достаточно вызвать в себе выражение известной эмоции, как эмоция придет вслед за этим выражением[143].
Эта законченная с теоретической стороны и достаточно разработанная теория подкупала двумя моментами: с одной стороны, она действительно давала видимое естественнонаучное, биологическое обоснование эмоциональным реакциям, а с другой — она не имела недостатков тех теорий, которые никак не могли объяснить, почему никому не нужные эмоции, остатки животного существования, продолжают еще жить и оказываются с точки зрения ретроспективного опыта[144] такими важными, такими значительными переживаниями, наиболее близко стоящими к ядру личности. Вы сами знаете, что переживания наиболее эмотивные — это внутренние личные переживания.
Как известно, эти теории Джемса и Ланге, которые очень скоро были объединены в одну общую теорию, встретили вначале упреки в «материалистичности», в том, что Джемс и Ланге хотят свести чувства человека к отражению в его сознании органических процессов, происходящих в его теле. Однако сам Джемс был далек от материализма и выдвинул в ответ на первые упреки тезис, который вошел в его учебник психологии: «Моя теория не может быть ни в коем случае названа “материалистической”». И действительно, его теория не была по существу материалистической, хотя давала повод в ряде случаев называться материалистической из-за использования стихийного материалистического метода[145]. Она не была материалистической и привела к результатам, противоположным материалистическим моментам. Например, нигде так, как в учении об эмоциях, резко не подразделяются высшие и элементарные функции. Это дало почву для дальнейшего развития теории Джемса.
419
Сам Джемс в ответ на упреки в материалистичности пошел путем, который наметился уже у Дарвина в ответ на упреки со стороны английских схоластических психологов. Джемс попытался воздать богу богово, а кесарю кесарево. Он сделал это, объявив, что органическое происхождение имеют только низшие эмоции, унаследованные человеком от животных предков. Это может относиться к таким группам эмоций, как страх, гнев, отчаяние, ярость, но, конечно, неприложимо к таким «субтильным», по его выражению, эмоциям, как религиозное чувство, чувство любви мужчины к женщине, эстетическое переживание и т. д. Таким образом, Джемс резко различал области низших и высших эмоций, в частности интеллектуальную область, которая раньше мало замечалась и которая в последнее время встала в центр экспериментальных исследований. Все эмоции, все те эмоциональные переживания, которые непосредственно вплетены в наши мыслительные процессы и составляют неотъемлемую часть целостного процесса суждения, он отличал от органических основ и рассматривал как процесс sui generis, т. е. процесс совершенно другого рода и другой природы[146].
У. Джемса как прагматиста очень мало интересовал вопрос о природе изучаемого явления, поэтому он говорил, что в практических интересах общества достаточно знать то различие, которое обнаруживает эмпирическое исследование между высшими и низшими эмоциями. С прагматической точки зрения важно было спасти высшие эмоции от материалистического или квазиматериалистического их истолкования.
Таким образом, эта теория привела, с одной стороны, к дуализму, характерному для интуитивной и описательной психологии. Не кто иной, как А. Бергсон, крайний идеалист, в психологических и философских воззрениях совпадавший с Джемсом в ряде моментов, принял его теорию эмоций и прибавил к ней собственные соображения теоретического и фактического характера. С другой стороны, наряду с дуализмом в учении о высших и низших эмоциях эта теория не может быть названа материалистической, как справедливо говорил сам Джемс, ибо в ней не содержится ни грана материализма более, нежели в утверждении: мы слышим в результате того, что окончания нашего ушного нерва подвергаются раздражениям[147] в связи с воздушными колебаниями, воздействующими на нашу барабанную перепонку. Иначе говоря, самые заведомые спиритуалисты и идеалисты никогда не отрицали того простого факта, что наши ощущения, восприятия находятся в связи с материальными процессами, раздражающими наши органы чувств.
Следовательно, в утверждении Джемса, что эмоции являются внутренними восприятиями органических изменений, не содержится большего приближения к материализму, чем в поло-
420
жениях любого параллелиста, который утверждает, что световая волна, вызывая соответствующее раздражение зрительного нерва, приводит в движение нервный процесс, параллельно с которым протекает психическое переживание того или иного цвета, формы, величины и т. п.
Наконец, третье, самое важное: эти теории заложили камень для построения целого ряда метафизических теорий в учении об эмоциях. В этом отношении теория Джемса и Ланге была шагом назад по сравнению с работами Дарвина и тем направлением, которое непосредственно от него развивалось. Если надо было спасти эмоции и показать, что это не умирающее племя, то Джемс не нашел ничего лучшего, чем прикрепить эмоции к самым неизменным, самым низким в историческом развитии человечества органам — внутренним органам, которые являются, по Джемсу, действительными носителями эмоций. Тончайшие реакции кишок и сердца, ощущения, исходящие от внутренних полостей и органов, игра вазомоторных реакций и другие подобные изменения — вот те вегетативные, висцеральные, гуморальные моменты, из восприятия которых складываются, по Джемсу, эмоции. Таким образом, эта теория отрывала эмоции от сознания и завершала то, что было сделано ранее[148].
Я говорил, что, по взглядам Рибо и других авторов, эмоции представляют государство в государстве в человеческой психике. Это значит, что эмоции рассматривались изолированно, оторванно от единого целого, от всей остальной человеческой психической жизни, и теория Джемса и Ланге дала анатомо-физиологическое оправдание этой идее государства в государстве. Джемс сам подчеркнул это с большой ясностью. Он говорил: в то время как орган человеческой мысли — мозг, орган эмоций — вегетативные внутренние органы. Самый субстрат эмоций тем самым переносился с центра на периферию. Нечего говорить, что теория Джемса и Ланге более прочно, чем предшествующие теории, закрывала всякие двери для постановки вопроса о развитии эмоциональной жизни. Там было какое-то, как выражается сам Джемс, воспоминание о развитии, там в ретроспективном анализе рассматривали эмоции человека как некогда возникшие в процессе развития. Здесь совершенно исключалась возможность представить генезис человеческих эмоций, возникновение каких бы то ни было новых эмоций в процессе исторической жизни человека[149].
Таким образом, замыкая круг, Джемс, как и его последователи, снова возвращался к основной идеалистической концепции эмоций. Именно он говорил, что в исторический период развития человечества совершенствовались и развивались высшие человеческие чувства, которые неизвестны животным. Но все то, что человек получил от животного, осталось в неизменном виде,
421
ибо это есть, как выражается Джемс, простая функция его органической деятельности. Это значит: теория, которую сначала выдвигали для доказательства (как я говорил уже о Дарвине) животного происхождения эмоций, кончила доказательством совершенного отсутствия связи в развитии того, что человек получил от животного, и того, что возникло в исторический период. развития. Тем самым эти авторы действительно воздали богу богово, кесарю кесарево, т. е, попытались установить, с одной стороны, чисто спиритуалистическое значение ряда высших эмоций, с другой — ряд чисто органических, физиологических по значению, низших эмоций.
Экспериментальные атаки на эту теорию велись в двух направлениях: со стороны физиологических лабораторий и со стороны психологических лабораторий.
Физиологические лаборатории сыграли по отношению к теории Джемса и Ланге предательскую роль. Первоначально физиологи были воодушевлены этой теорией и год за годом приносили новые данные, подтверждающие теорию Джемса. Очевидно, в теории заключается некоторая несомненная правда; очевидно, органические изменения, специфические для эмоциональной реакции, чрезвычайно богаты и разнообразны. Сравнивая то, что сказал о них Джемс, и то, что мы знаем сейчас, действительно можно увидеть, какой громадный и плодотворный путь для эмпирических исследований был открыт Джемсом и Ланге. В этом их громадная историческая заслуга.
Предательскую роль физиологических лабораторий сыграла известная книга У. Кеннона17, переведенная на русский язык. Книга насквозь двойственная, и если это сразу не было отмечено, то потому, во-первых, что работа отразила ранний этап в развитии физиологического исследования и, во-вторых, была издана у нас с предисловием Б. М. Завадовского18, который рекомендует книгу Кеннона как конкретное экспериментальное доказательство правильности теории Джемса — Ланге. Между тем, стоит только внимательно проанализировать содержание экспериментов Кеннона, чтобы увидеть: они, в сущности говоря, приводят к отрицанию теории Джемса и Ланге.
В основе теоретических проблем, которые более всего занимали Ланге и Джемса при создании их знаменитой теории, были две мысли: 1) рассматриваемая с биологической стороны эмоция является отражением в сознании физиологических состояний; 2) эти состояния специфичны для разных эмоций.
Вы, вероятно, читали ряд книг о последних работах Кеннона и его школы. В опытах над кошками, собаками и другими млекопитающими Кеннону удалось с помощью очень сложных методов исследования, с помощью экстирпации[150], искусственной интоксикации, сложного биохимического анализа экспериментально
422
доказать, что действительно при состоянии ярости, гнева, страха у кошек, у собак возникают глубочайшие гуморальные изменения, связанные с реакцией внутрисекреторных желёз, в частности надпочечников, что эти изменения сопровождаются глубокими изменениями всей висцеральной системы, т. е. все внутренние органы реагируют на это, и что в зависимости от этого каждая эмоция связана с серьезными изменениями состояния организма. Однако уже в первой работе, которая могла показаться Завадовскому подтверждением теории Джемса и Ланге, Кеннон наткнулся на факт чрезвычайной важности.
Как ни странно, пишет он, но такие различные эмоции, как ярость, страх, испуг, гнев, имеют одинаковое органическое выражение[151]. Поэтому Кеннон уже в этой работе вносит поправку в формулу Джемса. Если Джемс сказал: мы огорчены, потому что плачем, — то это, по мнению Кеннона, надо несколько изменить и сказать: мы или огорчены, или умилены, или растроганы, или вообще переживаем самые различные эмоции, потому что мы плачем. Иначе говоря, Кеннон стал отрицать на основании своих экспериментальных данных однозначную связь, существующую между эмоцией и ее телесным выражением: Кеннон показал, что телесное выражение неспецифично для психической природы эмоций; по кардиограмме, по гуморальным и висцеральным изменениям, по химическому анализу, по анализу крови животных нельзя сказать, переживает ли животное страх или ярость; телесные изменения при диаметрально противоположных с психологической точки зрения эмоциях оказываются одинаковыми. Однако Кеннон в этой работе, отрицая специфичность телесных выражений для каждого рода эмоций, отрицая однозначную связь, существующую между данным видом эмоций и данной структурой ее телесного выражения, не подверг сомнению основной тезис Джемса: эмоции являются отражением в нашем сознании органических изменений. Наоборот. Так как Кеннон открыл целый ряд экспериментально доказанных фактов, показывающих, что органические изменения многообразны, тем самым он как будто подкрепил теорию Джемса и Ланге. Но в дальнейших исследованиях, которые сейчас опубликованы, Кеннон должен был прийти к выводу, что найденные факты неспецифичности телесного выражения эмоций на самом деле приводят к полному отрицанию, к признанию несостоятельности теории Джемса и Ланге. В этих экспериментах Кеннон получил ряд важных фактов.
Снова и снова варьируя в психологическом эксперименте ситуацию, в зависимости от которой у животного возникали разнообразные и сильные эмоции, он находил одинаковые телесные выражения. Новым было только то, что яркость этих телесных выражений оказалась в зависимости не столько от качества
423
самой эмоции[152], сколько от силы ее проявления. Затем Кеннон произвел ряд сложных опытов, когда у животного удалялась в значительной части симпатическая нервная система, извлекался ствол симпатических узлов и, таким образом, устранялась всякая реакция органического характера. Были изучены для сравнения два животных: кошка, у которой вследствие экстирпации симпатической нервной системы[153] никакой страх или ярость не вызывали ни выделения адреналина, ни других гуморальных изменений, и контрольная кошка, у которой все эти реакции вызывались.
Основным выводом было, однако, то, что обе кошки вели себя в аналогичной ситуации совершенно одинаково. Иначе говоря, у кошки с экстирпацией симпатической нервной системы выражение эмоций наблюдалось в той же степени, как и у другой кошки. Она так же реагировала, когда собака приближалась к ней и к ее котятам, она так же реагировала, когда у нее у голодной отбирали пищу, она так же реагировала, когда, будучи голодной, смотрела через узкое отверстие на пищу. Иначе говоря, все эти реакции были проверены на животных двоякого типа, и в результате один из основных элементов Джемса был отвергнут экспериментально. Эксперимент опроверг знаменитое положение Джемса об умственном вычитании симптомов эмоций. Согласно Джемсу, если мы вычтем мысленно из эмоции страха дрожь, подгибание колен, замирание сердца и т. д., то увидим, что от эмоции ничего не останется. Кеннон попытался сделать это вычитание и показал, что эмоция все же осталась. Таким образом, центральным моментом исследований Кеннона явилось доказательство наличия эмоционального состояния животного при отсутствии соответствующих вегетативных реакций[154].
В другом ряде опытов животным, а затем и людям делали соответствующую инъекцию, вызывающую искусственные органические изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются при сильной эмоции[155]. Оказалось, что вызывание соответствующих органических изменений у животных возможно без появления известных эмоций. У животных наблюдается такое же изменение сахара в крови, изменение кровообращения и т. д., как и в случае эмоции, но эмоции не возникает.
Значит, та же судьба постигла второе утверждение Джемса: если мы вызовем внешнее выражение, сопровождающее эмоцию, то явится и эмоция. Этот момент также оказался неправильным[156].
Опыты Кеннона с людьми не дали однозначных результатов[157]. В то время как у огромного большинства его испытуемых эмоции не вызывались, у некоторой части соответствующие инъекции вызывали эмоцию. Однако это получалось очень редко и только тогда, когда испытуемый приходил как бы «на взводе», был до известной степени подготовлен к эмотивному взрыву, к
424
эмотивному разряду. При последующих объяснениях выяснялось, что у испытуемого был повод для огорчения или радости и соответствующая инъекция являлась возбудителем, который воспроизводил эти эмоции[158]. Другой момент заключался в следующем: при интроспективном отчете испытуемых оказывалось, что ни у одного из них не возникало ни чувства страха, ни гнева, ни робости, но все объясняли свое состояние так: я чувствовал себя так, как если бы боялся, как если бы испытывал гнев и был на кого-нибудь рассержен. Попытки создать внутреннее переживание испытуемого, т. е. экспериментально вызванное сознательное восприятие внутренних органических изменений, приводили лишь к тому, что возникало состояние, напоминающее эмоцию, но самая эмоция в собственном психологическом смысле отсутствовала[159].
Таким образом, опыты, проведенные на людях, с использованием интроспективного анализа, внесли некоторую поправку в данные Кеннона. Они показали, что органическое выражение эмоций не столь безразлично для эмоциональных состояний, как полагал Кеннон, исходя из опытов с экстирпациями на животных.
Общие выводы, к которым приходит Кеннон и которые являются выводами из ряда экспериментальных исследований в этой области, заключаются в двух основных положениях. Первый вывод приводит Кеннона и всех физиологов и психофизиологов, работающих в этой области, к опровержению теории Джемса и Ланге, которая не выдерживает экспериментальной критики, не выдерживает проверки фактами. Именно поэтому одна из основных работ Кеннона называется «Альтернатива к теории Джемса и Ланге».
Другой вывод вытекал из того, что Кеннону как биологу нужно было, конечно, объяснить хотя бы гипотетически парадокс, возникающий в результате его опытов. Если те глубокие органические изменения, которые происходят при сильных эмоциональных реакциях у животного, оказываются совершенно несущественными для эмоций и если эмоция сохраняется, несмотря на вычитание всех этих органических изменений, как же биологически понять, для чего эти глубокие изменения нужны?[160] Если в первой работе Кеннона показана биологическая функциональная значимость тех изменений, которые происходят во время эмоции, то теперь Кеннон ставит вопрос об объяснении с биологической точки зрения того, что кошка, лишенная симпатической нервной системы и всех гуморальных и висцеральных реакций, которые сопровождают аффект страха, реагирует на угрозу по отношению к ее котятам так же, как и кошка, сохранившая эти реакции. Ведь эти реакции с биологической точки зрения становятся непонятными и неестественными, если они не играют
425
существенной роли в биологических функциональных изменениях, которые происходят во время эмоций.
У. Кеннон объясняет противоречие следующим образом: всякая сильная эмоциональная реакция у животного сама по себе есть только начало, но не конец действия и возникает в ситуации критической, жизненно важной для животного. Отсюда понятно, что, по выражению Кеннона, логическим выводом из сильных эмоциональных[161] реакций у животного будет его повышенная деятельность. Так, логическим выводом из страха является у животного бегство, логическим выводом из ярости или гнева — борьба или нападение. Таким образом, все органические реакции существенны не для эмоции как таковой, а для того, что́ наступит после эмоции. Все изменения — увеличение сахара в крови, мобилизация сил организма на борьбу, на бегство — важны потому, что биологически вслед за сильной реакцией у животного следует усиленная мышечная деятельность, все равно, будет ли это бегство или борьба, нападение — во всех случаях эта подготовка организма должна иметь место.
В условиях лаборатории, говорит Кеннон, кошка, лишенная физиологических симптомов эмоций, ведет себя так же, как и кошка с наличием этих симптомов. Но это бывает только в условиях экспериментальной лаборатории, где дело ограничивается изолированными изменениями; в естественной же обстановке кошка, лишенная этих симптомов, погибла бы скорее, чем кошка, не лишенная их. Если бы кошке пришлось бояться и не только бояться, но и убегать, то естественно, что животное, у которого висцеральные процессы не организовали, не мобилизовали бы организм для бегства, погибло скорее, чем другое животное[162].
Самый важный экспериментальный довод в пользу этой гипотезы следующий: Кеннон у животных, а его ученики у людей вызывали усиленную мышечную деятельность. Например, они гнали кошку по желобку (как это делает у нас В. Л. Дуров19), по которому протекал ток, так что каждое мгновение ток заставлял животное спасаться от него, бежать с максимальной быстротой. Оказалось, что простая мышечная работа, усиленное движение сами по себе в этих случаях давали те же органические изменения, что и сильная эмоция. Иначе говоря, все вегетативные симптомы оказались скорее спутниками и выразителями усиленной мышечной деятельности, чем эмоциями самими по себе[163].
Против этого существует возражение, что кошка могла быть напугана той ситуацией, которая создавалась. В ответ Кеннон приводит ряд других экспериментов, которые не содержат моментов, пугающих животное, и все же усиленная мышечная деятельность вызывает те изменения, о которых привыкли думать как о спутниках эмоциональной реакции и которые раньше сам
426
Кеннон принимал за существенный момент эмоций. Оказалось, что указанные симптомы не столько спутники эмоций, сколько добавления к эмоциональным моментам, связанные с инстинктом.
С этой точки зрения, говорит Кеннон, теория Дарвина получает неожиданное оправдание. В этой теории не подлежащим сомнению является тот факт, что наши выразительные движения при ряде эмоций действительно могут рассматриваться как рудиментарные по сравнению с выражением этих эмоций у животных. Но слабое место в этой теории то, что автор не мог объяснить прогрессивного развития эмоций, а наоборот, у него получилось их затухание.
У. Кеннон доказал, что отмирает не сама эмоция, а инстинктивные компоненты эмоции. Иначе говоря, роль эмоций в человеческой психике иная; они изолируются от царства инстинктов и переносятся в совершенно новый план.
Когда охватываешь учение об эмоциях в полноте его исторического развития, то видишь, что, начиная с разных сторон, это историческое развитие шло в одном и том же направлении. Психологические исследования эмоциональной жизни привели к тому же, к чему привели экспериментальные исследования в области психофизиологии. Главнейший принципиальный вывод из работ того направления, о котором я говорил, — своеобразное смещение центра эмоциональной жизни. Кеннон полагал, что главное, сделанное этими работами, то, что они сместили центр эмоциональной жизни от периферии к центру. Он показал, что действительный субстрат, действительные носители эмоциональных процессов — вовсе не внутренние органы вегетативной жизни, не наиболее древние в биологическом смысле органы. Он показал, что в качестве материального субстрата эмоций выступает не экстрацеребральный механизм, не механизм, лежащий вне человеческого мозга[164], благодаря чему создалось учение об эмоциях как об отдельном государстве внутри всей психики, но что им является церебральный механизм[165]. Он связал механизм эмоций с мозгом, а это смещение центра эмоциональной жизни от органов периферии к мозгу вводит эмоциональные реакции в общий анатомо-физиологический контекст всех анатомо-физиологических понятий, которые связывают их ближайшим образом с остальной психикой человека.
Это делает важным и понятным то, что было открыто с психологической стороны другими экспериментаторами, — теснейшую связь и зависимость между развитием эмоций и развитием других сторон психической жизни человека.
Если попытаться кратко сформулировать основные итоги этой исследовательской работы, то надо сказать: она сделала в области психологии нечто аналогичное тому, что Кеннон и его
427
ученики сделали в области психофизиологии эмоций, а именно осуществила сдвиг теории эмоций от периферии к центру. Если там механизм эмоций стал рассматриваться не как экстрацеребральный, а как церебральный, если там была показана зависимость эмоциональных реакций от органа, управляющего всеми остальными реакциями, связанными с психикой человека, то и в этой работе было покончено с учением об эмоциональной жизни человека как о «государстве в государстве».
Целый ряд сравнительных связей и зависимостей стал раскрываться перед исследователями в экспериментах, когда, изучая эмоциональную жизнь, стали понимать всю невозможность той ситуации, которая создалась в теории Джемса и Ланге, разделивших эмоции на два класса, ничего общего не имеющих друг с другом, — высших и низших эмоций. Если идти хронологическим путем, то надо прежде всего назвать З. Фрейда, так как он был одним из первых исследователей, который не экспериментально, а клинически[166] чрезвычайно близко подошел теоретически[167] к тому, что составляло главный тракт дальнейших исследований в этой области.
Как известно, Фрейд, анализируя психопатологию эмоциональной жизни, выступил с отрицанием того, что самым важным для изучения эмоции является изучение органических компонентов, сопровождающих ее. Он говорил, как известно, что не знает ничего более безразличного для определения психологической природы страха, чем знание тех органических изменений, которыми он сопровождается. Фрейд упрекал старую одностороннюю органическую психологию Джемса и Ланге в том, что она изучает шелуху и оставляет неизученным самое психологическое ядро, иначе говоря, изучая работу органов, в которых выражается эмоция, она ничего не делает, чтобы изучить эмоцию как таковую. Фрейд показал чрезвычайную динамику эмоциональной жизни.
Если сделать чисто формальный вывод из его исследований, то, мне кажется, он останется правильным, несмотря на неправильность основного утверждения Фрейда по существу. В частности, страх, по Фрейду, объясняется тем, что в ряде невротических изменений подавленное сексуальное влечение превращается в страх; страх становится невротическим состоянием, эквивалентом целого ряда недостаточно удачно подавленных, вытесненных желаний ребенка. Фрейд доказал, как амбивалентна эмоция на ранних ступенях развития. И как ни ложно объяснение развития, которое дает Фрейд этой амбивалентной эмоции, сам факт прочно вошел в учение о том, что эмоция не существует в самом начале, что вначале происходит некоторая дифференциация ядра, в котором содержатся противоположные чувства[168].
Это положение было важно в другом отношении: оно наме-
428
тило какие-то простейшие возможности в понимании движения эмоциональной жизни. Но главная заслуга Фрейда в данной области следующая: он показал, что эмоции не всегда были такими, какими являются сейчас, что они некогда, на ранних ступенях детского развития, были другими, чем у взрослого человека. Он доказал, что они не «государство в государстве» и не могут быть поняты иначе, чем в контексте всей динамики человеческой жизни. Только здесь эмоциональные процессы получают свое значение и свой смысл[169]. Другое дело, что Фрейд остался натуралистом, каким был и Джемс, трактующим психику человека как чисто природный натуральный процесс, и исследователем, который подходил к динамическим изменениям эмоций лишь в известных натуралистических пределах.
Аналогичные достижения в учении об эмоциях получены в работах А. Адлера20 и его школы. Здесь с помощью наблюдений было показано, что эмоция по функциональному значению связана не только с той инстинктивной ситуацией, в которой она появляется, как это, в частности, происходит у животных, но что она является одним из моментов, образующих характер, что общие взгляды человека на жизнь, структура его характера, с одной стороны, находят отражение в определенном круге эмоциональной жизни, а с другой — определяются этими эмоциональными переживаниями.
Как известно, такое представление о характере и эмоциях привело к тому, что учение об эмоции стало неотъемлемой и центральной частью учения о человеческом характере. Получилось нечто прямо противоположное тому, что было раньше. Если раньше эмоция рассматривалась как удивительное исключение, как умирающее племя, то сейчас эмоция стала связываться с характерообразующими моментами, т. е. с процессами построения и образования основной психологической структуры личности.
В учении К. Бюлера, который с экспериментальной стороны сделал для современной детской психологии больше, чем многие другие, показаны чрезвычайно интересные сдвиги в психологической «топике» эмоций, т. е. в том, какое место занимают эмоции по отношению к различным психическим процессам. Если очень грубо и схематично изложить выводы Бюлера из его экспериментов (а эксперименты — лучшее в его работе), то можно представить его теорию в следующем виде. Отправляясь от критики фрейдовских представлений об эмоциональной жизни, Бюлер обращает внимание не только на то, что на ранней ступени развития психическая жизнь и деятельность ребенка не определяются исключительно принципом удовольствия, но и на то, что самое удовольствие в детском возрасте, рассматриваемое как двигатель, толкающий к тому или иному поступку, мигрирует,
429
блуждает, меняет свое место в системе других психических функций. Бюлер связывает это со своей известной теорией, схематически разделяющей развитие поведения на три ступени: инстинкт, дрессура и интеллект. На основании этой теории Бюлер пытается показать в экспериментально организованных детских играх, что момент удовольствия сдвигается по мере развития ребенка, меняя свое отношение к тем процессам, с которыми он связан. Первой стадией удовольствия является Endlust, т. е. конечное удовольствие[170]. Это момент, характеризующий инстинктивные процессы, по преимуществу связанные с голодом, жаждой, которые сами по себе носят неприятный характер. Первые моменты насыщения сопровождаются явным выражением признаков удовольствия, но по мере завершения инстинктивного акта наступает Endlust — эмоциональное переживание, которое лежит в конце инстинктивной деятельности. Как известно, такова в примитивном и первоначальном виде организация человеческого полового влечения: центральный момент, связанный с удовольствием, заключается в конечном, разрешающем моменте этого инстинктивного акта. Отсюда Бюлер делает заключение, что в плане инстинктивной жизни эмоции, в частности эмоции удовольствия, принадлежит такая конечная, завершающая роль. Эмоции являются как бы чрезвычайно ярко окрашенным моментом в системе психической жизни, который обеспечивает инстинктивной деятельности ее целостное протекание до конца инстинктивного акта.
Вторая стадия, по Бюлеру, функциональное удовольствие (Funktionslust). Эта стадия проявляется в ранней форме детских игр, когда ребенку доставляет удовольствие не столько результат, сколько самый процесс деятельности: здесь удовольствие переместилось от конца процесса к его содержанию, к самому функционированию. Бюлер замечает это и в детской еде. Ребенок в раннем младенчестве и младенец в более поздние месяцы начинают приходить к удовольствию не только по мере насыщения и утоления жажды, но в самом процессе еды; самый процесс становится для них возможным удовольствием. Психологически, говорит Бюлер, то, что ребенок может стать лакомкой, является выражением возникающей Funktionslust; возникновение непосредственного удовольствия локализовано не в конечном эффекте, а в самом процессе деятельности.
Наконец, от второй стадии Бюлер отличает третью стадию, которая связана с предвосхищением удовольствия, т. е. с эмоционально окрашенным переживанием, возникающим в начале самого процесса, когда ни результат действия, ни само выполнение не являются центральным пунктом в целостном переживании ребенка, а когда этот центральный пункт сдвигается к самому началу (Vorlust)[171].
430
Такими особенностями отличаются процессы творческой игры, отгадки, решение какого-нибудь вопроса. Здесь ребенок с радостью находит решение, а затем выполняет то, что он нашел; но получение того, что он должен получить в результате действия, уже не имеет для него существенного значения.
Если мы посмотрим на эти сдвиги в деятельности ребенка с точки зрения их значения, то увидим, что они совпадают с тремя ступенями развития поведения, о которых говорит Бюлер. В плане инстинктивной деятельности господствует такая организация эмоциональной жизни, которая связана с заключительным моментом (Endlust). Удовольствие, получаемое в самом процессе деятельности, необходимый биологический момент для выработки всякого навыка, для которого нужно, чтобы сама деятельность, а не ее результаты находили в себе все время поддерживающий стимул. Наконец, деятельность, превращающаяся в интеллектуальную, сущность которой заключается в том, что Бюлер называет реакцией отгадки (или ага-реакцией), характеризуется такой организацией эмоциональной жизни, когда ребенок выражает эмоциональное переживание в начале этой деятельности; самое удовольствие приводит здесь в движение деятельность ребенка по-иному, чем когда оно развивается в тех двух планах, о которых говорилось раньше.
Другой общий вывод заключается в том, что эмоциональные процессы, как показывает исследование Бюлера, не оседлые, а кочевые в нашей жизни; они не имеют закрепленного, раз навсегда данного места. Мои данные убеждают меня в том, что найденные сдвиги от конечного удовольствия к предвосхищающему являются бледным выражением всего многообразия, которое возможно в эмоциональной жизни и из которого складывается реальное содержание развития эмоциональной жизни ребенка.
Пожалуй, заканчивая этот раздел фактической части нашей сегодняшней темы, я бы мог схематически рассказать о некоторых последних работах, в частности о работе Э. Клапареда, которая ценна тем, что соединила исследование нормального и ненормального ребенка с экспериментальным исследованием взрослого человека; о работах К. Левина, немецкого психолога, принадлежащего к школе структурной психологии, который, как известно, провел ряд исследований в области психологии аффективной и волевой жизни. В двух словах я назову главнейшие итоги тех и других работ и сразу же перейду к заключению.
Значение работ Клапареда в том, что в них удалось экспериментально расчленить понятия эмоции и чувства и их внешнее выражение. Клапаред различает эмоции и чувства как процессы, часто встречающиеся в сходных ситуациях, но в сущности различные. Но так как сегодня нас не могут интересовать во-
431
просы классификации эмоций[172], а интересует вопрос по существу, то мы остановимся не на этой стороне его учения, а на том, что ему удалось показать теснейшую связь эмоций с остальными процессами душевной жизни и психическое многообразие самих эмоций.
Как известно, Фрейд первым поставил вопрос о том, что традиционное учение о биологической полезности эмоций должно быть взято под сомнение. Фрейд, наблюдая невротическое состояние детского и зрелого возраста, на каждом шагу видит поразительный факт, от которого не может отвертеться никакой психолог: оказывается, невротизированный[173] человек и ребенок представляют образец душевной жизни, расстроенной в результате нарушения эмоциональной деятельности. Если правильно старое положение (эмоции — биологически полезное приспособление), то непонятно, почему же эмоции являются причинами таких глубоких и длительных расстройств всего поведения, почему, находясь в состоянии волнения, мы не можем последовательно думать, почему, находясь в расстроенных чувствах, мы не можем последовательно и планомерно действовать, почему в состоянии сильного аффекта мы не способны давать отчет в своем поведении, контролировать свои поступки, иначе говоря, почему острые движения эмоциональных процессов приводят к таким изменениям всего сознания, которые отодвигают на задний план течение ряда функций, обеспечивающих нормальную жизнь сознания. Действительно, при примитивном биологическом и натуралистическом истолковании человеческих эмоций становится совершенно непонятным, почему же эти биологические приспособления, которые так же древни, как сам человек, которые так же необходимы, как потребность в пище и воде, почему же эти самые эмоции являются источником таких сложных пертурбаций в человеческом сознании.
Обратный вопрос, который задает Клапаред, заключается в следующем: если главнейшее функциональное значение эмоций сводится к их биологической полезности, то как объяснить, что мир человеческих эмоций, становящийся все более разнообразным с каждым новым шагом, который человек делает по пути своего исторического развития, приводит не только к расстройствам психической жизни, о которых говорит Фрейд, но и ко всему многообразию содержания психической жизни человека (оно находит свое выражение хотя бы[174] в искусстве)? Почему всякий шаг на пути человеческого развития вызывает работу этих «биологических» процессов, почему интеллектуальные переживания человека сказываются в форме сильных эмоциональных переживаний, почему, наконец, говорит Клапаред, каждый важный поворотный момент в судьбе ребенка и человека так ярко окрашен эмоциональными моментами?
432
Пытаясь ответить на эти вопросы, Клапаред приводит в пример зайца, который испуган, бежит и боится, но спасает его от опасности не то, что он боится; наоборот, то, что он боится, часто расстраивает его бег и губит его. Исходя из этого, Клапаред постарался доказать, что наряду с полезными биологическими эмоциями существуют процессы, которые он называет чувствами. Они являются катастрофами в поведении и возникают тогда, когда биологически адекватная реакция на ситуацию невозможна. Когда животное пугается и убегает, то это одна эмоция, а когда животное испугано настолько, что не может бежать, происходит процесс иного рода[175].
То же самое у человека; здесь мы имеем дело с процессами, которые играют совершенно разную роль, если их рассматривать с внутренней стороны, хотя они кажутся сходными, если рассматривать их с внешней стороны. Так, человек, который знает об опасности дороги и заранее вооружается, и человек, который не знает этого и подвергается нападению; человек, который может убежать, и человек, которого застает опасность врасплох, иначе говоря, человек, который может адекватно найти выход из ситуации, и человек, который не может его найти, — в обоих случаях будут иметь место процессы, отличные по своей психологической природе[176]. Эксперимент Клапареда и изучает реакции с разными исходами, и это приводит его к разделению аффективной жизни на эмоции и чувства. Это различение имеет большое значение именно потому, что в старой психологии черты эмоции и черты чувства смешивались механически и приписывались одним и тем же процессам, которые в действительности не существуют.
Следует упомянуть, наконец, и работы К. Левина, которые экспериментально показали очень сложную динамику эмоциональных реакций в системе других психических процессов. В частности, он провел первое экспериментальное исследование такого процесса, который, с легкой руки Фрейда и Адлера, считался недоступным экспериментальному изучению и красноречиво назывался «психологией глубины».
К. Левин показал, как одно эмоциональное состояние превращается в другое, как возникает замещение эмоциональных переживаний, как не разрешенная, не доведенная до конца эмоция продолжает существовать часто в скрытом виде. Он показал, как аффект входит в любую структуру, с которой связан. Основная идея Левина заключается в том, что аффективные, эмоциональные реакции не могут встречаться в изолированном виде, как особые элементы психической жизни, которые лишь позднее сочетаются с другими элементами. Эмоциональная реакция есть своеобразный результат данной структуры психического процесса. Левин показал, что исходные эмоциональные
433
реакции могут возникать как в спортивной деятельности, развивающейся во внешних движениях, так и в спортивной деятельности, протекающей в уме, например в шахматной игре. Он показал, что в этих случаях возникают различные содержания, соответствующие разным реакциям, но структурное место эмоциональных процессов остается тем же самым.
Перейду к выводам. Обе линии, которые я старался проследить в лекции: с одной стороны, анатомические и физиологические исследования, перенесшие центр эмоциональной жизни от внемозгового механизма к мозговому, а с другой — психологические исследования, переместившие эмоции с задворков человеческой психики на передний план и выведшие их из изолированного состояния «государства в государстве», введя их в структуру всех остальных психических процессов, — обе эти линии встречаются в психопатологии, как это всегда имеет место в изучении психической жизни.
В психопатологии мы находим блестящую аналогию, которая дала повод клиницистам совершенно независимо от Кеннона, Клапареда и других сформулировать обе стороны того тезиса, который возникает из объединения этих двух сторон одного и того же учения. Так как в наш курс не входят данные психопатологии, я могу ограничиться лишь суммарными выводами. С одной стороны, при нервных поражениях и заболеваниях клиницисты неоднократно наблюдали случаи, когда у человека вследствие болезненного поражения мозга, в частности зрительного бугра в подкорковой области, возникает насильственный смех или улыбка, появляющиеся через каждые несколько минут. Характерно, что это состояние не вызывает эмоции радости, но переживается самим больным как мучительная, навязанная гримаса, которая находится в резком контрасте с его действительным состоянием.
Мне пришлось экспериментально изучить и описать один из случаев таких навязчивых движений, возникших в результате энцефалита и приведших женщину к глубоким, мучительным переживаниям. Она чувствовала страшный контраст между тем, что выражало ее лицо и что она переживала в действительности. Нечто подобное создал в своем воображении В. Гюго в романе «Человек, который смеется».
С другой стороны, клиницисты, в частности Вильсон и Г. Хэд, которым психология обязана большими вкладами, наблюдали обратное явление. При одностороннем поражении зрительного бугра они наблюдали чрезвычайно интересные изменения эмоциональной жизни: человек, нормально испытывающий эмоциональную реакцию, идущую с правой стороны тела, испытывает болезненную реакцию, когда раздражение идет с левой стороны.
434
Аналогичные случаи приходилось видеть и мне. Если вы прикладываете такому человеку припарки справа, то он испытывает обычное приятное ощущение. Стоит же приложить такие же припарки с левой стороны, мы наблюдаем неумеренное выражение восторга. Чувство приятности увеличивается до патологических размеров. То же самое происходит при прикосновении скользким, холодным и т. д. Э. Кречмером описан больной со сложными состояниями, связанными, в частности, с переживанием музыки. Он испытывал различные переживания в зависимости от того, каким ухом он слушал музыку.
Эти исследования, идущие главным образом из нервной клиники, дали, с одной стороны, психологический материал, который показал правильность точки зрения Кеннона; с другой — материал, который показал, что анатомическим субстатом[177] эмоциональных реакций являются, по-видимому, определенные церебральные механизмы подкорковой области или, точнее, области зрительного бугра, связанного многими путями с лобными долями коры. Отсюда корково-подкорковая локализация эмоций становится столь же определенной в глазах современной неврологии, как локализация моторных центров речи в области Брока21 и сенсорных центров речи в зоне Вернике22.
Эти исследования касались психопатологии в узком смысле слова, в частности патологии шизофрении. Сюда относятся работы Э. Блейлера, которые показали, что при патологических изменениях наблюдается следующее изменение эмоциональной жизни: сами по себе основные эмоции сохраняются, но, если можно так выразиться, нормальное место этих эмоций в душевной жизни человека сдвинулось, сместилось. Будучи способным эмоционально реагировать, человек в целом являет картину расстройства сознания, из-за того что эмоции потеряли в его душевной жизни то структурное место, которое принадлежало им раньше. В результате у больного возникает совершенно своеобразная система отношений между эмоциями и мышлением. В частности, ярчайшим примером такой новой психологической системы, которая имеет аналогом нормальное сознание, но которая является выражением психопатологического состояния, служит хорошо изученное Блейлером и экспериментально доказанное К. Шнейдером состояние аутистического мышления.
Под аутистическим мышлением разумеется такая система мышления, когда мысли направлены не различными задачами, стоящими перед мышлением, а эмоциональными тенденциями, когда, следовательно, мышление подчинено логике чувства. Однако такое изображение аутистического мышления, которое давалось на первых порах, несостоятельно: оказывается, что и наше мышление, которое противостоит аутистическому мышлению, не лишено эмоциональных моментов. Наше реалистическое
435
мышление часто вызывает более значительные, интенсивные эмоции, чем аутистическое. Исследователь, который с воодушевлением и интересом ищет чего-нибудь, связан в процессе мышления с эмоциональными переживаниями не меньше, а то и больше, чем шизофреник, погруженный в аутистические мысли.
Отличием аутистического мышления от реалистического является то, что, хотя там и здесь мы имеем известный синтез интеллектуального и эмоционального процессов, но в случае реалистического мышления эмоциональный процесс играет скорее ведомую, чем ведущую, скорее подчиненную, чем главенствующую, роль, а в аутистическом мышлении он выступает в ведущей роли; наоборот, интеллектуальный процесс в отличие от того, как он выступает в системе реалистического мышления, оказывается не ведущим, а ведомым[178].
Короче говоря, современные исследования аутистического мышления показали, что оно представляет собой своеобразную психологическую систему, в которой имеется не повреждение самих по себе интеллектуальных и эмоциональных моментов, а патологическое изменение их соотношения. Анализ этого аутистического мышления, которое мы должны сблизить с воображением ребенка и нормального человека, будет темой нашей следующей беседы. Я надеюсь в ней затронуть на конкретном материале понятие, неоднократно привлекавшееся и ни разу не раскрытое в психологической системе. Мы увидим, как в развитии эмоциональной жизни систематическая миграция, изменение места психической функции в системе, определяет и ее значение во всем ходе развития эмоциональной жизни.
Таким образом, мы будем иметь возможность провести преемственную нить от сегодняшней беседы к следующей и в теме о воображении затронуть на примере конкретной психологической системы то, к чему мы пришли в результате анализа мышления и анализа эмоций. На этом я могу закончить, отнеся теоретические выводы к следующей главе, к учению о воображении.
Лекция 5
ВООБРАЖЕНИЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Для старой психологии, в которой чаще всего все виды психической деятельности человека рассматривались как известные ассоциативные комбинации прежде накопленных впечатлений, проблема воображения была неразрешимой загадкой. Волей-неволей старая психология должна была сводить воображение
436
к другим функциям, потому что самое существенное отличие воображения от остальных форм психической деятельности человека заключается в следующем: воображение не повторяет в тех же сочетаниях и в тех же формах отдельные впечатления, которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений. Иначе говоря, привнесение нового в самое течение наших впечатлений и изменение этих впечатлений так, что в результате возникает некоторый новый, раньше не существовавший образ, составляет, как известно, самую основу той деятельности, которую мы называем воображением.
Следовательно, для ассоциативной психологии, которая рассматривала всякую деятельность как комбинирование уже бывших в сознании элементов и образов, воображение должно было быть неразрешимой загадкой.
Известно, что старая психология пыталась обойти эту загадку путем сведения воображения к другим психическим функциям. В сущности, эта идея и лежит в основе всего старого психологического учения о воображении, которое, как выразился Т. Рибо в известной работе о воображении, рассматривает два его вида, выделяя, с одной стороны, так называемое воспроизводящее воображение и, с другой — творческое, или воссоздающее, воображение.
Воспроизводящее воображение — та же самая память. Под воспроизводящим воображением психологи понимали такую деятельность психики, при которой мы воспроизводим в сознании ряд образов, пережитых нами, но восстанавливаем их тогда, когда непосредственных поводов для восстановления нет. Такая деятельность памяти, которая состоит в возникновении в сознании прежде пережитых образов и не связана с непосредственным актуальным поводом для их воспроизведения, называлась старыми психологами воображением.
Различая эту форму воображения от памяти в истинном смысле слова, психологи говорили так: если я, видя сейчас какой-нибудь пейзаж, вспоминаю другой, похожий пейзаж, который я когда-то видел, видел где-то в другой стране, то это деятельность памяти, потому что наличный образ, наличный пейзаж вызывает во мне пережитый образ. Это обычное движение ассоциаций, которое лежит в основе функций памяти. Но если я, погруженный в собственное раздумье и мечты, не видя никакого пейзажа, воспроизвожу в памяти пейзаж, который видел когда-то, то эта деятельность будет отличаться от деятельности памяти тем, что непосредственным толчком для нее служит не наличие вызывающих ее впечатлений, а какие-то другие процессы.
Иначе говоря, эти психологи нащупали верную мысль, что деятельность воображения даже тогда, когда оно оперирует
437
с прежними образами, является деятельностью, которая психически обусловлена иначе, чем деятельность памяти.
Однако здесь психологи наталкиваются на следующее обстоятельство: вспоминаю ли я прежний пейзаж, глядя на настоящий, или же я вспоминаю его, когда в голове у меня промелькнуло слово — название местности, напомнившее мне пейзаж, который я видел, от этого дело по существу не меняется. Разница между памятью и воображением заключается не в самой деятельности воображения, а в тех поводах, которые вызывают эту деятельность. Сама же деятельность в обоих случаях оказывается очень сходной, потому что, если стоять на точке зрения атомистической психологии, которая из элементов создает сложные формы деятельности, нет другого пути для объяснения деятельности воображения, как предположение о том, что какое-то наличие образов вызывает ассоциированные с ними образы. При таком подходе проблема воспроизводящего воображения целиком сливалась с проблемой памяти: она рассматривалась как одна из функций памяти среди многих других ее функций.
Труднее обстояло дело с тем видом деятельности, который психологи называют творческим воображением. Здесь на первый план выдвигается отличие, о котором я уже говорил, а именно присущие воображению моменты создания новых образов, которых не было в сознании, не было в прошлом опыте.
Возникновение новых творческих образов ассоциативная психология объясняла случайными своеобразными комбинациями элементов. При творческом воображении появляются новые комбинации из этих элементов, которые сами не являются новыми. Это основной закон воображения с точки зрения старой психологии, выразителями которой были В. Вундт и Т. Рибо, говорившие, что воображение способно создавать многочисленные новые комбинации прежних элементов, но не способно создать ни одного нового элемента.
Я должен оказать, что работа этих психологов в значительной степени была плодотворной, так, они показали шаг за шагом чувственную обусловленность процессов воображения. Они показали, по выражению одного из психологов, что наша мечта витает не по прихоти, а связана со всем опытом того человека, который мечтает, что все самые фантастические представления в конечном счете сводятся к неизвестным комбинациям элементов, встречавшихся в прежнем опыте человека, что даже в сновидении мы не можем увидеть ничего такого, что так или иначе, в том или ином виде не было когда-то пережито нашим сознанием в состоянии бодрствования, и что самые фантастические представления не являются фантастическими с точки зрения элементов, которые в них содержатся. Иначе говоря, этими пси-
438
хологами как нельзя лучше была раскрыта реальная подпочва воображения, связь воображения с прежним опытом, с уже накопленными впечатлениями. Но другая сторона проблемы, заключающаяся в том, чтобы показать, что же в воображении является основой той деятельности, которая позволяет представить все эти уже накопившиеся впечатления в совершенно новом виде, в новой комбинации, была не решена, а обойдена.
Психологи старой школы отвечали на этот вопрос очень просто: новая комбинация возникает чисто случайно, а потому, как гласит один из законов старой психологии, новая комбинация воображения возникает из новых констелляций, т. е. из новых отношений отдельных элементов между собой. Типичным в вундтовском учении о сновидении является то, что Вундт пытается показать: каждый элемент сновидения — это впечатление, которое было пережито сознанием в состоянии бодрствования, и фантастическая комбинация элементов сновидений обязана своим происхождением совершенно своеобразной констелляции, т. е. своеобразному сочетанию элементов. А совершенно своеобразная констелляция возникает потому, что наше «сонное» (сновидное) сознание находится в совершенно особых условиях: оно глухо и слепо к впечатлениям внешнего мира. Спящий человек не видит, не слышит, т. е. не воспринимает органами чувств внешних раздражений, все они доходят до него в искаженном виде, но «сонное» сознание воспринимает ряд внутриорганических раздражений. Наконец, «воскрешение» по ассоциативным путям отдельных образов совершается случайно, благодаря тому что в коре головного мозга происходит своеобразное распределение процессов возбуждения, а в зависимости от этого и возникает ряд случайных комбинаций.
Таким образом, сновидение, по Вундту, и есть случайная констелляция, случайная комбинация ряда отрывочных впечатлений, вырванных из первичного контекста. Обычно, говорит он, вспоминая что-нибудь о каком-то человеке, мы связываем его с какой-то обстановкой, а во сне этот человек связывается у нас с совсем другой обстановкой, возникшей по другой ассоциативной цепи. В результате, говорит Вундт, и получается та чепуха, т. е. тот с виду бессмысленный, но с точки зрения анализа совершенно детерминированный строй образов, который лежит в основе сновидений. Как известно, Вундт и все психологи, стоящие на этой точке зрения, считали, что фантазия человека принципиально ограничена количеством образов, полученных ассоциативным путем, и что никакие новые, непережитые связи между элементами не могут быть добавлены в процессе деятельности воображения, что творческое начало воображению не присуще и что воображение имеет ограниченный круг комбинаций, внутри которых оно и разыгрывается.
439
В качестве одного из моментов психологи приводили факт повторяемости сновидений, когда один и тот же сон или напоминающие друг друга комбинации сновидений встречаются на протяжении всей жизни у одного и того же человека. Естественным следствием этого факта является положение об ограниченной возможности комбинирования.
Там, где эти психологи пытались доказать, что воображение есть детерминированная деятельность, что полет фантазии совершается закономерно, они были правы и находили очень важный материал для подтверждения этой мысли. Но наряду с этим они обходили проблему возникновения новых элементов воображения. Закон Вундта гласит: впечатление или мысль или живое созерцание свадьбы может привести к противоположному представлению, например к представлению о вечной разлуке, о гробе; определенное представление может напомнить людям противоположное, но не постороннее положение; впечатление свадьбы не может навести человека на мысль о зубной боли, потому что свадьба и зубная боль не связаны. Иначе говоря, воображение крепко-накрепко коренится в содержании нашей памяти.
Творческое воображение, хотя оно и является в известной мере воспроизводящим воображением, как форма деятельности не сливается с памятью. Оно рассматривается как особая деятельность, представляющая своеобразный вид деятельности памяти.
Мы видим, таким образом, что как в тех проблемах, которые мы рассматривали до сих пор, так и в проблемах воображения самое существенное оставалось неразрешимым. Атомистическая психология была бессильна объяснить, как становится мышление, как возникает разумная целесообразная деятельность, она оставалась бессильной и в объяснении того, как возникает творческое воображение. В ее учении имелись противоречия, они-то и были фактическим пунктом, откуда началось резкое расчленение психологии на каузальную, причинную, и описательную, интуитивистическую.
Исходя из невозможности для ассоциативной психологии объяснить творческий характер воображения, интуитивистическая психология сделала в этой области то же, что и в области мышления: и там и здесь она, по выражению Гёте, проблему сделала постулатом. Когда требовалось объяснить, как в сознании возникает творческая деятельность, идеалисты отвечали, что сознанию присуще творческое воображение, что сознание творит, что ему присущи априорные формы, в которых оно создает все впечатления внешней действительности. Ошибка ассоциативной психологии, с точки зрения интуитивистов, заключается в том, что они исходят из опыта человека, из его ощущений,
440
из его восприятий как из первичных моментов психики и исходя из этого не могут объяснить, как возникает творческая деятельность в виде воображения. На самом деле, говорят интуитивисты, вся деятельность человеческого сознания проникнута творческим началом. Само наше восприятие возможно только потому, что человек привносит нечто и от себя в то, что воспринимает во внешней действительности. Таким образом, в современных идеалистических учениях две психологические функции поменялись местами. Если ассоциативная психология сводила воображение к памяти, то интуитивисты пытались показать, что сама память есть ее что иное, как частный случай воображения. На этом пути идеалисты часто доходят до того, что и восприятие рассматривают как частный случай воображения. Восприятие, говорят они, есть воображаемый, строящийся умом образ действительности, который опирается на внешнее впечатление как на точку опоры и который обязан своим происхождением и возникновением творческой деятельности самого познания.
Таким образом, контроверза[179] между идеализмом и материализмом в проблеме воображения, как и в проблеме мышления, свелась к вопросу о том, является ли воображение первоначальным свойством познания, из которого развиваются постепенно все остальные формы психической деятельности, или само воображение должно быть понято как сложная форма развитого сознания, как высшая форма его деятельности, которая в процессе развития возникает на основе прежней. Бессилие атомистической точки зрения, как и бессилие идеалистической точки зрения в следующем: обе решали вопрос в одинаковой мере метафизически в том смысле, что, принимая за изначальное воспроизводящую деятельность сознания, они тем самым закрывали путь для объяснения того, как же возникает творческая деятельность в процессе развития. По мнению Вундта, казалось абсурдным допустить, что в воображении можно связать впечатление или мысль о свадьбе с мыслью о зубной боли. Этим самым он игнорировал те очевидные факты, что наше воображение, развиваясь, делает гораздо более смелые скачки, связывает гораздо более отдаленные вещи, чем те, о которых он говорил; в конце жизни Вундт должен был признать это в своей работе о фантазии как основе искусства.
Идеализм оказался здесь бессильным в том отношении, что приписал сознанию первичное творческое свойство и, таким образом, зачислил воображение в круг тех первичных творческих деятельностей сознания, которые, по номенклатуре Г. Дриша, А. Бергсона и других виталистов и интуитивистов, присущи сознанию с момента его возникновения. По известной формуле Бергсона, воображение столь же изначально присуще нашему
441
сознанию, как свобода воли. Это свободная деятельность, протекающая в условиях материального мира и потому так или иначе пересекающаяся с ним, но сама по себе деятельность автономная. Близко к этой точке зрения стоял и У. Джемс, говорящий о воле, управляющей творческой деятельностью, что каждый акт здесь содержит «фиат» — божественное слово, с помощью которого бог сотворил мир[180].
Для того чтобы постановка этой проблемы в современной идеалистической психологии была ясна до конца, остается сказать последнее. Вопрос о природе воображения как чрезвычайно важный был переведен в генетическую плоскость и свелся к вопросу о его первичности[181].
В детской психологии этот вопрос начал получать свое разрешение. Сейчас в общей психологии невозможно экспериментально подойти к проблеме воображения, игнорируя материал, который накоплен в детской психологии.
Посмотрим, какие новые сдвиги мы имеем в детской психологии по этому вопросу. Моей задачей совсем не является обрисовать ход разрешения этой проблемы со всей исторической полнотой, но я должен затронуть и историю этого вопроса.
Представителем той идеи, что воображение первично, что оно изначальная форма детского сознания, из которой возникает все прочее сознание личности, является психоанализ и его создатель З. Фрейд. Согласно его учению, два принципа регулируют психическую деятельность ребенка: принцип наслаждения, или удовольствия и принцип реальности. Ребенок стремится вначале получить наслаждение, или удовольствие; в раннем возрасте этот принцип господствующий.
Ребенок является существом, биологические потребности которого достаточно охраняются взрослыми людьми. Он не добывает себе пищу, одежду — все делает для него взрослый. Это единственное существо, которое, по Фрейду, вполне эмансипировано от реальности. Это существо погружено в удовольствие; отсюда сознание ребенка развивается как сознание грезящее, т. е. такое, основная функция которого не отражение реальности, в которой он живет, и не деятельность по переработке тех или иных впечатлений, а только обслуживание желаний и чувственных тенденций ребенка. У него нет восприятий реальной действительности, у него сознание галлюцинаторное.
Эта идея в отношении интересующей нас проблемы развита в работах Пиаже. Исходная точка зрения Пиаже заключается в том, что первичной является деятельность воображения или мышления, не направленная на действительность. Но, говорит он, между младенческим мышлением, вовсе не направленным на действительность, и мышлением взрослого человека — реалистическим мышлением — существуют переходные формы. Та-
442
кой переходной, или промежуточной, или смешанной формой между воображением и реальной мыслью Пиаже считает детскую эгоцентрическую мысль. Детский эгоцентризм есть переходная ступень от воображения к реалистическому мышлению, т. е. от мышления, напоминающего легкое сновидение, грезы, мечты, или, как образно говорит Пиаже, некоторое миражное построение, которое витает в области нереального, только желаемого, к мышлению, задачей которого является приспособление к действительности и воздействие на эту действительность.
Как известно, мы обязаны Пиаже рядом интересных экспериментальных исследований младенческого возраста. Сущность исследований с их фактической стороны заключается в следующем: Пиаже экспериментально показал, что младенец недостаточно четко различает в сознании впечатления, которые получает из внешнего мира, и впечатления, которые получает сам от себя. Его «я» и внешняя действительность недостаточно еще дифференцированы в сознании; он часто смешивает одно и другое и в зависимости от этого плохо различает собственные действия и поступки и действия и поступки, происходящие вовне[182]. У него возникает ряд путаных связей, которые Пиаже чрезвычайно остроумно и убедительно показал экспериментально.
Так, если ребенок производит какое-либо движение, которое по времени совпадает с каким-нибудь другим приятным для него впечатлением, то младенец склонен случайно совпавшее приятное для него внешнее впечатление рассматривать, сказали бы мы языком взрослого, как результат своего предшествующего движения. Это ясно из того, что если впечатление не повторяется, то ребенок вновь и вновь производит свои движения, чтобы вызвать это впечатление. Пиаже проводил опыт с пятимесячной девочкой. Ребенок, игравший карандашом и стучавший им по дну жестяной коробки, наталкивался на то, что одновременно с тем как он ударял карандашом о коробку, в комнате раздавался звонок или экспериментатор, спрятавшись, издавал крик, подражая крику птицы. Ребенок снова ударяет по коробочке, на этот раз совершенно иначе — ударяет один раз и ждет. Раздается крик. Ребенок повторяет свое движение явно с тем, чтобы вызвать неизвестно откуда идущие впечатления. Но вот ребенок стучит, а крик не раздается. Тогда ребенок сердито бьет много раз в жестяную коробку, добиваясь крика, начинает неудовлетворенно стучать с другой стороны. Иначе говоря, ребенок своим поведением показывает: то, что совпало случайно с его собственным движением, принимается им как непосредственный результат этого движения.
Ж. Пиаже основывается на этом исследовании младенческого возраста, но, понимая, что оно недостаточно правомочно, переходит к другому методу, к методу интерполяции, рассмат-
443
ривая ребенка по ступеням развития. Чем младше ребенок, тем, по Пиаже, его эгоцентризм сильнее, тем больше его мысль направлена на удовлетворение его желаний. Эгоцентризм у семилетнего ребенка сильнее, чем у десятилетнего, у трехлетнего — сильнее, чем у пятилетнего, и т. д. Идя этим путем, мы должны констатировать далее, что на ранних ступенях развития у ребенка господствует абсолютный эгоцентризм.
Что же такое эгоцентризм? Пиаже отвечает, что это чистый солипсизм, т. е. чистое состояние сознания, которое не знает никакой действительности, кроме самого себя, которое живет в мире собственных построений[183]. Детский солипсизм — такое состояние, которое имеется на начальных этапах развития детского сознания вообще; через промежуточные формы эгоцентризма в детском сознании постепенно начинает развитие логическая, реалистическая мысль взрослого человека.
Чтобы перейти от изложенного к учению о воображении в детском возрасте, необходимо конспективно перечислить основные моменты развития сознания ребенка начиная с раннего возраста и проследить, как оно развивается. Этих моментов несколько. Пиаже, как и все другие исследователи, здесь многим обязан Фрейду. Согласно этой точке зрения, первичная форма воображения есть деятельность подсознательная, отличная от реалистического мышления, которое является сознательной деятельностью. Отличие авторы видят прежде всего в том, что в реалистическом мышлении отдается отчет относительно целей, задач и мотивов, которыми оно приводится в действие. Мышление же, которое руководствуется фантазией, не осознает основных задач, целей и мотивов — все это остается в сфере подсознательной. Первое отличие заключается, следовательно, в том, что реалистическая мысль сознательна, а фантазия в своей основе подсознательна. Второе отличие заключается в отношении к действительности. Реалистическое развитое сознание подготавливает нашу деятельность, связанную с действительностью. Воображение есть деятельность, которая в этом отношении всецело обнаруживает принцип удовольствия, т. е. функция его иная.
Третье отличие видят в том, что реалистическая мысль может быть сообщена словесно, она социальна и вербальна. Социальна в том отношении, что, поскольку она отражает внешнюю деятельность, одинаковую для различных сходно устроенных сознаний, она может быть сообщена, передаваема; так как основным средством сообщения, передачи является слово, то реалистическая мысль одновременно и социальная и вербальная мысль. Человек с большей или меньшей полнотой передает содержание и ход своей мысли. Наоборот, аутистическое мышление не социально, а индивидуально, потому что обслуживает
444
желания, ничего общего не имеющие с социальной деятельностью человека. Оно есть бессловесное, образное, символическое мышление, такое, которое проникает в построение ряда фантастических образов и не является сообщаемым.
Можно привести еще ряд отличий, но для нас достаточно и этих. Следовательно, воображение в его первичных формах рассматривается этими авторами как деятельность подсознательная, как деятельность, обслуживающая не познание реальности, а получение удовольствия, как деятельность несоциального, несообщаемого характера.
Эта точка зрения встретила первые и самые существенные возражения фактического характера со стороны биологически мыслящих психологов, хотя казалось бы, что этот взгляд в известной мере продиктован ультрабиологическими воззрениями, потому что он рассматривает человека как существо, развивающееся вначале не социально, но к которому социальная деятельность присоединяется как нечто внешнее, вторичное.
Биологически мыслящие психологи установили два капитальных факта. Первый касается мышления и воображения у животных. Очень точно и очень интересно поставленный эксперимент голландского исследователя К. Бойтендейка, как и другие эксперименты, показал, что в животном мире мы почти не находим элементов аутистического мышления или фантазии в собственном смысле слова. С биологической точки зрения трудно допустить, что первично в филогенезе возникает мышление как функция удовлетворения, удовольствия, но не как функция познания действительности. Ни одно животное, говорил Блейлер, не могло бы просуществовать ни одного дня, если бы психическая деятельность этого животного, теснейшим образом связанная со всей его жизнедеятельностью, была эмансипирована от действительности, т. е. если бы она не давала ему представления об окружающей реальности, отражения реальности соответственно уровню психической деятельности, на котором стоит данное животное. Итак, было бы невозможно допустить теоретически, а после исследований Бойтендейка нельзя допустить и со стороны фактической, что в филогенетическом ряду воображение и мышление направлены на получение удовольствия, что миражное построение, мечта более первичная форма, чем мышление, направленное на действительность.
Вторая группа фактов заключается в анализе наблюдений над ребенком. Исследователи доказали, что в самом раннем возрасте мы не имеем дела с галлюцинаторным получением удовольствия, что получение удовольствия у ребенка связано не с галлюцинаторным, а с реальным удовлетворением потребности. Об этом хорошо говорит Блейлер: он не видел ни одного ребенка, который бы испытывал галлюцинаторное удовлетворе-
445
ние от воображаемой пищи, а видел, что ребенок получает удовлетворение и удовольствие от получения реальной пищи.
Получение удовольствия ребенком и первичное наслаждение настолько связаны с реальными потребностями, которые удовлетворяются в реальной действительности, что они являются первичной формой сознания.
Реальное удовлетворение, если мы будем говорить о простых его формах, связано с удовлетворением потребностей, а удовлетворение потребности есть одна из основных форм жизни и деятельности живого существа, в котором сознание принимает участие с самой ранней ступени его возникновения. Мышление, которое направлено на удовлетворение потребностей и на получение удовольствия, не идет в противоположном направлении; как говорит Блейлер, путь к реальному удовольствию лежит в раннем возрасте через реальность, а не через уход от нее. Эти моменты связаны и обусловлены тем, что удовлетворение простейших потребностей связано в раннем детстве с интенсивным удовольствием, которое выдвигается на первый план и доминирует над всеми остальными моментами.
В сущности говоря, положение о первичности воображения и аутистического мышления получило в каждом пункте со стороны исследователей ряд фактических опровержений, которые я и перечислил.
Из исследований, с фактической стороны опровергающих положение о мечтательной форме детской мысли, на первое место, мне кажется, должны быть поставлены исследования, которые выяснили действительное отношение, существующее между развитием речи ребенка и развитием его воображения.
С точки зрения Фрейда и с точки зрения Пиаже, существенная особенность первичной детской фантазии та, что здесь мы имеем дело с невербальной и, следовательно, с несообщаемой мыслью.
Таким образом, между словесной мыслью и аутистической мыслью воздвигается противоположность в виде вербального и невербального характера этих двух видов мысли.
На самом деле исследования показали, что очень мощный шаг в развитии детского воображения совершается именно в непосредственной связи с усвоением речи, что задержанные в речевом развитии дети оказываются чрезвычайно отсталыми и в развитии воображения. Дети, речевое развитие которых идет по уродливому пути (скажем, глухие дети, которые из-за этого остаются полностью или частично немыми детьми, лишенными речевого общения), оказываются в то же время детьми с чрезвычайно бедными, скудными, а иногда и положительно рудиментарными формами воображения. Между тем, исходя из положения Фрейда и других, следовало бы ожидать, что, когда
446
у ребенка недоразвита речь, когда она отсутствует или запаздывает, то создаются особо благоприятные условия для развития первичных, несообщаемых, несловесных форм воображения.
Таким образом, наблюдение за развитием воображения обнаружило зависимость этой функции от развития речи. Задержка в развитии речи, как установлено, знаменует собой и задержку развития воображения.
Пожалуй, самые яркие в смысле краткости, убедительности и красноречивости факты дает патология. В сравнительно недавнее время, когда развился углубленный психологический анализ нервных заболеваний, обращено внимание на чрезвычайно интересный факт, который впервые подвергся адекватному истолкованию в неврологических исследованиях школы структурной психологии в Германии. Оказалось, что больные, страдающие афазией, т. е. больные, у которых вследствие того или иного мозгового заболевания или поражения утрачена способность полностью владеть речью (пониманием речи или произносительной стороной речи), обнаруживают одновременно с этим и резкий упадок фантазии, воображения; их воображение, можно сказать, падает до нуля.
Такие больные очень часто не в состоянии повторить, не говоря уже о том, чтобы самим сочинить что-либо такое, что не соответствует непосредственному их впечатлению или воспринимаемой действительности.
Во Франкфуртском институте были впервые описаны случаи, когда больной, страдавший правосторонним параличом, но сохранивший возможность повторять услышанные слова, понимать речь и писать, оказывался не в состоянии повторить фразу: «Я умею хорошо писать моей правой рукой», — но всегда заменял слово «правой» словом «левой», потому что в действительности умел писать теперь только левой рукой, а правой не умел. Повторить фразу, которая заключает в себе нечто не соответствующее его состоянию, было для него невозможным. Он, как видно из опыта, оказывался не в состоянии, глядя в окно, когда была хорошая погода, повторить фразу: «Сегодня идет дождь» или «Сегодня плохая погода». Следовательно, умение вообразить то, что он не видит в настоящую минуту, оказывалось для него невозможным. Еще сложнее обстояло дело тогда, когда его просили самостоятельно применить слово, которое не соответствовало воспринимаемой действительности, например когда показывали желтый карандаш и просили называть его не желтым. Это было трудно. Но еще труднее ему сказать, что карандаш зеленый. Он не может назвать предмета, если тому не соответствуют его свойства, например сказать: «Черный снег». Он не может сказать фразы, если словосочетание в этом смысле неверно[184].
447
Исследования показывают: резкое нарушение вербальной функции связано с тем, что деятельность воображения субъекта, страдающего этим дефектом, падает до нуля.
Э. Блейлеру и его школе мы обязаны знанием фактов, которые проливают свет на этот вопрос; они показывают, почему развитие речи является мощным толчком для развития воображения. Речь освобождает ребенка от непосредственных впечатлений о предмете, она дает ребенку возможность представлять себе тот или иной предмет, которого он не видел, и мыслить о нем. При помощи речи ребенок получает возможность освободиться от власти непосредственных впечатлений, выйдя за их пределы. Ребенок может выражать словами и то, что не совпадает с точным сочетанием реальных предметов или соответствующих представлений. Это дает возможность ему чрезвычайно свободно обращаться в сфере впечатлений, обозначаемых словами.
Исследования показали: не только речь, но и дальнейшая жизнь ребенка служит развитию его воображения; такую роль играет, например, школа, где ребенок может кропотливо обдумывать что-то в воображаемой форме, прежде чем сделать. Это, несомненно, лежит в основе того, что именно на протяжении школьного возраста закладываются первичные формы мечтательности в собственном смысле слова, т. е. возможности и способности более или менее сознательно отдаваться известным умственным построениям независимо от той функции, которая связана с реалистическим мышлением. Наконец, образование понятий, которое знаменует наступление переходного возраста, является чрезвычайно важным фактором в развитии самых разнообразных, самых сложных, сочетаний, соединений и связей, которые уже в понятийном мышлении подростка могут установиться между отдельными элементами опыта. Иначе говоря, мы видим, что не только самое появление речи, но и важнейшие узловые моменты в ее развитии являются в то же время узловыми моментами и в развитии детского воображения.
Таким образом, фактические исследования не только не подтверждают того, что детское воображение является формой бессловесной, аутистической, ненаправленной мысли, но, наоборот, они на каждом шагу показывают, что ход развития детского воображения, как и ход развития других высших психических функций, существенным образом связан с речью ребенка, с основной психологической формой его общения с окружающими, т. е. с основной формой коллективной социальной деятельности детского сознания.
Известно, что Блейлер выдвинул и другой тезис, также находящий себе оправдание в фактических исследованиях: деятельность воображения может быть вместе с тем направленной
448
деятельностью в том смысле, что мы можем великолепно отдавать себе отчет относительно целей и мотивов, которые преследует эта деятельность.
Если взять так называемые утопические построения, т. е. заведомо фантастические представления, которые великолепно дифференцируются в сознании от реалистических планов в точном смысле слова, то они тем не менее совершаются нисколько не подсознательно, а сознательно, с ясной установкой на то, чтобы построить известный фантастический образ, относящийся к будущему или к прошлому. Если мы возьмем область художественного творчества, которое очень рано становится доступным ребенку, возьмем возникновение продуктов этого творчества, скажем, в рисунке, рассказе, то увидим, что и здесь воображение носит направленный характер, т. е. не является подсознательной деятельностью.
Если, наконец, мы обратимся к так называемому конструктивному воображению ребенка, ко всей творческой деятельности сознания, которая связана с действительным преобразованием, скажем с техническо-конструктивной или строительной деятельностью, то мы везде и всюду увидим: как у настоящего изобретателя воображение является одной из основных функций, с помощью которой он работает, так и во всех случаях деятельность фантазии является чрезвычайно направленной, т. е. она от начала и до конца направляется на определенную цель, которую преследует человек. Это же касается планов поведения ребенка, относящихся к будущему, и т. д.
Под напором фактов нам надо признать, что все основные моменты, которые определяли своеобразие детского воображения и его первичность, после строгой проверки не выдерживают критики и оказываются неправильными.
Мне хотелось бы остановиться на вопросе, имеющем отношение к этой области, — на эмоциональной стороне воображения.
Психология детского возраста отметила важный для деятельности воображения момент, который назван законом реального чувства в деятельности фантазии. Сущность его проста, в его основе лежит фактическое наблюдение. С деятельностью воображения тесно связано движение наших чувств. Очень часто то или другое построение оказывается нереальным с точки зрения рациональных моментов, которые лежат в основе фантастических образов, но они реальны в эмоциональном смысле.
Пользуясь старым грубым примером, мы могли бы сказать: если я, входя в комнату, принимаю повешенное платье за разбойника, то я знаю, что мое напуганное воображение ложно, но чувство страха у меня является реальным переживанием, а не фантазией по отношению к реальному ощущению страха. Это
449
действительно один из коренных моментов, который объясняет многое в своеобразии развития воображения в детском возрасте и в многообразных формах фантазии в зрелом возрасте. Суть факта в том, что воображение является деятельностью, чрезвычайно богатой эмоциональными моментами[185].
Пользуясь этим и основываясь на этом моменте, ряд психологов, освещающих идею первичного воображения, исходили из мысли, что главнейший его двигатель — аффект.
Вы знаете, что в клинике путем наблюдений была изучена роль аутистического мышления. Там господствовала идея, что реалистическое мышление отличается от фантастического главным образом и в первую очередь тем, что в реалистическом мышлении роль эмоции ничтожна, что оно движется независимо от субъективного желания, а аутистическое мышление движется под влиянием аффекта. Бывает так — и отрицать этого нельзя, — что воображаемый образ, фантастически построенный аутистическим ходом мысли, является важным моментом в развитии эмоционального процесса. Отсюда естественно, что возникают такие своеобразные отношения между эмоциональными процессами и мышлением ребенка, когда его мышление, если можно так грубо выразиться, становится на службу его эмоциональных побуждений. Это бывает тогда, когда действительность в том или ином отношении очень резко расходится с возможностями или потребностями ребенка, или тогда, когда из-за целого ряда условий, в первую очередь из-за условий воспитания, ребенок оказывается наделенным ложной, извращенной установкой по отношению к действительности. Тогда мы имеем то, что в иных формах проявляется и у всякого развитого взрослого человека, и у ребенка, нормально развивающегося в социальном отношении, именно своеобразную форму мыслительной деятельности. Вся сущность заключается в том, что эта деятельность подчинена эмоциональным интересам. Она совершается главным образом благодаря непосредственному удовольствию, которое извлекается из этой деятельности, благодаря тому, что вместе с этим вызывается ряд приятных переживаний, благодаря тому, наконец, что целый ряд эмоциональных интересов и побуждений получает при этом видимое фиктивное удовлетворение, что тоже является замещением реального удовлетворения эмоциональных процессов.
Таким образом, мышление в этой психической системе становится как бы слугой страстей, становится как бы в подчиненное отношение к эмоциональным побуждениям и интересам, и мы действительно имеем такую психическую деятельность, которая характеризуется своеобразным отношением между процессом эмоций и процессом мышления и создает тот сплав, который мы называем мечтательной формой воображения.
450
Но стоит обратиться к другим двум моментам, как мы увидим: сочетание с эмоциональными моментами не составляет исключительной основы воображения и воображение не исчерпывается этой формой.
Реалистическое мышление, когда оно связано с важной для человека задачей, которая так или иначе укоренена в центре его личности, вызывает к жизни и будит целый ряд эмоциональных переживаний гораздо более значительного и подлинного характера, чем воображение и мечтательность. Если взять реалистическое мышление революционера, обдумывающего или изучающего какую-нибудь сложную политическую ситуацию, углубляющегося в нее, одним словом, если взять мышление, которое направлено на разрешение жизненно важной для личности задачи, мы видим, что эмоции, связанные с таким реалистическим мышлением, очень часто неизмеримо более глубокие, сильные, движущие, значащие в системе мышления, чем те эмоции, которые связаны с мечтанием[186]. Существенным здесь оказывается иной способ соединения эмоциональных и мыслительных процессов.
Если в мечтательном воображении мышление выступает в форме, обслуживающей эмоциональные интересы, то в реалистическом мышлении мы не имеем специфического господства логики чувства. В таком мышлении имеются сложные отношения отдельных функций между собой. Если мы возьмем ту форму воображения, которая связана с изобретением и воздействием на действительность, то увидим, что здесь деятельность воображения не подчинена субъективным капризам эмоциональной логики.
Изобретатель, который строит в воображении чертеж или план того, что он должен сделать, не подобен человеку, который в своем мышлении движется по субъективной логике эмоций; в обоих случаях мы находим различные системы и различные виды сложной деятельности.
Если подходить к вопросу с классификационной точки зрения, то неверно рассматривать воображение как особую функцию в ряду других функций, как некоторую однотипную и регулярно повторяющуюся форму деятельности мозга. Воображение надо рассматривать как более сложную форму психической деятельности, которая является реальным объединением нескольких функций в их своеобразных отношениях.
Для таких сложных форм деятельности, выходящих за пределы тех процессов, которые мы привыкли называть функциями, было бы правильным применять название психологической системы, имея в виду ее сложное функциональное строение. Для этой системы характерны господствующие внутри нее межфункциональные связи и отношения.
451
Анализ деятельности воображения в его многообразных формах и анализ деятельности мышления показывают, что, только подходя к этим видам деятельности как к системам, мы находим возможность описывать те важнейшие изменения, которые в них происходят, те зависимости и связи, которые в них обнаруживаются.
Позвольте в заключение остановиться на некоторых выводах из того, что мы рассматривали до сих пор. Мне кажется, они раньше всего должны касаться того, действительно ли существует такой непримиримый антагонизм, такая противоположность между направленной реалистической мыслью и мечтательной, фантазийной, аутистической мыслью. Если мы коснемся вербального характера мысли, то увидим, что он может быть одинаково присущ и воображению, и реалистическому мышлению. Если мы возьмем так называемую направленность или сознательность мысли, т. е. мотивы и цели, то увидим, что как аутистическое, так и реалистическое мышление могут быть в одинаковой степени направленными процессами; можно показать и обратное: в процессе реалистического мышления человек очень часто не до конца осознает свои истинные мотивы, цели и задачи.
Если мы рассмотрим, наконец, связь обоих процессов — воображения и мышления — с аффективными моментами, участие эмоциональных процессов в процессах мышления, то увидим, что как воображение, так и реалистическое мышление могут характеризоваться высочайшей эмоциональностью и между ними нет противоположности. И обратно: мы увидим, что есть такие сферы воображения, которые сами по себе вовсе не являются подчиненными логике эмоций, логике чувств. Иначе говоря, все те кажущиеся, метафизические, изначальные противоположности, которые устанавливаются между реалистическим мышлением и мышлением аутистическим, на деле оказываются фиктивными, ложными; более глубокое изучение показывает, что здесь мы имеем дело с противоречием отнюдь не абсолютного, а только относительного значения[187].
Вместе с тем мы наблюдаем еще два чрезвычайно важных момента, которые характеризуют интересующее нас отношение между мышлением и воображением с положительной стороны, а не только со стороны критической.
Эти моменты следующие. С одной стороны, мы отмечаем чрезвычайную родственность, близость процессов мышления и процессов воображения. Мы видим, что оба процесса обнаруживают свои основные успехи в одни и те же генетические моменты. Так же как в развитии детского мышления, в развитии воображения основной переломный пункт совпадает с появлением речи. Школьный возраст — переломный пункт в развитии дет-
452
ского и реалистического, и аутистического мышления. Иначе говоря, мы видим, что мышление логическое и мышление аутистическое развиваются в чрезвычайно тесной взаимосвязи. Более тщательный анализ позволил бы нам отважиться на более смелую формулировку: мы могли бы сказать, что оба они развиваются в единстве, что, в сущности говоря, самостоятельной жизни в развитии того и другого мы не наблюдаем вовсе[188]. Более того, наблюдая такие формы воображения, которые связаны с творчеством, направленным на действительность, мы видим, что грань между реалистическим мышлением и воображением стирается, что воображение является совершенно необходимым, неотъемлемым моментом реалистического мышления.
Здесь возникают противоречия, естественные с точки зрения основного положения вещей: правильное познание действительности невозможно без известного элемента воображения, без отлета от действительности, от тех непосредственных, конкретных единичных впечатлений, которыми эта действительность представлена в элементарных актах нашего сознания. Возьмите, например, проблему изобретательства, проблему художественного творчества; здесь вы увидите, что разрешение задачи в огромной степени требует участия реалистического мышления в процессе воображения, что они действуют в единстве.
Однако, несмотря на это, было бы совершенно неверным отождествлять одно с другим или не видеть реальной противоположности, которая между ними существует. Она заключается в следующем: для воображения характерна не бо́льшая связь с эмоциональной стороной, не меньшая степень сознательности, не меньшая и не бо́льшая степень конкретности; эти особенности проявляются также на различных ступенях развития мышления.
Существенным для воображения является направление сознания, заключающееся в отходе от действительности в известную относительно автономную деятельность сознания, которая отличается от непосредственного познания действительности.
Наряду с образами, которые строятся в процессе непосредственного познания действительности, человек строит образы, которые осознаются как область, построенная воображением[189]. На высоком уровне развития мышления происходит построение образов, которых мы не находим в готовом виде в окружающей действительности. Отсюда становится понятным то сложное отношение, которое существует между деятельностью реалистического мышления и деятельностью воображения в его высших формах и на всех ступенях его развития. Становится понятным, как каждый шаг в завоевании более глубокого проникновения в действительность достигается ребенком одновременно с тем, что ребенок до известной степени освобождается от более при-
453
митивной формы познания действительности, которая была ему известна прежде[190].
Всякое более глубокое проникновение в действительность требует более свободного отношения сознания к элементам этой действительности, отхода от видимой внешней стороны действительности, которая непосредственно дана в первичном восприятии, возможности все более и более сложных процессов, с помощью которых познание действительности становится более сложным и богатым.
Я хотел бы, наконец, сказать, что внутренняя связь, существующая между воображением и реалистическим мышлением, дополняется новой проблемой, .которая тесно связана с проблемой произвольности, или свободы, в человеческой деятельности, в деятельности человеческого сознания. Возможности свободного действия, которые возникают в человеческом сознании, теснейшим образом связаны с воображением, т. е. с такой своеобразной установкой сознания по отношению к действительности, которая появляется благодаря деятельности воображения.
В одном узле связываются три большие проблемы современной психологии, в частности современной детской психологии, — проблема мышления, проблема воображения и проблема воли. Проблеме воли и будет посвящена следующая, последняя, лекция.
Лекция 6
ПРОБЛЕМА ВОЛИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Как мы делали при рассмотрении всех проблем, позвольте и сегодня начать с короткого схематического исторического введения в современное состояние этой проблемы в науке.
Как известно, попытка теоретически осмыслить и теоретически развить проблему воли и дать анализ ее проявлений у взрослого человека и у ребенка идет в двух направлениях, одно из которых принято называть гетерономной, а другое — автономной теорией.
Под гетерономной теорией имеется в виду та группа теоретических и экспериментальных исследований, которые пытаются объяснить волевые действия человека, сводя их к сложным психическим процессам неволевого характера, к процессам ассоциативным или интеллектуальным. Всякая теория, которая пытается искать объяснения волевых процессов вне воли, присое-
454
диняется к гетерономным теориям. Автономные, или волюнтаристские[191] теории в основу объяснения воли кладут единство и несводимость волевых процессов и волевых переживаний. Представители этой школы пытаются объяснить волю, исходя из законов, заложенных в самом волевом действии.
Если мы рассмотрим с вами сначала в частном, а потом в общем виде оба направления в изучении воли, то увидим, в чем заключается то главное, что составляет их содержание.
При рассмотрении гетерономных теорий мы увидим, что здесь мы имеем дело с наиболее старыми теориями: ассоциативными и интеллектуалистическими, которые я не буду анализировать подробно, ибо они представляют, скорее, исторический[192] интерес, и обозначу их только схематически.
Сущность ассоциативных теорий близко подходила к изучению проблемы воли в том духе, в котором пытаются изложить ее рефлексология и поведенческая психология (бихевиоризм). Центральными, согласно этой теории, являются в воле следующие моменты. Как известно, всякая ассоциация обратима. Если я, скажем, в экспериментальном опыте с памятью установил ассоциацию между первым бессмысленным слогом, который назовем а, и вторым, который назовем бэ, то естественно, что, когда я потом услышу слог а, я воспроизведу и слог бэ. Но естественно и обратное. Это самое простое явление было названо в свое время законом обратимости ассоциаций. Сущность его сводится к тому, что как взрослый, так и ребенок действуют вначале слепо, непроизвольно, импульсивно и реактивно, т. е. совершенно несвободно и неразумно определяют свою деятельность по отношению к ситуации, внутри которой достигается цель.
Однако такая деятельность, совершаемая непроизвольно, приводит к известному результату, таким образом устанавливается ассоциация между самой деятельностью и ее результатами. Но так как эта ассоциативная связь обратима, то естественно, что в ходе дальнейшего развития может произойти простое перевертывание процесса с конца к началу. Воспользуюсь примером Г. Эббингауза.
Если ребенок вначале инстинктивно тянется к пище, то в продолжение ряда опытов у него устанавливается ассоциативная связь между насыщением и отдельными звеньями самого процесса насыщения; этой связи оказывается достаточно для того, чтобы возник и обратный процесс, т. е. чтобы ребенок сознательно искал пищу, когда он испытывает голод. Согласно определению Эббингауза, воля представляет собой такой инстинкт, который возникает на основе обратимой ассоциации, или, как он образно говорил, «зрячего инстинкта», сознающего свою цель.
455
Другие теории, в сущности близко подходящие к интеллектуалистической, пытались доказать, что действие, которое представляется как действие волевое, на самом деле является сложной комбинацией психических процессов не волевого, а интеллектуального типа. К представителям этого направления принадлежат ряд французских, немецких и английских психологов. Типичный представитель этой теории — И. Ф. Гербарт.
С точки зрения интеллектуалистов, не ассоциативная связь сама по себе объясняет волевые процессы: они объясняются не на основе понятия «ассоциация», а на основе понятия «волевой процесс», меняющийся в развитии функций. Природу волевого процесса они понимали следующим образом: на нижней ступени развития имеет место инстинктивное, реактивное, импульсивное действие, затем действие, вырабатывающееся в результате привычки, и, наконец, действие, связанное с участием разума, т. е. волевое действие.
Каждый поступок, говорят ученики Гербарта, является волевым постольку, поскольку он является разумным.
Как для ассоциативной, так и для интеллектуалистической теории характерна попытка свести волевой процесс к процессу более простого характера, лежащему вне воли, объяснить волю не из моментов, адекватных волевым процессам, а из моментов, лежащих вне волевых процессов.
Таков существенный недостаток этих теорий, не говоря уже о том, что основное воззрение ассоцианизма и интеллектуализма ложно. Но на этом можно сегодня не останавливаться. Как мне кажется, гораздо важнее подчеркнуть то положительное, что имелось в указанных теориях воли, что их поднимало на высший уровень по сравнению с прежними теориями и что было отодвинуто, так как шло вразрез с волюнтаристскими теориями. То зерно истины, которое в них заключалось, пафос, которым было проникнуто все учение о воле, был пафос детерминизма. Это была попытка противостоять средневековым спиритуалистическим теориям, которые говорили о воле как «основной духовной силе», не поддающейся рассмотрению в плане детерминизма. Ассоцианисты и детерминисты пытались теоретически объяснить и обосновать, каким путем, по какой причине на основе какой детерминации может возникнуть волевое, целесообразное, свободное действие человека.
Для интеллектуалистических теорий интересно именно подчеркивание того, что при попытке разрешить любую проблему эксперимент должен стоять на первом плане; примером анализа прежде всего должна быть осмысленность ситуации для самого человека, внутренняя связь между пониманием ситуации и самим действием, а также свободный и произвольный характер этого действия.
456
Трудности упомянутых нами теорий заключались в том, что они не могли объяснить в воле самого существенного, а именно волевой характер актов, произвольность как таковую, а также внутреннюю свободу, которую испытывает человек, принимая то или иное решение, и внешнее структурное многообразие действия, которым волевое действие отличается от неволевого.
Таким образом, как в отношении интеллекта старые теории не могли объяснить самого важного — каким образом неразумная деятельность становится разумной, точно так же они не могли объяснить, каким образом неволевое действие становится волевым, и это привело к возникновению ряда психологических теорий, которые пытались разрешить этот вопрос не научными средствами, а средствами метафизических построений. Таковыми были, в частности, теории автономные, которые пытались разрешить проблему воли, понимая ее как нечто первичное, как единство, невыводимое из других психических процессов.
Переходным звеном к этим теориям явилась вторая группа теорий, а именно аффективные теории воли. Ярчайший представитель этого направления — В. Вундт, который известен в истории психологии как волюнтарист[193], хотя в сущности он выводил волю из аффекта. Точка зрения Вундта заключается в следующем: ассоциативные и интеллектуалистические теории объясняют волевые процессы тем, что берут из этих процессов самое несущественное для воли, исключают момент действенности и актуальности, ведь с субъективной стороны эти моменты переживаются своеобразно, а с объективной стороны психическое переживание, связанное с волевыми процессами, обнаруживает гораздо более тесную связь с деятельностью человека, чем переживания другого характера.
Для ассоцианиста, говорит Вундт, характерно, что он объясняет волю через память; для интеллектуалиста — то, что он объясняет волю через интеллект; настоящий же путь объяснения воли лежит через аффект; аффект действительно является состоянием прежде всего активным, т. е. таким, которое в одинаковой степени характеризуется, так сказать, ярким, интенсивным внутренним содержанием и активным действием человекам. Вундт говорит: если мы хотим найти генетический прообраз действия в типической для прообраза структуре, мы должны воскресить, вспомнить сильно разгневанного или сильно испуганного человека, и тогда мы увидим, что человек, переживающий сильный аффект, не находится в состоянии серьезной умственной деятельности. Мы находим, таким образом, что самое существенное для волевого процесса — это активность внешнего действия, непосредственно связанная с внутренними переживаниями.
Так, прообразом воли является аффект, и на основе
457
этого аффективного действия, путем преобразования возникает волевой процесс в собственном смысле слова[194].
Мы не станем прослеживать в подробностях ни эту теорию, ни другие, может быть, более отчетливо сформулированные, эмоциональные и аффективные[195] теории воли. Для нас важно наметить звенья развития этой проблемы, ибо и Вундт сам одной ногой стоял на позиции волюнтаристов (под этим именем он стал известным в психологии, так как в философии стал открыто на точку зрения волюнтаризма), а другой ногой он оставался на прежней позиции гетерономной теории. Здесь мы видим, как исторически односторонне развивалась теория воли, идя наполовину в ложном направлении. Именно это и привело к разложению внутри этих же самых теорий и свело на нет даже и те положительные знания, которые были заключены в них.
Теории автономной воли исходят из того, что пути для объяснения воли лежат не через память, не через интеллект, не через аффект, а через саму же волю. Для них активность есть первичное начало. Представители этой теории Э. Гартман и А. Шопенгауэр, которые считают, что волей руководит сверхчеловеческое начало, некоторая мировая активность, действующая постоянно и подчиняющая себе все силы человека, безотносительно к разуму направляющегося к известным целям.
Вместе с таким пониманием воли вошло в психологию понятие бессознательного. И в этом заключался факт, надолго задержавший дальнейшее развитие учения о воле. Внедрение понятия бессознательного в современную психологию было преодолением того вида идеализма, который заключался в интеллектуализме. Почти все представители учения о бессознательном в большей или меньшей мере шопенгауэрцы, т. е. исходят из волюнтаристского понимания природы человеческой психики, к которому в последнее время приходят и такие ученые, как З. Фрейд.
Мы не будем останавливаться на различных моментах и вариантах этой волюнтаристской теории. Для схематического изложения хода нашей мысли назовем лишь два крайних полюса, между которыми колебались все теории, и затем попытаемся найти то общее и новое, что этими теориями было внесено в науку. Полюсы следующие. Во-первых, признание воли первичным, чем-то таким, что остается чуждым сознательной стороне человеческой личности, что представляет собой некоторую первоначальную силу, которая в одинаковой степени двигает материальной стороной жизни и ее духовной стороной. Во-вторых, на другом полюсе — теория спиритуалистов, представители которой исторически связаны с философией Р. Декарта и через него — с христианской средневековой философией. Как известно, декартовская теория берет за основу духовное начало, ко-
458
торое якобы оказывается в состоянии управлять всей душой человека, а отсюда — всем его поведением.
В сущности, это декартовская теория, возродившаяся и развившаяся дальше в ряду тех спиритуалистических учений о воле, которые за последнюю четверть прошлого века господствовали в идеалистической психологии. Такова, например, теория У. Джемса. Мы объединяли систему Джемса с самыми различными теориями и тенденциями. В частности, Джемс, как прагматист, пытается избегать всяких спиритуалистических и метафизических объяснений во всех проблемах, за исключением воли. Джемс создал теорию воли, которую он назвал латинским словом «фиат», взятым из Библии, что значит «да будет!», с помощью бога-творца, создавшего мир. По мнению Джемса, в каждом волевом акте присутствует некоторая частица такой волевой силы, которая дает часто предпочтение слабейшему из психических процессов. Когда больной, находясь на столе хирурга, испытывая страшнейшие боли и стремление крикнуть, тем не менее лежит совершенно спокойно и предоставляет врачу делать свое дело, то перед нами, говорит Джемс, явный пример воли, произвольного поведения.
Спрашивается, что же представляет[196] этот человек, действующий вопреки непосредственным импульсам, вопреки тому, что его влечет к противоположному способу действий?
По мнению Джемса, в этом примере сказывается вся несостоятельность вундтовской аффективной теории, потому что, согласно этой теории, аффект, более сильный, чем боль, заставляет человека лежать. На самом же деле, говорит Джемс, было бы, очевидно, нелепо думать, что его желание не крикнуть является большим, чем желание кричать. Гораздо больше ему хочется кричать, чем молчать. Это несоответствие интроспективного и объективного анализа поведения человека заставляет думать, что здесь его поведение идет по линии наибольшего сопротивления, т. е. представляет случаи исключения из мировых законов физики. Как же понять эту связь духовных и физических явлений?
Эти факты, по мнению Джемса, необъяснимы, ибо, оставаясь на этой точке зрения, мы должны признать: если этот человек все-таки продолжает лежать на столе, то, очевидно, физическая его организация возбуждена и идет по линии наименьшего сопротивления, т. е. физически мы имеем дело не с исключениями из физики, а с подтверждением ее правил. Однако если мы попытаемся ответить на вопрос, как это возможно, то мы должны допустить, что здесь имеет место посыл какой-то духовной энергии, которая, присоединяясь к слабейшему импульсу, способна обеспечить победу над более сильным фактором. По образному выражению Джемса в письме к К. Штумп-
459
фу23, всякий волевой акт напоминает собой борьбу Давида и Голиафа и победу, которую одержал Давид над великаном Голиафом с помощью господа бога. Тут частица творческого начала, духовная энергия вмешивается в течение процесса и извращает его ход.
В других теориях, в частности в теории А. Бергсона, исходным берется то, что он, определив существо интуитивного метода, назвал «анализом непосредственных данных сознания». Доказательства свободы воли, ее независимости, ее изначальности Бергсон черпает из анализа непосредственных переживаний. Как и Джемсу, Бергсону действительно удалось показать хорошо известный факт, что в системе переживаний мы умеем отличать такое действие, которое переживаем как несвободное, от тех действий, которые переживаются нами как свободные, или независимые.
Таким образом, мы имеем два полярных типа волюнтаристской теории, из которых один рассматривает волю как первоначальную мировую силу, воплощенную в том или ином человеке, а другой рассматривает волю как духовное начало, вмещающее в себя материальные и нервные процессы и обеспечивающие победу слабейшему из них. Что общее для этих теорий? Они обе признают, что воля является чем-то первичным, изначальным, не входящим в ряд основных психических процессов, представляющим какое-то диковинное исключение из всех остальных процессов психики человека и не поддающимся детерминистскому, каузальному объяснению.
В частности, впервые по отношению к волевым действиям наряду с каузальной психологией возникла идея телеологической[197] психологии, которая объясняла волевое действие не на основе указания причин, а с точки зрения тех целей, которые двигают этим действием.
Можно сказать, что в общем, будучи крайне ретроградными в истории развития научных идей о воле, эти волюнтаристские теории имели все-таки тот положительный момент, что они все время фиксировали внимание психологов на своеобразных явлениях воли, они все время противопоставляли свое учение тем концепциям, которые вообще пытались ставить крест на волевых процессах. Между прочим, они сыграли и вторую роль: они впервые раскололи психологию на две отдельные тенденции, на тенденцию каузальную, естественнонаучную, и тенденцию телеологическую.
Теперь попытаемся сделать вывод из этого рассмотрения и определить, над какими трудностями в решении проблемы воли бьются все современные исследователи, к каким направлениям они бы ни принадлежали, какую загадку загадала эта проблема исследователям нашего поколения. Основная
460
трудность, основная загадка в том, чтобы, с одной стороны, объяснить детерминированный, каузальный, обусловленный, так сказать, естественный ход волевого процесса, дать научное понятие этого процесса, не прибегая к религиозному объяснению, а с другой — применяя такой научный подход к объяснению волевого процесса, сохранить в воле то, что ей присуще, именно то, что принято называть произвольностью волевого акта, т. е. то, что делает детерминированное, каузальное, обусловленное действие человека в известных обстоятельствах свободным действием. Иначе говоря, проблема переживания свободного волевого процесса — то, что отличает волевое действие от других, — это есть основная загадка, над которой бьются исследователи самых различных направлений[198].
Еще несколько замечании из области современных экспериментальных исследований воли. Чрезвычайно интересная попытка экспериментально расчленить интеллектуальные и волевые действия была сделана К. Коффкой, принадлежавшим к берлинской школе. Коффка говорит: разумные действия сами по себе еще не являются волевыми действиями; ни со стороны телеологической, ни со стороны переживаний, ни со стороны структурной, ни со стороны функциональной эти действия не волевые, в то время как раньше думали, что все действия, как импульсивные, автоматические, так и произвольные, являются волевыми. Отчасти воспроизводя опыты В. Келера, отчасти ставя заново опыты над животными и людьми, Коффка сумел показать, что некоторые действия, которые совершает человек, по структуре не являются волевыми действиями в собственном смысле слова. В другом примере ему удалось показать обратное, что существуют собственно волевые действия, которые могут иметь в составе чрезвычайно неясно выраженные интеллектуальные моменты. Таким образом, работа Коффки как бы отграничила разумные действия от волевых и позволила, с одной стороны, сузить круг волевых действий, с другой — расширить многообразие различных видов действия человека.
Аналогичную работу проделал и К. Левин в отношении аффективно-волевых процессов. Как известно, работа Левина заключается в изучении структуры аффективно-волевых действий и в стремлении доказать, что аффективная деятельность человека и волевая деятельность в основном строятся на одном и том же. Однако очень скоро Левин обнаружил факты[199], которые он обобщил следующим образом. Оказалось, что аффективное действие само по себе ни в какой степени еще не является действием волевым, что ряд действий, которые всегда в психологии рассматриваются как типично волевые, на самом деле не обнаруживают природы подлинно волевых действий, а лишь близко стоят к ним.
461
Первая исследовательская работа Левина в этом отношении была изучением типичной для старой психологии экспериментов модификации опытов Н. Аха[200], примененной к экспериментально выработанному действию, т. е. к ответу на условный сигнал; затем она была расширена изучением ряда действий, в частности действий, основанных на намерении. Основным в работе Левина явилось указание на то, что даже целый ряд действий, отнесенных к будущему, действий, связанных с намерением, в сущности протекает по типу произвольных аффективных действий; иначе говоря, они связаны с особенностью состояния, которое Левин называет напряженным (Spannung[201]).
Из аналогичных опытов Левин сделал также вывод: если я написал письмо и, положив его в карман пальто, имел намерение опустить письмо в почтовый ящик, то само это действие автоматическое и выполняется непроизвольно, несмотря на то что во внешней структуре оно чрезвычайно напоминает действие, которое мы производим по заранее намеченному плану, т. е. волевое действие[202].
Здесь, как и в экспериментах Коффки, некоторые волевые действия отнесены к ряду действий аффективных и непроизвольных, близких к волевым по структуре, но не образующих специфически волевых действий. Лишь после этого Левин показал многообразие форм человеческих действий, проявляющих те же закономерности.
К. Левин вплотную подошел к проблемам воли, правда, с негативной стороны. Ставя аналогичные опыты на детях и взрослых, он обращает внимание на чрезвычайно любопытный момент, а именно: в то время как взрослый человек может образовать любое, и даже бессмысленное, намерение, ребенок в этом отношении бессилен[203]. На ранних ступенях развития воли ребенок не в состоянии образовать любое намерение. Каждая ситуация определяет круг тех возможных намерений, которые может образовать ребенок. Это есть, как образно выражается Левин, зачаток, но не рожденное намерение[204]. Левин изучил, во-первых, образование так называемых любых намерений, даже бессмысленных, и произвольность в отношении их образования, хотя последний факт надо принимать условно. Мы, взрослые, тоже не можем образовать любые произвольные бессмысленные намерения, такие, которые противоречат нашим основным установкам или нашим моральным взглядам. Если же взять широкую группу действий, которые не вступают в конфликт с нашими установками, то лишь в отношении их мы образуем любое намерение; это и будет отличать развитую волю взрослого человека от малоразвитой воли ребенка.
Второй факт заключается в том, что Левин выяснил структуру волевого действия. Он показал, что в примитивных фор-
462
мах волевое действие имеет чрезвычайно своеобразные проявления, которые затем изучали К. Гольдштейн и А. Гельб и которым они попытались дать соответствующее неврологическое объяснение.
К. Левин приходит к выводу, что с помощью своеобразного механизма в экспериментах с бессмысленной ситуацией человек ищет как бы опорную точку вовне и через нее определяет так или иначе собственное поведение. Например, в одной из таких серий экспериментатор долго не возвращался к испытуемому, но из другой комнаты наблюдал за тем, что он делает. Испытуемый обыкновенно ждал 10—20 мин., наконец, переставал понимать, что же он должен делать, и оставался долгое время в состоянии колебания, растерянности, нерешительности. Почти все взрослые испытуемые Левина осуществляли в этой ситуации различные способы действия, но с той общей чертой, что искали точки опоры для своих действий вовне. Типичным примером может служить испытуемая, которая определяла свои действия по часовой стрелке. Глядя на часы, она думала: «Как только стрелка займет перпендикулярное положение, я уйду». Испытуемая, следовательно, видоизменяла ситуацию: положим, до половины третьего она ждет, а в половине третьего уходит, и тогда действие уже шло автоматически: «Я ухожу». Этим испытуемая, видоизменяя психологическое[205] поле, как выражается Левин, или создавая для себя новую ситуацию в этом поле, переводила свое бессмысленное состояние в якобы осмысленное. Об аналогичных опытах (об опытах Т. Дембо24 над бессмысленными действиями) мне недавно пришлось слышать во время пребывания Коффки в Москве. Испытуемому дается ряд бессмысленных поручений и изучается, как он реагирует на это. Интересна обнаружившаяся в выполнении бессмысленных поручений тенденция к осмысливанию их во что бы то ни стало путем создания новой ситуации, изменения в психологическом поле, в котором желанным было бы осмысленное, но никак не бессмысленное действие.
Позвольте очень кратко, опуская ряд частностей, указать на своеобразный механизм, который имеет чрезвычайно большое значение в развитии волевой функции у ребенка и на который указал Гольдштейн. В опытах с нервнобольными Гольдштейн обратил внимание на тот любопытный механизм, с которым приходится сталкиваться каждому психологу: действие, которое не удается больному при одной словесной инструкции, удается ему при другой инструкции. Например, больного просят закрыть глаза. Он пытается выполнить поручение и закрыть глаза, но не закрывает их. Тогда его просят: «Покажите, как вы ложитесь спать». Больной показывает и при этом закрывает глаза. И этого оказывается уже достаточно для того, чтобы в следующий
463
раз, выполняя поручение закрыть глаза, он мог это сделать. Простое действие оказывается выполнимым при одной инструкции и невыполнимым при другой.
К. Гольдштейн объясняет это чисто структурными моментами. Он говорит: у больных с затруднениями движений в результате перенесенного эпидемического энцефалита появляются изменения в структуре сознания, в зависимости от чего выполнение отдельных действий становится невозможным. Грубо говоря, по мнению старого невролога, раздражение «закройте глаза», попадая в известный центр мозга, не находит передаточных путей к центрам движения глаз. Больной понимает, что значит «закройте глаза», и хочет это сделать, он умеет закрывать глаза, но вследствие болезни соответствующие возможности нарушены и нет связи между этими двумя центрами. Невропатолог же нового времени говорит, что это чрезвычайно сложная структура, которая возникла на основе известной ситуации, и образование такой любой структуры, любого действия, не вызванного ситуацией, становится невозможным. Когда вы просите больного показать, как он ложится спать, перед ним не изолированное действие, которое он должен ввести в новую, сложную структуру, а более или менее целостная ситуация.
Типичным для неврологического построения нормального волевого акта Гольдштейн считает наличие таких условий, когда между двумя пунктами коры образуется не прямая связь, а структура, которая лишь опосредованно приводит к завершению действия. Начальная точка этого процесса приводит к сложному внутреннему построению новой структуры, которую можно разрешить прежней структурой через построение вспомогательной структуры. Лишь в этом случае мы имеем дело с волевым процессом. Кроме прочных, закрепленных путей между двумя пунктами возможна сложная опосредованная связь между отдельными структурами. Эта связь может иметь характер сложных опосредующих структурных образований, которые приводятся в динамическое состояние в тех случаях, когда два пункта не могут прямо связаться между собой[206].
Благодаря этому становится возможным возникновение некоторой новой структуры, в составе которой все три момента объединены между собой. По мнению Гольдштейна, этот же механизм устанавливается испытуемым, который решает уйти по сигналу часовой стрелки. Новое, что Гольдштейн вносит в анализ этого факта, следующее: он придает чрезвычайно большое значение внешней речи, признавая несостоятельным господствовавший в старой психофизиологии взгляд, будто чем сложнее контроль за протеканием какой-либо деятельности, тем более непосредственно протекает действие. По-видимому, мы имеем здесь дело с такими структурами, когда человек, говоря, слу-
464
шает себя самого полностью и выполняет свою собственную инструкцию.
Мне хотелось бы закончить указанием на то, в какой степени развитие детской воли, начиная с примитивных произвольных движений, совершающихся вначале по словесной инструкции, и кончая сложными волевыми действиями, протекает в непосредственной зависимости от коллективной деятельности ребенка. В какой мере примитивные формы детской волевой деятельности представляют применение самим ребенком по отношению к самому себе тех способов, которые по отношению к нему применяет взрослый человек? В какой мере волевое поведение ребенка проявляется как своеобразная форма его социального поведения по отношению к самому себе?
Если вы заставляете ребенка часто делать что-нибудь по счету «раз, два, три», то затем он сам привыкает делать точно так же, как, например, мы делаем, бросаясь в воду. Нередко мы знаем, что нам нужно что-либо сделать, скажем, по примеру У. Джемса, встать с постели[207], но нам не хочется вставать, и мы никак не можем найти побудительного стимула для того, чтобы поднять себя. И вот в такие моменты предложение к самому себе извне помогает нам встать, и, как говорит Джемс, мы незаметно для самих себя находим себя вставшими. Было бы чрезвычайно важно свести все эти данные, проследить их по возрастам и определить своеобразные стадии, или ступени, через которые проходит развитие детской воли.
Сейчас я опускаю это и закончу указанием на то, что мы имеем в этой области сравнительно редкие случаи, когда исследования патологической психологии, теоретически осмысляемые в плане как неврологической, так и генетической психологии, совпадают друг с другом и дают возможность по-новому подойти к решению важнейших вопросов психологии[208].
I
Настоящий том, как и предыдущий, дает представление об общепсихологической теории Л. С. Выготского и включает в себя ряд произведений, образующих единую систему, в которых в емкой и выразительной форме содержатся основные общепсихологические идеи Выготского и результаты, полученные им в этой области. Сюда входит классическая монография Выготского «Мышление и речь» и «Лекции по психологии». Связь работ, публикуемых во втором томе, с работами, опубликованными в первом томе, очевидна: если в первом томе излагалась разработанная Выготским программа построения новой психологической теории, то во втором томе мы сталкиваемся уже с попыткой ее конкретизации и реализации.
«Мышление и речь», несомненно, один из главных трудов Выготского. Посвященная проблеме соотношения мышления и речи, работа является важнейшим исследованием, развивающим основные положения той общей теории, которую создавал Выготский, и одновременно дающим критический анализ наиболее известных попыток подойти к разрешению этого вопроса, попыток, доминировавших в западноевропейской психологической науке 20-х — начала 30-х гг.
Известно, что на решении проблемы мышления и его взаимоотношения с речью сталкивались два основных направления в психологии. Одно из них, достигшее своей вершины в XIX в., — ассоцианизм — разлагало процесс мышления на основные элементы — представления (в частности, представления, стоящие за изолированными словами) и пыталось показать, что мышление в сущности сводится к ассоциациям (связям) этих элементов[209]. Такой подход к процессам мышления можно было встретить в подавляющем большинстве учебников и руководств, по которым воспитывались поколения психологов. Совершенно естественно, что, вскрывая те элементы, которые входят в состав мышления, сторонники ассоциативной теории не могли подойти к описанию мышления как целостного процесса и специальные особенности, характеризующие интеллектуальную деятельность человека, пропадали.
В начале XX в. ассоциативный подход к психологии мышления впервые встретился с решительным сопротивлением.
Представители так называемой вюрцбургской школы (О. Кюльпе, Н. Ах, К. Бюлер и др.), сделавшие мышление предметом исследования, пришли к положениям, обратным тем, которые многие годы защищались ассоцианистами. Согласно представлениям вюрцбургской школы, мышление — совершенно особый процесс, резко отличающийся от связи представлений (ассоциаций), мышление включает в свой состав совершенно иные психические процессы — интенцию, или направленность на решение возникшей проблемы, оно проявляется в первичном усмотрении отношений и, наконец, в него не обязательно входят наглядные образы (представления) и элементы речи (слова).
Несомненная заслуга вюрцбургской школы в том, что представители этого направления попытались подойти к мышлению как к совершенно особому виду психической деятельности. Однако решение вопроса о мышлении, предложенное ими, также встретило оправданное сопротивление. Пользуясь субъективным, феноменологическим методом (описанием тех переживаний, которые возникали при мыслительном акте), сторонники этого направления опи-
466
сывали процесс мышления в самых общих, отвлеченных терминах; ученые заранее отказывались подходить к мышлению как к конкретной психической деятельности человека, полностью отрывали мышление от всех остальных, процессов психической жизни (в том числе от практического опыта и речи), замыкались в кругу чисто субъективных, феноменологических описаний и уж, конечно, даже не ставили вопроса о возможности подойти к историческим корням развития мышления.
Близкую позицию, хотя и исходящую из совершенно иных положений, заняли и представители немецкой гештальтпсихологии (М. Вертгаймер, В. Келер, К. Коффка). Детально изучая процессы восприятия как целостные, далее не разложимые формы психической деятельности, они перенесли представления об этих целостных законах и в описание мышления, в основе которого, по их мнению, лежало восприятие отношений. Указывая на целостный, далее не разложимый[210] процесс мышления, эти авторы по существу отождествили его законы с законами целостного восприятия, и это неизбежно привело гештальтпсихологов к столь же абстрактным схемам, как и представителей вюрцбургской школы, и также лишило возможности рассматривать процесс мышления в качестве конкретной психической деятельности, имеющей свою историю и свои корни, тесно связанные с практикой человека и с языком.
В обоих направлениях изучение мышления замыкалось в серию абстрактных схем и реальное исследование деятельности мышления и его истории оставалось невозможным. Создавался глубочайший кризис этого раздела психологин, преодоление которого и стало основной задачей Л. С. Выготского.
Два пути были возможны для выхода из этого кризиса. С одной стороны, надо было выделить те реальные единицы, из которых строится процесс мышления, и вместо упрощенных ассоциаций или абстрактных схем (типа усмотрение отношений) найти далее неразложимые компоненты, сохранявшие все качества, характеризующие мышление, выводя эти компоненты (или единицы) из конкретной практической деятельности ребенка. С другой стороны, создавалась острая необходимость подойти к процессам мышления в свете их развития и, помня известную формулу Маркса: «Мы знаем только одну единственную науку — науку истории» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 16), проследить те реальные этапы, которые проходит формирующееся мышление взрослого человека.
Естественно, что и в решении этих проблем Выготский должен был оттолкнуться от существовавших в его время теорий, сохранив описанные ими конкретные факты и противопоставив ложному толкованию этих фактов правильный и последовательно материалистический подход.
В 20-х гг. нашего века было немного психологических попыток подойтик реальным истокам мышления, соотнести его с деятельностью ребенка, с одной стороны, и с развитием его речи, с другой. Из этих немногочисленных попыток выделялись ранние работы Ж. Пиаже о развитии речи и мышления ребенка, с одной стороны, и, с другой — работы немецкого психолога В. Штерна о психологии развития ребенка, продолжавшие в течение двух десятилетий занимать в психологии доминирующее место. Обе эти группы работ пытались дать как можно более пристальное описание того мира, в котором жил ребенок; обе они вместе с тем пытались подойти к строению его речи и к взаимоотношению речи с мышлением.
Естественно, что, приступая к решению вопроса об отношении мышления и речи, Выготский не мог пройти мимо этих работ.
Для Пиаже весь процесс развития ребенка был процессом постепенной социализации существа, раньше не отделявшего внешний мир от своих переживаний и как бы замкнутого в кругу аутизма. Именно поэтому, думал Пиаже[211], и речь ребенка с самого начала носит характер не обращенной к взрослому эгоцентрической речи.
Л. С. Выготский исходил из противоположных позиций. Для него младенец, также не отделенный от матери физически, а затем биологически, с са-
467
мого начала был социальным существом, и его деятельность с самого начала была пронизана обращением к взрослым, общением с ними. Уже это положение заставляло Выготского сомневаться в том, что речь ребенка, которая всегда отражает действительность, служит формой общения и отражения мира, на первых ступенях будто бы носила эгоцентрический характер и была скорее орудием аутистических переживаний, чем средством отражения реального мира, орудием общения. Именно это и заставило Выготского обратиться к ранним стадиям развития ребенка и поставить перед собой вопрос: какую действенную функцию играет та речь, которую Пиаже называл эгоцентрической?
Экспериментальные исследования, которые провел Выготский, позволили ему разрешить вопрос о функции речи, считавшейся Пиаже эгоцентрической, получить факты важнейшего значения. Экспериментальные данные Выготского прочно вошли в психологическую литературу. Оказалось, что эгоцентрическая речь ребенка имеет реальное, действенное значение: она появляется тогда, когда ребенок сталкивается с затруднением, которое он может решить только с помощью взрослого; то, что Пиаже считал эгоцентрической речью, на самом деле оказалось действенными речевыми пробами, непосредственно вплетенными в практические пробы ребенка, и объективно играло свою роль, помогая ребенку отражать, «прощупывать» ситуацию, сначала анализируя ее, а затем и планируя будущее действие. Именно поэтому критический анализ концепций Пиаже, который проделал Выготский и с которого он начинает свою работу «Мышление и речь», был в такой же степени «экспериментальной философией», как и экспериментальным исследованием, с той только особенностью, что подход Выготского отрывал речь от кажущегося эгоцентризма и был фактически первой попыткой показать то место, которое ранняя речь ребенка занимала в его практической деятельности.
Лишь в дальнейшем, по наблюдениям Выготского, эта внешняя,
развернутая квазиэгоцентрическая речь переходит в сокращенную, шепотную, а
затем и во внутреннюю речь, становясь одним из важнейших орудий человеческого мышления.
Со времени опубликования разбираемой работы Л. С. Выготского
прошло около 50 лет; однако идеи о первично действенном, социальном характере речи
ребенка, о процессе ее последующей интериоризации, приводящей к сложнейшим механизмам
речевого мышления, продолжают оставаться остро актуальными и разрабатываться
многими советскими психологами.
Если за теорией эгоцентрической речи Пиаже стояли идеи
глубинной психологии, аутизма и в конечном итоге психоанализа, то В. Штерн —
другой психолог, изучавший проблему развития речи и мышления, исходил из
совершенно иных позиций. За его положениями, характеризующими детскую речь, стояли
идеи идеалистического персонализма, которые в корне подрывали всякий
генетический подход к анализу путей развития детской речи и ее роли в мышлении.
Согласно своей концепции, Штерн приходил к утверждению: между одним и двумя
годами ребенок делает самое большое открытие в своей жизни, заключающееся в
том, что каждая вещь имеет свое имя. Тем самым ребенок вводится в мир
устоявшихся значений, и ему сразу же открывается путь к овладению
интеллектуальными операциями. Коренная ошибка Штерна, по мнению Выготского, в
следующем: он делает проблему постулатом и, вместо того чтобы поставить вопрос
о реальном развитии значения слова, высказывает маловероятное предположение о
том, что ребенок сразу же открывает готовый мир значений.
Анализ концепций Пиаже и Штерна становится отправным пунктом
всех дальнейших рассуждений, которые входят в разбираемую работу Выготского. Отказываясь
принять как идею об эгоцентрической речи, так и идею об открытии значения слов,
Выготский ставит основную задачу — проследить генетические корни мышления и
речи и дать в руки психологу экспериментальные методы изучения того, как
именно развиваются эти процессы.
468
Глава «Генетические корни мышления и речи» имеет
центральное, ключевое значение. В большом числе исследований высказывалось
предположение, что генетические корни мышления тесно связаны с речью, что слово
всегда является носителем понятия, лежащего в основе мышления, что
принципиально отношения между мышлением и речью остаются неизменными на после довательных
этапах развития.
Л. С. Выготский со всей решительностью отверг это положение
и показал, что развитое мышление человека имеет два независимых корня, один из
которых уходит в глубину практического действия животного, а другой — в применение
речи как средства общения. На этот вывод Выготского полностью уполномочивали
те данные, которые к тому времени накопились в психологии. Так, еще к началу
20-х гг. твердо установили, что антропоидные обезьяны, наблюдавшиеся в опытах
В. Келера, способны совершать достаточно сложные, интеллектуальноподобные
действия: животные анализировали наглядную ситуацию, улавливали ее наглядные
связи и оказывались в состоянии решать относительно простые действенные задачи.
Однако в звуках, отражавших эмоциональное состояние животных (удовольствие и
неудовольствие, устрашение или призыв), нельзя было уловить даже намеков на
обозначение отдельных предметов; аффективные звуки антропоидов имели совершенно
иную функцию, чем слова человеческого языка, каждое из которых обозначает
какой-либо предмет, отражает связи и отношения*.
Следовательно, как указывал Выготский, имеются доречевые
формы наглядно-действенного интеллекта, так же как имеются аффективные, доинтеллектуальные
формы тех звуковых реакций, которые еще не несут интеллектуальных функций.
Подобное утверждение привело Выготского к высказываниям,
имеющим двойной характер. С одной стороны, ему стало ясно, что корни интеллекта
нужно искать не в абстрактных логических операциях, выражаемых в языке, а в
реальной деятельности животного и что звуки, характеризующие поведение животного,
имеют совсем иное функциональное значение и входят в совершенно иную систему,
чем интеллектуальное действие. С другой стороны, ему стало ясно, что, наряду с
теми формами развития, которые идут по «чистым линиям» (обеспечивающим
созревание какого-либо задатка), существуют и формы развития, идущие по
«смешанным линиям», и именно последнее заставляет искать тот период, когда
мышление становится речевым и речь включается в практическое решение задач,
получая тем самым новые функции.
Уже здесь Выготский приходит к положению, которое он не
устает повторять дальше. Если Гёте предложил заменить библейское изречение:
«Вначале было слово» — другим: «Вначале было дело», — то Выготский
предлагает изменить акценты в этом предложении, выделяя первое слово: «Вначале
было дело», заставляющее искать, как объединение «дела» и «слова» обеспечивает возникновение
тех высших форм речевого мышления, которые придают человеческому «делу»
принципиально новые черты, выводят его далеко за пределы наглядно
воспринимаемой ситуации и превращают человека из «раба зрительного поля» в его
хозяина.
Естественно, что все это толкает Выготского на следующий шаг
— более пристальное изучение того пути, который проходит значение слова, этот,
по его выражению, «микрокосм человеческого сознания» а вместе с тем элементарнейшее
средство отражения действительности. Этот шаг приводит Выготского к решающим
опытам, результаты которых впоследствии принесли их автору мировую известность.
469
Если — как было показано рядом исследователей — практическое
действие животного и элементарное действие ребенка с помощью орудий (Werk zeugdenken) имеет свою
историю, этапы своего формирования и свою изменяющуюся психологическую
структуру, то нельзя ли проследить аналогичный процесс с самим словом —
основной единицей языка, которое в зрелом виде выражает понятие, тем самым
создавая новые основы для развития мышления? Этот вопрос освещен Выготским в
главе «Экспериментальное развитие понятий».
Издавна известно, что единицей речи является слово, что оно
обозначает предмет, а на более сложных ступенях развития выражает известное
отвлеченное понятие. Однако, несмотря на значительное число исследований,
посвященных этому вопросу, сам процесс развития значения слова оставался в
стороне. Предполагалось, что значение слова всегда неизменно (ведь казалось очевидным,
что слово «стул» или слово «яблоко» означает для ребенка и взрослого одну и ту
же вещь) и что весь процесс развития речи связан лишь с обогащением и
расширением словаря и приобретением новых отвлеченных слов, которые выражают
известные понятия.
Такой подход к психологии слова казался Выготскому
необоснованным и утверждение, что ребенок просто «врастает в культуру», приобретая
все новые и новые слова, неубедительным. Выготский считал необходимым
противопоставить как ассоциативному подходу к выработке обобщенного значения слова
путем проб и ошибок, так и явно идеалистическому представлению о том, что
отвлеченное значение слова непосредственно привносится подростку, принципиально
иной подход, отражающий драматический процесс развития понятия. Выготский
считал важнейшей задачей проследить тот реальный психологический процесс, в
результате которого слово теряет диффузный субъективный характер и становится
подлинным орудием для отражения всех сложнейших связей и отношений, в которые
могут вступать обозначенные словом предметы. И если Выготский сейчас получил
признание в мировой литературе, то это произошло в значительной мере в связи с
тем, что ему удалось разрешить поставленную им задачу.
Первый шаг, который он делает, сводится к четкому
отграничению двух основных сторон, или основных функций, слова. С одной
стороны, слово всегда указывает на отдельный предмет (действие или качество),
замещает его, или, согласно известному русскому лингвисту А. А. Потебне, служит
его представлением. Эту функцию слова Выготский с основанием назвал предметной отнесенностью
слова. Тот факт, что предметная отнесенность слова идентична у ребенка и взрослого
(«стул» — всегда стул, «окно» — всегда окно), свидетельствует, что она является
одной из важнейших функций слова; однако этот факт легко закрывает глубокие
изменения, которые претерпевает содержание слова в развитии ребенка.
Наряду с функцией предметной отнесенности Выготский выделил
и вторую, гораздо более сложную функцию слова — функцию значения. Именно эта
сторона слова и претерпевает в процессе развития речи ребенка глубочайшие преобразования.
Под значением Выготский понимал следующее: слово не ограничивается указыванием
на определенный предмет; вместе с этим оно вводит данный предмет в систему
связей и отношений, анализирует и обобщает его. «Чернильница» есть не только
прямое указание на предмет, стоящий на столе; это — указание на то, что данный
предмет имеет отношениек цвету или краске (черн-), что он относится к другим
предметам, имеющим орудийное значение (суффикс*
-ил), что этот предмет является вместилищем, таким же, как сахарница,
пепельница (суффиксы н-иц). Следовательно, слово, с одной стороны, не только
указывает на предмет, но проделывает сложнейший анализ этого предмета,
анализ, сформированный в кодах языка в процессе общественной истории.
470
С другой стороны, слово вводит предмет в определенную
систему связей, и «огород» неизбежно вызывает такие связи, как «земля»,
«грядка», «огурцы» и т. д., а иногда относится и к более отвлеченной системе
категорий, таких, как «сельское хозяйство», «растительная пища», «товарная
стоимость» и т. д.
Наконец — как на это указывал В. И. Ленин — всякое слово
(речь) уже обобщает (т. 29, с. 246): говоря «стол», мы имеем в виду
любой стол, говоря «часы» — любые часы и т. д.
Выделение значения слова как той системы связей,
которые за ним скрываются и которые вызываются им, — важнейший шаг лингвистики,
психологии и психолингвистики. Выготскому удалось установить главное: если
предметная отнесенность слова может сохраняться на разных этапах психического развития
идентичной, то значение слова (т. е. внутренняя семантическая структура)
развивается. Чтобы доказать развитие значения слова, Выготский применил
оригинальный метод, разработанный им вместе с Л. С. Сахаровым. Этот метод
позволял одновременно вынести наружу те системы связей, которые стоят за
словом, и проследить процесс формирования понятия. Метод состоит в том, что
искусственные, ничего не значащие слова приурочиваются к предметам, имеющим
комплекс признаков (например, «РАС» означает маленькие и плоские, «ГАЦУН» —
большие и высокие предметы и т. д.). Испытуемому дают картонные фигуры, на
нижней стороне которых написано соответствующее слово. Одну из фигур открывают
и предлагают ребенку выбрать все фигуры, которые обозначаются этим же словом.
Если выбор совершен неудачно, опыт продолжают и ребенку предлагают догадаться,
какие еще фигуры могут обозначаться этим искусственным словом.
Описанная методика привела к исключительно важным
результатам и показала, что значение искусственного слова строится на
последовательных этапах развития ребенка по-разному, входя в совершенно
неодинаковые психические системы. Так, на ранних этапах ребенок игнорировал
данное ему слово и выбирал предметы по случайному признаку, показывая тем
самым, что слово либо не имеет для него существенного значения, либо его
значение синкретично и диффузно. На следующем этапе развития слово уже приобретало
свое функциональное значение, но еще далеко не носило характера отвлеченного
понятия. Ребенок подбирал к указанному ему большому зеленому треугольнику,
обозначенному соответствующим словом, либо все зеленые, либо все треугольные,
либо все большие фигуры. Создавалось впечатление, что вокруг искусственного
слова «ГАЦУН» образуется целая семья, каждый член которой входит в группу на
своих основаниях (зеленый квадрат — по признаку цвета, синий треугольник — по
признаку формы, так же как Иван входит в семью потому, что он брат Петра, Ольга
— потому, что она жена Петра, Николай — потому, что он его сын, и т. д.).
Иногда этот комплекс мог приобретать цепной характер, формируя цепь, каждый
следующий член которой сохранял связь по тому или иному признаку лишь с
предшествующей фигурой, теряя связь с исходной. На дальнейших ступенях развития
картина менялась, и ребенок начинал выделять основной признак предмета, подводя
этот признак под известную категорию. Выготский обозначал эту стадию как стадию
псевдопонятий, потому что результаты обнаруживали свое подлинное лицо легким
соскальзыванием на побочные признаки. Наконец, сравнительно поздно, уже в
школьном возрасте, весь процесс классификации принципиально менялся и начинал
состоять из выделения признака, создания гипотетической категории, имеющей свое
словарное определение и приводящей к подлинному речевому
(вербально-логическому) мышлению.
Опыты, проведенные Выготским, не только показали, что значение
слов развивается, но и позволили проследить сам процесс формирования
понятия, который раньше протекал в непосредственном плане и лишь затем начинал опираться
на отвлеченное, категориальное значение слов.
Путь развития значения слова от диффузного к наглядному
(ситуационному) и далее к категориальному (вербально-логическому) был уже в
даль-
471
нейшем, после смерти автора,
прослежен многими исследователями как мышления ребенка, так и мышления людей,
стоящих на различных этапах культурного развития. Было отчетливо показано, как
последовательно формируется значение слова — этого основного орудия отражения
реальности.
II
Таким образом, рассмотренная глава работы «Мышление и речь»
впервые обосновывает тезис, что значение слов развивается, и подводит нас
вплотную к характеристике основных этапов развития понятий. Следующая и самая большая
по объему глава «Исследование развития научных понятий в детском возрасте»
анализирует более частный вопрос (развитие научных понятий), но вместе с тем
неизмеримо расширяет контекст всего труда Выготского, обращаясь к тому, что
именно вносит наиболее высокая форма понятия в сознание ребенка и в какие
именно отношения вступают основные факторы формирования сознания — развитие и
обучение. Именно это позволяет сказать, что в указанной главе с большой широтой
раскрываются основные философско-психологические и практические взгляды Л. С.
Выготского.
Известно, что еще до работ Выготского психологи были склонны
различать два основных вида понятий, которые формируются в процессе развития ребенка.
Одни из них, нередко обозначаемые как спонтанные (Выготский предпочитает
называть их житейскими), формируются в непосредственной практической
деятельности ребенка, они возникают еще в дошкольном возрасте. К таким понятиям
можно отнести понятия «дом», «собака», «брат» и т. д. Другие понятия часто
обозначались как неспонтанные (Выготский предпочитает называть их научными).
Они возникают лишь в процессе обучения и появляются в школьном возрасте. К ним
можно отнести понятия «прямая линия», «закон Архимеда», «классовая борьба» и т.
д.
Возникали вопросы: развиваются ли эти виды понятий по одним
и тем же законам? Имеют ли они одинаковую психологическую структуру? И наконец,
играют ли они одинаковую роль в дальнейшем психическом развитии ребенка?
Когда Выготский писал работу «Мышление и речь», в психологии
не было однозначного ответа на эти вопросы. Одни авторы считали, что законы, по
которым развиваются житейские и научные понятия, одинаковы, что научные понятия
усваиваются тогда, когда их житейские эквиваленты оказываются достаточно
созревшими, и что дальнейшее овладение ими протекает по одним и тем же законам.
Научный анализ различий в психологическом строении житейских и научных понятий
не был проведен, а вопрос о роли обоих видов понятий в дальнейшем психическом
развитии ребенка не был даже поставлен.
Можно с уверенностью сказать, что труд Выготского «Мышление
и речь», так же как и его работа «Развитие высших психических функций»,
вошедшая в третий том Собрания сочинений, был первой попыткой подойти к решению
указанных вопросов с достаточной глубиной и принципиальностью.
Уже первое приближение к анализу обоих видов понятий
показывает, насколько глубоки их различия по генезису, психологической
структуре и функции. Житейские понятия возникают в результате
непосредственного, индивидуального, наглядного опыта ребенка, за которым стоит
наглядно данная, образная действительность. Научные понятия вносятся школой,
учителем, и за этими понятиями, как правило, вовсе не стоит наглядный,
индивидуальный опыт ученика.
Житейские понятия хорошо известны ребенку (on знает, что
такое «дом», «собака», «брат»), и ребенок достаточно хорошо умеет практически
пользоваться ими; однако, как показывают наблюдения, он еще не может словесно определить
эти понятия. Житейские понятия далеко не сразу входят в состав его сознательной
практики. Научные понятия характеризуются противопо-
472
ложными чертами:
они вносятся учителем словесно даже тогда, когда у ученика еще нет стоящего за
ними конкретного опыта. Поэтому ученик легко может словесно сформулировать
научное понятие, но это еще не означает, что он может адекватно владеть им.
Житейские понятия, употребляемые ребенком в практике, могут
оставаться непроизвольными (понятие «собака» вовсе не возникает в результате
какой-либо специальной деятельности и может употребляться без осознания его словесного
значения). Научные понятия, вносимые школой, обязательно не только
сознательные, но и произвольные; они всегда являются предметом определенной теоретической
деятельности, продуктом специальной работы над ними (их определения, противопоставления[212]
и т. д.).
Наконец, существует и еще одна, едва ли не самая важная
черта, отделяющая эти два типа понятий. Житейское понятие включает отражаемый
им предмет в определенную наглядную, жизненную ситуацию, но совершенно не обязательно
вводит его в определенную логическую систему. Наоборот, основная черта научного
понятия та, что оно обязательно вводит обозначаемый им предмет в систему
логических категорий и противопоставлений: прямая линия противопоставляется
кривой, капитализм — социализму и т. д.
Все это говорит о том, что житейские и научные понятия
отличаются не только по происхождению, но и по психологической структуре.
Житейские, практические понятия отражают действительность, но система скрытых
за ними связей может оставаться неосознанной. Научные понятия, являясь
клеточкой определенной системы, не только формируются их речевым определением, но
всегда являются осознанной системой связей и отношений, в которые они включены[213].
Противопоставление житейских и научных понятий вовсе не
ограничивается приведенными нами примерами; оно распространяется и значительно
дальше.
Устная речь ребенка — практическая житейская деятельность:
она отражает предмет, желание, переживание. Ребенок, пользуясь устной речью,
вовсе не обязательно осознает ее строй и составляющие ее компоненты (именно
поэтому на вопрос, сколько слов в предложении: «В комнате 12 стульев», — ребенок
без колебаний отвечает: «12»). В отличие от устной, письменная речь имеет
совсем иное строение: ее предметом сначала являются изолированные звуки (вовсе
не осознаваемые ребенком в его устной речи), изображаемые буквами; затем —
слоги и морфемы, потом — лексемы и синтагмы. Все эти компоненты, неосознаваемые
в устной речи, осознаются и произвольно применяются в письменной. То же самое
можно сказать и о счете. Владея практически житейским счетом, ребенок еще не
осознает его правил и ограничивается конкретными предметами; при переходе к
алгебре именно конкретные предметы отступают на задний план и объектом
сознания, произвольной деятельности становятся основные формальные законы
счетных операций[214].
Можно с полным основанием сказать, что во всех первых формах
упомянутых видов деятельности мы сталкиваемся с практическими
действиями, во всех последних формах — с теоретическими действиями,
имеющими совсем иной предмет и совсем иное психологическое строение.
Противопоставление[215]
житейских и научных понятий, на котором Выготский столь подробно
останавливается в разбираемой главе его работы, является лишь частной моделью,
на которой особенно отчетливо выступает противопоставление спонтанного и
произвольного, неосознанного и осознанного, несистемного и системного в
психической деятельности. Остается, однако, последний вопрос, которому
Выготский уделяет особое внимание. Это вопрос о динамике (точнее, диалектике)
развития научных и житейских понятий. Как уже было сказано, этот вопрос решался
неодинаково различными психологами, и если одни полагали, что спонтанное
развитие ребенка должно достичь известной зрелости, чтобы стало возможным
усвоение научных понятий (вряд ли дошкольника можно учить алгебре), и что
обучение должно следовать развитию, плестись в хвосте развития, то другие
исследователи считали оба процесса идущими параллельно и лишь
взаимодействующими друг с другом.
473
Тот существенный вклад, который Выготский внес в решение
этого вопроса, заключался в следующем: нет и не может быть единого и
постоянного отношения между развитием и обучением; естественно, что спонтанное
развитие житейских понятий делает ребенка готовым к усвоению научного понятия; однако
и изучение научных понятий вносит огромный вклад в дальнейшее психическое
развитие ребенка, вводя его отражение действительности в известные системы,
делая процессы его умственной деятельности сознательными и произвольными. На
эту сторону дела, на забегающее вперед влияние научных понятий на житейские до
Выготского обращалось недостаточное внимание. И именно Выготскому принадлежит
заслуга выделения рационального зерна в формальном обучении, указание на то
влияние, какое вносит формальное усвоение научных понятий в прежде имевшиеся
житейские представления ребенка, на коренную перестройку его отражения
действительности, на создание тех психологических новообразований, к которым
само спонтанное развитие ребенка никогда бы не пришло. То, что ребенок сегодня
может сделать с помощью учителя, говорит Выготский, завтра он сможет сделать
сам, и идея о зоне ближайшего развития, которую ученый сформулировал в
анализируемой работе, — одна из наиболее продуктивных идей автора[216].
Значение только что разобранной главы не остается в пределах
чисто теоретических рассуждений. В ней заложен фундамент для научно
обоснованной перестройки обучения, для сдвига многих привносимых учителем
понятий в детский сад, для новой по тому времени идеи начинать обучение в школе
не с самого конкретного, а с общего, отвлеченного, которое только и может перестроить
житейские понятия и проложить путь для овладения теоретической деятельностью и
для развития сложных форм категориального мышления.
За 48 лет, прошедших со дня смерти Выготского, многие его
последователи претворили в жизнь предначертания ученого и убедительно показали,
к каким большим последствиям приводят идеи Выготского для рационального пересмотра
педагогической науки и практики.
III
Только что рассмотренная глава ставит задачу более
отчетливой разработки проблемы значения слова, понимая его как обобщение
и прослеживая последовательные этапы его восхождения от обобщения наглядной
ситуации к введению его в систему логических значений, обладающих разной
степенью общего и обеспечивающих свободу движения мысли. Во всем этом анализ значения
слова в его генетическом аспекте приближает нас к генетической логике, или, как
говорит сам автор, к экспериментальной философии тех последующих этапов,
которые проходит слово, обобщающее внешнюю действительность.
Иное направление имеет последняя глава, которую Л. С.
Выготский назвал «Мысль и слово». Глава обращена к внутренним механизмам
формирования значения слова, и прежде всего к остававшемуся тогда совершенно неизученным
вопросу об отношении значения и смысла. В равной мере отвергая как
представление ассоцианизма, согласно которому мысль является не чем иным, как
цепью наглядных или словесных ассоциаций, так и восходящее к платоновским идеям
представление чистой мысли, которая только воплощается в слове, приобретает
словесную форму, подобно человеку, надевающему пальто, Выготский предлагает
исходить из другого, гораздо более сложного представления. Согласно Выготскому,
мысль есть лишь первоначальный, иногда еще недостаточный, замысел, который
отражает общую тенденцию субъекта и который не воплощается, а совершается,
формируется в слове. Этим утверждением слову придается совсем новая, ранее
не описанная функция, а процесс порождения мысли как словесного высказывания
при-
474
обретает несравненно более сложный и
динамичный, изменчивый характер. К психологическому анализу этого процесса и
обращается Выготский. Констатируя, что мысль и слово идут в противоположных
направлениях: мысль — от общего к частному, а слово — от частного к общему,
констатируя несовпадение грамматического подлежащего и грамматического
сказуемого с внутренним строем высказывания, Выготский принужден ввести в
процесс формирования мысли в развернутом высказывании новый компонент, который
приобретает в этом процессе центральное значение. Таким компонентом является внутренняя
речь или внутреннее слово, еще сокращенное и аморфное по строению,
предикативное по функции, но уже таящее в себе все возможности уточнить мысль,
материализовать ее и довести до полного, развернутого высказывания.
Родившись во внешней, затем в эгоцентрической речи, но
сохраняя при этом все функции общения, внутренняя речь, отражающая то, что
хочет высказать субъект, одновременно выделяет в потенциальном высказывании его
центральные звенья и становится мощным средством формирования развернутой речи.
Эгоцентрическая речь с последующим переходом ее во внутреннюю речь, говорит
Выготский, означает не отмирание речи, а порождение новой формы речи,
создающей необходимые условия для дальнейшего развернутого высказывания.
Уже пристальный анализ совершенно нового, ранее неизвестного
образования — внутреннего слова — со всеми его морфологическими и
функциональными чертами — одна из наиболее значительных заслуг Выготского. Следует
отметить, что современная психолингвистика только через несколько десятилетий
после смерти автора начала робко подходить к выделению этого важнейшего
новообразования.
С указанной точки зрения становятся гораздо яснее отношения
между письменной (наиболее развернутой и полной) и устной (допускающей элизии) речью,
между монологической и диалогической речью; с указанной позиции постепенно
становятся ясными и изменения в предикативной структуре, которая является
центральным пунктом высказывания и которую Выготский осветил гораздо полнее,
чем независимо от него продолжавшие эту работу лингвисты.
Следует обратиться и к последнему положению Выготского,
которое занимает у него особо важное место.
До сих пор мы говорили о двух компонентах слова (или
высказывания): его предметной отнесенности и его значении (понимая под
последним сложившуюся на определенном этапе развития систему наглядных —
ситуационных — или абстрактных — категориальных — связей, выполняющих функцию
обобщения и тем самым делающих возможным общение людей друг с другом). Существует,
однако, еще третья функциональная сторона слова, не менее важная, чем его
предметная отнесенность и его значение. Этой стороной является смысл
слова, иначе говоря, то внутреннее значение, которое имеет слово для самого
говорящего и которое составляет подтекст высказывания. Слова «Карету
мне, карету!», которыми кончается комедия Л. С. Грибоедова «Горе от ума», вовсе
не означают только, что Чацкий указывает на карету и просит подать ее.
Внутренний смысл этого высказывания заключается в том, что Чацкий разрывает с
неприемлемым для него обществом, и восклицание героя вовсе не передача
конкретного события, а «сгусток смысла», который за ним стоит. Поэтому
внутренняя речь не только ступень между первоначальным замыслом и развернутым
словесным высказыванием: она является и идиомой, формулирующей смысл, и
задача литератора или художника сцены прежде всего сводится к тому, чтобы
довести до читающего или слушающего именно этот глубокий смысл
высказывания.
Все это приводит Выготского к последнему положению
анализируемого труда. За словом стоит не только мысль; мысль не последняя
инстанция во всем этом процессе. За словом — цель и мотив высказывания, аффект,
эмо-
475
идя, и без исследования отношения
слова к мотиву, эмоции и личности изучение проблемы «мышление и речь» остается
незаконченным.
Автору не удалось довести до конца свой план, но соотношение
значения и смысла, интеллекта и аффекта за последние годы оставалось в числе
центральных психологических проблем, которыми Выготский думал заниматься.
Мы кончаем наши замечания, посвященные работе «Мышление и
речь», и можем кратко сказать, чему именно она нас учит.
Утверждая, что значение слова развивается, что оно
относительно поздно выделяется из практической деятельности и приобретает затем
самостоятельность, вводя человека в совсем новую систему связей и отношений,
Выготский позволяет нам совершенно иначе прочесть гётевский тезис: «Вначале
было дело», который Гёте противопоставлял библейскому. «Вначале было слово». Выготский
повторяет тезис поэта с другим ударением, придающим ему новый смысл: «Вначале
было дело». Это означает, что, родившись из практики, слово преобразует ее:
«Слово есть конец, который венчает дело».
И второе, столь же важное положение. Как бы ни было
построено слово, на каком бы этапе развития оно ни стояло, оно всегда отражает
действительность. Но это отражение действительности на последовательных
этапах развития совершенно иное; действительность преломляется через слово,
слово становится важнейшим фактором, преломляющим действительность; слово — важнейший
процесс, опосредующий отражение действительности. И именно это дает Выготскому
основание сказать последнюю фразу, которой он заканчивает работу «Мышление и
речь»: «Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания».
IV
«Лекции по психологии», прочитанные Л. С. Выготским в
Ленинградском педагогическом институте в 1932 г. (за два года до смерти),
печатаются в этом томе непосредственно вслед за его классической монографией
«Мышление и речь». Несмотря на то что указанные произведения следуют друг за другом,
они отличны в двух отношениях.
С одной стороны, «.Мышление и речь» — строго продуманная
монография, посвященная одной центральной для психологии теме. «Лекции по
психологии» охватывают значительно более широкий круг проблем, включая такие классические
проблемы, как восприятие, память и мышление, эмоции, воображение и воля.
Естественно, что при таком широком охвате проблем каждая из них (ограниченная
пределами одной лекции) не может быть освещена с той детальностью и
обстоятельностью, с какой освещается одна проблема, составляющая предмет
монографии.
С другой стороны, оба печатающихся произведения резко
отличаются и по стилю: первое из них представляет собой детальное,
последовательное и развернутое изложение полученного ранее теоретического и
экспериментального материала; «Лекции» неизбежно передают лишь общие положения.
Автор считает эти положения возможными, хотя некоторые из них могут и не носить
характера отчета о проведенной работе и, скорее, являются попыткой наметить
путь успешного решения проблемы, который может дать окончательные плоды лишь
впоследствии. Именно этим и являются «Лекции по психологии» Л. С. Выготского.
«Лекции по психологии» не обычный курс психологии. Они
характеризуются тем, что в основу их положены две взаимопроникающие идеи, в
равной мере и в разных вариантах пронизывающие весь читаемый материал. Эти идеи,
занимавшие Выготского в последние годы жизни, есть идеи развития всех высших
психических функций (вспомним: «Есть лишь одна наука — история») и идеи,
согласно которым взаимоотношение каждой из функций не остается постоянным, но
непрерывно меняется, образуя подвижные и изменчивые межфункциональные
системы.
476
Рассмотрим, как эти идеи проходят по каждой теме «Лекций».
Лекция о восприятии начинается с классического
противопоставления ассоциативного представления о восприятии как цепи
взаимосвязанных ощущений и представлений и концепции гештальтпсихологии,
понимающей восприятие как акт единого, целостного усмотрения. Однако, как
показывает Выготский, обе эти концепции привели к неизбежному тупику: как для
ассоцианистов, так и для представителей гештальтпсихологии восприятие не
является процессом, претерпевающим прижизненное развитие и меняющим в этом
процессе свою структуру. Внимательное рассмотрение всего богатства фактов восприятия
с несомненностью показывает, что такое развитие процесса восприятия существует,
что восприятие, на первых этапах выступающее в единстве с движением и
образующее единый сенсомоторный комплекс, по мере развития преодолевает это
отношение и вступает в связь с другими, более сложными, в том числе и речевыми,
процессами, что только изменение межфункциональных отношений восприятия или
вхождение его в новые системы может объяснить такие явления, как константность,
ортоскопичность, дифференцированность и осмысленность, осознанность и
подвижность образов восприятия.
Аналогичным путем идет Выготский в анализе памяти и
ее развития в детском возрасте. Известно, что в истории учения о памяти с
особенной остротой сталкивались механистические (естественнонаучные)
представления о памяти, отчетливо выступавшие у ассоцианистов, и открыто
идеалистические представления А. Бергсона, рассматривавшего память как чисто
духовную деятельность и противопоставлявшего так называемую память духа памяти тела.
Легко видеть в этом случае, что как сама психология, так и стоящие за ней
философские концепции приходят к тупику и что на намеченных ими путях решение
вопроса о детерминистском формировании высших видов памяти, оказывается
невозможным. Выготский с убедительностью показывает, насколько бесплодны
попытки Э. Блейлера свести память к нейтральному фактору «психоида», как и
попытки представителей гештальтпсихологии видеть в законах памяти лишь законы
восприятия. И здесь разрешение проблемы представляется Выготскому как путь
прослеживания последовательного развития процесса, в котором память вступает в
новые межфункциональные отношения, включаясь в деятельность речи и вырабатывая
при этом новые функциональные системы. Для ребенка мыслить — значит вспоминать,
для взрослого вспоминать — значит мыслить[217].
В этой формуле с предельной отчетливостью отражен уже сформулированный
Выготским принцип развития как изменения межфункциональных отношений, как
формирования новых функциональных систем.
Лекция о мышлении и его развитии в детском возрасте —
одна из наиболее сложных лекций данного курса. Не исключено, что это
объясняется как большой сложностью проблемы, так и тем, что именно по этой
проблеме автор располагал наиболее обширным материалом. Лекция показывает всю безуспешность
попыток ассоцианистов выводить мышление из цепи ассоциаций. Эта цепь осложняется
персеверативными тенденциями удержать один из членов ассоциативного ряда.
Естественно, что такая попытка (в другой форме выступающая у бихевиористов) не
может сделать ни шага к уяснению того, откуда появляется осмысленность —
центральная особенность мышления. К столь же отчетливому тупику приводит и
вюрцбургская школа, указывающая, что осмысленность привносится в мышление
первичным свойством духовного мира. Наконец Выготский показывает, что
аналогичный тупик ожидает и представителей гештальтпсихологии, отождествляющей
законы мышления с законами восприятия.
Все это заставляет Выготского обратиться к проблеме
отношения мышления и речи (проблеме, которую через 30 лет после его смерти
стала разрабатывать психолингвистика). В попытках решить эту проблему он видит
основной недостаток: как мысль, так и слово обычно представлялись либо неза-
477
висимыми, либо тождественными
процессами, но всегда процессами, отношение которых остается неизменным на
протяжении всего развития ребенка. Только введение понятия «значение слова» и
положения о том, что значение слова развивается, позволяет Выготскому наметить
пути преодоления кризиса, разобрать сложную диалектику внешней (фазической) и
внутренней (семантической) сторон речи и показать, как развитие речевой
деятельности, которое начинает использовать сложное по структуре значение
слова, может привести к решению вопроса о развитии детского мышления и его
изменчивом, системном строении, одновременно порождая несравненно более
глубокий анализ окружающего мира и несравненно большую свободу движения мысли.
Пусть этот раздел остается только намеченным; пусть вопрос об объективных формах
деятельности, приводящих к развитию полноценного значения (в котором
непосредственные компоненты отступают на задний план, в то время как системы
отвлеченных связей начинают доминировать), остается открытым. Путь, который
наметил Выготский в этой лекции, несомненно остается продуктивным.
Три следующие лекции носят, скорее, теоретический характер,
отражающий ранее проведенные исследования.
В лекции об эмоциях Выготский решительно критикует
тот узкобиологический подход к эмоциям, которые в курсах психологии, как
правило, обсуждались с натуралистической, а не с психологической позиции. Давая
резкую критику периферической теории эмоций, выдвинутой У. Джемсом и Н. Н.
Ланге, Выготский показывает вместе с тем, что и центральная теория эмоций, обоснованная
У. Кенноном, фактически не подводит к анализу психологических механизмов
высоких эмоций, что эти механизмы могут быть вскрыты лишь при анализе тех
отношений, которые создаются между эмоцией и строением деятельности.
Наблюдаемые сдвиги эмоциональных переживаний с успешным или неуспешным окончанием
деятельности (Endlust) к
самому протеканию деятельности (Funktionlust)
и, наконец, к предвосхищению деятельности (Vorlust) рассматриваются Выготским как модель будущего системного подхода
к возникновению эмоциональных состояний, к различному строению деятельности.
Учение о системном строении эмоции во времена Выготского еще не было создано;
однако его эскизно намеченные положения были существенным толчком для
дальнейших попыток построения этого раздела психологии.
Столь же эскизный характер носит и лекция о воображении.
Показывая, что проблема воображения в классической психологии либо целиком
сводилась к проблеме памяти (воспроизводящее воображение), либо оно
трактовалось как проявление первичного, духовного начала (творческое
воображение), Выготский и здесь пытается связать воображение со строением
деятельности человека, в частности с его речевой деятельностью, с развитием значения
слова, которое, с одной стороны, отражает реальность, а с другой — освобождает
сознательную деятельность человека от полной зависимости от непосредственно
воспринимаемой реальности. И здесь диалектика соотношения восприятия, памяти и
речевого обобщения представляется Выготскому ключом к системному анализу
процессов воображения и его развития.
Аналогичный характер носит и последняя лекция Выготского,
посвященная проблеме воли. Автор показывает всю неприемлемость как
гетерогенных теорий (у Выготского — гетерономных), сводивших волевой акт к
ассоциациям между представлениями и действиями и наличием обратной связи, при которой
конечное действие может по ассоциации вызвать соответствующее представление,
иногда кажущееся истоком свободного волевого акта, так и теорий, сводивших
волевой акт к аффекту. Все эти теории, как бы неадекватны они ни были, имеют ту
положительную сторону, что являются первыми попытками детерминистически подойти
к объяснению волевого акта, упуская, однако, из виду его самые существенные
черты. Одновременно Выготский считает полностью неприемлемыми и автономные
теории, согласно которым
478
волевой акт есть проявление
первичной, или подсознательной активности человека или его непосредственно
духовного усилия. Приближаясь к описанию волевого акта (это описание совершенно
упускалось из виду первыми группами теорий), Выготский отчетливо видит тот
тупик, к которому приводит такой идеалистический подход к волевым действиям
человека.
В то время когда Выготский читал лекции, в психологии еще не
было альтернатив к обеим только что указанным теориям, и, естественно, автор
делал лишь рабочие попытки искать выход из создавшегося кризиса. В частности, Выготский
рассматривал теорию К. Левина, который выводит волевой акт из затруднения,
создавшегося в деятельности[218],
и указывает на него как на источник обращения субъекта к социальному
вспомогательному средству, придающему условный стимулирующий характер
какому-либо внешнему раздражителю. В результате человек подчиняет свое действие
этому условно созданному стимулу типа: «Когда стрелка часов дойдет до цифры 12,
я встану».
Характерно, однако, что в этом примере Выготский видел
проявление некоего общего механизма — использования человеком по отношению к
самому себе тех средств, которые применяет к нему другой человек. Указание на социальный
источник волевого акта принадлежит поэтому к одному из важнейших положений
Выготского.
V
Мы закончили анализ работ, включенных во второй том Собрания
сочинении Л. С. Выготского. В заключение еще раз кратко выделим то существенно общее,
что проходит красной нитью через все эти работы и объединяет их. Мы имеем в
виду методологию Выготского, тот новый ракурс рассмотрения психических явлений,
который он сумел внести в научную психологию. В его методологии можно выделить
(и Выготский сам неоднократно выделял) две важнейшие черты, так тесно
связанные, что в сущности каждая из них представляет собой оборотную сторону
другой. Это целостность и историзм. Целостность для Выготского означала
необходимость поиска сложно структурированных единиц психической деятельности,
причем структура определяется всем ходом их формирования в онто- и
филогенетическом развитии. Историзм для Выготского означал раскрытие истории
формирования исходных клеточек, единиц психики.
Л. С. Выготский не дал, да это едва ли и возможно в
принципе, универсального алгоритма поиска единиц психики[219].
Он дал лишь одно чрезвычайно важное указание в этом отношении: такие единицы
должны включать в себя противоположные моменты в диалектическом единстве.
Наряду с этим он дал и исключительно важные конкретные примеры поиска и
нахождения таких единиц (в частности, в случае диагностики умственно отсталого
ребенка он получил принципиально новые результаты, прежде всего потому, что
искал новые единицы анализа, где интеллектуальные и аффективные стороны слиты воедино).
Выготский не дал и универсального рецепта применения исторического метода в
психологии, но все его творчество может рассматриваться как образец такого
применения. Приложив исторический метод к проблеме образования понятий, он
построил новую типологию понятий, решил ряд кардинальных проблем психологии
мышления и обучения; приложив исторический метод к проблемам локализации, он
вышел к первоистокам новой отрасли науки — нейропсихологии и т. д. Самое же
важное с точки зрения внутренней логики и гомогенности творчества Выготского:
на каждом этапе приложения исторического метода он неизменно искал новые
единицы психического.
Методология Выготского, целостность и историзм его подхода —
краеугольные камни его творчества — являются для нас непревзойденными образцами
и сегодня. Именно в них залог актуальности и конструктивности его идей.
А. Р. Лурия
МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ
1. Работа опубликована в 1934 г. Это наиболее известное произведение Л. С. Выготского, в котором он подвел итоги своему научному творчеству и одновременно наметил новые перспективы.
История создания книги такова. В конце 1933 г. — начале 1934 г. первый круг исследований, проводившихся Выготским и его сотрудниками (А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец, Л. С. Сахаров, Ж. И. Шиф, Л. И. Божович, Н. Г. Морозова, Л. С. Славина, И. М. Соловьев, Л. В. Занков, Е. И. Пашковская и др.) в рамках культурно-исторической теории, был завершен. Лежавшая в основе теории гипотеза опосредования высших психических функций «психологическими орудиями» была проверена на материале большинства психических функций (память — см.: А. Н. Леонтьев. Развитие памяти. М., 1931; внимание — см.: Л. С. Выготский. Проблема культурного развития ребенка. — Педология, 1928, № 1; мышление — см.: Л. С. Сахаров. О методах исследования понятий. — Психология, 1930, т. 3, вып. I; Ж. И. Шиф. Развитие научных понятий у школьника. М., 1935. Основные материалы последней работы были получены под руководством Л. С. Выготского в 1932 г.). Возникла потребность подвести итоги проделанной работы, наметить перспективы. К этому побуждали и внешние обстоятельства. Прежде единая «группа Выготского» разделилась. А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Л. И. Божович и некоторые другие перешли в Украинскую психоневрологическую академию в Харькове, где начали разрабатывать собственную теоретическую программу. В связи с этим, а также в связи с резкой критикой, которой тогда же подверглись основные положения культурно-исторической теории, Выготский считал необходимым ясно эксплицировать основные положения своей теории. Этим целям должны были служить его рукопись 1931—1932 гг. «История развития высших психических функций» (часть I опубликована в 1960 г. в кн.: Л. С. Выготский. Развитие высших психических функций: Из неопубликованных трудов; часть II впервые печатается в третьем томе настоящего Собрания сочинений), намечавшаяся в 1933—1934 гг. конференция по основным проблемам теории Выготского (см.: Л. С. Выготский. Из неизданных материалов. — В кн.: Психология грамматики. М., 1968), но главным образом его работа «Мышление и речь».
С композиционной точки зрения «Мышление и речь» — собрание статей Выготского, которые можно рассматривать как законченные произведения, объединенные проблемами, методами и результатами решения. Первой была написана статья «Генетические корни мышления и речи» (см.: Естествознание и марксизм, 1929, № 1), которая, как и примыкавшая к ней статья «К вопросу об интеллекте антропоидов в связи с работами В. Келера» (см.: Естествознание и марксизм, 1929, № 2), была посвящена принципиально важному для автора вопросу — анализу основных положений Келера. в соотнесении с основными положениями культурно-исторической теории. Эта статья составила четвертую главу работы «Мышление и речь». Ранее опубликованная статья Выготского «Проблема речи и мышления ребенка в учении Ж. Пиаже» (как предисловие к книге Ж. Пиаже «Речь и мышление ре-
480
бенка») составила вторую главу произведения «Мышление и речь». Анализ теории Пиаже имел для Выготского не менее принципиальное значение, чем анализ работ Келера. Наконец, пятая глава «Экспериментальное исследование развития понятий» близка и к работе ученика Выготского Л. С. Сахарова «О методах исследования понятий», и к докладу Выготского в Ленинградском педагогическом институте 20 мая 1933 г. «Развитие житейских и научных понятий в школьном возрасте» (см.: Л. С. Выготский. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.; Л., 1935).
Остальные главы работы «Мышление и речь», как указывает в авторском предисловии сам Выготский, написаны впервые специально для этой книги, законченной в 1934 г. Переиздана работа была в 1956 г. в кн.: Л. С. Выготский. Избранные психологические исследования. В 1962 г. эта книга была переведена на английский язык и издана с предисловием Дж. Брунера и послесловием Ж- Пиаже в США. С тех пор она многократно переиздавалась на многих иностранных языках. В настоящем Собрании сочинений за основу взято издание 1956 г., подготовленное А. Н. Леонтьевым и А. Р. Лурия, а также дочерью Л. С. Выготского Г. Л. Выгодской.
2. Вюрцбургская школа — направление в исследовании психологии мышления, образовавшееся в начале XX в. в психологическом институте г. Вюрцбурга (Германия). Основатель —'О. Кюльпе, наиболее известные представители — Н. Ах, К. Бюлер. В философском плане опиралось на феноменологию Ф. Брентано и Э. Гуссерля. В собственно психологическом отношении выступала против господствовавшего в конце XIX в. представления ассоцианизма о том, что мышление сводится к комбинации представлений по законам ассоциации. Согласно представлениям вюрцбургской школы, возможно безо́бразное мышление: переживаются не образы, а отношения и целевые установки. В вюрцбургской школе был разработан ряд методик (по типу рафинированного самонаблюдения) для изучения мышления, получены многочисленные факты. По философско-методологическим предпосылкам вюрцбургская школа была очень далека от Выготского, конкретные же методики, разрабатывавшиеся в ней, оказали на него несомненное влияние. В первую очередь это относится к методикам Н. Аха (подробнее об этом см. главы пятую и седьмую настоящей работы).
3. Идея двух методов анализа («по единицам» и «по элементам») принадлежит к числу излюбленных идей Выготского. Впервые она вместе с характерным примером о разложении молекулы воды на атомы водорода и кислорода была высказана еще в «Психологии искусства» (1923).
4. Ассоциативная психология, ассоцианизм — направление, господствовавшее в философской и психологической науке Европы в XVII—XIX вв. (Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж. Локк, Д. Беркли, Д. Гартли, Д. Милль, А. Бэн и др.). Включало множество разных течений и разновидностей, в частности материалистический (Гартли) и идеалистический (Беркли) ассоцианизм. Как конкретно-научное течение начало разрабатываться в психологии в XIX в. Для всех разновидностей ассоцианизма характерно наличие единого принципа — ассоциации, через который объяснялись различные психические процессы (память, внимание, мышление и т. д.). Было выявлено несколько типов ассоциаций: по смежности, сходству и др. XX век начался для психологии как век кризиса ассоцианизма, когда против ассоциативной концепции выступил ряд новых направлений. К моменту создания работы «Мышление и речь» кредит ассоциативной психологии был окончательно подорван.
5. Фонология — раздел языкознания, изучающий строение и функционирование фонем. Отличается от фонетики тем, что рассматривает фонемы не как физическую данность, а с точки зрения их роли в качестве компонентов морфем, блогов. На возникновение фонологии оказали влияние труды Ф. де Соссюра, И. А. Бодуэна де Куртенэ и К. Бюлера. Как оформленное направление фонология сложилась в 20—30-е гг., в Пражском лингвистическом кружке (Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и другие).
481
6. Пиаже (Piaget) Жан (1896—1980) — швейцарский и французский психолог. С 1955 г. — профессор Сорбонны и директор созданного им Международного центра эпистемологических исследований в Женеве. Иностранный член Национальной академии наук США. О взглядах Пиаже к 30-м гг. и о его влиянии на Выготского см. главы вторую, шестую, седьмую настоящей работы. Об эволюции взглядов Пиаже к 50-м гг. и о его оценке теории Выготского см.: Ж. Пиаже. Ответ Выготскому, 1962.
7. Клапаред (Clapared) Эдуард (1873—1940) — швейцарский психолог. Представитель функциональной психологии, полагал, что психические функции развиваются для удовлетворения известных потребностей и осознаются, когда на пути их удовлетворения встречаются препятствия. Разрабатывал идею, оказавшую влияние на Пиаже, о качественно различных уровнях обобщения. Автор теории игры. Выготским упоминается главным образом в связи с Пиаже как автор предисловия к книге последнего — «Речь и мышление ребенка».
8. Блондель (Blondel) Шарль (1876—1939) — французский психолог. Сторонник социологической школы Э. Дюркгейма. В философском плане опирался на идеи А. Бергсона.
9. Леви-Брюль (Levi-Bruhll) Люсьен (1857—1939) — французский философ, психолог, представитель социологической школы, близок к Дюркгейму. В 20—30-е гг. получил известность своими исследованиями по этнопсихологии (в частности, психологии так называемых отсталых народов). Именно в этом качестве к нему и апеллирует Выготский. Леви-Брюль выступал против «европоморфизма », господствовавшего в XIX в., т. е. против представления о том, что первобытный человек мыслит по тем же логическим законам, что и европеец XIX в. Вслед за Дюркгеймом обосновывал взгляд, что в «низших обществах» господствуют коллективные представления, принципиально отличные от индивидуальных представлений в европейской культуре, и разрабатывал концепцию «дологического мышления». Может рассматриваться как один из предшественников современной семиотики.
10. Брентано (Brentano) Франц (1838—1917). Немецкий философ и психолог. Один из первых выступил против традиционного ассоцианизма. Основатель интенционализма, один из предшественников феноменологии Э. Гуссерля.
11. Блейлер (Bleiler) Эйген (1857—1939) — швейцарский психиатр и психолог. .Близок к психоаналитическому направлению. Совместно с К. Г. Юнгом разрабатывал методику ассоциативного эксперимента. Ввел в научный обиход термины «аутизм», «шизофрения» и др.
12. Психоанализ — направление в медицине, психологии, философии, социологии, истории, этнографии, литературе и искусстве, во многом определившее развитие западноевропейской: и американской культуры XX в. Зародился на рубеже XIX—XX вв. в психиатрии и психологии благодаря работам З. Фрейда и быстро иррадиировал на иные области. Рассматривая проблему человека, психоанализ ставит в центр внимания бессознательные психические влечения, которые в различных школах психоанализа интерпретируются как имеющие более или менее сексуальное происхождение. На Выготского психоанализ особого влияния не оказал. См. по этому вопросу критику им. А. Р. Лурия за увлечение психоанализом в работе «Исторический смысл психологического кризиса» (т. 1), а также его предисловие к переведенной на русский язык книге Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» (1925).
13. Жанэ (Janet) Пьер (1859—1947) — французский психолог и психиатр. Испытывал влияние бихевиоризма и психоанализа. Один из лидеров французской психологической школы. Ученик Ж. Шарко. Разрабатывал теорию неврозов. В 20—30-е гг. разрабатывал общепсихологическую теорию, исходя из понимания психологии как науки о поведении, но при этом, в отличие от бихевиористов, не игнорировал проблему сознания. Психика, по Жанэ, — энергетическая система, с рядом уровней сложности, которым соответствует ряд
482
уровней поведения. Он стремился подробно описать эволюцию этих уровней. Мышление, по Жанэ, — заместитель реального действия, функционирующий в форме внутренней речи. Жанэ был учителем многих психологов, в частности Пиаже. Вопрос о влиянии Жанэ на Выготского представляется недостаточно изученным. Хотя Выготский сравнительно редко упоминает работы Жанэ, целостно-исторический подход последнего к психике, его оценка роли труда в психическом развитии представляются во многом созвучными творчеству Выготского. О влиянии Жанэ на Выготского можно судить косвенно — по тому влиянию, которое работы Жанэ оказали на исследование А. Н. Леонтьева «Развитие памяти» (1931), написанное полностью в духе идей Выготского.
14. Лурия Александр Романович (1902—1977) — советский психолог, ученик Выготского. Академик АПН СССР, иностранный член Национальной академии наук США. В начале 20-х гг. разработал сопряженную моторную методику для выявления скрытых аффективных комплексов. Во второй половине 20-х — начале 30-х гг. работал с Выготским. С конца 30-х гг. разрабатывал на материале локальных поражений мозга (преимущественно лобных долей) новую отрасль науки — нейропсихологию.
15. Леонтьев Алексей Николаевич (1903—1979) — советский психолог, ученик Выготского. Академик АПН СССР, почетный член Венгерской академии наук, лауреат Ленинской премия. В 20—30-е гг. работал под руководством Выготского. Разработал один из вариантов методики двойной стимуляции, применив его к исследованию развития памяти. С 30-х гг. разрабатывал общепсихологическую теорию деятельности. Создатель и руководитель факультета психологии МГУ, глава большой школы психологов.
16. Левина Роза Евгеньевна (р. 1908) — советский психолог, ученица Выготского. Впоследствии — специалист по детский психологии и дефектологии, по патологии речи у детей.
17. Уотсон (Wotson) Джон Бродес (1878—1958) — американский психолог, основатель и лидер бихевиоризма. После 20-х гг. отошел от научной работы, стал специалистом в области рекламы, впоследствии — бизнесменом.
18. Ах (Ach) Нарцисс (1871—1946) — немецкий психолог, один из лидеров вюрцбургской школы. В противоположность ассоцианистам разрабатывал идею, что процессы мышления, решения задач детерминируются определенной тенденцией, содержащейся в условиях задачи («детерминирующая тенденция»). Разработал методику бессмысленных слогов (о ее влиянии на Выготского см. главу пятую настоящей работы).
19. Болдуин (Boldwin) Джеймс Марк (1861—1934) — американский психолог и историк дипломатии. Один из основателей американской социальной психологии. Выготский рассматривает его в качестве детского психолога, В работах по детской психологии Болдуин рассматривал психическое развитие ребенка с позиций биогенетического закона.
20. Бэкон (Becon) Френсис (1561—1626) — английский философ и государственный деятель. Один из основателей современной гносеологии и философии. Выготский часто приводит его высказывание: «Ни голая рука, ни предоставленный сам себе разум многого не могут. Дело совершается орудиями и вспоможениями» («Новый органон»). Выготский видел в этом высказывании подтверждение центральной идеи своей теории — идеи психологических орудий и опосредованности психики.
21. Дюркгейм (Durkhein) Эмиль (1858—1917) — французский социолог. Один из создателей современной научной социологии и социальной психологии, глава французской социологической школы. Стремился рассматривать социальные явления объективно, «как вещи», и изучать их конкретно-научными методами. Автор теории самоубийств.
22. Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873 — 1928) — русский экономист, философ, политический деятель, ученый-естествоиспытатель
483
(основатель Института переливания крови), один из пионеров системного подхода, автор фантастических романов. Анализ его философских взглядов дан В. И. Лениным в произведении «Материализм и эмпириокритицизм».
23. Max (Mach) Эрнст (1838—1916) — австрийский физик и философ. Анализ его философских взглядов дан В. И. Лениным в произведении «Материализм и эмпириокритицизм».
24. Штерн (Stern) Вильям (1871—1938) — немецкий психолог. Специалист по генетической психологии (в этом качестве его творчество и влияло на Выготского), а также по общей и судебной психологии. Один из пионеров разработки тестов. Ввел понятие «коэффициент интеллекта». В психологии и философии придерживался персоналистической ориентации. Подробнее о его влиянии на Выготского см. главу третью настоящей работы.
25. Монтессори (Montessori)
26. Персонализм — религиозное направление в философии и психологии, признающее личность первичной реальностью, а весь мир — проявлением творческой реальности — бога, в философском аспекте близко к экзистенциализму. Сформировалось в конце XIX в. в России (Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов) и в США. Штерн придерживался персоналистической ориентации в более узком — собственно психологическом смысле (первичная психологическая реальность — личность). В этом же смысле данный термин понимает и Выготский.
27. Бюлер (Bühler) Карл (1879—1963) — немецкий психолог, с 1938 г. — в США. Представитель вюрцбургской школы, ученик О. Кюльпе. Специалист по психологии интеллектуальных процессов, развитию речи. В 1927 г. написал книгу «Кризис психологии», где, в отличие от Выготского, пытался преодолеть кризис с позиций плюрализма.
28. Гуссерль (Husserl) Эдмунд (1859—1938) — немецкий философ, основатель феноменологии. Оказал влияние на экзистенционалистскую ориентацию в философии. Выготский считал творчество Гуссерля образцом идеализма в философии и психологии, (см.: Исторический смысл психологического кризиса, т. 1).
29. Валлон (Vallon) Анри (1879—1962)—французский психолог, специалист по детской, пато- и прикладной психологии.
30. Коффка (Koffka) Курт (1886—1941) — немецкий психолог, ученик К. Штумпфа, один из лидеров гештальтпсихологии. Первый среди гештальтпсихологов обратился к проблеме детской психологии, что и обеспечило повышенный интерес к нему Выготского. Подробный разбор Выготским взглядов Коффки см.: Структурная психология (т. 1), Проблема развития в структурной психологии (т. 1).
31. Делакруа (Delacroix) Анри Иоахим (1873—1937) — французский психолог. Специалист по детской психологии, психологии искусства.
32. Павлов Иван Петрович (1849—1936) — русский физиолог, академик, лауреат Нобелевской премии. Специалист в области физиологии пищеварения и физиологии ВНД[220]. Стремился к четкому разделению физиологии и психологии. Выготский, как и все советские психологи 20-х гг., находился под глубоким впечатлением результатов работ Павлова. Но если в ранний период творчества (1924—1925) Выготский считал себя «рефлексологом больше, чем сам Павлов», считал, что «сознание есть рефлекс рефлексов» («Методика рефлексологического и психологического исследования»), то вскоре он отошел от этих взглядов.
33. Амент (Ament) Вильгельм Карл (1876—?) —немецкий психолог. Специалист по изучению детской памяти.
34. Вундт (Wundt) Вильгельм (1832—1920) — немецкий психолог, физиолог. В философии —дуалист. Создатель экспериментальной психологии. Член
484
многих академий мира, в том числе Российской академии наук. Специалист по этнопсихологии. Центральную роль в душевной жизни отводил воле. Выготский редко прямо ссылается на Вундта, но весьма вероятно скрытое влияние Вундта на Выготского. В частности, интересно сравнить культурно-историческую ориентацию Вундта и Выготского.
35. Мейман (Meuman) Эрнст (1862—1915). Немецкий психолог, специалист по детской психологии, педагогике, эстетике.
36. Идельбергер (Idelberger) Генрих Антон (1873—?) — немецкий психолог,
специалист по психологии речи, детской психологии.
37. Келер (Köller) Вольфганг (1887—1967) — немецкий психолог, один из ведущих представителей гештальтпсихологии. Разрабатывал методологические вопросы гештальтпсихологии, пытаясь соотносить ее с квантовой механикой, и многочисленные экспериментальные вопросы. Особую известность ему принесли работы 1914—1917 гг. с обезьянами. Для Выготского результаты этих работ Келера были важны тем, что подтверждали его мысль о роли «психологических орудий» и знаков в опосредовании психических функций. Об интерпретации Выготским работ Келера см. главу четвертую настоящей монографии, а также предисловие к осуществленному по его[221] инициативе русскому переводу книги Келера «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян» (1930).
38. Йеркс (Jerkes) Роберт (1876—1956) — американский психолог, бихевиорист. Специалист в области зоопсихологии, сравнительной психологии, в частности проводил исследования на обезьянах.
39. Бергсон (Bergson) Анри (1859—1941) — французский философ, писатель, психолог. Член Французской академии, лауреат Нобелевской премии по литературе. Один из создателей интуитивизма, философии жизни, оказал большое влияние на экзистенциализм. Первоначальная реальность, по Бергсону, жизнь, отличающаяся от материи и духа, которые есть результат ее распада. Сущность жизни может быть постигнута лишь интуицией. В области психологии создал оригинальную концепцию памяти.
40. Торндайк (Thorndike) Эдуард (1874—1949) — американский психолог, первый по времени бихевиорист. Специалист в области сравнительной психологии и психологии обучения. Сформулировал закон, согласно которому обучение происходит методом проб и ошибок; разработал методику исследования поведения животных при помощи «проблемного ящика» (клетка с секретом, механизм которого должно «открыть» само животное).
41. Вагнер Владимир Александрович (1849—1934) — русский биолог, зоолог, психолог. Основатель школы сравнительной психологии в России. Разрабатывал идею эволюции по чистым и смешанным линиям, которая оказала большое влияние на Выготского в последний период его жизни, при создании концепции функциональных систем.
42. Боровский Владимир Максимович (1882—?) — русский психолог. Специалист по психологии животных. Впоследствии отошел от научной психологии, занялся зоологией.
43. Гобхауз (Gobbkhaus) Леонард (1864—1929) — английский зоолог, философ. Стремился применять антропологические и физиологические данные в социальных исследованиях.
44. Фриш (Frisch) Карл (р. 1886) — австрийский физиолог и этолог. Лауреат Нобелевской премии. Расшифровал механизм передачи информации пчелами.
45. Бюлер (Buhler) Шарлотта (р. 1893) — австрийский психолог, жена и соавтор К. Бюлера. Специалист по детской психологии.
46. Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — русский философ-марксист, один из основателей РСДРП. В 20-е гг. труды Плеханова были очень популярны, в частности широко использовались при попытках построения марксистской психологии. Использовал их с такой целью и Выготский (см.: Исторический смысл психологического кризиса, т. 1).
47. Келлер (Keller) Елена (1880—?) — американская слепоглухонемая, стала писательницей.
485
48. Римат (Rimat) Франц (?) — немецкий психолог, специалист по психологии мышления.
49. Детерминирующая тенденция (по Аху) — тенденция, определяющая мышление; порождается задачей, которую решает человеку
50. Узнадзе Дмитрий Николаевич (1886—1950) — советский психолог, академик АН Грузинской ССР. Основатель грузинской психологической школы. Разрабатывал проблему установки, во многом опираясь на работы Аха (идея детерминирующей тенденции)! Выготский знал Узнадзе, высоко ценил его работы, считал его ведущим советским психологом.
51. Сахаров Лев Соломонович (?—1928) — советский психолог, один из ближайших учеников Выготского. Совместно с ним разработал методику двойной стимуляции (методика Выготского — Сахарова).
52. Котелова
53. Мюллер (Müller) Георг Элиас (1850—1934) — немецкий психолог-экспериментатор. Сторонник теории ассоцианизма. Специалист по психологии представлений и памяти. Автор теории «персеверационных тенденций», согласно которой представления, бывшие в сознании, имеют тенденцию возвращаться.
54. Блонский Павел Петрович (1884—1941) — советский психолог, педагог, историк философии. Один из основателей теории трудовой школы. Совместно с К. Н. Корниловым начал разрабатывать идею марксистской психологии.
55. Гезелл (Gesell) Арнольд (1880—1961) — один из основателей американской детской психологии.
56. Штейнен (Steinen) Карл, фон ден (1855—1929) — немецкий путешественник, географ, антрополог. Подробно описал путешествие в Центральную Бразилию в 1884 г.
57. Турнвальд (Thurnvvald) Ричард (1869—1954) — английский антрополог, путешественник. Его работы наряду с работами Л. Леви-Брюля широко использовались Выготским.
58. Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891) — русский филолог, член-корреспондент Академии наук. Специалист по теории словесности (язык и мышление, природа поэзии, психология эстетических переживаний, поэтика жанра, учение о «внутренней форме слова» и т. д.). Представитель школы «исторического языкознания», линии Гумбольдта — Штейнталя. Работы Потебни оказали большое влияние на Выготского (см.: Психология искусства, 1968).
59. Погодин Александр Львович (1872—1947) — русский историк, филолог, психолог, в философии — позитивист. Выготский, по-видимому, использует его книгу «Язык как творчество» (1913). После 1919 г. — эмигрант.
60. Кречмер (Krechmer) Эрнст (1888—1964) — немецкий психиатр. Один из основателей конституционалистического направления в психиатрии. Установил связи между типом телосложения и некоторыми психическими заболеваниями (шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз), которые впоследствии отчасти подтвердились.
61. Кюльпе (Kulpe) Освальд (1862—1915) — немецкий психолог, основатель вюрцбургской школы.
62. Гроос (Groos) Карл (1861—1946)—немецкий психолог, специалист по детской психологии. Автор известной теории игры, где с биологизаторских позиций показал, что игра есть средство развития и тренировки определенных функций организма.
63. Кро (Kroh) Освальд (1887—?) — немецкий психолог, специалист по психологии обучения и воспитания.
64. Линднер (Lindner) Густав Адольф (1828—1887) — чешский философ и педагог. Сторонник теории И. Ф. Гербарта и Г. Спенсера.
486
65. Шиф Жозефина Ильинична (1905—1977) — советский психолог, ученица Выготского. После исследований по формированию научных и житейских понятий работала в области дефектологии.
66. Л. С. Выготский имеет в виду, скорее всего, свои статьи: Проблема культурного развития ребенка. — Педология, 1928, .№ 1; Развитие активного внимания в детском возрасте. — В кн.: Вопросы марксистской педагогики: Труды Академии педагогического воспитания, 1929, вып. 1; Развитие высших форм внимания. — В кн.: Л. С. Выготский. Избранные психологические исследования. М., 1956.
67. По-видимому, сюда надо отнести работы: Проблема развития и распада высших психических функций. — В кн.: Л. С. Выготский. Развитие высших психических функций. М., I960; Психология и учение о локализации. — В кн.: Первый всеукраинский съезд невропатологов и психоневрологов: Тезисы докладов. Харьков, 1934; или в кн.: Л. С. Выготский. Развитие высших психических функций. М., 1960. Интересно, что эти работы были написаны в 1934 г., практически одновременно с его известным трудом «Мышление и речь».
68. Джемс (James) Уильям (1842—1910) — американский психолог и философ, основоположник философии прагматизма. Прагматический критерий истины: истинно то, что отвечает практической успешности действия. Единственная реальность — непосредственный чувственный опыт. В области психологии Джемс разрабатывал проблемы психологии религии и теорию «потока сознания» — непрерывно сменяющихся целостных психических состояний. Выготский был знаком с основными произведениями Джемса. Особое впечатление на него производила методологическая критика Джемсом традиционной субъективно-эмпирической психологии сознания (см.: Сознание как проблема психологии поведения, т. 1).
69. Рефлексология — направление в психологической науке XX в., которое стремилось рассматривать всю психическую жизнь человека как совокупность условных рефлексов. Иногда употребляется в более узком смысле — для обозначения одной из школ этого направления — психологической школы В. М. Бехтерева. Как в первом, так и во втором случае рефлексология была очень далека от Выготского. После короткого периода увлечения ею он категорически отверг рефлексологию во всех ее проявлениях и дал ее методологический анализ (см.: Исторический смысл психологического кризиса, т. 1).
70. Гербарт (Herbardt) Иоганн Фридрих (1776—1841) — немецкий философ, психолог и педагог. Один из основателей научной педагогики. Автор теории классического образования, где примат отдавался обучению классическим языкам (латынь, древнегреческий) и математике. Эта теория, подвергавшаяся критике уже в XIX в. (в противоположность ей была разработана так называемая теория реального образования, и в России, например, сложилось два типа средних учебных заведений — классическая гимназия и реальное училище), была особенно резко раскритикована в советской педагогике 20—30-х гг.
71. Хэд (Head) Генри (1861—1940). Английский невролог, специалист по афазиям.
72. Де Фриз (De Frise) Гуго (1848—1935) — голландский ботаник. Вторично открыл основные законы генетики (законы Менделя), автор теории мутаций.
73. Подробнее см.: Л. С. Выготский. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте: Обучение и развитие в дошкольном возрасте. — В кн.: Умственное развитие в процессе обучения. М.; Л., 1935.
74. Левин (Levin) Курт (1890—1947) — немецкий психолог, позже работал в США, методолог, теоретик и экспериментатор психологии. Работал в области психологии личности, пытался применить к этой области общие принципы гештальтпсихологии, автор так называемой динамической теории поля. В последние годы жизни работал в области социальной психологии. Его школа занимает в наше время лидирующее положение в социальной психологии США. Выготский вплотную обратился к работам Левина в последние годы
487
жизни, когда он стремился подойти к проблематике психологии эмоций, психологии личности и т. д. Наиболее подробно анализирует труды Левина в статье «Проблема умственной отсталости» (1934).
75. Августин Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог, причислен католической церковью к лику святых. В философии неоплатонист, предвосхитил некоторые идеи Декарта.
76. Декарт (Descartes) Рене (1596—1650) — французский философ, психолог, математик, физиолог. Выготский обратился к анализу учения Декарта в своей последней незаконченной рукописи «Учение об эмоциях» («Учение Спинозы и Декарта о страстях в свете современной психоневрологии», т. 6).
77. Уланд (Uland) Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт-романтик. Имеется в виду пролог к его исторической драме «Эрнст, герцог Швабский» (1818).
78. Пауль (Paul) Герман (1846—1921) — немецкий филолог, один из лидеров так называемого младограмматического направления в филологии.
79. Гумбольдт (Humboldt) Вильгельм (1767—1835) — немецкий филолог, философ, государственный деятель. Основатель школы исторического языкознания, которая через А. А. Потебню оказывала большое влияние, на Выготского.
80. Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927) — русский психолог, психиатр, невропатолог, физиолог, морфолог. Основатель рефлексологии.
81. Сеченов Иван Михайлович (1829—1905) — русский физиолог, психолог. Разрабатывал, в частности, учение об интериоризации. Выготский, как и большинство психологов 20-х гг., недооценивал значения идей Сеченова для психологии, хотя и был знаком с основными его произведениями.
82. Гольдштейн (Goldstein) Курт (1878—1965) — немецкий невролог, специалист по афазиям и нарушениям оптической сферы.
83. Якубинский Лев Петрович (1892—1945) — русский лингвист и литературовед.
84. Поливанов Евгений Дмитриевич (1891—1938) — русский востоковед, лингвист.
85. Тард (Tard) Габриэль (1843—1904) — французский социолог и криминалист. Автор одной из первых социально-психологических концепций, в центре которой стоит индивид. Основной закон социальной жизни, по Тарду, — подражание.
86. Достоевский Федор Михайлович (1821 —1881) — русский писатель. Его творчество с юношеских лет оказывало сильнейшее влияние на Выготского (см.: Психология искусства, 1968. Комментарии). В 1913—1914 гг. Выготский написал исследование о творчестве Достоевского. Рукопись утеряна.
87. Пример из Ф. М. Достоевского, так же как и следующий, из Г. Успенского, заимствован Л. С. Выготским из книги А. Р. Горнфельда «Муки слова» (СПБ, 1906), которую Выготский изучал, работая над своей «Психологией искусства».
88. Щерба Лев Владимирович (1880—1944) — советский лингвист, литературовед, академик. Специалист по общему языкознанию, славянским, романским языкам. Создатель ленинградской фонологической школы. Ученик Бодуэна де Куртенэ.
89. Апперцепция (термин ввел Л. Лейбниц). Лейбниц — осознание еще не дошедших до сознания впечатлений; И. Кант: единство представлений в сознании. В научной психологии понятие апперцепции занимало центральное место в системе В. Вундта, для которого оно означало осознанность воспринятого, его целостность и зависимость от прежнего опыта. В таком понимании эта идея связывается с идеями гештальта, установки и т. д.
90. Полан (Polan) Фредерик (185&—1931) — французский психолог. Занимался вопросами психологии когнитивных процессов (в частности, мышления, памяти, речи), психологии аффектов. Выготский использовал работы Полана по психологии речи.
488
91. Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — русский писатель, революционный демократ.
92. Цитата, приводимая из стихотворения А. А. Фета, представляет собой случай вторичного цитирования из кн.: В. Н. Волошинов. Марксизм и философия языка. М., 1930.
93. Цитата из стихотворения Н. Гумилева «Слово».
94. Хлебников Велемир (Виктор Владимирович) (1885—1922) — русский поэт-футурист. Сочинял новые слова (в частности, слово «летчик»).
95. Бихевиоризм (термин ввел Д. Уотсон) — дословно «наука о поведении». Основное направление в психологии США, зародившееся в начале XX в. (родоначальник Э. Торндайк) и господствующее до настоящего времени. Зародилось в борьбе с субъективно-эмпирической психологией, признающей только метод самонаблюдения. Бихевиоризм противостоял ей как объективное направление, стремящееся изучать объективными методами объективные процессы — поведение. Выготский был знаком только с классической, уотсоновской моделью бихевиоризма, включающей знаменитую схему, стимул — реакция. В 20-е гг. влияние бихевиоризма в советской психологии было очень сильно и поэтому Выготский был вынужден часто (при всей внутренней противоположности своей теории бихевиоризму) облекать свои идеи в бихевиористскую терминологию. Так появляется в 1930 г. его трехчленная схема, прямо соотносимая им с двучленной схемой классического бихевиоризма (см.: Инструментальный метод в психологии, т. 1). Через несколько лет признание получил необихевиоризм, разработанный Э. Толменом и С. Холлом, где двучленная схема классического бихевиоризма была заменена трехчленной (промежуточное, среднее, звено отражает внутреннее состояние субъекта). Однако при внешнем сходстве схемы Выготского с трехчленной схемой бихевиористов в действительности за ними стоит принципиально различная методология.
96. Данная цитата представляет собой случай вторичного цитирования. Есть основания полагать, что Выготский взял ее не непосредственно из стихотворения Гумилева, а из статьи О. Э. Мандельштама «О природе слова». Цитата служила эпиграфом к первому изданию этой статьи (1922) отдельной брошюрой и была снята в последующих изданиях.
97. «Вначале было слово». — Библия: Книга бытия, 1[222].
98. «Вначале было дело». — И. В. Гёте. Фауст, ч. I, сцена «Рабочая комната Фауста».
99. Фейербах (Feuerbach) Людвиг (1804—1872) — немецкий философ. Выготский был хорошо знаком с его творчеством, высоко ценил его. Он считал, что идеи Фейербаха могут быть исходными при построении марксистской материалистической психологии (см.: Исторический смысл психологического кризиса, т. 1).
ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГИИ
1. Работа представляет собой стенограмму лекций, прочитанных Л. С. Выготским в марте — апреле 1932 г. в Ленинградском педагогическом институте. Лекция 4 («Эмоции и их развитие в детском возрасте») опубликована в «Вопросах психологии» (1959, № 3). Все лекции опубликованы в кн.: Л. С. Выготский. Развитие высших психических функций. М., 1960. В настоящем издании за основу взята публикация 1960 г., сверенная с текстом стенограммы лекций, хранящимся в архиве ЛГПИ им. А. И. Герцена. Лекции, представляющие собой законченный курс, могут рассматриваться как краткое изложение основных взглядов Выготского и результатов, полученных им и его сотрудниками в рамках культурно-исторической теории.
489
2. Гештальтпсихология (гештальтизм, структурная психология). Термин ввел X. фон Эренфельс. Школа в общей психологии, появившаяся в Германии в начале XX в. Ставила в центр анализа психических явлений понятие целостности — гештальта. Первоначально зародилась при анализе процессов восприятия, где был открыт и объяснен с этих позиций ряд новых феноменов (М. Вертгаймер). Впоследствии предпринята попытка распространить объяснительные схемы гештальтпсихологии на процессы решения задач (К. Дункер), на филогенез (В. Келер) и онтогенез (К. Коффка) мышления, на анализ психологии личности, мотивационной сферы (К. Левин) и т. д. В 30-е гг., после прихода в Германии к власти нацистов, ведущие представители школы эмигрировали. Это послужило внешним толчком к распаду школы в конце 30-х гг. Гештальтпсихология оказывала, по-видимому, наибольшее (наряду с французской школой) влияние на Выготского. Самое привлекательное для пего было то, что учение этой школы стремились подходить ко всем психическим явлениям с позиций целостности. Но в отличие от гештальтпсихологов у Выготского целостность всегда сочеталась (или, по крайней мере, должна была по его замыслу сочетаться) с историзмом в анализе психики.
3. Готтшальд (Gottschald) Курт (1902—?) — немецкий психолог. Специалист по детской патопсихологии.
4. Гельмгольц (Helmholz) Герман (1821 — 1894) — немецкий физиолог, анатом, психолог. Автор теорий зрения и слуха.
5. Геринг (Herring) Эвальд (1834—1918) — один из основоположников экспериментальной физиологической психологии. Автор противоположных Гельмгольцу теорий зрения и слуха. Открыл оптическую иллюзию («иллюзия Геринга»).
6. Роршах (Rorshach) Герман (1884—1922) швейцарский психолог и психиатр. Автор широко известного прожективного теста, так называемого метода чернильных пятен, или теста Роршаха (1921).
7. Бине (Binet) Альфред (1857—1911) — французский психолог, один из пионеров экспериментального исследования высших психических функций, в частности мышления и памяти. Последние работы имели особое значение для Выготского (см.: Проблема культурного развития ребенка. — Педология, 1928, № 1). Специалист по тестам, в частности для измерения уровня умственного развития.
8. Демор (Demor) Жан (1867—1941) — бельгийский врач и педагог. Специалист по воспитанию и обучению умственно отсталых детей.
9. Мюнстерберг (Munsterberg) Гуго (1863—1916) — немецкий и американский психолог. Один из создателей психологии труда — психотехники. Методолог психологии. Методологический принцип Мюнстербсрга («Психология призвана практикой подтвердить истинность своего мышления») был особенно важен для Выготского (см.: Исторический смысл психологического кризиса, т. 1). В философии — объективный идеалист.
10. Зейгарник Блюма Вульфовна (р. 1901) — советский психолог. Ученица К. Левина и Л. С. Выготского. В 20-е гг., работая под руководством Левина, открыла так называемый эффект Зейгарник — феномен лучшего запоминания незаконченного действия по сравнению с законченным. Впоследствии специалист по патопсихологии. Применяла в исследованиях психологии шизофрении методологические принципы Выготского и Леонтьева.
11. Занков Леонид Владимирович (1901—1977) — советский психолог, ученик Выготского, академик АПН СССР. Специалист по психологии памяти, дефектологии, психологии обучения.
12. Эббингауз (Ebbinghauz) Герман (1850—1909)—немецкий психолог. Сторонник ассоцианизма. Начал экспериментальное изучение высших психических функций. Для изучения «чистой культуры» памяти ввел методику бессмысленных слогов. Вывел забывание как функцию времени («кривая Эббиигауза»).
13. По этому поводу см.: К. Bühler. Handbuch der Psychologie. Iena, 1922;
490
К. Koffka. The growth an introdaction[223] of child psychology. N. Y., 1925. Скорее всего эти книги имел в виду Л. С. Выготский.
14. Спенсер (Spenser) Герберт (1820—1903)—английский философ и социолог. Один из основателей позитивизма. Специалист по изучению первобытных культур.
15. Рибо (Ribot) Теодюль (1839—1916) — французский психолог. Специалист по патопсихологии и общей психологии. Работал в области психологии памяти, произвольного внимания и т. д.
16. Ланге Николай Николаевич (1858—1921) — русский психолог. Занимался вопросами методологии психологии, общей психологии, психологии внимания if т. д. Близок Выготскому своей антидуалистической направленностью (см.: Исторический смысл психологического кризиса, т. 1).
17. Кеннон (Kennon) Уолтер (1871—1945) — американский физиолог. Специалист по механизмам эмоционального поведения, утверждал принцип единства нервно-гуморальной регуляции.
18. Завадовский Борис Михайлович (1895—1951) — советский биолог, академик ВАСХНИЛ (1935). Специалист по дарвинизму, методологии биологии, физиологии желез внутренней секреции.
19. Дуров Владимир Леонидович (1863—1934) — русский цирковой артист, клоун, дрессировщик зверей, создатель новой русской школы дрессировки. Практический специалист по зоопсихологии.
20. Адлер (Adler) Альфред (1870—1937) — немецкий врач и психолог, создатель системы индивидуальной психологии. Близок к Фрейду в трактовке роли влечений в психической жизни. Центральное место в его психологической системе занимает понятие компенсации, понимаемой как универсальный механизм психической деятельности человека.
21. Брока (Broka) Поль (1824—1880) — французский анатом. Один из создателей современной антропологии. Описал расстройство речи, связанное с поражением определенной зоны мозга (поле Брока).
22. Вернике (Wernike) Карл (1848—1905) — немецкий психолог, психиатр, невропатолог, нейроанатом. Создал классическое учение об афазиях. Описал синдром алкогольной галлюцинации.
23. Штумпф (Stumpff) Карл (1848—1936) — немецкий философ, музыковед. Представитель феноменологии, близок к гештальтпсихологам. Выготский, чтобы продемонстрировать понимание сознания в традиционной психологии, обращался к письму Штумпфа Джемсу, где Штумпф называет сознание «общим хозяином психических функций» (см.: Л. С. Выготский. Проблема сознания. — В кн.: Психология грамматики. М., 1968).
24. Дембо (Dembo) Тамара (р. 1907) — немецкий, затем американский психолог. Под руководством К. Левина проводила в 30-е гг. известные эксперименты по выявлению влияния фрустрации в ходе решения задач.
А
Августин 300, 488
Адлер А. 429, 433 ,491
Амент В. К. 84, 85, 87, 484
Аристотель 61
Архимед 13, 201, 260, 296, 472
Ах Н. 62, 120—129, 132, 151, 153, 300—302, 462, 466, 481, 483, 486
Б
Бергсон А. 91, 360, 383—385, 420 441, 460, 477, 482, 485
Бердяев Н. А. 484
Беркли Д. 481
Берс С. А. 335
Бехтерев В. М. 315, 487, 488
Бине А. 372, 379, 400, 490
Блейлер Э. 29, 36—41, 59, 161, 372, 385, 389, 403, 435, 445, 446, 448, 450, 477, 482
Блондель Ш. 24, 25, 482
Блонский П. П. 137, 215, 376, 486
Богданов А. А. 71, 75, 483
Бодуэн де Куртенэ И. А. 481, 488
Божович Л. И. 480
Бойтендейк К. Б. 445
Болдуин Д. 65, 73, 483
Боровский В. М. 91, 92, 99, 112, 485
Брентано Ф. 25, 481, 482
Брока П. 435, 491
Брунер Дж. 481
Бэкон Ф. 65, 483
Бэн А. 481
Бюлер К. 80, 83, 91, 93, 99, 102, 104, 110, 114, 115, 132, 172, 179—184, 281, 366, 373, 387, 389, 402, 405, 429—431, 466, 481, 484, 485
Бюлер Ш. 103, 180, 485
В
Вагнер В. А. 91, 485
Валлон А. 83, 84, 114, 410, 484
Вернер Г. 146, 157, 161, 173, 174, 376
Веркике К. 435, 491
Вертгаймер М. 283, 402, 467, 490
Вильсон 434
Волошинов В. Н. 489
Вундт В. 85, 87, 93, 94, 240, 315, 348, 349, 438—441, 457—459, 484, 485, 488, 489
Выгодская Г. Л. 481
Выготский Л. С. 466—487
Г
Гальтон Ф. 129, 178
Гартли Д. 481
Гартман Э. Ф. 91, 458
Гегель Г. Ф. В. 61, 75, 112, 360
Гезелл А. 156, 486
Гейне Г. 304, 310
Гельб А. 402, 463
Гельмгольц Г. 367, 369—371, 490
Геннинг Т. К. 379
Гербарт И. Ф. 231, 456, 486, 487
Геринг Э. 369, 382, 385, 490
Гетцер Г. 103
Гёте И. В. 65, 70, 79, 88, 170, 203, 266, 360, 367, 440, 469, 476, 489
Гоббс Т. 481
Гобхауз Л. Г. 92, 485
Гоголь Н. В. 350
Гольденштейн К[224]. 315, 316, 402, 463, 464, 488
Горнфельд А. Г. 488
Готтшальд К. Б. 365, 367, 386, 490
Грибоедов А. С. 377, 475
Гроос К. 171—173, 390, 486
Грюнбаум А. А. 326, 327
Гумбольдт В. 311, 337, 486, 488
Гумилев Н. С. 489
Гуссерль Э. 80, 481, 482, 484
Гуцман Г. 360
Гюго В. 434
Д
Дарвин Ч. 416, 417, 420—422, 427
Декарт Р. 300, 310, 458, 488
Делакруа К. 83, 84, 92, ПО, 114—116,
484
Дембо Т. 463, 491
Демор Ж. 3, 474, 490
Джексон Д. 239, 316
Джемс У. 228, 418—425, 428, 429, 442, 459, 460, 465, 478, 487, 491
492
Дидо 112
Достоевский Ф. М. 338, 339, 352, 354, 488
Дриш Г. 401, 441
Дункер К. 490
Дуров В. Л. 426, 491
Дюркгейм Э. 71, 482, 483
Ж
Жанэ П. 36, 44, 482, 483
З
Завадовский Б. М. 422, 423, 491
Замков Л. В. 391, 480, 490
Запорожец А. В. 480, 481
Зейгарник Б. В. 387, 490
Зейдель 390
Зельц О. 300, 402, 403,414
И
Идельбергер Г. 85, 157, 485
Иенш Э. Р. 91, 168, 183
Йеркс Р. М. 90, 94—98, 100, 101, 136, 485
Иоргсн 390
К
Кант И. 61, 488
Кафка Г. 99
Келер В. 85, 90—96, 98—102, 111—113, 115, 116, 136, 172, 173, 249, 301, 361, 364, 366, 386. 388, 402, 461, 467, 469, 481, 485, 490
Келлер Е. 115. 485
Кеннон У. 422—427, 434, 435, 478, 491
Клапаред Э. 23, 26, 49, 63, 68, 72, 137, 208—211, 218, 287, 374, 405, 431—434, 482. 483
Корнилов К. Н. 486
Котелова Ю. В. 130, 486
Коффка К. 83, 99, 105, 114, 228, 229, 231, 233, 367, 402, 461—463, 467, 484, 490
Кречмер Э. 168, 175, 435, 486
Кро О. 172, 486
Крылов И. А. 310, 347
Крюгер 381
Кюльпе О. 170, 300, 400, 401, 405, 466, 481, 484, 486
Л
Ланге Н. Н. 418, 419, 421—423, 425, 428, 478, 491
Ларсон К. Д. 31
Лафонтен 310
Леви-Брюль Л. 24, 25, 76, 96, 159, 162, 482, 486
Левин К. 294, 380, 381, 387, 431, 433, 461—463, 479, 487, 490
Левина Р. Е. 47, 483
Лейбниц Г. В. 488
Леметр А. 52, 107. 345
Ленин В. И. 61, 75, 471, 484
Леоктьев А. Н. 47, 391, 480, 481, 483, 490
Лермонтов М. Ю. 310
Лернед Э. В. 90, 95, 96, 100, 101
Линдворский П. 91
Линднер Г. А. 181, 486
Лист Ф. 319
Локк Д. 481
Лурия А. Р. 47, 480—483
Люис 410
М
Мандельштам О. Э. 295, 489
Маркс К. 112, 223, 467
Мах Э. 71, 73, 484
Мейман Э. 85. 86, 104, 116, 227, 485
Мендель Г. 487
Мессер А. 173
Миллер Д. 314
Милль Д. С. 481
Монтессори М. 78, 252, 253, 484
Мольер Ж.-Б. 81
Морозова Н. Г. 480
Мухова М. 78, 376, 379
Мюллер Г. Э. 132. 486
Мюнстерберг Г. 382, 490
Н
Нейман 376, 379
П
Павлов И. П. 94, 484
Павлович 390
Пауль Г. 309. 488
Пашковская Е. И. 130, 480
Першиц 412
Петерсон М. Н. 162
Пешковский А. М. 412
Пиаже Ж. 7, 23, 24, 26, 27, 29—37, 40—48, 51—60, 62, 63, 65—74, 78, 79, 83, 85, 107, 109, 117, 159, 193, 198, 200—202, 206—215, 218—224, 227, 255, 256, 260. 267, 284—289, 293, 294, 307, 317—322, 324—328, 330, 332, 342, 377, 403—406, 408, 409, 411—412, 442—444, 446, 467, 468, 481, 482, 483
Пифагор 61
Платон 61, 383, 405, 474
Плеханов Г. В. 112, 483, 485
Погодин А. Л. 167, 486
Полан Ф. 346—348, 488
Поливанов Е. Д. 335, 338, 488
493
Потебня А. А. 166, 167, 337, 470, 486, 488
Прейс П. И. 175
Р
Реймут 80, 84, 85
Рибо Т. 417. 418, 421, 437, 438, 491
Римат Ф. 121, 122, 127, 128, 486
Роллоф М. 376
Роршах Г. 372, 373, 490
Руссо Ж.-Ж. 24, 210
С
Сахаров Л. С. 128, 130, 471, 480, 486
Семон А. 385
Сеченов И. М. 315, 488
Славина Л. С. 480
Соловьев И. М. 480
Соссюр Ф. де 481
Спенсер Г. 417, 486, 491
Спиноза Б. 387, 481
Станиславский К. С. 355. 357
Т
Тард Г. 338, 488
Толмен Э. 489
Толстой Л. Н. 19, 189—192, 294, 295, 334—336, 351
Томпсон Г. 337
Торндайк Э. 91, 111, 135, 136, 228, 229, 232—234, 245, 288, 388, 485, 489
Трубецкой Н. С. 481
Туер-Гарт 103
Tурнвальд Р. 161, 486
Тютчев Ф. И. 310, 360
У
Узнадзе Д. И. 124, 125, 153, 486
Уланд Л. 208, 488
Уотсон Д.[225] 51, 57, 106, 107, 108, 111, 315, 331, 332, 350, 398, 406, 483, 489
Успенский Г. И. 354—356, 488, 489
Ф
Фейербах Л. 361, 489
Фет А. А. 489
Фогель М. 127, 179
Фолькельт Г. 79, 175, 365—367, 381
Фортуин Г. 252
Фослер Г. 308
Фрейд 3. 24, 25, 31, 32, 36, 40, 41, 60, 68. 70, 218, 219, 403, 428. 429, 432, 433. 442, 444, 446, 458, 482, 491
Фриз Г. де 252. 253, 487
Фриш К. 101, 485
X
Хемпельман Ф. 101
Хлебников В. В. 356, 489
Холл С. 489
Хэд Г. 239, 316, 434, 487
Ш
Шарко Ж. 482
Шарпантье 373—375
Шекспир В. 305
Шестов Л. И. 484
Шиллинг 315
Шиф Ж. И. 185, 187, 291, 480, 487
Шмидт Б. 113
Шкейдер К. 435
Шопенгауэр А. 458
Шор Р. 164, 165
Шпильрейн И. Н. 486
Штейнен К. фон ден 159, 486
Штейкталъ Г. 486
Штерн В. 7, 78—88, ЮЗ, 104, 114—116, 201, 265, 375^379, 393, 407—410, 413, 467, 468, 484
Шторх А. 159. 161
Штумпф К. 459, 484, 491
Щ
Щерба Л. В. 339, 488
Э
Эббингауз Г. 396—398, 455, 490
Элиасберг В. 70, 377, 378
Эмерт 371, 372
Энгельс Ф. 112, U3, 155
Эренфельс X. фон 490
Ю
Юнг К Г. 482
Я
Якобсон Р. О. 481
Якубинский Л. П. 335, 337, 340, 488
494
А
Абстракция
абстрактное мышление 47, 121, 129, 140, 152, 180, 182, 248
абстрактное понятие 143, 168, 173, 174, 180
развитие абстракции 172
роль внимания в абстракции 171
Апперцепция 343
Ассоциация
закон обратимости 454, 455
представлений 396
роль ассоциаций в образовании комплексов 141—144, 146, 152, 166
роль ассоциаций в образовании понятий 121 — 123, 127, 129, 130, 132, 133, 136, 141, 143, 144, 157, 166, 179, 181 — 183
Аффект
отношение к интеллекту 21, 22, 101
у антропоидов 101
В
Вербализм
в обучении 187, 188
Влечения
отношение к интеллекту 26, 67
Внешняя речь
диалогическая и монологическая 338, 340
ее отношение к внутренней речи 51, 56—58, 85, 106—108, 110, 116, 117, 240, 316, 317, 324, 332, 337, 342—344, 347—352
ее отношение к письменной речи 239, 240, 338, 341, 343
предикативность внешней речи 332—336, 338, 339, 341—343, 345
семантические особенности внешней речи 348—350
Внимание
логическое 214, 215
произвольное 188, 214, 217, 248
речь как средство направления внимания 131, 174, 182
роль внимания в образовании понятий 131, 132, 174
связь внимания с восприятием 11, 216, 217
связь внимания с памятью 217
Внутренняя речь
как внутренняя сторона речевой деятельности 315, 316
как особое психологическое образование 316, 352
как «речь для себя» 51, 52, 316, 320
как «речь минус звук» 105, 106, 315
отношение к мышлению 13, 49, 53, 85, 105, 106, 110, 117, 320, 321, 352
отношение к письменной речи 211, 236—241, 337, 340, 342
отношение к эгоцентрической речи 49, 51—53, 56—58, 85, 107, 108, 117, 317, 318, 320, 322—332, 344, 346, 349, 350, 352
развитие внутренней речи 51—53, 56—58, 85, 106—110, 116, 117
связь с осознанием 320, 321
семантика внутренней речи 346,348—351
Синтаксис внутренней речи 240, 331, 332, 334, 335, 341—346
Воля
волевое действие 455—458, 460, 462—464
как высшая психическая функция 463—465
как социальный процесс 464—465
развитие 462, 464
свободная 446, 453, 457, 461
теории
ассоциативная 454—456
аффективная 456—457
бихевиористские 454
495
гетерономные теории 454, 456, 457
интеллектуалистическая 454—457
как комбинация процессов
интеллектуального типа 455
как инстинкт 455
неврологическая 464—467
подход К. Левина 461—463
рефлексологическая 454
теория Джемса 457—459
Воображение
репродуктивное 437
творческое 437—439, 447
направленный характер 447
развитие 444, 446
теории
идеалистическая 441, 442
ассоциативная 436—439
психоаналитическая 443
Восприятие
у животных 100, 172, 173, 364
как психологическая система 374, 380
ребенка 34, 137, 138, 170, 171, 366, 368, 373, 374, 379, 414
свойства
категориальность 374, 379
ортоскопичность 369, 370
осмысленность 370, 373, 379
связи и отношения
с наглядным мышлением 371, 373, 378—381
с памятью 11, 216, 217
с речью 377, 378, 380, 381, 414
теории
ассоциативная 363—367, 370, 375, 380
идеалистическая 372, 373
гештальтистская 364—368, 375, 380
Г
Генетические корни мышления и речи 23, 89, 101—105, 111, ИЗ, 116, 168
Глухонемой ребенок
мышление 167, 168
речь 83, 97, 117, 167, 168
Д
Движения и действия 19, 84, 92, 93, 417—419
Действия
отношение к восприятию 211
Детерминирующая тенденция (по Н. Аху) 122—125, 131, 132, 300, 302, 481, 483, 486
Деятельность
зависимость от внешней действительности 414, 415
интеллектуальная у антропоидов 98, 99, 111, 112
ребенка 28, 32, 33, 47, 50, 61
связь с мышлением 78—80, 126—128, 414, 415
связь с речью 43, 46—50, 56, 61, 84, 87, 88, 103, 108—110, 117, 153
строение 126
Ж
Жест
указательный 82, 86, 87, 92
условный 96
З
Звук
антропоидов 92, 96
человеческой речи 14—16, 19—21, 84, 92, 95, 96
Знак
как средство в образовании понятий (слово как знак) 83, 84, 104, 116, 119, 121, 127, 129, 131—135, 137, 161, 166, 174, 175, 182
как средство овладения поведением 127, 132, 134
стадия внешнего знака в развитии ребенка 109, 115
стадия внутреннего знака в развитии ребенка ПО, 115
Значение слова
как единство общения и обобщения 19, 20
как единство мышления и речи 16—18, 20, 297
как обобщение 17, 19, 20, 188, 289, 297, 304, 305
у ребенка
как синкретическое сцепление элементов 137
как фамильных имен, объединенных в комплексы 140, 160, 161, 174
различие со взрослыми 137, 154, 155, 162, 163, 167, 181
отношение к предметной действительности 137—140, 156, 158, 162, 163, 289, 299
496
развитие 19, 137, 138, 139, 150, 152, 158, 163, 188, 202, 272, 298, 299, 304, 311
И
Игра 32, 33, 41, 47, 378
Идеализм в психологии 25, 70—74, 80, 85, 88, 90
борьба с материализмом 24
Интеллект
и речь 85, 89—92, 96, 98—104, 111, 113, 114, 116, 117, 139, 275
практический 110
у антропоидов 89, 90, 95—102, 111, 112, 117
Интроспекция 219, 220
К
Комплекс (стадия развития понятия) зависимость от значений слов 150—152
как обобщение 141, 142, 147, 148, 152, 167, 168, 183, 264, 271, 277
отношение к действительности 139—142, 145—147, 151, 167
отличие от понятия 140, 141, 145, 150, 151, 154, 156, 167, 175
Комплексное мышление 139—151, 153, 154, 157, 158, 160—162, 164—169, 174—176, 178, 183, 184, 218
отличие от мышления в понятиях 145, 151, 157, 168
фазы развития
1 -я — ассоциативный комплекс 141—143, 145, 148, 157, 174, 183
2-я — комплекс-коллекция 142—144, 147
3-я — цепной комплекс 144—146, 157
4-я — диффузный комплекс 146, 147
5-я — псевдопонятия 147—154, 158, 160, 167—172, 176
Л
Логика
детская 24, 31, 33, 42, 43, 62—64, 68, 74, 117, 209, 222
логическое мышление 31, 33, 56, 57, 68, 70, 75—77, 81, 159
М
Методы в психологии
анализа по «единицам» 10—13, 467, 470, 479
изучения понятий
исследования абстракции 119
«двойной стимуляции» 128—130, 471
синтетически-генетический 120, 121, 126—128
исследования мышления и речи 13—15, 17, 19—21, 23—27, 35, 43, 48, 91
Мышление
аутическое 28—32, 35—42, 46, 58—62, 67, 68, 218, 286, 319, 326, 435, 436, 443, 447, 450
возникновение 104, 105, 114
действенное (практическое) 39, 143, 147, 173, 182, 184,
доречевое
у антропоидов 119—128
у детей 129, 131, 135, 136, 138
детское 23, 24, 27, 28, 31, 41, 76, 77, 157, 158
животных 89—102, 113, 172, 173, 175, 183
конкретное 140, 144, 154, 155, 168, 181
как процесс решения задач 122—125, 127—130, 132, 133, 136
у обезьян 90, 91, 94, 97. 98
наглядное; образное 43—148, 156, 160, 167, 173, 175, 182—184
понятийное 60, 121, 123, 124, 130—132, 139. 140. 145, 148, 150, 153, 156. 160, 161, 165, 166, 167, 175—178, 182, 184
примитивное 160, 161, 166, 168, 175, 176
продуктивное 283, 301, 304
реалистическое 29, 31, 32. 36—39, 46, 47. 53, 58—61, 74
речевое 12—18, 36, 47, 51, 52, 57, 75, 76, 83, 104, 105, 110, 114, 117. 132. 143. 167. 175, 183, 267, 268. 272, 296, 297, 299, 343, 346—348
отношение к воображению 61, 451—453
отношение к восприятию 281, 282
отношение к ощущению 16, 360
отношение к памяти 281, 282
отношение к речи 10—22, 47—49, 56, 61, 80, 81, 85, 89, 91,
497
103—105, 110, 111, ИЗ, 313, 353—355, 358—360
связь с действительностью 42, 75, 76, 136—139, 289
теории
ассоциативная 396—398, 402
бихевиористская 398, 402—403, 407—409
вюрцбургской школы 400, 402, 403, 407, 409
гештальтпсихологии 403
Д. Дриша 402
Ж. Пиаже 28—33, 35, 39, 42, 55, 59, 71, 75, 194, 195, 226, 230, 233, 319, 405—407
Н
Навыки
отношение к образованию понятий 111, 112, 135
О
Обобщение
комплексное (см. Комплекс) антропоидов 173
ребенка 147—151, 154, 157, 158, 160, 167, 170, 171
как осознание 231, 232
как отражение действительности 16, 61
как словесный акт 16
связь с общением 18, 19
Обучение
ведущая роль в развитии школьника 186
и усвоение арифметики 241, 244, 245
и усвоение грамматики 109, 241—243, 245, 307
и усвоение иностранного языка 257—259, 265—269
отношение к зоне ближайшего развития 302—306
отношение к развитию житейских понятий 187, 189—191, 194—199, 206, 224, 290, 291
теории 184, 224—235, 241, 243—255, 287, 288
Общение 17, 18
взрослых и детей 125, 137, 150—154, 167
и речь 17—19
Орудие
их употребление обезьянами 89, 93, 94, 97, 102, 112, 172, 173
и произвольность 214
психологическая природа 218, 220
связь с затруднениями в деятельности 49, 50
связь с речью ребенка 49, 50
уровни 185
П
Память
логическая 111, 188, 214, 247
произвольная 214, 215, 217
ребенка
в раннем возрасте 390, 395
развитие 389—391, 395
связь с мышлением 392—395
связь с вниманием 217
связь с восприятием 11, 216
связь с мышлением 11, 388, 389, 392—395
связь с физиологией мозга 382—384
теории
борьба витализма и механицизма 383—386
дуализм 383
идеалистическое направление 381, 383—385
материалистическое направление 381—383
механистическое понимание 382, 383, 385
структурное направление 387—389
Письменная речь 236—241, 337
отношение к внутренней речи 239, 240, 338, 341, 342[226]
отношение к устной речи 211, 236—241, 337, 340, 342
Поведение
знак как средство овладения поведением 92—94, 96—98, 101, 102, 111, 172
связь с мышлением 21, 22, 103, 117, 135, 136
Подражание
роль в развитии речи 88, 95, 96, 99
связь с интеллектуальными возможностями 249—251
Понимание 12, 18
связь с восприятием 216
словесное 34, 123, 124, 137, 151—153, 156, 162, 167
Понятие
осознание 208—218, 220, 257—262
498
отношение конкретного и абстрактного 271—273
отношение общности и структуры обобщений 270—276, 281—284
перенос 129, 163—166, 177, 178, 182
продуктивный характер 122, 127
распад 135, 136, 276
роль абстракции, анализа и синтеза в образовании 120, 131, 132, 170—172, 174, 178, 182, 279
роль восприятия в образовании 118, 119
роль задачи и цели в образовании 132, 133
роль представлений в образовании 122, 131, 132, 167, 176, 178, 181, 184
роль системы для осознания 220—224, 320—328
связь и выражение в слове 18, 118—120, 122, 123, 127—133, 142, 152, 160, 161, 166, 167, 174, 175, 177, 178, 180, 182—184
связь с действительностью 118, 119, 136, 140—142, 145, 146, 151, 167, 177, 178, 205, 220, 222, 223, 262, 269, 272, 284, 286
связь с решением задач 120, 122—134, 136, 168, 183
связь с суждениями 130, 131, 180—184
словесные определения (ребенком) 118—120, 130, 173, 177, 178, 260
слово как средство образования 118, 119, 121, 127, 132, 133, 160, 174, 184
сущность процесса развития 133, 136, 152, 155, 182—184, 187, 188, 190, 224, 278—281, 287
житейское
неосознанность 220, 287
несистематичность 284—286
особенности развития 263, 264, 284, 290
научное
вербализм 187
включенность в систему 220, 221, 269, 284, 287
особенности развития 187—193, 199, 203, 263, 264, 284, 290
осознанность 220, 263, 264, 287
отношение житейских и научных
единый процесс развития 198, 290
основания для разграничения 201—206
отношение развития научных к развитию житейских 184—186, 191, 192, 197, 198, 202, 255—269, 284, 290
ступени в развитии
образование неупорядоченного множества 136—139
развитие комплексов 139—168
развитие от псевдопонятия до истинного понятия 168—175
эквиваленты понятий
интеллектуальные образования 130, 131
наглядные, собирательные образования 161
отличие истинных понятий от потенциальных 171, 172
отличие понятий от псевдопонятий 147, 148, 151, 152, 158
потенциальные понятия 171—174, 176, 183, 184
предпонятия 218, 224, 270, 271, 277, 279
синкретический образ 137—139, 143, 154, 158, 184, 270, 271, 277, 279
Потребность 444, 445
в общении 19
отношение к мышлению 22, 59, 60, 70, 71, 121, 127, 132, 133, связь с приспособлением к действительности 59, 60[227]
Представления
ассоциации 396
персеверации 396, 397
развитие у детей 394
у животных 90, 93, 94, 97, 175
Психологическая наука
кризис 24—26
направления
ассоциативная 16, 227, 281, 302, 303, 363—366, 386, 396—398, 466, 467, 477, 481, 486, 490
499
бихевиоризм 359, 398, 417, 477, 482, 483, 489
вюрцбургская школа 12, 110, 219, 282, 288, 300, 304, 359, 466, 481, 483, 486
каузальная 382, 460
персонализм 80—89, 467, 468, 484
Ж. Пиаже 28—46, 85—61, 67—69, 218, 286, 319, 326, 467, 468, 480—482
психоанализ 28, 30—32, 37, 41, 58—60, 67, 468, 482
рефлексология 227
структурная 16, 230, 234, 281, 282, 289, 302—304, 359, 363, 367, 381, 382, 387, 403, 490
телеологическая 460
французская школа 482
отрасли
детская 25, 62, 363, 366
животных 89, 112
отношение к философии 62, 63
Психологические системы
воображение 451
восприятие 380
мышление 451
память 394, 395
понятие 450
связи между функциями 380, 451[228]
Р
Развитие психическое
актуальный уровень 246—255, 264
зона ближайшего развития 246—255, 264
закон 267
основные стадии 108—110
сензитивный период 253—255
Речь
виды
внешняя (см. Внешняя речь)
внутренняя (см. Внутренняя речь)
глухонемых (см. Глухонемой ребенок)
животных 80, 84, 89, 91—102, 113, 117
как сигнал 84
как средство общения 18—20
шепотная 57, 106—108, 116, 324
эгоцентрическая 27, 42—58, 61, 63, 75, 79, 85, 107—109, 116, 117, 317—332, 344, 349, 350, 352
возникновение при затруднениях в деятельности 48—50
связь с мышлением 46—50, 61, 108
структурные особенности 52, 319—329, 344, 349, 350
связи
с воображением 448—450
стороны
их единство 309
развитие в противоположном направлении 305—307, 310
семантическая 20, 21, 268, 298, 305—313, 346, 358, 408
фазическая 20, 21, 268, 305—312, 323, 346, 358, 406, 408
экспрессивная 49, 80, 81, 84, 111, 115
теории
антиинтеллектуалистическая 84—87
интеллектуалистическая 80—89
В. Штерна 80, 81, 83, 87
функции 18—20, 42, 49—51, 55, 56, 84, 89, 101, 104, 108, 111, 167
индикативная 182
интеллектуальная 18—20, 49, 50
коммуникативная 18—20, 51, 55, 56, 81, 84, 124, 322, 323
номинативная 114, 163, 166
сигнальная 84
сигнификативная 105, 115, 182
символическая 104
функциональное многообразие 337
функциональные особенности речи у детей 42, 43, 46—53, 55, 56, 61, 84, 103—105, 108, 114, 117
С
Синкретизм детского мышления 27—31, 34, 76, 78, 137—140, 143, 176, 284
500
Слово
отношение
к сознанию 360, 361
к предмету 17, 82, 83, 86, 104, 114, 115, 119, 122, 127, 137, 140, 142, 150, 152, 157, 158, 160—163, 166—168, 174, 175, 181, 348, 350, 358—360
Слово
у ребенка 393, 394, 412, 413
аффективно-волевой характер 88, 104, 116
овладение символической функцией 104
первые слова 83—88, 103, 104, 116, 167, 172, 180
функции 87, 104, 124, 135, 152, 162, 163, 166, 182
индикативная 182, 312
номинативная 114, 163, 166, 312
обобщающая 16, 152, 174, 300, 304
сигнальная 84
сигнификативная 105, 192, 193, 182, 184, 312
символическая 82, 83, 104, 115, 127, 182
Сознание
ассоциативная тенденция 396—400
аффективно-волевая сторона 21
интеллектуальная сторона 21
персеверативная тенденция 396—400
ребенка
«грезящее» 444
солипсизм 197, 213, 218, 445
связи и отношения
к действительности 133, 436
к мышлению 402, 414, 415
к потребностям 444
к эмоциям 422—424, 435, 436
межфункциональные 10, 11, 21, 22, 215—217, 406—414, 451
теории
У. Джемса 442
идеалистическая 441, 442
Социальный фактор в развитии детского мышления 20, 65—68, 70, 89, 117, 134
Сходство
осознание 210—214
Ф
Фантазия
и мышление 41, 61, 70
Филогенез мышления и речи 35, 36, 39, 72, 89, 97, 102, 103, 113, 117, 136, 160
Фонема 21
Э
Эгоизм ребенка (по Ж. Пиаже) 33, 34
Эгоцентризм ребенка (по Ж- Пиаже)
мышление 24—39, 41—45, 47, 53, 57, 58, 70, 139, 197, 198, 208, 209, 213—215, 218, 286, 319, 321, 325, 327
речь (см. Речь)
Эмоции
высшие и низшие 422
животных 92, 116—118
патология проявления 434
развитие 428—430
связи и отношения
с воображением 449
с деятельностью 428
с мозгом 426, 434
с мышлением 430, 435, 436, 450
с навыком 430
с поведением 429
с потребностями 429
с речью 1116[229]
с сознанием 423, 424, 432, 435
с творчеством 430
с характером 428
теории
А. Адлера 429
К- Бюлера 429—431
Ч. Дарвина 417, 418
У. Джемса и Н. Н. Ланге 418—425[230]
Э. Клапареда 431—434
У. Кэннона 422—427
К. Левина 431, 433
Т. Рибо 417, 418, 421
«рудиментарная» 417
З. Фрейда 428, 429, 432, 433
501
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., тт. 3, 13, 20, 23, 25, ч. II. 29.
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29.
* * *
Блейлер Э. Аутистическое мышление. Одесса, 1927.
Боровский В. М. Введение в сравнительную психологию. М., 1927.
Бюлер К. Духовное развитие ребенка. М., 1930.
Гезелл Г. А. Педология раннего возраста. М.; Л., 1932.
Гроос К. Душевная жизнь ребенка. Киев, 1916.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Л., 1929.
Кречмер Э. Медицинская психология. М., 1927.
Кюльпе О. Современная психология мышления. — В сб.: Новые идеи в философии, 1914, № 16.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930.
Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.; Л., 1932.
Плеханов Г. В. Избранные философские произведения в 5-ти т. М., 1956, т. 2.
Сахаров Л. С. О методах исследования понятий.—Психология, 1930, т. III.
Толстой Л. И. Педагогические статьи. М., 1903.
Толстой Л. Н. Собр. соч. в 11-ти т. М., 1893, тт. 10, 11.
Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М., 1966.
Успенский Г. И. Избранные произведения. М., 1949.
Уотсон Д. Психология как наука о поведении. М., 1926.
Фолькельт Г. Экспериментальная психология дошкольника. М., 1930.
Шиф Ж. И. Развитие житейских и научных понятий: Дис. М., 1933.
Шиф Ж. И. Развитие житейских и научных понятий. М., 1935.
Штерн В. Психология раннего детства до шестилетнего возраста. Пг., 1922.
Bühler
Sch. Soziologische und
psychologische Studien über das erste Lebenjahr. Leipzig, 1927.
Bühler К. Abriss der geistigen Entwicklung des
Kindes. Leipzig, 1923.
Delacroix H. S. Le langage et la pensée. Paris., 1924.
Frisch K. Die Sprache der Bienen. Wien, 1928.
Hempelmann F. Tierpsychologie v
Kafka G. Handbuch der vergleichenden Psychologic
München, 1922.
Koffka K. Grundlagen der psychischen Entwicklung.
Berlin, 1925.
Köhler W. Aus Psychologie des Schimpanzen.— Psych.
Forschung,1921, N 1.
Köhler W. Intelligenzprüfungen und
Menschenaffen. Berlin, 1921.
Learned W. S. A school system as an educational laboratory. Cambr., Mass., 1914.
Lemaitre A. Observations sur le langage
intérieur des enfants.— Archives de Psychologie, 1905, N 4.
Levy-Bruhll L. Les fonctions mentales dans les sociétés
primitives. Paris, 1922.
Meumann E. Die Entstehung der ersten Wortbedeutung
beim Kinde. — Philosophische Studien, 1928, v. XX.
Piaget J. La causalité physigue[231] chez l'enfant. Paris, 1926.
Piaget J. Le langage et la pensée chez
lengant. Paris, 1923.
Piaget J. Psychologie de l'enseignement de l'histoire.—
Bulletin trimestriel de la Conférence Internationale pour l'enseignement
de l'histoire, 1933, N 2.
Rimat F. Intelligen zu Untersuchungen
anschließend und die Ach’sche Suchmethode,
Leipzig, 1925.
Smidt B. Die Sprache und andere
Ausdrückformen der Tiere. Berlin, 1923.
Stern W. Person und Sache, I Band. Leipzig, 1905.
Stern C, Stern
W. Die Kindersprache.
Berlin, 1928.
Thorndike E. R. The mental life of monkeys. N. Y.; L., 1901.
Yerkes R. M. The mental life os the moneys and apes.— Behaviour Monographs, 1916, III—I.
Yerkes R. M., Learned E. W. Chimpansee Intelligence and its vocal expression. Baltiltimore, 1925.
502
СОДЕРЖАНИЕ
Мышление и речь
Предисловие
Глава первая
Проблема и метод исследования
Глава вторая
Проблема речи и мышления ребенка в учении Ж. Пиаже
Глава третья
Проблема развития речи в учении В. Штерна
Глава четвертая
Генетические корни мышления и речи
Глава пятая
Экспериментальное исследование развития понятий
Глава шестая
Исследование развития научных понятий в детском возрасте
Глава седьмая
Мысль и слово
Лекции по психологии
Лекция 1.
Восприятие и его развитие в детском возрасте
363
Лекция 2.
Память и ее развитие в детском возрасте
Лекция 3.
Мышление и его развитие в детском возрасте
Лекция 4.
Эмоции и их развитие в детском возрасте
Лекция 5.
Воображение и его развитие в детском возрасте
Лекция 6.
Проблема воли и ее развитие в детском возрасте
Послесловие
Комментарии
Именной указатель
Предметный указатель
Литература
ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ ВЫГОТСКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
Сверил тексты, подготовил указатели и библиографию
Л. А. Радзиховский
Зав. редакцией А. В. Черепанина
Редактор С. Д. Кpекова
Художник А. Т. Троянкер
Художественный редактор Е. В. Гаврилин
Технический редактор Т. Е. Морозова
Корректоры Ю. А. Евстратова, В. Н. Рейбекель
ИБ № 606
Сдано в набор 17.08.81. Подписано в печать 23.03.82. А07371. Формат 60х801/16. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 31,5. Уч.-изд. л. 34,95. Усл. кр. отт. 31,75. Тираж 30.000 экз. Заказ 377. Цена 1 р. 70 к.
Издательство «Педагогика» Академии педагогических наук СССР и Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва 107847, Лефортовский пер., 8 Московская типография № 4 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 129041, Москва, Б. Переяславская ул., 46