СТРУКТУРАЛИЗМ: «ЗА»·И
«ПРОТИВ»
СБОРНИК СТАТЕЙ
Перевод с английского, французского, немецкого, чешского, польского и болгарского языков
Под редакцией
Е. Я. Басина и М.
Я. Полякова
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» МОСКВА 1975
Предисловие В. П. Крутоуса
Комментарии И. П. Ильина
Составление словаря терминов И. П. Ильина
Сборник знакомит советского
читателя с важнейшими материалами, относящимися к обсуждению в зарубежной
литературе вопроса о новых, специфических методах исследования искусства —
структурных, семиотических, теоретико-информационных.
В статьях, включенных в
первый раздел сборника «Проблемы и методы», — содержатся попытки позитивного
изложения целей и конкретных приемов подобных исследований. Наряду с работами
известных «пионеров» литературоведческого структурализма (Я. Мукаржовский, Р.
Якобсон) в сборнике помещены статьи и их современных последователей,
развивающих основные идеи этого направления как в лоне буржуазного
литературоведения и искусствознания (Ролан Барт и другие), так и в русле марксистской
теории искусства (Я. Славиньский, И. Левый).
В статьях второго раздела —
«Споры вокруг структурализма» — зарубежные ученые-марксисты выступают с
обстоятельной, аргументированной критикой философско-методологических основ
западного структурализма. В духе научной дискуссии обсуждаются вопросы,
связанные с уяснением перспектив и границ применения структуралистских методов
в литературоведении и искусствознании.
Авторский текст печатается с
сокращениями.
Редакция литературоведения и искусствознания
Произведения, включенные в настоящий сборник и
вышедшие на языке оригинала после 27 мая 1973 г., отмечены в тексте
звездочкой
© Издательство «Прогресс», 1975
© Перевод на русский язык, издательство «Прогресс»,
1975
ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНО-СЕМИОТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ И ИСКУССТВОЗНАНИИ
Советский читатель, интересующийся методологическими проблемами современного литературоведения и искусствознания, несомненно, знаком с той острой полемикой о структурализме в этих науках, которая развернулась в последние годы в нашей специальной литературе. Не менее остро обсуждались и обсуждаются эти вопросы и за рубежом[1]. Поэтому выход в свет настоящего сборника представляется более чем своевременным. В буржуазном литературоведении и искусствознании структурализм выступает как одно из наиболее влиятельных направлений. В то же время опыты применения структурального подхода к искусству получили определенное развитие и в марксистском, в том числе советском, искусствознании. Существует, таким образом, настоятельная необходимость серьезного обсуждения как специально-научного содержания литературоведческого структурализма, так и теоретических предпосылок и выводов, характерных для тех или иных его интерпретаций.
Значение предлагаемого сборника состоит прежде всего в том, что он подводит некоторые итоги многолетней дискуссии зарубежных ученых о принципиальной возможности, границах и перспективах использования структурных методов в литературоведении и
3[2]
искусствознании, а также дает ценный материал для дальнейшего
обсуждения этой проблемы с позиций марксистско-ленинской науки.
Стремление
дать объективное представление о сущности спора о структурализме и основных
позициях его участников привело составителей к построению сборника по принципу «за»
и «против». Издания подобного рода, как известно, высоко ценил В. И. Ленин. В
рецензии на книгу Н. А. Рубакина «Среди книг» он высказал пожелание, «чтобы
автор почаще применял метод обращения к представителям разных течений во
всех областях знания». «От этого выиграют, — подчеркивал В. И. Ленин, —
точность и полнота работы да и объективность ее; от этого проиграют
только эклектицизм и прикрытая полемика»[3].
Следует, однако, сразу же предостеречь читателя от упрощенного понимания
внутренней полемичности сборника (первый раздел — «за», второй — «против»).
Реальное содержание многих публикуемых статей сложнее, диалектичнее. О книге же
в целом следует сказать, что принцип «за» и «против» выражен не только в ее
оглавлении, но и последовательно проведен через все содержание сборника. И это
составляет существенное достоинство настоящего издания. Концепции видных
западных структуралистов, работы которых представлены в первой части (Р.
Якобсон, Р. Барт, К. Леви-Стросс и др.), подвергнуты критическому рассмотрению с
марксистских позиций во второй части книги.
Сборник
посвящен современному зарубежному структурализму в науке о литературе и
искусстве; основная часть публикуемых в нем работ датируется периодом 60—70-х
годов. Хронологические рамки «современности» нарушены составителями лишь
дважды: в связи с включением в первый раздел предисловия Я. Мукаржовского «К
чешскому переводу ”Теории прозы“ Шкловского», а во второй раздел — двух статей
чехословацкого марксиста К. Конрада — «Диалектика содержания и формы. Марксистские
заметки о новом формализме» и «Еще раз о диалектике содержания и формы»,
представляющих собой «критику критики» Я. Мукаржовского. Своеобразный диалог
этих двух авторов относится еще к середине 30-х годов. Однако
4
читателю будет небезынтересно познакомиться, так сказать, с
первой реакцией марксистской мысли на формирование в западном литературоведении
и искусствознании структуральной методологии. Кроме того, оба автора — каждый
по-своему — освещают в своих работах еще один важный аспект темы, а именно — вопрос
о генетической связи современного структурализма с так называемой «формальной
школой» в советском литературоведении 20-х годов. С этой точки зрения
совершенно не случайно, что третьим, «незримым» участником диалога стал В.
Шкловский. Известный советский литературовед В. Шкловский являлся В 20-е годы
одним из лидеров формальной школы. Его книга «О теории прозы» (1925) была
программной для этого направления. По мнению Я. Мукаржовского, возникновение
структурализма в литературоведении явилось результатом радикального преодоления
формалистических крайностей ОПОЯЗа («Общество изучения поэтического языка», в
которое входили деятели формальной школы). Однако само содержание «Предисловия»
говорит скорее об обратном, и критика концепции Я. Мукаржовского, данная
чехословацким марксистом К. Конрадом, представляется вполне убедительной. В
дальнейшем взгляды Я. Мукаржовского (как, кстати, и В. Шкловского) существенно
и радикально видоизменялись[4].
Однако нам важно подчеркнуть здесь другое. И у многих современных западных
структуралистов нетрудно обнаружить элементы и тенденции формализма. Что,
впрочем, еще не дает оснований отождествлять литературоведческий структурализм
60—70-х годов с формализмом 20-х.
Одним из
признанных авторитетов современного литературоведческого структурализма на
Западе является крупный лингвист Р. Якобсон. В сборник включена его статья
«Лингвистика и поэтика», получившая широкую известность. Совместная работа Р.
Якобсона и К. Леви-Стросса о «Кошках» Ш. Бодлера включена в сборник как образец
конкретного применения структуралистской методологии к анализу поэтического
текста.
К
программным трудам Р. Якобсона, К. Леви-Стросса и Я. Мукаржовского
непосредственно примыкают штудии современных французских структурали-
5
стов — Ролана Барта и др. Как сам факт включения в сборник работ
этих авторов, так и особое внимание, уделяемое их концепциям в критически-дискуссионном
разделе сборника, имеют свои причины. Французский структурализм в гуманитарных
науках, наиболее крупным представителем которого является этнограф К.
Леви-Стросс, развивается в последние годы особенно интенсивно. Его
литературоведческую ветвь представляют своими работами, кроме упомянутого выше
Ролана Барта, также А. Греймас, Ю. Кристева, Ж. Деррида и др. Дискуссии
французских марксистов о структурализме привлекли внимание научной общественности
различных стран[5]. Французский
философ-коммунист Люсьен Сэв отмечает в связи с этим: «Как известно,
французские марксисты дали объективную и всестороннюю оценку места и роли
структурализма, что, разумеется, не исключает споров и дискуссий среди них по
ряду важных проблем, поставленных современными структуралистами»[6].
Во
втором разделе сборника помещены статьи французских марксистов Ш. Парэна и Ж.
Мунэна. Широко представлены также работы, принадлежащие ученым социалистических
стран — Чехословакии (Л. Штолл, И. Левый), Болгарии (П. Зарев, Хр. Тодоров),
ГДР (Р. Вейман), Польши (Я. Славиньский).
Предлагаемый
сборник — не антология зарубежного литературоведческого структурализма. Вниманию
читателя предлагается концептуально организованная, целостная книга. Отбор и
расположение материала подчинены одной цели: выявлению прежде всего методологических
посылок современного литературоведческого структурализма, выяснению
правомерности и реальной эффективности применения структурных приемов к анализу
искусства. В силу этого, несмотря на неизбежную ограниченность объема, книга
дает достаточно полное представление о сущности структурализма в
литературоведении и искусствознании. Вследствие этого сборник не дублирует, а существенно
до-
6
полняет другие переводные издания, освещающие более частные
вопросы методики и техники структуральных исследований искусства[7].
* * *
Актуальные
проблемы литературоведения и искусствознания необходимо рассматривать в связи с
общим развитием современного научного знания, с учетом его ведущих тенденций и
закономерностей. Для нынешнего этапа научно-технического прогресса характерна
глубокая дифференциация специальных дисциплин при одновременном тяготении их к
интеграции, к синтезу. Отсюда — стремление каждой из наук к самоопределению, к
уяснению своего специфического предмета и методов исследования, к выработке адекватного
категориального аппарата и т.д.; но отсюда же и тенденция различных дисциплин к
взаимопроникновению. Все глубже познавая материальное единство мира,
современная наука «наводит мосты» между самыми, казалось бы, удаленными друг от
друга предметными областями и сферами знания. Пограничные области, лежащие на
стыке наук, становятся полем наиболее активного исследовательского поиска. Все
яснее обнаруживается взаимодействие высших и низших форм движения материи в
пределах одного и того же объекта; в силу этого специфическая сложность данного
конкретного предмета или явления уже не является непреодолимым препятствием для
изучения его с использованием данных и методов смежных наук. Все более широкое
распространение получает комплексный подход к изучению сложных объектов, в том
числе и социальных.
Все эти
и другие реальные процессы, характерные для науки ХХ века, не могли не
затронуть и литературоведение и искусствознание (вслед за такими гуманитарными
науками, как лингвистика, этнография). А это в свою очередь выдвинуло на
передний план ряд серьезных методологических проблем. К их числу следует
отнести и те проблемы, которые связаны с дискуссией о структурно-семиотическом
подходе к искусству.
Одним из
центральных пунктов спора о структурализме является вопрос о правомерности
применения к
7
анализу искусства методов смежных наук. В самом общем виде такая
постановка вопроса едва ли вызывает возражения. Однако если учесть, что
конкретно речь идет о методах структурной лингвистики, общей теории систем,
семиотики, кибернетики, теории информации, математики и т.д. в применении к
гуманитарной области знания, то ответ может оказаться далеко не столь
однозначным. При этом отчетливо видна тенденция включить в круг «смежных» не
только, а иногда и не столько «традиционные», родственные искусствознанию
дисциплины (философия, социология, психология и др.), но и новые отрасли
знания, выдвинутые в последние десятилетия на передний план ходом научно-технического
прогресса. Эти новейшие науки являются дисциплинами с высоким уровнем научной
абстракции, с весьма широкой (хотя и не определяемой а priori) сферой применения.
К тому же, это науки «технизированные».
При
обсуждении данного вопроса, думается, нельзя не учитывать, что существующее
разграничение наук, гуманитарных и естественных, имеет конкретно-исторический
характер и свои фазы развития. «Впоследствии естествознание включит в себя
науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя
естествознание: это будет одна наука»[8].
Обобщая закономерности развития познания в условиях начавшейся
научно-технической революции, В. И. Ленин указал на то, что «могущественный ток
к обществоведению от естествознания… не менее, если не более, могущественным
остался и для ХХ века»[9].
Так или иначе, но с прогрессирующей тенденцией к интеграции, сближению и
взаимопроникновению наук не считаться нельзя.
Не
подлежит сомнению тот факт, что методы структуральных дисциплин являются
специальными, частными в сравнении с основополагающим философским методом
диалектического и исторического материализма. Акцентируя это принципиальное и
необходимое разграничение, иногда предлагают внести соответствующие коррективы
и в научную терминологию. В част-
8
ности, все нефилософские
исследовательские подходы и средства относят на этом основании к разряду конкретных
«методик», приемов. Мы со своей стороны хотели бы уточнить лишь саму постановку
вопроса. В сфере терминологии есть своя, марксистская традиция. В соответствии
с ней понятие научного метода связывается с отысканием новых результатов, с
переходом от известного к неизвестному. Уточняя терминологию, следует исходить
из того, приводят ли структуральные исследования, опирающиеся на указанные специальные
науки, к установлению новых, ранее неизвестных фактов, к новым, нетривиальным
обобщениям.
Но
существует и другая сторона вопроса. Метод философский и методы или методики
специальных наук, конечно, нельзя отождествлять, но нельзя и игнорировать
существующую между ними диалектическую взаимосвязь. Конкретно-научные методы
представляют собой своего рода конкретизацию философского метода. Думается,
именно поэтому решение проблем, связанных с применением в науке о литературе и
искусстве методов смежных наук, не является частным, внутренним делом одних
только специалистов-литературоведов и искусствоведов.
В статье
И. Левого «Теория информации и литературный процесс» затрагивается еще один
дискуссионный вопрос, связанный с терминологией, но отнюдь не чисто терминологического
характера. Не является ли использование научного, понятийного аппарата смежных
наук простой редукцией терминов, простым переименованием общеизвестных явлений
и моментов искусства? По мнению автора статьи, «замена традиционной литературоведческой
терминологии… приносит с собой изменение методологической точки зрения, а это
может дать новые результаты и там, где мы пока что пытаемся только
сформулировать основную систему понятий»[10].
Очевидно,
усвоение новой терминологии может быть как формальным, так и неформальным
актом. В. И. Ленин высмеивал «”биологические“ бирюльки» Р. Авенариуса, но он же
привел пример и совершенно иного рода, отмечая, что Ф. Энгельс «усвоил новый
для него термин» («энергия»). Принципиально важно то, что, по
характеристике В. И. Ленина, «Энгельс сумел
9
обогатить свой материализм, усвоив новую терминологию»[11].
Читатель,
без сомнения, обратит внимание на тот факт, что авторы статей первого раздела
сборника — это, так сказать, теоретизирующие специалисты в области
литературоведения и искусствознания, а также смежных наук — лингвистики,
этнографии и др. Как специалисты они исходят в своих работах из актуальных
потребностей своих наук, ищут пути решения конкретных проблем, пути преодоления
трудностей, возникающих в процессе познания. Как специалисты теоретизирующие,
они не могут не исходить из определенных философско-теоретических предпосылок и
так или иначе приходят к обобщениям, имеющим мировоззренческое, идеологическое
значение. «…Кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих,
отмечал В. И. Ленин, — тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для
себя «натыкаться» на эти общие вопросы»[12].
Это так же верно в применении к вопросам эстетики, как и к политике.
Вместе с
тем, как уже отмечалось выше, структуральные методы в литературоведении и
искусствознании применяются и обосновываются ныне и в работах
ученых-марксистов. По этой причине представляется неудачным обозначать одним и
тем же термином исследования, не только различные, но и противоположные по
своим исходным философско-теоретическим установкам.
Сказанное
выше особенно существенно для марксистского анализа концепций западных
структуралистов. Хотя структурализм в литературоведении и искусствознании
относится к теориям конкретно-научного уровня и, следовательно, его нельзя
смешивать со структурализмом философско-идеалистическим, тем не менее он
испытывает на себе воздействие этого последнего, а также и других течений буржуазной
философской мысли.
В
западном литературоведческом структурализме можно обнаружить влияние
кантианства (идеи априоризма и др.), а также неокантианства, особенно в том его
логистическом, рационалистическом варианте, кото-
10
рый развивала марбургская школа (Э. Кассирер и др.)[13].
Другим источником проникновения в структурализм идеалистических идей была и
остается феноменология. (В русле идей Э. Гуссерля развивалась и гештальтпсихология,
сыгравшая существенную роль в формировании литературоведческого
структурализма.) Но наиболее существенным для западного литературоведческого
структурализма является непосредственное или же опосредованное влияние·
неопозитивизма (в частности, логического позитивизма).
С идеями
неопозитивизма некоторые общетеоретические положения и выводы западных структуралистов
сближает абсолютизация методов специальных, прежде всего естественных, наук, и
даже отдельных логико-методологических процедур, применяемых в научном исследовании.
В силу объективной взаимозависимости предмета и метода любой науки подобная
абсолютизация оборачивается то неправомерным сужением, то столь же
неправомерным расширением предмета литературоведения и искусствознания. При
этом нередко имеет место довольно обычная для неопозитивизма онтологизация
абстрактных объектов науки (логических структур, «конструктов»). Что касается
философского структурализма, который получил распространение во Франции и
оказал определенное влияние на структурализм конкретно-научный, то следует
иметь в виду, что, по мнению специалистов-философов, «во Франции он фактически
занял место неопозитивизма, не пользовавшегося влиянием в этой стране»[14],
не выдвинув при этом никакой оригинальной «философии структуры» и лишь
объединив варианты кантианства, неопозитивизма и даже вульгарного материализма[15].
Такова
природа основных философских влияний, проявления которых можно обнаружить в
концепциях
11
западных структуралистов в литературоведении и искусствознании.
Исходным пунктом всех теоретических построений современного структурализма в литературоведении и искусствознании является специфика предмета исследования. Западные структуралисты выступают с требованием научного познания специфики искусства. Реальное содержание этого требования, как свидетельствует опыт, может быть весьма различным.
Как известно, по мнению деятелей формальной школы 20-х
годов, методология литературоведения должна была служить единственной цели —
выявлению специфичности самого предмета изучения, то есть литературы. Сопоставляя произведение
искусства с соответствующей ему внехудожественной реальностью, формалисты
обнаруживали в нем, с одной стороны, инертный, пассивный, несущественный и
безразличный «материал», а с другой — «приемы» его обработки художником,
составляющие, с их точки зрения, специфичное в нем как в явлении искусства.
Произведение искусства — это сумма приемов. Не следует забывать, что под
девизом «спецификума искусства» формалисты отрывали литературу как якобы
абсолютно независимый, имманентный «ряд» от других форм духовной культуры
общества, а также от ее гносеологической и социально-экономической основы.
Надо
сказать, что проблема специфики литературы и искусства существенна и с точки
зрения марксистского искусствознания. В связи с этим встает вопрос: как
выразить эту специфику логическими, понятийными средствами? Конечно, наука о
литературе не может ограничиться декларативным провозглашением тезиса о
специфике литературы, то есть истины в ее абстрактно-всеобщей форме. Отсюда понятен
интерес ученых к изучению конкретных элементов художественного произведения,
как его «высших», так и «низших» уровней. В этой связи уместно напомнить
известное положение из ленинского конспекта «Науки логики» Гегеля: «Прекрасная
формула: ”Не только абстрактно всеобщее, но всеобщее такое, которое воплощает в
себе богатство особенного, индивидуального, отдельного“ (все богатство особого
и отдельного!)!! Très bien ! »[16]
12
Определенную
роль в углубленном познании и раскрытии специфики литературы может сыграть и
структурный анализ художественных произведений. Многие ученые-марксисты
приходят к тому же, о чем справедливо пишет известный литературовед из ГДР Р.
Вейман: «Как показывает новейшая марксистская теория литературы, понятие
”структура“, то есть ”специфически "опредмеченная" функция“, вполне
может быть использовано для анализа реалистического искусства»[17].
Необходимо,
однако, подчеркнуть, что использование общенаучного понятия «структура», как и
родственных ему понятий, само по себе еще не характеризует сущность
структурального анализа в современном литературоведении и искусствознании.
Здесь необходимо сделать существенные уточнения и разграничения. Одно из
центральных понятий «системно-структурного подхода», понятие структуры несет
специфическую нагрузку в каждом из трех основных направлений такого подхода. В
этом смысле методология, восходящая в литературоведении к теоретическим
принципам таких деятелей ОПОЯЗа, как Ю. Н. Тынянов, ближе всего к
структурно-функциональному анализу. Собственно системный подход, развившийся
первоначально в биологии и технике, еще только начинает проникать в
литературоведение. Наиболее же активно применяется в науке о литературе та
модификация системно-структурного подхода, которая получила разработку в структурной
лингвистике и связана с именами Ф. де Соссюра, Л. Ельмслева, Н. Трубецкого, Р.
Якобсона, с традициями Пражского лингвистического кружка. Характеризуя это
направление в гуманитарных науках как «структурализм», И. В. Блауберг и Э. Г.
Юдин указывают, в частности, на следующие его черты: «Подчеркивая многообразие
и разнотипность функций объекта, структурализм приходит к двум важным методологическим
выводам: во-первых, он выдвигает задачу типологического анализа структур;
во-вторых, формулирует требование междисциплинарного, комплексного подхода к
предмету изучения. Поэтому, например, этнографический структурализм смыкается с
культурантропологией и теорией культуры, а лингвистический структурализм не
только пытается соединить
13
различные специально-научные аспекты изучения языка, но и
разрабатывает особый, семиотический подход к нему… Для структурализма
характерно стремление к широкому использованию математических и иных формальных
методов»[18]. Само формирование такого
подхода связано с общим для ряда гуманитарных наук переходом от
эмпирическо-описательного уровня к уровню абстрактно-теоретическому.
Выдвигаемая
структуралистами проблема соотношения научного литературоведения и литературной
критики, проблема «наука или искусство» применительно к теоретической модели
искусства — это реальные проблемы науки о литературе, тесно связанные с «переводом»
специфики объекта исследования на язык понятий. Но саму постановку вопроса следует
отделить от попыток ее некорректной интерпретации.
Плодотворен
ли структурный анализ литературно-художественных произведений? Оправданно ли
его применение в науке об искусстве? В этом суть проблемы. При решении этого
вопроса следует учесть факт существования целого ряда реальных гносеологических
сложностей, сопровождающих такой анализ. Обобщая критические доводы зарубежных
ученых-марксистов, перечислим наиболее уязвимые, по их мнению, аспекты
структурного анализа в литературоведении. При этом, оставаясь на почве теории,
будем иметь в виду и вытекающие отсюда практические следствия.
1.
Выявление структуры художественного произведения осуществляется средствами
абстрагирования, идеализации, формализации; побочным или даже основным
продуктом этой процедуры может стать примат схемы над живым художественным
содержанием. А это означало бы возврат к формализму.
Плодотворность
рационально осмысленного структурно-типологического подхода показал еще в 20-е
годы известный советский фольклорист В. Я. Пропп, избравший объектом изучения
вполне адекватный структурно-типологическому методу материал — волшебные сказки[19].
Однако эта, впоследствии признанная классиче-
14
ской, работа отнюдь не была образцом применения методологии
формализма. В. Я. Пропп исследовал типологию и связи безусловно содержательных
и безусловно типичных функций персонажей волшебной сказки. Не ограничившись
выведенной им структурной формулой сказки, он дополнил свою работу историческим
исследованием самого процесса формирования данной структуры. В настоящее время
типологические исследования в области литературы и искусства получили широкое
распространение.
2. При
забвении самого процесса абстрагирования и его исходного пункта возможно
сознательное или бессознательное превращение результата, то есть выявленных
абстрактных структур, в нечто гносеологически первичное. Это — идеалистический
априоризм.
3.
Структурализм подстерегает опасность возрождения принципиального
«антипсихологизма» формалистов. Этот тезис означал требование элиминировать из
искусства все, кроме самого произведения искусства. Субъект искусства (то есть
прежде всего художник), утверждали формалисты, является предметом изучения
социальных, якобы нестрогих в своих выводах наук, в частности психологии.
Именно через этот канал, по их мнению, проникали в науку о литературе
неспецифические для данной области факты, методологические подходы и
теоретические обобщения. Субъект искусства оказывался несущественным для строго
научного познания, а единственным достоверным источником знаний об искусстве
признавалось само художественное произведение. Такое программное требование
оставляло за пределами науки о литературе, науки об искусстве важнейшие
гносеологические, социальные и эстетические закономерности объекта исследования.
Тенденция
подобного «изоляционизма» в отношении самого художественного произведения наблюдается
и у современных западных литературоведов-структуралистов. Относительно
самостоятельный предмет исследования может, таким образом, быть превращен в
метафизически обособленную, замкнутую в самой себе сущность, в безличный,
бессубъектный «текст». («Ортодоксальный» антипсихологизм структуралистов
нарушается иногда обращением их к психоанализу.)
Подлинно
научная теория искусства немыслима без соответствующих глубоких исследований
как в области
15
социологии искусства, так и в
области психологии художественного творчества и восприятия. «…Всякое исследование
по искусству, — справедливо утверждает Л. С. Выготский, — всегда и непременно
вынуждено пользоваться теми или иными психологическими предпосылками и данными.
При отсутствии какой-нибудь законченной психологической теории искусства эти
исследования пользуются вульгарной обывательской психологией и домашними
наблюдениями»[20].
4.
Недиалектическое противопоставление логического и исторического, «синхронного»
и «диахронического » аспектов исследования может привести к полному поглощению
«диахронии» «синхронией». Это — позиция антиисторизма.
Работы
ученых-марксистов, помещенные в сборнике, со всей убедительностью показывают,
что эти «уязвимые точки» структуральной методологии составляют поистине
ахиллесову пяту западного структурализма.
Значительная
часть работ сборника посвящена проблемам поэтики. Среди них особое место
занимает упомянутая вначале статья Р. Якобсона — наиболее авторитетного
представителя структуралистской поэтики на Западе. Взгляды Р. Якобсона на
задачи поэтики и на взаимоотношение ее с лингвистикой являются развитием
теоретической программы Пражского лингвистического кружка, изложенной в
«Тезисах Пражского лингвистического кружка» (1929)[21].
Это относится прежде всего к якобсоновскому определению поэтической функции
языка, которое вполне соответствует духу и букве «Тезисов»: «Направленность (Einstellung) на сообщение, как таковое,
сосредоточение внимания на сообщении ради него самого — это поэтическая функция
языка»[22].
Расширяя традиционную структуралистскую дихотомию[23]
практического и поэтического языка, Р. Якобсон выделяет 6 функций языка,
связывая каждую из них с определенным аспектом процесса коммуникации. Анализ
этого последнего имеет и самостоятельное значение. Что
16
касается «референтивной функции»
языка, обращенной к действительности, то она не исключается из общей схемы,
однако она, по сути, бессильна против центростремительной силы, характерной для
поэтической функции и превращающей литературное произведение в своего рода
«вещь в себе».
В статье
содержится ряд небезынтересных и ценных наблюдений и замечаний, связанных с
конкретным анализом особенностей поэтического языка. Можно согласиться и с
заключительным афоризмом автора: «…Как лингвист, игнорирующий поэтическую
функцию языка, так и литературовед, равнодушный к лингвистическим проблемам и
незнакомый с лингвистическими методами, представляет собой вопиющий анахронизм»[24].
И тем не менее абсолютно неубедительны суждения автора, основная цель которых —
«отстоять права и обязанности лингвистики направлять исследование словесного
искусства в его полном объеме и во всех разветвлениях»[25].
Вопросам
теории поэтического языка посвящена и статья польского ученого Я. Славиньского.
Это своего рода введение в круг проблем «лингвистической поэтики», восходящей к
теории Пражского лингвистического кружка. Я. Славиньский делает оговорку, что
лингвистическая поэтика — всего лишь одна из концепций, существующих в этой области;
но ее преимущество, по мнению автора, состоит в том, что, «несомненно, это теоретически
наиболее четко сформулированная концепция»[26].
Систематизированный
обзор основных принципов, проблем и конкретных результатов, характеризующих
современное состояние структуралистской поэтики, читатель найдет в работе Цв.
Тодорова «Поэтика». Точка зрения автора находится, в общем и целом, в пределах
якобсоновского взгляда на поэтику. В изложении Цв. Тодорова особенно наглядно
обнаруживается характерная
17
для западного структурализма тенденция к поглощению
литературоведения поэтикой, а поэтики в свою очередь — структурной лингвистикой:
исторически первой формой общей «науки о тексте», по определению автора.
Фактически же речь идет о превращении «имманентного » структурализма, который
якобы один гарантирует познание любого объекта в его специфичности, объекта
«как такового», — в синоним самой науки и, далее, о «фатальной» неизбежности
поглощения структурализмом всех областей человеческого знания. Не разделяя
уверенности автора в том, что «методологический шаг, благодаря которому поэтика
конституируется как самостоятельная наука, безупречен»[27],
мы отвергаем и подобную абсолютизацию структурных методов.
Показательно,
что первая же попытка, предпринятая самим автором, применить столь
универсальную методологию за пределами структурной поэтики, оборачивается
невольной самокритикой. В разделе «Поэтика и эстетика» Цв. Тодоров стремится
расширить имманентно-структурный подход к произведению искусства, включив в
круг рассматриваемых проблем и вопрос об эстетических суждениях и оценках.
Однако многообразие эстетических оценок, по мнению автора статьи, в настоящее
время еще не может стать объектом строго научного анализа. Конечный вывод
структуралиста-литературоведа звучит релятивистски и субъективистски: «Вопрос
об эстетической ценности… произведений как таковых, самих по себе не имеет
смысла»[28].
Не
соглашаясь с Цв. Тодоровым как в вопросах общей методологии, так и в отдельных
существенных частностях, мы не обесцениваем в то же время обширный фактический
материал по вопросам структурной поэтики, собранный в его работе.
Художественное пространство и время, сюжет и композиция, способы повествования,
роль «точки зрения» и т.п. — освещение этих и многих других вопросов, связанных
с конкретной методикой литературоведческого анализа, несомненно, привлечет
внимание читателей и принесет известную пользу. Одновременно читатель найдет у
Цв. Тодорова и достаточно четкую формулировку ряда гносеологических проблем
литературоведческого исследования, что также
18
ценно несмотря на то, что принципиальное решение самим автором
многих поставленных вопросов представляется спорным.
Переходя
к работам, относящимся к семиотике искусства, необходимо указать на
определенную связь этого направления в структуралистских исследованиях как с
общим развитием научного знания, так и с некоторыми характерными тенденциями в
самом искусствознании.
ХХ век —
век широчайшего использования средств коммуникации. Их изучение обусловило интенсивный
рост дисциплин «коммуникативного цикла», прежде всего семиотики — науки о
знаковых системах. Почти сразу же были предприняты попытки применить аппарат
семиотики к искусству — специфическому средству общения людей. Чем, однако,
определяется интерес самих специалистов в области изучения искусства к семиотическим
методам?
Прежде всего бросается в глаза многочленность знаковой ситуации: субъект знаковой деятельности — знак (означающее) — значение (означаемое) — референт (денотат) — реципиент. Нечто аналогичное представляет собой и система искусства: художник — материальные средства воплощения произведения искусства — система значений; образующих художественное содержание, отображаемая объективная действительность — воспринимающий. Важно и другое: даже при специальном изучении одного из компонентов этой системы невозможно, да и нежелательно с точки зрения современного искусствознания, совершенно абстрагироваться от всех других. Ибо налицо их диалектическое взаимопроникновение: творец художественного произведения — одновременно и его первый реципиент; восприятие — в известной мере также и сотворчество; а, например, композиция произведения искусства — основной структурный закон организации художественного целого — одновременно и воплощает художническую концепцию автора, и создает «направляющие» для будущего восприятия произведения искусства. Налицо, таким образом, тенденция не только к дифференциации, но и к интеграции различных аспектов изучения искусства, тенденция, которую приходится иметь в виду при анализе любого элемента художественного произведения. Думается, что искусствоведы обращаются к знаковой ситуации как к своего рода мно-
19
гоаспектной эвристической модели коммуникации в искусстве. Их
привлекает, в частности, потенциальная или гипотетическая возможность
объединить на основе семиотической модели коммуникации (схемы, каркаса) данные
трех основных разделов искусствознания — теории художественного творчества,
художественного произведения и эстетического восприятия.
С другой
стороны, разработка общей теории искусства требует такого понятийного аппарата,
который был бы применим к различным видам искусства, а не к одному из них, хотя
бы и ведущему. И здесь теоретики искусства также возлагают известные надежды на
семиотику.
Имея в
виду сказанное, не следует, однако, забывать о том, что опыты разработки
семиотики искусства осуществляются на различной и даже противоположной
философско-методологической основе. Так, модная на Западе «семантическая
философия искусства» эксплуатирует интенсивное научное изучение проблем знака,
символа и языка не столько в интересах самого зарубежного искусствознания,
сколько с целью модернизации его идеалистической основы. С западной
«семантической эстетикой» не следует смешивать марксистские семиотические
исследования.
Работа
Р. Барта «Основы семиологии» представляет собой своего рода «Пролегомены» к
общей семиотике, а не исследование по семиотике искусства в собственном смысле.
Поскольку, однако, правомерность рассмотрения искусства как знаковой системы
носит все еще дискуссионный характер и нет однозначности в определении самого
знака, в классификации знаков и т.д., — постольку анализ понятий и принципов
семиологии имеет определенное значение и для семиотики искусства. Р. Барт
обсуждает вопрос о принципах построения общей семиологии, опираясь на учение
швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра о знаковости естественного языка и на
развитие этой идеи Л. Ельмслевом и др. в рамках структурной лингвистики. Р.
Барт исходит из постулата о зависимости всех нелингвистических знаковых систем
от естественного языка и считает, что структурная лингвистика должна быть прообразом
общей семиологии, а следовательно и семиотики искусства. В силу этих своих
особенностей его работа представляет существенный интерес и для понимания общей
методологии структура-
20
лизма, а также для уяснения связи между методами структурного анализа
и семиотикой. Однако следует иметь ввиду, что генетически и фактически
соссюровская лингвистическая традиция — отнюдь не единственный источник
семиотики вообще и семиотики искусства в частности[29].
В
статьях Р. Веймана и Хр. Тодорова, содержащих критическую оценку взглядов Р.
Барта, выдвинуты принципиальные возражения, в частности, и против семиотических
идей и построений французского ученого. В то же время в статье самого Р.
Веймана читатель найдет элементы марксистского осмысления и позитивной разработки
проблем семиотики искусства.
Одной из
наиболее оригинальных работ первого раздела сборника является, на наш взгляд,
статья Я. Мукаржовского «Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве».
Семиотический подход служит автору отправным пунктом для того, чтобы
исследовать важную проблему теоретического искусствознания — проблему
художественной целесообразности, в единстве и взаимообусловленности трех ее
основных аспектов: целесообразность в творческом процессе; целесообразная
организация структуры художественного произведения; осознание последней в
процессе эстетического восприятия[30].
Я.
Мукаржовский вполне правомерно рассматривает произведение искусства как
органическое смысловое единство, существующее благодаря взаимодействию и
взаимозависимости всех его компонентов, относимых как к форме, так и к
содержанию. Однако подчеркивание им
21
«самоцельности» художественного
произведения — это дань идеям имманентности искусства, а настойчиво проводимая
дихотомия «знака» и «вещи» в применении к художественному произведению восходит
— не только по форме, но и по существу — к противопоставлению (хотя и
смягченному) «материала» и «приема» у формалистов.
Вопреки
субъективному стремлению Я. Мукаржовского противопоставить семантический подход
к искусству — психологическому[31],
автор фактически анализирует, в связи с категорией целесообразности, также и
психологию художественного творчества и эстетического восприятия. Множество
интересных наблюдений автора из области истории искусства, ряд оригинальных
мыслей представляют ценность как в плане постановки вопросов, так и для
уяснения подходов к их решению. В современной психологии, в теории средств
массовой коммуникации, в психолингвистике (в связи с восприятием речи) все
большее внимание исследователей привлекает проблема осмысленности восприятия,
проблема понимания. Статья Я. Мукаржовского стимулирует изучение аналогичных
явлений и аспектов применительно к коммуникации в искусстве (проблема
«мотивированности — немотивированности»[32] в
искусстве и др.).
Однако,
подчеркивая активность воспринимающего сознания по отношению к произведению
искусства, Я. Мукаржовский абсолютизирует ее. Нельзя согласиться например, с
его утверждением о том, что «художественное произведение и ”означает“ жизненный
опыт воспринимающего»[33].
Здесь активность восприятия трактуется в духе гуссерлианской «интенциональности
сознания». Сознание воспринимающего якобы творит содержание произведения
искусства в процессе самого восприятия «знака». Именно такой смысл имеет
вводимое Я. Мукаржовским понятие «семантический жест».
Неправомерно
также чрезмерное противопоставление восприятия произведения искусства (хотя бы
и с включением в него авторского восприятия) творчеству, что в контексте статьи
Я. Мукаржовского равносильно подчинению второго первому. Слишком абстрактное утверждение
в правах «непреднамеренности» (нецелесообраз-
22
ности) в искусстве, якобы всегда оправдываемое впоследствии его
историческим развитием, ведет — хотел того автор или нет — к оправданию
алогизма и формализма в модернистском искусстве.
Статья
чехословацкого литературоведа И. Левого (уже упомянутая выше) посвящена
обоснованию теоретико-информационного подхода к изучению литературного процесса.
Написанная ученым-марксистом, она выгодно отличается от многих других работ
аналогичного направления, изданных на Западе, — строгостью, выдержанностью
научной методологии, стремлением к четкой экспликации вводимых понятий, живым
ощущением материала литературы. Определяя онтологическую и гносеологическую
основу «содружества» наук общественных и естественных, технических, И. Левый
опирается на принцип материального единства мира, на теорию отражения. В то же
время в своих выводах автор справедливо предостерегает против преувеличения
значения кибернетических и математических методов в исследовании литературы и
искусства.
Марксистский
анализ литературоведческого и искусствоведческого структурализма требует от
исследователя серьезной философско-теоретической подготовки. Общая методология
критического анализа концепции подобного рода разработана и с успехом применена
на практике классиками марксизма-ленинизма. Ее суть состоит в выявлении реальной
проблематики, как гносеологической, так и конкретно-научной, вокруг которой
идет идейная борьба, в обнажении гносеологических и социальных корней тех или
иных «шатаний мысли», в решительном отсечении реакционных тенденций и в
одновременном использовании специальных научных достижений с позиций
марксистско-ленинской партийности. Выступающие на страницах сборника
ученые-марксисты сознательно следуют этой методологии. В частности, К. Конрад,
дав оценку формализму В. Шкловского периода 20-х годов и приступая к
критическому анализу структуралистских взглядов Я. Мукаржовского середины 30-х
годов, подчеркивает: «И тут тоже нам надо строго отделять анализ от
гносеологии»[34]. Критический анализ литературоведческого
структурализма требует от теоретика, кроме того, достаточной подготовки и в
специаль-
23
ных областях современного
научного знания. Следует отметить, что включенные в сборник марксистские работы
в своей совокупности отвечают этим высоким критериям.
* * *
Широта и
специфичность проблематики сборника, обилие различных точек зрения,
полемичность публикуемых работ — все это представляет немалые трудности и для
читателя. В преодолении их ему, несомненно, окажет существенную помощь справочный
аппарат книги, состоящий из научных комментариев и словаря терминов
французского структурализма (автор комментариев и составитель словаря И. П.
Ильин).
Что
касается самого полемического характера книги, то в заключение хотелось бы еще
раз вернуться к упомянутой в самом начале рецензии В. И. Ленина на книгу Н. А.
Рубакина. Последний писал, что, по его мнению, «в огромнейшем числе случаев
полемика — один из лучших способов затемнения истины посредством всякого рода
человеческих эмоций». Возражая Н. А. Рубакину, В. И. Ленин говорил: «Автор не
догадывается, во-1-х, что без ”человеческих эмоций“ никогда не бывало, нет и
быть не может человеческого искания истины. Автор забывает, во-2-х, что он
хочет дать обзор ”истории идей“, а история идей есть история смены и,
следовательно, борьбы идей»[35].
И читатель, вне всякого сомнения, сумеет отличить принципиальную полемику между
западными структуралистами и представителями марксистского искусствознания, —
полемику по самым коренным, концептуально-методологическим вопросам, — от
дискуссионно-полемических моментов, естественно, имеющих место в ходе
творческого обмена мнениями между учеными-марксистами.
В. Крутоус
©
Издательство «Прогресс», 1975, предисловие
[24]
ПРОБЛЕМЫ
И МЕТОДЫ
К ЧЕШСКОМУ ПЕРЕВОДУ
«ТЕОРИИ ПРОЗЫ» ШКЛОВСКОГО[36]
[…]
Попытаемся прежде всего обрисовать первоначальный облик книги Шкловского. Она
появилась в 1925 году, но все вошедшие в нее статьи были написаны и
опубликованы задолго до этой даты, начиная c 1917 года. Таким образом, место ее
возникновения — Россия в период революции и в годы, непосредственно следующие
за ней, Россия, полная беспокойства и брожения. В европейской литературной
науке вплоть до этого момента почти неограниченно господствуют направления,
отличительной чертой которых является недооценка важности художественной
стороны произведения: одни понимают литературу как простое отражение истории
идеологии или культуры в широком смысле слова, другие интерпретируют
поэтическое произведение как документ о внешней или внутренней жизни поэта,
наконец, третьи, если что и признают за ним, так только значение простого
комментария к общественному или даже экономическому процессу. Правда, в России,
где существует старая традиция интереса к художественному построению, сильные
позиции занимает школа Потебни*, которая, будучи порождена научной тенденцией,
параллельной символистскому поэтическому движению, интерпретирует
художественное произведение как образ, но тем самым и она превращает
художественную сторону во что-то второстепенное, делает художественное
произведение пассивным отблеском чего-то, находящегося за пределами искусства,
не различает в
27
достаточной мере специфическую функцию поэтического языка от
функции коммуникативного высказывания: Шкловский же — член группы молодых ученых
большей частью лингвистической ориентации, которые — опять-таки в тесном
содружестве со своими сверстникам из художественной среды — защищают принципиальный
тезис о том, что свойство, делающее поэтическое произведение художественным творением,
существенно отделяет его от любого коммуникативного высказывания и что именно
это свойство должно стать главным предметом и стержнем научного изучения
литературы.
«Теория
прозы» — боевой вызов, адресованный тем, кто не делает различия между
поэтическим языком и высказыванием, подчиненным сообщению. Это книга атакующая,
написанная так, чтобы голос ее не был заглушен даже гулом событий. Тем не менее
это плод тщательной подготовки; любая библиография русского «формалистического»
движения покажет, что ей предшествовали и одновременно с ней продолжали
создаваться труды всей названной группы исследователей, посвященные детальной
разработке некоторых специальных проблем. В момент, когда писалась книга
Шкловского, можно было уже отважиться на известную популяризацию результатов
специальных исследований, хотя восприятие ее и требовало от читателя
значительных интеллектуальных усилий. Поэтому обзор основных принципов выглядел
как канонада парадоксов, и угол падения каждого снаряда был заранее точно
рассчитан. Писатель обращается скорее к литературной общественности, чем к
специалистам. Но при этом от публики требуется, чтобы из обрывочных намеков она
угадала общий план и направление атаки. Вместо обширных доказательств у
Шкловского иллюстрации-синекдохи. Поэтический материал к ним Шкловский выбрал
без особой оглядки на привычные вкусы, скорее, со стремлением к плакатной
выразительности: из произведений — старых и современных — он отдает
предпочтение тем, которые дразнят и удивляют, перед такими, грани которых
сглажены либо рукой творца, либо в результате длительных странствий по
руководствам и антологиям. Да и с противником Шкловский не миндальничает: не
задумываясь, он доводит его мнение ad absurdum[37].
Насколько возможно
28
резко и вызывающе говорит он, что искусство не служит ничему
иному, кроме своего назначения быть искусством; с воодушевлением рассказывает
анекдот о принце, который прекрасной невесте предпочел танец на руках.
Композиция и стиль «Теории прозы» строятся на слабой сочинительной связи
предложений и целых абзацев, а отнюдь не на последовательном подчинительном их
соединении. Как пристрастие к парадоксам, так и обрывочные формулировки могут
дезориентировать читателя в условиях чешской среды, где сам характер языка ведет
к экспликативному выражению, допускающему сдержанные оговорки и осторожные
ограничения.
Но
главное, что сейчас мешает у нас адекватному пониманию книги Шкловского, — это
ее «формализм», или, лучше сказать, фантом формализма. Не будем забывать, что
это название было боевым лозунгом в момент выступления группы, к которой
принадлежал Шкловский, и потому оно претендует на уважение, которое мы питаем
к знаменам, побывавшим в битвах. Но
поскольку своей односторонностью оно наносит урон самому делу, особенно в
глазах нашей общественности, для которой слово «формализм» до сих пор живо
ассоциируется с гербартовской эстетикой, необходимо демаскировать его как
всего-навсего слово, нужно показать, что, даже в то время, когда оно
принималось за формулировку программы, действительному положению вещей оно не
соответствовало.
Нельзя
отрицать, в «Теории прозы» есть несколько мест, которые доставили бы радость
сердцу ортодоксальных формалистов — гербартианцев. Например, такое (стр. 223):
«Литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь, не материал, а
отношение материалов. И как всякое отношение, это отношение нулевого измерения.
Поэтому безразличен масштаб произведения, арифметическое значение его числителя
и знаменателя, важно их отношение. Шутливые, трагические, мировые, комнатные
произведения, противопоставления мира миру или кошки камню равны между собой»[38].
Но нужно принять во внимание, что для Шкловского прежде всего важно было нащупать
в «материальном» произведении очертания эстетического объекта (структуры),
29
который хотя и связан с произведением , но существует в сознании
коллектива; отсюда высказывание, что литературное произведение «есть не вещь».
Обратившись к терминологии и понятиям, оказавшимся под рукой, он воспользовался
гербартовским формализмом как трамплином[39].
По сути
же дела, его работа — первый шаг к преодолению формализма, и кажущаяся
односторонность этой книги вытекает из ее полемического характера:
безоговорочному акцентированию «содержания» необходимо было противопоставить
антитезис, акцентирующий «форму», чтобы можно было достичь синтеза и того и
другого — структурализма. Шкловский шел к нему с самого начала. Так, например,
важно и характерно его высказывание (стр. 225) о том, что содержание
произведения равно сумме его стилистических методов. Дело в том, что понятие
«формы», в содержание которой включаются стилистические методы (приемы),
сохраняет на самом деле «формалистический» характер лишь до тех пор, пока
делается различие между формой как оболочкой и содержанием как ядром. Едва
только мы перестаем противопоставлять их, едва провозглашаем формой все, что
есть в произведении, изменяется ее смысл и следовало бы изменить и ее словесное
обозначение. Но если это так, как мы говорим, нельзя упрекать Шкловского, что
он ограничивает свое внимание лишь частью произведения, к тому же еще менее
существенной (ибо оболочка считается менее важной, чем ядро, которое она
обволакивает). Мы не говорим, что точка зрения, отстаиваемая в «Теории прозы»,
не подлежит никаким возражениям. Мы сознаем, что тезису «Все в произведении
есть форма» можно и даже нужно противопоставить антитезис «Все в произведении
есть содержание», также относящийся ко всем элементам, и после этого искать
синтез и того и другого, как это пытается делать современный структурализм; но
мы хотим показать, что призрак формализма заслоняет от критиков вклад
Шкловского и его соратников в науку. Установить это важно,
30
поскольку большинство возражений, адресованных у нас Шкловскому,
затрагивает отнюдь не его специфические взгляды, а фантом — к тому же
вульгаризированный — эстетического гербартианства.
В
качестве доказательства того, что у Шкловского понимание формы, собственно,
включает в себя весь объем поэтического произведения, можно было бы
процитировать бесчисленное множество мест из отдельных статей его книги.
Удовлетворимся несколькими ссылками, На стр. 117 (при анализе «Дон Кихота»
Сервантеса) эмоциональная оценка рассматривается как композиционный элемент
романа. Так вот, термин «композиция», если понимать его действительно
формалистически, означает архитектуру произведения, то есть взаимоотношение и
соединение его частей, обусловленные, например, их, разными или одинаковыми
размерами, регулярностью или нерегулярностью их последовательности и т.д. Но
если в качестве композиционного элемента приводится эмоциональная оценка, форма
перестает быть сама собой: эмоциональная оценка явно относится к содержанию. В
другом месте речь идет о композиционном использовании времени или тайны в
эпическом действии (стр. 120) или даже о композиционном обосновании выбора
темы: так, например, на странице 225 говорится, что при сменах поэтических школ
для той из них, которая вновь вступает в литературу, запрещены темы,
облюбованные предшествующей школой, причем явно не 'потому, что соответствующие
им ситуации перестали существовать в «жизни», а потому, что речь идет об
обновлении построения произведения. Еще в одном месте (стр. 110) говорится о
чувстве реальности как композиционном факторе. Тем самым понятие композиции
приобретает неформалистическую окраску: речь идет уже не об архитектуре
(пропорции и последовательности частей), а об организации смысловой стороны
произведения. В духе Шкловского можно было бы дать такое определение:
«Композиция есть комплекс средств, характеризующих поэтическое произведение как
значимое целое». Значение же и в обычном понимании есть составная часть содержания,
а не формы, и поэтому книгу Шкловского, наполняющую понятие композиции новым
содержанием, можно назвать первым шагом к преодолению в процессе развития науки
противоположности между формальным пониманием искусства и таким
31
пониманием, которое в первую очередь исходит из содержания.
Насколько
было важно преодолеть традиционное понимание формы как всего лишь оболочки,
станет ясным при сравнении с теорией (и историей) изобразительного искусства.
Эта наука значительно раньше, чем теория и история литературы, усвоила, что
нельзя пренебрегать тем, что делает художественное произведение фактом
искусства, то есть его специфическим построением. Но она слишком надолго оставалась
во власти гербартианского понимания формы, и потому до сих пор, несмотря на
блестящие результаты, которых она достигла, ей недостает и понимания функции
темы как значения в общем построении произведения, и умения оценить смысловое
(семантическое) значение тех элементов, которые принято называть формальными.
Этот
недостаток менее ощутим при изучении нетематического искусства, каким является
архитектура, чем при изучении явно тематической живописи, особенно нескольких
ее жанров, таких, например, как иллюстрация или портрет, специфический характер
которых определяется как раз известными их смысловыми свойствами. Пониманием
структуры художественного произведения как сложного смыслового построения наука
о литературе не только догнала, но и перегнала теорию изобразительного
искусства.
Все это
необходимо было сказать в объяснение беспокойной и вызывающей беспокойство
книги Шкловского, а частично и всего периода в теории и истории литературы,
который принято называть «формалистическим». Мы попытались обрисовать, как
книга Шкловского функционировала в среде, для которой была написана, и на том
этапе научного развития, к которому она относится согласно дате своего возникновения.
Но теперь нужно сопоставить ее с результатами дальнейшего научного развития.
Упоминая
о развитии, мы уже заранее даем понять, что сейчас нельзя и не нужно принимать
без оговорок все утверждении Шкловского, даже если мы сходимся с ним в основной
направленности. Ценность его книги заключается не только в сказанном им верно и
надолго, но и в том, что было сформулировано с бескомпромиссной односторонностью
в пику противоположной односторонности предшественников: только радикальное ак-
32
центирование противоположностей
позволяет их преодолеть.
Вернемся
к мысли Шкловского, завершающей предисловие: «Я занимаюсь в теории литературы исследованием
внутренних законов ее. Если провести заводскую параллель, то я интересуюсь не
положением мирового хлопчатобумажного рынка, не политикой трестов, а только
номерами пряжи и способами ее ткать»[40].
Различие между точкой зрения сегодняшнего структурализма процитированным формалистическим
тезисом можно было бы выразить так: хотя «способы тканья» и сейчас остаются в
центре внимания, но в то же время уже ясно, что нельзя абстрагироваться от
«положения мирового хлопчатобумажного рынка», поскольку развитие ткачества — и
в прямом смысле — подчинено не только развитию техники производства тканей
(внутренней закономерности развивающегося ряда), но вместе с тем и потребностям
рынка, спросу и предложению; о литературе можно сказать mutatis mutandis[41]
то же самое. Таким образом, открывается новая перспектива перед историей
литературы: она может теперь одновременно учитывать и последовательное развитие
поэтической структуры, обусловленное перегруппировкой элементов, и
вмешательства извне, которые, не представляя собой внутренних двигателей
развития, тем однозначнее определяют каждую из его фаз. С этой точки зрения
каждый литературный факт предстает как равнодействующая двух сил: внутренней
динамики структуры и внешнего вмешательства. Ошибка традиционной истории
литературы состояла в том, что она принимала во внимание внешние вмешательства
и отказывала литературе в автономном развитии, односторонность же формализма в
том, что он помещал литературный процесс в безвоздушное пространство. Позиция
формализма при всей ее односторонности была кардинальным завоеванием, поскольку
она обнаружила специфический характер литературной эволюции и освободила
историю литературы от паразитарной зависимости по отношению к общей истории
культуры, а порой и по отношению к истории идеологии или общества. Структурализм,
как синтез обеих названных противоположностей, хотя и со-
33
храняет постулат автономного развития, но не обедняет
литературу, лишая ее связей с внешним миром; поэтому он позволяет охватить развитие
литературы во всей его широте и закономерности.
Вернемся
еще раз к цитате о производстве тканей, чтобы подчеркнуть, что и «положение
хлопчатобумажного рынка», то есть то, что находится вне литературы, но связано
с ней, не представляет само по себе хаос, а подчиняется строгому порядку и
обладает собственным закономерным развитием точно так же, как «способы тканья»,
то есть внутренний строй поэтического произведения. Область социальных явлений,
в которую в качестве ее элемента входит литература, складывается из множества
рядов (структур), развивающихся самостоятельно; таковы, например, наука,
политика, экономика, общественное расслоение, язык, мораль, религия и т.д.; но,
несмотря на свою автономность, отдельные ряды воздействуют друг на друга. Если
мы в качестве исходного пункта возьмем любой из них с целью изучения его
функций, то есть воздействия на иные ряды, то окажется, что и эти функции
составляют структуру, что и они постоянно перегруппировываются и взаимно
уравновешиваются. Поэтому ни одна из них не может быть априорно поставлена над
другими, ибо в их взаимоотношениях в процессе развития происходят различные
сдвиги. Но нельзя также недооценивать основополагающее значение и особый
характер специфической функции данного ряда (в поэтическом искусстве это
функция эстетическая, связанная с поэтическим произведением как эстетическим объектом),
поскольку при полном ее подавлении ряд перестал бы быть самим собой (например,
поэтическое искусство — искусством).
Специфическая
функция любого ряда обусловлена не его воздействием на другие ряды, а,
наоборот, стремлением самого данного ряда к автономности. Здесь не место для
подробного изложения принципов, которые структуральное понимание вносит в
изучение функций[42]; мы только старались дать
понять, что структурализму
34
вполне доступно и поле деятельности литературной социологии.
Итак,
структурализм не ограничивает историю литературы лишь анализом «формы» и не
находится ни в малейшем противоречии с социологическим исследованием
литературы; он не сужает объем материала и богатство проблем, но настаивает на
требовании, чтобы научное изучение не рассматривало свой материал как
статический и раздробленный хаос явлений, понимало бы каждое явление как равнодействующую
и источник динамических импульсов, а целое как сложную взаимную игру сил. Мы
напоминаем, наконец, что структурализм в теории и истории литературы не
представляет собой единственного исключения: приходя к нему, изучение
литературы лишь присоединяется к общей тенденции современного научного
мышления; почти на всей территории современной науки открытие динамических отношений,
которыми пронизан научный материализм, оправдывает себя как действенный
методологический прием; так обстоит, например, дело в науках об искусстве и в
общей эстетике, в психологии, социологии, языкознании, политэкономии и даже в
естественных науках.
Мы
заговорили о структурализме и, казалось бы, отклонились от книги Шкловского и
формализма. Дело в том, что Шкловский намеренно ограничил свой горизонт
пределами литературной структуры и категорически запретил себе переступать эти
границы. Это было совершенно естественно и необходимо; сначала нужно было все
внимание сосредоточить на точке, которая была наиболее далека от интересов
предшествующей истории литературы, то есть на внутреннем строении и
специфической функции поэтического произведения, ибо лишь при таком ограничении
и с этой точки можно было привести в движение всю систему научных понятий.
Только
позднее, когда новая гносеологическая тенденция утвердилась в своих принципах,
можно было постепенно вернуться к традиционным проблемам изучения литературы,
уже не опасаясь, что прежний, автоматизированный способ их понимания приведет
исследователя к компромиссному методическому эклектизму.
Но книга
Шкловского и труды его соратников полностью
35
выполнили свою первопроходческую задачу. Они параллельно с
литературоведением других стран, в том числе и нашей[43],
открыли новую область исследования и, кроме того, заняли гносеологическую
позицию, с которой материал литературного изучения и вся его проблематика
предстали в новом свете.
1934
[36]
ПОЭТИКА[44]
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ПОЭТИКА»
Чтобы
понять, что такое структурная поэтика, лучше всего начать с довольно общей и
неизбежно несколько упрощенной картины современных литературоведческих
исследований. Причем для этого вовсе не обязательно углубляться в описание
реально существующих течений и школ; достаточно указать на позиции, занимаемые
ими по важнейшим теоретическим вопросам.
С самого
начала необходимо различать два самых общих возможных подхода к проблеме.
Первый удовлетворяется изучением литературного текст, как такового; согласно
второму каждое отдельное произведение рассматривается как проявление некой
абстрактной структуры. (При этом я сразу же исключаю из рассмотрения,
во-первых, биографические исследования и, во-вторых, работы, написанные в журналистско-эссеистском
стиле). Эти два подхода, как мы увидим, не являются несовместимыми; можно даже
сказать, что они взаимно дополняют друг друга; однако в зависимости от того, на
чем делается основной акцент, всегда можно сказать, с каким из них мы имеем
дело.
Остановимся
сначала на первом из вышеуказанных подходов, согласно которому литературное произведение
представляет собой единственный объект, а его описание — конечную цель
исследования. Будем называть в дальнейшем этот подход истолкованием, или интерпретацией.
Интерпретация,
которую иногда называют также толкованием, комментированием, разъяснением
текста, прочтением, анализом и, наконец, просто критикой (по-
37
становка этих терминов в один ряд не означает, что их невозможно
различать или даже противопоставлять друг другу), определяется (в том смысле, в
каком мы будем ее здесь понимать) ее целью, которая состоит в экспликации
смысла изучаемого произведения. Это предопределяет как тот идеал, к
которому стремится интерпретация (изучаемый текст следует заставить говорить за
себя, иными словами, создавая текст исследования, сохранить верность
изучаемому, другому тексту, другому объекту при полном
самоустранении субъекта исследования), так и ее драму (невозможность постичь единственный
и подлинный смысл произведения и необходимость ограничиться констатацией
лишь одного из многих возможных — смыслов, обусловленного
историческими и психологическими обстоятельствами). Идеал и драма, модуляции
которых можно наблюдать на протяжении всей истории комментирования литературных
текстов, то есть, по сути дела, на протяжении всей истории человечества.
Дело в
том, что истолковать произведение (независимо от того, литературное это
произведение или нет), как таковое и замкнутое в себе, не выходя за его пределы
ни на мгновение и не проецируя его ни на какой иной объект, кроме него самого,
— задача в некотором смысле невыполнимая. Точнее, задача эта выполнима, но
тогда описанием художественного произведения оказывается точное повторение
описываемого текста. Такое описание настолько полно принимает форму самого
произведения, что они сливаются друг с другом. Поэтому в каком-то смысле можно
считать, что лучшим описанием произведения является оно само. Максимальным
приближением к такому идеальному, но незримому описанию является обычное чтение
— в той мере, в какой оно остается лишь манифестацией произведения. Однако уже
самый процесс чтения вещь не такая простая и безобидная: два прочтения одной и
той же книги никогда не совпадают. Читая, человек как бы мысленно набрасывает свой
собственный текст, пересоздает читаемое, добавляя и опуская то, что он хочет
или не хочет в нем видеть; с появлением читателя чтение теряет свою
имманентность.
Что же говорить тогда о том реальном, а не мысленном пересоздании текста, каковым является художественная критика, независимо от того, вдохновляется
38
ли она научными или художественными задачами? Как можно написать
новый текст, не отклоняясь от некоторого другого текста, оставляя этот
последний совершенно нетронутым? Как можно создать произведение, имманентное
некоторому другому произведению? Так как критика представляет собой не только
чтение, но и пересоздание текста, она неизбежно содержит нечто, чего не было в
описываемом произведении, даже если она претендует на полную адекватность ему.
Поскольку критик пишет собственную книгу, постольку он подменяет ею ту, которой
она посвящена. Разумеется, такого рода отступления от принципа имманентности
могут быть более или менее значительными.
Мечтой
позитивистского направления в гуманитарных науках всегда было различить и даже
противопоставить интерпретацию как нечто субъективное, уязвимое, произвольное —
описанию как чему-то надежному и строго определенному. Начиная с XIX столетия
выдвигались различные проекты создания «научной критики», которая, освободившись
от какой бы то ни было интерпретации», превратилась бы в чистое «описание»
литературных произведений. Однако лишь только такие «строгие описания»
появлялись на свет, публика спешила забыть их, как если бы они ничем не
отличались от критики старого толка; и в этом она не ошибалась. Знаковые
объекты, с которыми имеет дело интерпретация, не поддаются «описанию», если понимать
его в смысле полной и абсолютной объективности. Именно так и обстоит дело в
литературных исследованиях: вещи, допускающие объективное «описание» —
количество слов, слогов или звуков, — ничего не дают для выявления смысла
произведения; и, наоборот, в сфере смысла «объективные» подсчеты и измерения
практически бесполезны.
Однако
сказать, что «все — интерпретация», не значит объявить все интерпретации
равноценными. Чтение — это своего рода путешествие в пространстве текста, —
путешествие, маршрут которого не ограничивается последовательным перебором букв
— слева направо и сверху вниз (только на этом уровне выбор маршрута является
единственно возможным, почему текст и не имеет лишь одного-единственного подлинного
смысла), но, напротив, разъединяет соседние и объединяет далекие друг от друга
отрезки текста, — процесс, которому
39
текст и обязан своей пространственной, а не линейной организацией.
Знаменитый «герменевтический круг», предполагающий одновременное присутствие
целого и всех его частей, но тем самым и исключающий наличие у текста
абсолютного начала, сам по себе уже свидетельствует в пользу принципиальной
множественности интерпретаций. Однако и разные «круги» опять-таки неравноценны;
одни из них проходят через большее, а другие через меньшее число точек в
пространстве текста, игнорируя соответственно меньшее или большее количество
его элементов. И мы из практики прекрасно знаем, что прочтение текста может
быть более или менее адекватным, даже если оно никогда не бывает адекватным в
полной мере. Различие между интерпретацией и описанием (смысла) носит
количественный а не качественный характер; но от этого оно не теряет
методологической ценности.
Если в
качестве общего обозначения для литературоведческих исследований первого типа
естественно использовать термин интерпретация, то названный выше второй
подход к изучению литературы лучше всего соотносится с наукой в широком
смысле слова. Употребляя здесь это слово, которое не вызывает восторга у, так
сказать, «среднего литературоведа», мы имеем в виду не столько степень точности
соответствующих исследований (неизбежно весьма относительную), сколько
характерную для них общетеоретическую установку: в этом случае объектом
становится уже не описание отдельного произведения, выявление его смысла, а
установление общих законов, по которым строятся такие произведения, в
частности, данное произведение. В рамках этого второго подхода различается
несколько более частных направлений, на первый взгляд, довольно далеких друг от
друга. Действительно, здесь соседствуют исследования по психологии и психоанализу,
по социологии и этнологии, а также философские исследования и история идей. Во
всех этих работах полностью отрицается автономность литературного произведения,
которое рассматривается как результат действия внелитературных закономерностей,
относящихся к сфере психики, общественной жизни или так называемого
«человеческого духа». Задачей ученого оказывается, таким образом, выражение
смысла художественного произведения в виде высказывания на некотором более
40
глубинном языке, выбранном для этой цели; анализ художественного
произведения оказывается сродни дешифровке и переводу; поскольку произведение
воплощает «нечто», постольку задача исследователя — добраться до этого «нечто»,
расшифровать поэтический код. В зависимости от того, какую природу имеет это
«нечто» — философскую, психологическую, социологическую или какую-либо иную, —
исследование рассматриваемого типа может быть сочтено относящимся к
соответствующим областям знания (соответствующим «наукам»), каждая из которых,
разумеется, имеет множество подразделений. На статус научных эти исследования
могут претендовать в той мере, в какой их объектом являются некоторые общие
законы (психологические, социологические и пр.), а не отдельные факты,
иллюстрирующие эти законы.
Поэтика разрушает устанавливаемую таким
образом симметрию между интерпретацией и наукой в сфере литературоведческих исследований.
В отличие от интерпретации отдельных произведений она стремится не к выяснению
их смысла, а к познанию тех закономерностей, которые обуславливают их
появление. С другой стороны, в отличие от таких наук, как психология,
социология и т.п., она ищет эти законы внутри самой литературы. Таким образом,
поэтика воплощает одновременно и «абстрактный» подход к литературе и подход
«изнутри».
Объектом
структурной поэтики является не литературное произведение само по себе: ее
интересуют свойства того особого типа высказываний, каким является литературный
текст (discours 1itteraire). Всякое произведение рассматривается, таким
образом, только как реализация некой гораздо более абстрактной структуры,
причем только как одна из возможных ее реализаций. Именно в этом смысле структурная
поэтика интересуется уже не реальными, а возможными литературными
произведениями; иными словами, ее интересует то абстрактное свойство, которое
является отличительным признаком литературного факта, — свойство литературности.
В задачу исследований такого рода входит уже не пересказ или обоснованное
резюме литературного произведения, а построение теории структуры и функционирования
литературного текста, — теории, предусматривающей целый спектр литературных
возможностей, в котором
41
реальные литературные произведения заняли бы место определенных
частных случаев, реализовавшихся возможностей. Таким образом, произведение
должно быть спроецировано на нечто «другое», отличное от него самого, как и в
случае критики с психологическим или социологическим уклоном. Однако теперь это
«нечто» будет уже не какой-то чужеродной структурой, а структурой самого
литературного текста. Отдельный текст, таким образом, получит статус примера,
на материале которого изучаются свойства литературы.
Годится
ли для обозначения такого метода исследования термин «поэтика»? Известно, что
смысл этого слова менялся на протяжении истории; но, опираясь на давнюю
традицию, а также на некоторые позднейшие его употребления, мы можем
пользоваться им без особых опасений. Поль Валери, который, кстати, указывал на
необходимость подобных исследований, употреблял именно этот термин. Он писал:
«Нам кажется, что подходящим названием будет “поэтика”, если понимать это слово
в соответствии с его этимологией, то есть как наименование для всего, что имеет
отношение к творчеству, то есть созданию, композиции, художественных
произведений, язык которых является одновременно и субстанцией и средством, а
не в более узком смысле — как свод эстетических правил, относящихся к поэзии»
[1]. В настоящей работе термин «поэтика» употребляется применительно к
литературе в целом, включая и поэзию, и прозу; более того, речь пойдет почти
исключительно о прозаических произведениях. В качестве аргумента в защиту этого
термина можно также напомнить, что самая знаменитая из поэтик «Поэтика» Аристотеля
— была не чем иным, как теоретическим исследованием свойств некоторых типов
литературных текстов. К тому же этот термин часто используется в таком значении
в работах зарубежных исследователей, в частности его уже пытались воскресить русские
формалисты. Наконец, этот термин употребляется для обозначения науки о
литературе и в работах Романа Якобсона … [2], [3]; см. также Р. Барт [4].
Вернемся
теперь к вопросу о соотношении поэтики с другими подходами к изучению
литературного произведения, упомянутыми выше.
Соотношение между поэтикой и интерпретацией это по преимуществу
отношение дополнительности. Тео-
42
ретические рассуждения о поэтике, которые не питаются
наблюдениями над реальными произведениями, чаще всего оказываются бесплодными и
бесполезными. Это положение вещей хорошо известно лингвистам: по справедливому
замечанию Бенвениста, «рассуждения о языке плодотворны только в случае, если
они прежде всего направлены на описание фактов реальных языков». Интерпретация
одновременно и u предшествует и следует за теоретической поэтикой — понятия
последней вырабатываются в соответствии с потребностями конкретного анализа,
который в свою очередь может продвигаться вперед лишь благодаря использованию
инструментов, выработанных общей теорией. Ни один из этих двух видов
исследовании не может считаться первичным по отношению к другому: они оба
«вторичны». Это тесное взаимопроникновение, часто превращающее критический
разбор в бесконечное колебание между двумя полюсами — поэтикой и интерпретацией,
— не должно мешать четкому различению — в абстрактном смысле — целей той и другой.
Напротив,
с другими науками, объектом внимания которых может становиться литературное
произведение, поэтика находится (по крайней мере, на первый взгляд) в отношении
несовместимости, — к большому, как это ни печально, сожалению эклектиков, столь
многочисленных в рядах «литературоведов». Они готовы скорее допустить, и притом
в равной мере охотно, исследование литературы в лингвистическом духе и
исследование в психоаналитическом стиле, вдобавок еще одно — социологическое,
плюс четвертое — в духе истории идей. В единую же картину, по их мнению, все
эти подходы складываются благодаря единству исследуемого объекта — литературы.
Однако подобный взгляд противоречит элементарным принципам научного
исследования. Единство науки основывается вовсе не на единстве изучаемого
объекта: так, не существует единой «науки о телах», хотя тела и представляют
собой единый объект, а существуют отдельно физика, химия и геометрия. И никто
не требует предоставить «химическому», «физическому» и «геометрическому»
анализам равные права в рамках единой «науки о телах». Нужно ли напоминать ту
общеизвестную истину, что объект науки создается ее методом, так как он не
существует в природе в готовом виде, а представляет собой результат
43
некоторой предварительной обработки? Фрейд занимался анализом
литературных произведений, но его исследования относятся не к «науке о
литературе», а к психоанализу. Другие гуманитарные науки могут использовать
литературу как материал для своих исследований; но если последние оказываются
удачными, то они становятся частью соответствующей науки, а не размытой области
сочинений о литературе. Если же психологическое или социологическое
исследование литературного текста не признается достойным занять свое место в
психологии или социологии, то непонятно, почему ему автоматически должен
присваиваться статус литературоведческого исследования.
Сама
идея научного подхода к литературе сразу же вызывает столь сильное недоверие,
что, прежде чем перейти к обсуждению проблем поэтики, представляется
необходимым вспомнить некоторые из аргументов, выдвигаемых против этого
подхода, как такового […].
Генри
Джеймс обвиняет критика, позволяющего себе употреблять такие понятия, как
«описание», «повествование», «диалог» и т.п., сразу в двух грехах. Первый —
мнение, будто эти абстрактные сущности (единицы) могут существовать в
произведении «в чистом виде». Второй заключается в использовании абстрактных
понятий, рассекающих на части столь неприкосновенный объект («живой организм»),
как произведение искусства.
Один из
этих упреков сразу же теряет силу, если вспомнить общий взгляд, из которого
исходит поэтика: а именно, что абстрактные понятия она относит не к конкретному
произведению, а к литературному тексту вообще; она утверждает, что эти понятия
имеют смысл только в применении к литературе как особому языку, в то время как
в конкретном произведении мы всегда имеем дело с более или менее «нечистой»
манифестацией этих сущностей; поэтику интересует не тот или иной фрагмент
произведения, а те абстрактные структуры, которые она обозначает терминами
«описание», «действие» или «повествование». Более важным и гораздо более частым
является второй аргумент. Принцип noli me tanière[45] все еще довлеет над искусством.
В этом отказе от абстрактного
44
мышления есть нечто завораживающее. Однако Джеймсу достаточно
было лишь немного дальше продолжить свое и без того рискованное сравнение
романа с живым организмом, чтобы убедиться в его ограниченности: в каждом
«куске» нашего тела одновременно содержатся кровь, мышцы, лимфа и нервные
волокна, но это не мешает нам иметь соответствующие термины и пользоваться ими,
не встречая возражений с чьей-либо стороны […].
Если
понимать структурализм в самом широком смысле, то всякая поэтика, а не только
та или иная из ее разновидностей, должна быть признана структурной, поскольку
объектом поэтики является не множество эмпирических фактов (литературных
произведений), а некоторая абстрактная структура (литература). Но тогда уже
само введение научного подхода в любой области должно называться структурализмом.
Если, с
другой стороны, обозначать этим словом некий ограниченный набор научных
посылок, характерных для определенного периода в истории науки, который
рассматривает язык как коммуникативную систему, а общественные явления как
результат действия некоторого кода, то в этом случае поэтика — как мы ее здесь
излагаем — не представляет собой ничего специфически структурного. Можно даже
сказать, что сами литературные явления, а следовательно, и та наука, которая
берется ими заниматься, то есть поэтика, самим своим существованием
противоречат некоторым инструменталистским представлениям о языке,
сформулированным на заре структурализма.
Это в свою очередь требует уточнить соотношение между поэтикой и
лингвистикой. Для многих «поэтиков» лингвистика играла роль посредника в
овладении общей научной методологией; она была для них школой (одними более, а
другими менее усердно посещаемой), в которой они учились строгости мышления,
методам аргументации, постановке исследовании, фиксации результатов и т.п. Это
вполне естественно для двух дисциплин, возникших в ходе развития одной и той же
научной области: филологии. Следует, однако, осознать, что эта связь имеет
сугубо эмпирическую и случайную природу: в других условиях точно такую же
методологическую роль по отношению к поэтике могла бы сыграть любая другая
наука. Существует, однако, еще один
45
аспект связи между поэтикой и лингвистикой, благодаря которому
эта связь приобретает характер необходимости; дело в том, что литература
является в полном смысле слова продуктом языка (Малларме говорил: «Книга, эта
тотальная экспансия буквы…»). В связи с этим любые сведения о языке
представляют особый интерес для специалиста по поэтике. Однако такая
формулировка связывает друг с другом не столько поэтику и лингвистику, сколько
литературу и язык, и, следовательно, ставит поэтику в связь со всеми
науками о языке. Ведь точно так же, как поэтика не является единственной
дисциплиной, изучающей литературу, лингвистика (по крайней мере в теперешнем ее
состоянии) — не единственная наука о языке. Ее объектом являются языковые
структуры лишь определенного типа (фонологические, грамматические, семантические),
но не иные, изучаемые антропологией, психоанализом и «философией языка».
Поэтика может поэтому рассчитывать на такую же помощь со стороны каждой из этих
наук постольку, поскольку язык составляет часть объекта их исследовании.
Наиболее близкородственными ей оказываются другие дисциплины, занимающиеся
изучением типов текста и образующие в совокупности поле деятельности риторики,
понимаемой в самом широком смысле — как общая наука о текстах (discours).
Именно в
этом плане поэтика примыкает к семиотике, объединяющей весь цикл исследований,
отправной точкой которых является понятие знака.
Поэтике,
несомненно, придется определить свой «средний» путь, пролегающий между
крайностями конкретности и крайностями абстрактности. На нее оказывает давление
взгляд, имеющий тысячелетнюю традицию, который, какую бы форму ни принимали
доводы в его пользу, всегда сводился к одному и тому же: нужно оставить в
стороне абстрактные рассуждения и держаться как можно ближе к описанию специфического
индивидуального объекта. Мы уже видели, что эти два подхода существенно
дополняют друг друга, что не позволяет поставить ни один из них выше другого;
если мы тем не менее выдвигаем сейчас на первый план поэтику, то делаем это
исключительно по тактическим соображениям, имея в виду, что на одного Лессинга,
исследующего законы строения басни, приходится целая толпа «толкователей»,
разъясняющих нам
46
смысл той или иной конкретной басни. На протяжении всей своей
истории литературоведение давало большой крен в сторону интерпретации: с этим
креном нужно бороться, но именно с ним, а не с самим принципом интерпретации.
В
последние годы наметилась противоположная крайность — опасность чрезмерного
теоретизирования: одно из новейших направлений, которое хотя и разделяет принципы
поэтики, но хочет, так сказать, «перескочить» через некоторые этапы ее
развития, предлагает все более и более формализованные типы исследований,
которые в пределе стремятся к тому, чтобы сделать объектом описания самих себя.
Поступать таким образом — значит забывать, сколь неопределенны наши
непосредственные знания о литературных явлениях, сколь грубы и неполны наши
наблюдения, сколь частный характер носят данные, которыми мы оперируем. Такое
положение вещей заставляет нас высказаться здесь в пользу скорее теории, нежели
методологии; объектом наших исследований будут свойства литературного текста, а
не требования к работам по поэтике; прежде чем приниматься за формализацию,
нужно выработать сами понятия, подлежащие формализации […].
В
настоящее время поэтика находится еще в самом начале своего пути и, естественно,
грешит всеми недостатками, характерными для этой стадии развития. Пока что она
разлагает свой объект на элементы довольно грубым и неадекватным образом; речь
идет о самых первых приближениях, об упрощениях, может быть, чрезмерных, но
необходимых. К тому же в нижеследующем изложении представлена лишь часть всех
тех исследований, которые с полным правом могут быть отнесены к структурной
поэтике. Поэтому следует пожелать, чтобы неуклюжесть этих первых шагов в новом
направлении не была принята за доказательство ошибочности самого направления.
2. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА
1. ВВЕДЕНИЕ. СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
[…] Прежде всего разделим все бесчисленные виды соотношений и
связей, наблюдаемых в литературном тексте, на две большие группы: связи между
сопри-
47
сутствующими в тексте элементами (связи in praesentia), с одной
стороны, и связи между элементами, присутствующими в тексте, и элементами,
отсутствующими в нем (связи in absentia), — с другой. Эти связи различны как по
своей природе, так и по выполняемым ими функциям.
Как и
всякое очень общее деление, данное деление не может считаться абсолютным.
Формально отсутствующие в тексте элементы иногда настолько явственно
присутствуют в коллективной памяти читателей определенной эпохи, что
практически мы имеем дело со связью in praesentia. И наоборот, части достаточно
длинной книги могут находиться на столь большом расстоянии друг от друга, что
связь между ними фактически ничем не будет отличаться от связи in absentia. Тем
не менее это противопоставление позволяет нам произвести первоначальную
классификацию конститутивных элементов литературного произведения.
Чему же
соответствует это противопоставление в нашем читательском восприятии? Связи in
absentia — это отношения обозначения (sеns) и символизации. Некоторое
означающее «означает» некоторое означаемое, некоторый факт вызывает
представление о некотором другом факте, такой-то эпизод символизирует такую-то
идею, другой — иллюстрирует такое-то психологическое состояние. Связи in
praesentia — это отношения, образующие конфигурации, конструкции. В этом
случае факты сцепляются друг с другом по законам причинности (а не потому, что
они напоминают друг о друге), персонажи вступают между собой в отношения
антитезы и градации (а не символизации), слова объединяются в значащие
комбинации; короче говоря, слово, действие, персонаж не обозначают и не
символизируют каких-то других слов, действий или персонажей: их существенным
свойством является тот факт, что они располагаются рядом друг с другом. Это важное
противопоставление известно под разными наименованиями; в лингвистике,
например, говорят о синтагматических связях (in praesentia) и парадигматических
(in absentia), или даже, в более общем плане, о синтаксическом и семантическом
аспектах языка.
Литература, однако, является не «первичной» символической системой (каковой, например, может быть живопись или в некотором смысле язык), а «вторич-
48
ной»: В качестве сырья она использует уже существующую систему —
язык. Это различие между языковой и литературной системами проявляется с разной
степенью очевидности в разных видах литературы: так, оно минимально в текстах
лирического или познавательного типа, где предложения текста непосредственно связаны
между собой, и максимально в беллетристике, где события и персонажи в свою
очередь образуют некоторую конфигурацию, относительно независимую от тех
конкретных фраз, посредством которых о ней сообщается. Однако сколь бы слабым
оно ни было, это различие имеет место всегда, следствием чего является
существование третьего ряда проблем, связанных со словесным характером
изображения системы вымышленных объектов, которую, вообще говоря, можно
представить себе изображенной и другими средствами, например кинематографическими;
это заставляет нас принять во внимание словесный аспект литературного текста.
Таким
образом, проблемы литературного анализа можно разделить на три группы в
зависимости от того, касаются ли они словесного, синтаксического или
семантического аспекта текста. Эта классификация при всех различиях в
терминологии и в точках зрения, исходя из которых могли формулироваться те или
иные ее частные подразделения, сложилась в изучаемой нами области очень давно.
Именно таким образом классическая риторика разделяла свою область знания на
elocutio (словесный аспект), dispositio (синтаксис) и inventio (семантику);
именно таким образом русские формалисты подразделяли область
литературоведческих исследований на стилистику, композицию и тематику; точно
так же в современной лингвистической теории различаются фонология, синтаксис и
семантика. За этими совпадениями, однако, скрываются порой глубокие различия, и
о содержании предлагаемых здесь терминов можно будет судить лишь после того,
как оно будет определено.
Степень
изученности этих трех аспектов литературного текста весьма различна. Причем
различные периоды истории поэтики довольно точно характеризуются тем, какой
именно аспект художественного текста привлекал к себе внимание специалистов.
Синтаксический
аспект (то, что Аристотель применительно к трагедии называл «составными частями»)
49
оставался в наибольшем небрежении до тех пор, пока его не
подвергли внимательному анализу русские формалисты в двадцатых годах нынешнего
столетия; с тех пор он находится в центре внимания исследователей, и особенно
тех, которых относят к «структуралистскому» направлению.
Словесный
аспект литературы пользовался вниманием многих критических направлений
последнего времени: «стиль» изучался в рамках стилистики, «модальности»
повествования — в трудах исследователей «морфологического» направления в
Германии; «точки зрения» — в рамках традиции, идущей от Генри Джеймса, в Англии
и в Соединенных Штатах.
Несколько
иначе обстоит дело с тем аспектом текста, который мы здесь назвали
семантическим. В некотором смысле всякая интерпретация выдвигает его на
первый план, так что он оказывается наиболее интенсивно изучаемым из трех.
Однако обычно его изучение велось не в плане поэтики: исследователей интересовал
смысл того или иного конкретного произведения, а не общие условия возникновения
смысла. В рамках настоящей статьи мы, конечно, не можем изменить существующего
положения: для этого нам пришлось бы изобретать, тогда как наша цель — только
изложение и систематизация. Тем не менее для поддержания некоторого равновесия,
имея в виду, что последующие главы будут посвящены описанию синтаксического и
словесного аспектов текста, несколько страниц мы посвятим краткой характеристике
проблем, связанных с изучением семантического аспекта литературного текста.
Если
развитие теории литературной семантики в настоящее время находится в тупике, то
одна из причин этого факта состоит в том, что в одну кучу сваливаются явления
хотя и имеющие отношение к «семантике», но, по сути дела, совершенно
разнородные. Поэтому наша задача будет состоять прежде всего в том, чтобы
классифицировать эти проблемы (а не решить их).
Прежде
всего, следуя в данном вопросе за современной лингвистикой, необходимо провести
различие между двумя типами связанных с семантикой вопросов — формальными и
содержательными, то есть вопросами о том, как
и что обозначает текст.
50
Первый
из них находится в центре внимания лингвистической семантики. Однако
оказывается, что лингвистический подход ограничен в двух отношениях: во-первых,
он имеет дело только со «значением» (signification) в строгом смысле слова,
оставляя в стороне проблемы коннотации, языковой игры, метафорики; во-вторых,
он не выходит за рамки предложения, основной единицы языка. Однако эти два аспекта
формальной семантики, — «второй» смысл и знаковая организация «связного текста»
(discours) — как раз особенно существенны с точки зрения литературоведческого
анализа, и они издавна привлекали внимание специалистов. Что же мы знаем о них
сегодня?
Изучение
смыслов, отличных от «прямого», по традиции являлось разделом риторики; точнее,
оно было объектом ее учения о тропах. Современная лингвистика отказалась
от противопоставления прямого смысла пеpeносному; однако она различает процесс обозначения
(signification), когда означающее вызывает в представлении означаемое, и
процесс символизации (symbolisation), когда одно означаемое символизирует
другое; при этом обозначение задано словарем (парадигматическими сведениями о
слове), а символизация возникает высказывании (в синтагматической цепи). Первый
и второй смыслы (которые иногда, вслед за А. А. Ричардсом, называют
«передатчиком», vehicule, и «получателем», tenor) взаимодействуют между собой,
причем это взаимодействие не является ни простой заменой, субституцией, ни предикацией,
а представляет собой специфическое соотношение, свойства которого еще только
начинают изучаться[46].
Сравнительно
лучше изучены типы абстрактных соотношений между первым и вторым смыслами; в
классической риторике они известны под названиями синекдохи, метафоры,
метонимии, антитезы, гиперболы, литоты; современная риторика предпринимает
попытки интерпретировать эти соотношения в терминах теоретико-множественных отношений
включения, исключения, пересечения и т.д.[47]
51
Что же
касается символических свойств отрезков текста, больших, чем предложение, то
здесь существенно, идет ли речь о внутри- или внетекстовом символизме. В первом
случае одна часть текста имеет своим означаемым другую — так, персонаж
«характеризуется» своими поступками или подробностями портрета, абстрактное
рассуждение «иллюстрируется» всем сюжетом (в некотором смысле в первой фразе
«Анны Карениной» содержится в концентрированном виде весь роман). Во втором
случае речь идет о толковании в обычном значении этого слова, то есть о
переходе от литературного текста к критическому (именно к этому обычно сводят
интерпретацию вообще); толкование в свою очередь определяется различными герменевтиками,
то есть абстрактными правилами, регламентирующими этот процесс. Наиболее
разработанной герменевтикой в западной традиции является та, которая сложилась
вокруг толкования Библии. Герменевтики, однако, не всегда обращают достаточное
внимание на задачу описания своих собственных процедур; вполне возможно, что
здесь на сверхфразовом уровне мы имеем дело с теми же самыми категориями
тропов, теми же самыми проблемами взаимодействия смыслов (аллегория, прежде чем
стать жанром, была риторической фигурой), но пока мы располагаем лишь крайне фрагментарными
сведениями обо всем том, что связано с символической структурой текста [9],
[10].
Второй
важный вопрос, вводящий нас в содержательную семантику, касается того, что
обозначается. Здесь опять необходимо разделить некоторые проблемы, которые часто
рассматривались вместе.
Сначала
можно задаться вопросом, в какой мере литературный текст описывает мир
(являющийся его референтом); другими словами, можно поставить вопрос об
истинности текста. Утверждать, что литературный текст имеет своим референтом действительность,
значит вводить отношение истинности и позволять себе подвергать литературный
текст проверке на «истинность», то есть считать себя вправе определять, истинен
он или ложен. Интересно в связи с этим указать на одно забавное сходство и одно
забавное расхождение во взглядах между логиками, то есть специалистами по
проблемам, связанным с отношением истинности, и первыми теоретиками романа.
Последние имели обыкнове-
52
ние противопоставлять роману — или другим литературным жанрам —
историческую науку, говоря, что, в то время как история обязана держаться
истины, роман может быть выдумкой от начала до конца […].
Современная
логика (по крайней мере после Фреге) в каком-то смысле перевернула это
суждение: литература в противоположность научным сочинениям не является таким
видом текста, который может оказаться ложным; она представляет собой текст, к
которому как раз неприменимо понятие истинности; она не бывает ни истинной, ни
ложной, и сама постановка такого вопроса бессмысленна; именно этим и определяется
ее статус текста, основанного на вымысле (fiсtiоn).
Итак,
рассуждая логически, ни одна фраза литературного текста ни истинна, ни ложна.
Тем не менее это нисколько не мешает произведению в целом обладать определенной
описательной силой: романы — конечно, в очень разной степени — представляют нам
реальную «жизнь», действительность. Потому-то при изучении общественной жизни
можно использовать в числе других документов и литературные тексты. Но в то же
время отсутствие строгого отношения истинности заставляет нас быть чрезвычайно
осторожными: литературный текст может быть как «отражением» социальной
действительности, так и ее полной противоположностью. Такой взгляд на вещи
является совершенно законным, но он выводит нас за пределы поэтики: ставя
литературу в один ряд с любыми другими документами, мы тем самым отказываемся
принимать во внимание то, что как раз и делает ее литературой.
Эту
проблему соотношения между литературой и экстралитературными фактами часто под
именем «реализма» путают с другой проблемой — проблемой соответствия
конкретного произведения некоторым литературным нормам, которые по отношению к
нему являются внешними; такое соответствие создает у нас иллюзию
реализма, и тогда мы говорим, что текст является правдоподобным. Если
присмотреться внимательнее к содержанию споров, доставшихся нам в наследство от
прошлого, можно заметить, что правдоподобность художественного произведения
оценивалась относительно двух основных типов норм. Первый из них — это так
называемые законы жанра: для того чтобы считаться правдоподобным,
художественное произведение
53
должно было придерживаться этих законов. Было время, когда
комедия считалась правдоподобной, только если в последнем акте ее персонажи
оказывались ближайшими родственниками. Сентиментальный роман считался
правдоподобным, если в конце герой женился на героине, добродетель
торжествовала, а порок был наказан. Правдоподобие, пони маемое в таком смысле,
означало отношение произведения к некоторому типу литературного текста, точнее
к некоторым конститутивным элементам того или иного жанра […].
Но есть
и другой вид правдоподобия, причем его еще чаще принимают за отношение
произведения к реальности. Однако уже Аристотель ясно показал, что
правдоподобие — это отношение не между текстом и его референтом (отношение
истинности), а между текстом и тем, что читатель считает истинным. Таким образом,
в этом случае отношение устанавливается между художественным произведением и
неким достаточно неопределенным текстом, который по частям принадлежит всем
членам данного общества, но на безраздельное обладание которым никто из них
претендовать не может; другими словами, речь идет об общепринятом мнении.
Очевидно, что это — вовсе не «действительность», а всего лишь некий третий
текст, независимый от произведения. Общее мнение — это своего рода закон жанра,
но относящийся не к одному, а ко всем жанрам.
Различие
между этими двумя видами правдоподобия кажется неустранимым только на первый
взгляд. Если мы рассмотрим этот вопрос в историческом плане, то увидим совсем
иную картину, а именно последовательную смену разнообразных законов жанра.
Здравый смысл коллектива — единственный жанр, который претендует на то, чтобы
управлять всеми остальными; напротив, жанры в узком смысле слова допускают
большое разнообразие и прекрасно сосуществуют [11].
[…] И
наконец, к третьему виду относится то, что можно было бы назвать гипотезой об
общей тематике литературы. С очень давних времен исследователи задавались
вопросом о возможности представить все темы литературы не в виде открытой и
неупорядоченной совокупности, а как некоторое организованное множество.
В
настоящее время большинство таких попыток ориентируется на те или иные
структуры, внешние по
54
отношению к литературе: циклические явления природы, структуру
человеческой психики и т.п.; возникает вопрос, не лучше ли основывать подобную
гипотезу на внутренних свойствах языка и литературы. Впрочем, и само
существование такой общей тематики еще далеко не доказано[48].
2. РЕГИСТРЫ ЯЗЫКА
«Литературное
произведение построено из слов», — охотно скажет сегодняшний критик, готовый
признать важную роль языка в литературе. Но литературное произведение, как и
всякое другое языковое высказывание, построено не из слов, а из предложений, а
эти предложения принадлежат к разным регистрам языка. Описание этих регистров
будет нашей первой задачей, так как имеет смысл начать с рассмотрения тех
языковых средств, которыми располагает писатель; зная свойства и возможности
языка как такового, можно будет затем перейти к изучению их взаимодействия в
произведении. Такое предварительное знакомство со свойствами языкового
материала, используемого при создании литературного текста, необходимо для понимания
структуры этого текста, к рассмотрению которой мы затем перейдем, тем более что
между ними нет непереходимой грани.
Мы не
будем пытаться изложить здесь в нескольких словах многочисленные работы,
которые посвящены исследованию «стилей»; скорее, имеет смысл выявить некоторые
категории, присутствием или отсутствием которых определяется тот или иной
регистр языка. Впрочем, необходимо сразу же сказать, что в таких вопросах речь
может идти не об абсолютном присутствии или отсутствии той или иной категории,
а лишь о количественном превосходстве (которое, к тому же, пока что мало
поддается измерению: сколько метафор должно быть на одной странице текста,
чтобы он мог считаться «метафорическим»?); во всяком случае, речь идет не
столько о противопоставлении в строгом смысле слова, сколько о постепенных
градациях.
55
1.
Первая и особенно очевидная категория, характеризующая регистры, — это то, что
обычно называют «конкретностью» или «абстрактностью» речи. На одном из полюсов
этого континуума располагаются предложения, субъектом которых является некий
единичный, материальный и четко отграниченный предмет, на другом — рассуждения
«общего» характера, выражающие некоторую «истину», не соотносимую с определенными
сущностями пространственного или временного порядка. Между этими двумя полюсами
располагается бесконечное число промежуточных случаев, место которых на этом
отрезке определяется в зависимости от степени абстрактности обозначаемого ими
объекта. Читатель всегда интуитивно реагирует на это свойство текста, но
оценивает его по-разному: так, реалистический роман специализируется на
описании различных материальных подробностей (все помнят ногти Леона в «Мадам
Бовари» или руки Анны Карениной) ; романтический роман, напротив, предпочитает
«анализ» лирических порывов и абстрактные рассуждения (разумеется, возможны
любые сочетания этих двух установок).
2.
Вторая категория — не менее известная, чем первая, но более проблематичная —
определяется присутствием риторических фигур (то есть связей in praesentia,
которые необходимо отличать от тропов, связей in absentia): это степень фигуративности,
орнаментированности текста. Но что такое фигура? В поисках «общего
знаменателя» всех фигур было построено множество различных теорий; но почти всегда
они оказывались вынуждены исключить из рассмотрения те или иные фигуры, не
укладывавшиеся в определение, подходившее к остальным. В действительности, в
поисках определения надо обращаться вовсе не к отношению между фигурой и чем-то
другим, а лишь к факту ее существования: фигурой объявляется то, что поддается
описанию в качестве фигуры. Фигура есть не что иное, как определенное расположение
слов, которое мы можем назвать и описать. Если между двумя словами имеет место
отношение тождества, налицо фигура повторение. Если два слова находятся
в отношении противопоставления, это другая фигура — антитеза. Если одно
слово обозначает некоторое количество, а другое слово — количество, большее или
меньшее по сравнению с пер-
56
вым, то мы говорим, что перед нами еще одна фигура — градация.
Если, однако, отношение между двумя словами не подпадает ни под один из этих
терминов, то есть если оно отлично от всех перечисленных, то мы скажем, что в
данном тексте нет фигур — и будем так считать до тех пор, пока какой-либо новый
специалист по риторике не научит нас описывать это неуловимое отношение[49].
Таким
образом, любое соотношение двух (или нескольких) слов, соприсутствующих в
тексте, может стать фигурой; однако эта потенциальная возможность реализуется
только в том случае и в тот момент, когда читатель воспринимает эту фигуру
(поскольку она представляет собой не что иное, как текст, воспринимаемый как
таковой). Это восприятие обеспечивается либо благодаря обращению к
некоторым схемам, уже существующим в нашем сознании (отсюда частая
встречаемость фигур, основанных на повторении, симметрии, противопоставлении),
либо благодаря настойчивому подчеркиванию в тексте некоторых соотношении между
языковыми единицами: так, Р. Якобсону удалось открыть целый ряд «грамматических
фигур», на которые до него не обращали внимания, путем исчерпывающего анализа
языковой ткани ряда стихотворений.
Противоположная
фигурам прозрачность, незаметность словесной оболочки высказывания также
представляет собой лишь некую идеальную границу, предел (к которому ближе
всего, вероятно, тексты чисто функционального утилитарного характера) — предел,
который полезно иметь в виду, хотя в действительности он никогда не встречается
в чистом виде. Многие исследователи были склонны рассматривать слова просто как
оболочку скрытого за ней понятия; но Пирс ясно указывает что «эту оболочку
никогда нельзя отбросить полностью, ее можно лишь заменить другой, более
прозрачной». Язык не может исчезнуть совершенно, стать чистым посредником в
передаче значения.
Теория
фигур составляла один из важнейших разделов классической риторики. Под влиянием
современной лингвистики были предприняты попытки подвести более основательную
базу под этот богатый, но беспорядочный набор, доставшийся нам в наследство от
прошлого.
57
Так, одна из наиболее распространенных теорий (восходящая по
крайней мере к Квинтилиану) рассматривает любую фигуру как нарушение одного из
законов языка (теория нарушения), — путь исследования, которым пошел Жан Коэн в
своей книге о структуре поэтического языка [18][50].
Такой
подход позволяет более точно описать некоторые фигуры; но при попытке
распространить его на всю область фигур возникают серьезные затруднения.
3.
Другая категория, позволяющая выявить целый ряд регистров языка, — это наличие
или отсутствие отсылки к некоторому предшествующему тексту. Назовем моновалентным
текст (который также следует мыслить себе как некий идеальный случай, ср.
выше), не вызывающий у читателя никаких сколько-нибудь определенных ассоциаций
с предшествующими ему способами построения высказываний, а текст, который в
большей или меньшей степени рассчитан на такие ассоциации, назовем поливаленлным.
К этому
второму типу текста история литературы всегда относилась с некоторым
подозрением. Единственной его приемлемой формой считалась та, которая снижала и
осмеивала характерные черты предшествующего текста, то есть пародия. Если в
более позднем из двух текстов отсутствует критический тон по отношению к более
раннему тексту, историк литературы говорит о «плагиате». Грубую ошибку допускают
те, кто считает, что текст, отсылающий к некоторому предшествующему тексту,
может быть им заменен. При этом забывают, что отношение между этими двумя
текстами не обязательно сводится к простой эквивалентности, а отличается
большим разнообразием; и прежде всего, что ни в коем случае нельзя сбрасывать
со счетов ту игру, в которую новый текст вступает со старым. В поливалентном
тексте слова отсылают нас сразу в двух направлениях; игнорирование того или
иного из них ведет к непониманию текста.
Возьмем
известный пример: история о ране в колене в «Тристраме Шенди» (VI II, 20),
повторенная в «Жаке-Фаталисте». Здесь, конечно, речь идет не о плагиате, а о
диалоге. Многие детали изменены, так что текст
58
Дидро, хотя и очень близок к тексту Стерна, непонятен, если не
учитывать расхождений между ними. Так, Жаку предлагают «бутылку вина», И он
«поспешно» выпивает из нее «один или два глотка»; этот жест может быть понят в
полной мере, если вспомнить, что Тристраму предлагают «несколько капель
[укрепляющего] на кусочке сахар». Для современников эта перекличка двух текстов
была совершенно очевидной (и Дидро сам на это указывает); понять текст, не
учитывая его двойного значения, невозможно: его означающим является не только
жест персонажа, но и текст Стерна.
Важность
этого свойства языка была осознана благодаря работам русских формалистов. Уже
Шкловский писал, что произведение искусства воспринимается лишь на фоне других
художественных произведений и в силу тех литературных ассоциаций, которые оно
вызывает у читателей, и что не только пародия, но и вообще всякое
художественное произведение создается как параллель и как противопоставление
некоторому образцу. Однако первым, кто выдвинул настоящую теорию межтекстовой
поливалентности, был Бахтин, который утверждал: «Элемент так называемой реакции
на предшествующий литературный стиль, наличный в каждом новом стиле, является
такой внутренней полемикой, так сказать, скрытой антистилизацией чужого стиля,
совмещаемой часто и с явным пародированием его (…). Для художника-прозаика мир
полон чужих слов, среди которых он ориентируется (…). Каждый член говорящего
коллектива преднаходит слово вовсе не как нейтральное слово языка, свободное от
чужих устремлений и оценок, не населенное чужими голосами. Нет, слово он
получает с чужого голоса и наполненное чужим голосом. В его контекст слово
приходит из другого контекста, пронизанное чужими осмыслениями. Его собственная
мысль находит слово уже населенным» ([21], стр. 336, 344, 346). А недавно
подобный взгляд высказал Хэролд Блум, положивший начало психоаналитическому
подходу к истории литературы; он писал о «страхе перед влиянием», ощущаемом
всяким писателем, берущимся за перо: литератор всегда отталкивается от какой-то
уже существующей книги какого-то другого писателя (причем возможны все промежуточные
случаи между безоговорочно положительной
59
и безоговорочно отрицательной ориентацией по отношению к
предшественникам); в его тексте звучат голоса других авторов, и он сразу же
оказывается «поливалентным» [22].
В случае
если данный текст вызывает в нашем представлении не какой-то конкретный другой
текст, а некоторое безымянное множество стилистических и иных присущих текстам
свойств, — перед нами другая разновидность поливалентности. Милман Пэрри в
своем пионерском исследовании [23] сформулировал следующую гипотезу
относительно образцов устной поэтической традиции (как поэм Гомера, так и песен
сербохорватских народных сказителей): в такой поэзии эпитет присоединяется к
существительному не для того, чтобы уточнить его смысл, а потому, что такое
присоединение является традиционным; метафора употребляется там не для того,
чтобы повысить семантическую насыщенность текста, а лишь в силу того, что она
входит в арсенал поэтических украшений и, следовательно, с ее помощью текст
демонстрирует свою принадлежность литературе в целом или одному из ее жанров.
Однако Пэрри полагает, что эта особенность свойственна лишь устной литературе и
объясняется тем, что барду приходится импровизировать, а потому — черпать из
запаса готовых формул. Впоследствии оказалось возможным распространить эту
гипотезу и на письменную литературу, что привело к обнаружению одного ограничения,
касающегося природы того «другого текста», к которому отсылает поливалентный текст.
Новый текст образуется не с помощью элементов, принадлежащих «литературе
вообще», а путем отсылки к гораздо более определенным вещам: какому-то конкретному
стилю, какой-то конкретной традиции, какому-то конкретному типу обращения со
словесным материалом и поэтическими приемами. Этой переработкой гипотезы Пэрри
о формулах поэтического языка мы обязаны Мишелю Риффатерру [24]. Отсюда
естественно перейти к общей теории клише, которая может относиться в равной
мере к явлениям стиля, тематики или повествования, поскольку клише играют определенную
роль в формировании смысла связного текста. Явления того же рода — но на
материале разговорной речи — были описаны основателем современной стилистики
Шарлем Балли, который назвал их эффектом «намека на среду»
60
[25]. Так, flingue «ружье» В отличие, скажем, от revolver
«револьвер» вызывает в нашем сознании представление о некоторой вполне определенной
среде и эпохе или об описывающих ее текстах. Разумеется, мы продемонстрировали
здесь лишь некоторые из многочисленных видов поливалентного текста.
4.
Последний признак, на котором мы остановимся в нашей характеристике типов
словесных регистров, это признак, который вслед за Бенвенистом можно назвать.
«субъективностью/объективностью» речи. Всякое высказывание несет на себе
отпечаток того конкретного акта речи, «акта высказывания», продуктом которого
оно является; но этот отпечаток, разумеется, может быть более или менее явным
[…].
Языковые
проявления этих «отпечатков» очень многообразны, и им было посвящено немало
исследований[51]. Здесь можно выделить два
больших класса: во-первых, сведения об участниках акта речи или о его
пространственно-временных координатах, выражающиеся обычно при помощи
специальных морфем (местоимений или глагольных окончаний); во-вторых,
сведения об отношении говорящего и/или слушающего к высказыванию или его
содержанию (выступающие в виде сем, то есть компонентов лексических значений
слов). Именно таким окольным путем указание на процесс высказывания проникает в
каждую клеточку словесного текста, поскольку каждое предложение содержит
информацию о позиции говорящего. Тот, кто говорит: «Эта книга превосходна»,
выносит суждение о ее достоинствах и тем самым ставит себя между высказыванием
и его референтом; однако и тот, кто говорит: «Это дерево большое», произносит
суждение того же рода (хотя это и менее очевидно), поскольку подобной оценкой
он вызывает у нас представление о привычных для него размерах деревьев у него
на родине. Оценку содержит практически любое высказывание, но оценочность может
быть выражена в большей или меньшей степени, что и позволяет нам противопоставлять
«оценочный» текст другим регистрам языка.
Внутри
этого субъективного регистра языка различают несколько подвидов с более строго
определенными
61
свойствами. Наиболее известный из них — это эмоциональный
(или экспрессивный) текст. Ему посвящено классическое исследование Шарля Балли
(«Трактат по французской стилистике») [25]. Кроме того, в многочисленных
исследованиях были выявлены и описаны фонетические, графические, грамматические
и лексические средства выражения, характерные для этого типа текстов[52].
Еще один
тип субъективности — модальный — связан с обращением к особому классу
слов — модальных глаголов и наречий (могу, должен; возможно, наверняка и
т.п.). Этим способом внимание лишний раз привлекается к говорящему, то есть
субъекту высказывания, а тем самым и к процессу высказывания в целом. Еще раз
подчеркнем, что в конкретном литературном тексте все эти регистры переплетаются
необычайно тесно. В современной литературе мы видим новые и особенно сложные
случаи такого взаимопроникновения […].
Намеченное
выше перечисление регистров языка не может претендовать на полноту: его цель —
дать лишь общее представление о разнообразии языковых регистров, используемых в
литературных произведениях. Не дает оно и связной, логически
систематизированной картины, для чего необходимы многочисленные исследования,
основанные на данных лингвистики. Но внимательное и адекватное прочтение литературного
произведения невозможно без учета того, как в нем использованы возможности,
предоставляемые этими регистрами языка в распоряжение писателя [...].
3. СЛОВЕСНЫЙ АСПЕКТ: МОДУС. ВРЕМЯ
После
краткого очерка таких языковых свойств текста, присутствием и взаимодействием
которых определяются различные регистры речи, обратимся теперь к тому, что
составляет сущность «словесного аспекта» литературы, кругу вопросов, который
близок только что рассмотренному и в то же время отличен от него.
В
произведении, основанном на вымысле, осуществляется переход, привычность
которого заслоняет его значение и исключительность, — от последовательности
фраз к целому воображаемому миру. Перевернув пос-
62
леднюю страницу «Мадам Бовари», мы можем сказать, что
познакомились со многими персонажами и узнали довольно много об их жизни; а
ведь у нас в руках был всего-навсего текст, «вытянутый» в линейную последовательность.
Не следует поддаваться той характерной иллюзии, которая долгое время мешала
ясному осознанию этой метаморфозы: в действительности нет никакой «изначальной»
реальности и «последующего» ее воплощения в тексте. Данностью является
лишь сам литературный текст, и, отправляясь от него, читатель производит определенную
работу, в результате которой в его сознании выстраивается мир, населенный персонажами,
подобными людям, с которыми мы сталкиваемся «в жизни»; следует подчеркнуть, что
хотя эта строительная работа происходит в сознании читателя, она вовсе не
представляет собой чего-то сугубо индивидуального, так как сходные конструкции
возникают у самых разных читателей.
Это
превращение линейного текста в вымышленный мир становится возможным благодаря
некоторому множеству сообщений, содержащихся в тексте, — множеству неизбежно
неполному (это и есть «схематизм» литературного текста, о котором пишет
Ингарден), так как «вещи» никогда не исчерпывает самой «вещи»; именно в силу
отсутствия абсолютного имени и существуют тысячи способов называния одних и тех
же вещей. Эти сообщения характеризуются целым рядом параметров, различение
которых и позволит нам более четко и дифференцированно подойти к проблеме
«словесного аспекта» художественной прозы[53].
В
настоящей работе мы будем различать три вида свойств, характеризующих сведения,
обеспечивающие переход от линейного текста к миру художественного произведения.
Категория модуса, или наклонения, касается степени присутствия в тексте описываемых
событий. Категория времени связана с соотношением между двумя временными осями:
осью самого текста литературного произведения (которая для нас проявляется в линейной
последовательности букв на странице и страниц в книге) и гораздо более сложно
организованной
63
осью времени в мире вымышленных событий и персонажей. Наконец,
категория точки зрения (я пользуюсь этим термином, получившим сейчас
очень широкое распространение, несмотря на некоторые связанные с ним
нежелательные коннотации), включающая понятия точки зрения в узком смысле
слова, с которой воспринимаются описываемые события, и характера этого
восприятия (истинность/ложность, полнота/частичность). К этим трем
категориям следует добавить еще одну, располагающуюся несколько в ином плане,
но в действительности весьма тесно с ними связанную; мы имеем в виду
присутствие в высказывании самого процесса высказывания, которое мы рассмотрели
в предыдущей главе в стилистическом аспекте; здесь оно будет интересовать нас с
точки зрения его роли в создании вымышленного мира произведения; обозначим его
термином залог.
Категория
наклонения довольно тесно связана с языковыми регистрами, о которых речь
шла выше; различия лежат в основном в точке зрения на эти явления. Текст
литературного произведения неизбежно ставит следующую проблему: с помощью слов
в нем создается вымышленный мир, который сам имеет отчасти словесную, а отчасти
несловесную природу (поскольку он включает, помимо слов, также действия,
свойства, сущности и другие «вещи»); соответственно читаемый нами текст
находится в различных соотношениях с изображаемыми в нем а) другими текстами;
б) явлениями нетекстового характера.
Это
различие обозначалось в классической поэтике (начиная с Платона) терминами мимесис
(mimesis) (изображение речи) и диегесис (diegesis) (изображение «неречи»
). Собственно говоря, у нас нет оснований говорить о подражании в строгом
смысле слова (кроме как в периферийном случае звукоподражания): слова, как
известно, «немотивированны». В первом случае речь идет скорее о вставлении
в текст слов, якобы кем-то реально произнесенных или возникших в чьем-то
сознании; во втором случае — об обозначении несловесных явлений при
помощи слов (процесс по необходимости «произвольный»).
Повествование
о несловесных событиях, следовательно, не может иметь модальных разновидностей
(у него могут быть только исторические варианты, создающие с большим или
меньшим успехом — с точки зрения ус-
64
ловностей эпохи — иллюзию «реализма»): На вещах никоим образом не написаны их названия, которые могли бы — с большей или меньшей степенью точности «вставляться» в текст. Напротив, «рассказ о словах» имеет множество модальных разновидностей, так как слова могут «вставляться» в литературный текст с большей или меньшей точностью.
Жерар Женетт предложил различать три степени «вставления»: 1. Прямой стиль, при котором текст не подвергается никаким изменениям; иногда говорят о «передаваемом высказывании». 2. Косвенный стиль, который сохраняет «содержание» якобы реального высказывания, но грамматически оформляет его как часть текста рассказчика. При этом изменения могут не ограничиваться сферой грамматики: высказывание может подвергаться сокращению, из него выбрасываются эмоциональные оценки и т.п. Промежуточным случаем между прямым и косвенным стилями является то, что называют «несобственно-прямым» стилем: он строится на грамматических формах косвенного стиля, но сохраняет смысловые нюансы «подлинного» высказывания, в особенности все моменты, относящиеся к субъекту акта высказывания; при этом в авторском тексте отсутствует какой-либо глагол, вводящий чужую речь. 3. Последнюю ступень преобразования речи персонажа представляет собой то, что называют «пересказанной речью»: в этом случае рассказчик ограничивается передачей содержания речи персонажа, пренебрегая всеми остальными ее аспектами и чертами. Возьмем фразу: «Я сообщил своей матери о своем решении жениться на Альбертине». Мы узнаем из этого текста, что имел место акт речи и каково было его содержание, но нам остаются совершенно неизвестны слова, которые были при этом «реально» (то есть якобы) произнесены.
Итак, модус, или наклонение текста есть степень точности, с которой этот текст воспроизводит свой референт; эта степень является максимальной в случае прямого стиля, минимальной в случае рассказа о несловесных явлениях, промежуточной в остальных случаях.
Еще одним аспектом тех сведений, которые участвуют в превращении текста в художественный мир, является время. Проблема времени возникает потому, что в произведении сталкиваются две вpeмeнны́e оси: временна́я ось описываемых событий и явлений
65
и временна́я ось описывающего
их текста. Это различие между
последовательностью событий и последовательностью языковых единиц очевидно, но
свое полноправное место в теории литературы оно заняло лишь тогда, когда
русские формалисты усмотрели в нем один из важнейших признаков, по которым фабула
(порядок событий) противопоставлена сюжету (порядку изложения);
несколько позже одно из направлений немецкого литературоведения положило это
противопоставление времени рассказывания (Erzählzeit) «рассказываемому» времени (erzählte
Zeit) в основу своей
теории[54].
В
последнее время эти временны́е соотношения подверглись тщательному
изучению, что освобождает нас от необходимости подробно на них останавливаться[55].
Мы
ограничимся перечислением основных проблем, встающих в этой связи.
1.
Наиболее бросающимся в глаза является отношение порядка следования:
порядок времени рассказывания не может быть совершенно параллельным порядку
рассказываемых событий, неизбежны забегания «вперед» и возвращения «назад». Эти
нарушения параллельности связаны с различной природой двух временны́х
осей: ось рассказывания одномерна, тогда как ось описываемых (воображаемых)
явлений многомерна. Таким образом, невозможность параллелизма имеет своим
следствием анахронии двух основных типов: ретроспективные, или
возвращения назад, и проспективные, или забегания вперед. Забегание
вперед имеет место тогда, когда заранее сообщается то, что произойдет позже;
классическим примером была у формалистов повесть Толстого «Смерть Ивана
Ильича», развязка которой содержится уже в заглавии. Чаще встречаются
ретроспекции, когда рассказчик сообщает позже то, что произошло раньше; так,
введение в повествование нового персонажа обычно сопровождается рассказом о его
прошлом, а иногда и о его предках. Указанные два типа анахроний, или
временны́х перестановок, могут комбинироваться друг с другом теоретически
до бесконечности (ретроспекция внутри проспекции, которая в свою очередь
находится внутри ретроспекции и т.д. …) […].
66
С другой стороны, можно различать размер анахронии
(временной интервал между двумя описываемыми событиями) и ее амплитуду
(длину отрезка времени, описываемого в пределах отступления от основного
повествования); в зависимости от того, пересекается анахрония со временем
основного повествования или нет, можно говорить о внутренней или внешней
анахронии. Например, рассказ о двух одновременных событиях, по необходимости
располагающий их в последовательности, представляет собой «внутреннюю» анахронию
нулевого «размера».
2.
Временны́е соотношения между текстом, как таковым, и изображаемыми в нем
событиями могут рассматриваться также под углом зрения продолжительности,
то есть количества времени, затрачиваемого на чтение текста, по сравнению с
продолжительностью реальных (то есть вымышленных) событий, о которых в нем идет
речь. Надо сказать, что время чтения не поддается простому хронометрированию, и
поэтому приходится говорить о довольно-таки относительных величинах. Можно
выделить целый ряд разных случаев. 1. Задержка времени, или пауза, имеет
место тогда, когда времени чтения не соответствует никакое рассказываемое
время, так обстоит дело с описаниями, общими рассуждениями и т.п. 2.
Противоположный случай — когда какому-то отрезку времени описываемых событий не
соответствует никакого отрезка времени рассказывания, то есть, когда какой-то
эпизод или целый период «реального» времени в повествовании опускается, подвергается
эллипсису. 3. С третьим важнейшим случаем мы уже знакомы: это случай
полной эквивалентности отрезков двух временны́х осей; такая
эквивалентность возможна только в прямом стиле, позволяющем «вставить»
изображаемую «реальность» в текст повествования в виде сцены. 4. Наконец,
возможны два промежуточных случая: время рассказывания может быть либо
«длиннее», либо «короче» изображаемого времени. Первый из двух последних
случаев, по-видимому, неизбежно приводит нас к двум уже рассмотренным
возможностям, — к описанию или к анахронии (вспомним хотя бы о двадцати четырех
часах жизни Леопольда Блума, о которых едва ли можно прочесть за двадцать четыре
часа: средством, «раздувающим» время рассказывания, оказываются как раз ахронии
и анахронии). Второй случай представлен
67
очень широко — это резюме, умещающее в одной фразе
события многих лет.
3.
Последний признак, существенный для характеристики соотношений между временем
рассказывания и временем описываемых событий, которого мы здесь коснемся, это
признак частоты. Теоретически здесь возможны три случая: однократность,
когда один компонент текста соответствует одному событию; повторность,
когда несколько компонентов текста соответствуют одному и тому же событию;
наконец, итеративность, когда один компонент текста описывает сразу
целый ряд (сходных) событий. Повествование, характеризующееся тем, что мы
назвали однократностью, в комментариях не нуждается. Повторность в
повествовании может проистекать от разных причин: один и тот же персонаж может
с болезненной настойчивостью вновь и вновь возвращаться к одним и тем же
событиям; одно и то же событие может описываться несколько раз, причем с разных
сторон (что создает иллюзию «стереоскопичности»); один или несколько персонажей
могут давать несколько противоречивых версий, заставляющих нас сомневаться в
том, имело ли место некоторое событие, и если да, то как оно в точности происходило.
Хорошо известны эффекты, извлекавшиеся из этого английскими романистами XVIII
века, в особенности авторами эпистолярных романов (Ричардсоном, Смоллеттом); в
«Опасных связях» Лакло пользуется ими для того, чтобы продемонстрировать
наивность одних персонажей (Сесили, Дансени, мадам де Турвель) и коварство
других (Вальмона, мадам де Мертей). В сферу действия этого приема вовлекаются,
конечно, и другие элементы «словесного аспекта» литературы, но нас здесь
интересуют лишь неизбежные временные «деформации», которые возникают постольку,
поскольку следованию компонентов текста при этом не соответствует последовательность
описываемых событий.
Наконец,
итеративное повествование, состоящее в описании при помощи одного компонента
текста (одного предложения) некоторых повторяющихся событий, прием, хорошо
известный всей классической литературе, где он играет, правда, довольно
ограниченную роль: писатель обычно описывает устойчивое начальное положение при
помощи глаголов в имперфекте (имеющем итеративное значение) и лишь затем вводит
последователь-
67
ность однократных событий, образующих собственно повествование.
Пруст одним из первых отвел итеративности более важную роль — настолько
значительную, что подобным образом у него могут описываться даже такие события,
относительно которых не может быть сомнений, что они могли произойти лишь однажды
(Пруст создает своего рода «ложную итеративность»: так, некоторые диалоги,
которые вряд ли могли повторяться много раз с абсолютной точностью, он вводит
формулами типа: «И если Сван спрашивал ее, что она имела в виду, она отвечала с
некоторым презрением» и т.п.). Общий эффект, создаваемый с помощью этого
приема, состоит, вероятно, в некоторой задержке событийного времени.
4. СЛОВЕСНЫЙ АСПЕКТ: ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ. ЗАЛОГИ
Третьей
важнейшей категорией, существенной для описания превращения текста в
воображаемый мир произведения, является точка зрения (vision), поскольку
факты, образующие этот мир, предстают перед нами не «сами по себе», а в
определенном освещении, в соответствии с определенной точкой зрения. Эта
«зрительная» терминология воспринимается как метафора, вернее, как синекдоха,
поскольку термином «точка зрения» покрывается все восприятие в целом; но она
удобна потому, и·то многочисленные свойства зрения (в буквальном смысле
слова) находят полное соответствие в многообразии явлений художественного мира.
До
начала ХХ века проблеме точек зрения не уделялось большого внимания; зато,
начиная с этого времени в них стали усматривать главный секрет словесного
искусства. Книга Перси Лаббока, первое систематическое исследование,
посвященное этому вопросу, недаром называется «Искусство прозы» («The Craft of
Fiction»). Действительно, точки зрения имеют первостепенное значение. В
литературе мы всегда имеем дело не с событиями или фактами в их сыром виде, а с
тем или иным изложением событий. Один и тот же факт, изложенный с двух разных
точек зрения, — это уже два различных факта. Свойства любого объекта
определяются той точкой зрения, с которой он нам преподносится. Роль точки
зрения всегда прекрасно осознавалась в изобразительных
69
искусствах, и теория литературы может многому поучиться у теории
живописи […].
Важно
отметить, что точки зрения в художественном произведении имеют отношение не к
реальному читательскому восприятию, которое может меняться в зависимости от
причин, внешних по отношению к художественному произведению, а к восприятию,
внутренне присущему самому произведению, хотя и представленному в нем несколько
специфическим образом. […] Искажение изображения, являющееся следствием подмены
точки зрения, внутренне присущей произведению, некоторой другой, более
привычной для наблюдателя, ясно демонстрирует объективность существования
первой, а также ту важную роль, которую точки зрения играют в понимании
произведения искусства.
В настоящее
время имеется немало теоретических концепции, связанных с рассмотрением вопроса
о роли точек зрения в художественной литературе; можно даже сказать, что этот
аспект художественного произведения в ХХ веке был изучен лучше всего. Помимо
уже упоминавшейся книги Лаббока, в нашем беглом обзоре следует назвать также
работы Жана Пуйона «Время и роман», Уэйна Бута «Риторика художественной прозы»
Б. Успенского «Поэтика композиции», Жерара Женетта — «О структуре
повествовательного текста». Эти исследования посвящены прояснению различных
сторон интересующей нас проблемы и потому заслуживают более детального
рассмотрения. Мы же со своей стороны займемся здесь — в отличие от большинства
упомянутых исследователей — описанием не конкретных разновидностей точек
зрения, а тех категорий, с помощью которых можно различать эти разновидности.
Дело в
том, что каждая из изученных к настоящему времени разновидностей может
рассматриваться как определенная комбинация нескольких различных характеристик,
последовательное рассмотрение которых представляет значительный интерес.
1.
Первая категория, на которой мы остановимся связана с субъективностью
или объективностью наших знаний об изображаемых событиях (этими
терминами мы пользуемся за неимением лучших). Сведения об этих событиях могут
касаться как того, что воспринимается, так и того, кто воспринимает; сведения
первого типа мы называем объективными, второго — субъективными. Не
70
следует думать, что данное различие возможно только в тексте,
где повествование целиком ведется «от первого лица»; всякое повествование, будь
то от первого или третьего лица, дает нам оба типа сведений. Генри Джеймс
назвал тех персонажей, которые выступают не только как объекты, но и как
субъекты восприятия, «отражателями». Если другие персонажи — это прежде всего
образы, отражающиеся в чьем-то сознании, «отражатель» сам представляет собой
такое сознание. Приведем лишь один пример: в романе М. Пруста «В поисках
утраченного времени» мы составляем представление о Марселе главным образом не
на основании его поступков, а на основании того, как он воспринимает
происходящее и судит о поступках других людей.
2. Эта
первая категория, характеризующая в основном направленность
созидательной работы читателя (либо на субъект, либо на объект восприятия),
должна быть четко отграничена от второй категории, касающейся уже не качества,
а количества получаемой информации или, если угодно, степени осведомленности
читателя. Продолжив далее аналогию со зрительным восприятием, можно сказать,
что внутри этой второй категории различаются две различные характеристики:
степень широты поля зрения и степень проницательности взгляда, глубины
проникновения в наблюдаемые явления. Что касается признака «широты», то он
позволяет различать внутреннюю и внешнюю точки зрения (точку зрения «изнутри» и
точку зрения «снаружи»). В действительности сугубо «внешняя» точка зрения, при
которой рассказчик ограничивается лишь регистрацией наблюдаемых им фактов,
никак их не интерпретируя и не пытаясь проникнуть в мысли действующих лиц,
никогда не может существовать в чистом виде, так как это сделало бы текст
совершенно непонятным.
[…]
Следовательно, речь идет не о жестком противопоставлении внутреннего/внешнего,
а о том, в какой степени присутствует точка зрения «изнутри». Наиболее
«внутренней» точкой зрения является такая, в которой нам сообщаются все мысли
действующего лица. Так, в «Опасных связях» Вальмон и Мертей видят остальных
персонажей «изнутри», тогда как маленькая Воланж может описывать лишь поведение
тех, кто ее окружает, или давать их поступкам ошибочное истолкование, Столь же
силен контраст между точками зрения
71
Квентина и Бенджи в «Шуме и ярости» У. Фолкнера.
Категории
«широты» (в том виде, как мы ее определили выше) и «глубины» зрения не очень
сильно отличаются друг от друга; так, рассказчик может не ограничиваться
«поверхностным» восприятием — физических или психологических явлений, — а
стремиться проникнуть в подсознательные мотивы, движущие персонажами,
подвергнуть их психику тщательному анализу (чего они сами, естественно, делать
не могут).
Рассмотрим
пример, иллюстрирующий обе интересующие нас категории, «направленность» И «осведомленность».
«Все же
он смотрел на г-жу Дамбрез и признал ее очаровательной, несмотря на несколько
большой рот и слишком широкие ноздри. В ней была грация совсем особенная. Даже
локоны, и те будто были полны какой-то страстной томности, и казалось, что ее
гладкий, как агат, лоб многое таит и выдает властный характер» (Г. Флобер, Воспитание чувств).
Здесь
нам сообщаются «объективные» сведения о госпоже Дамбрез и «субъективные»
сведения о Фредерике; последние извлекаются нами из того, как он воспринимает и
интерпретирует наблюдаемые им факты. При этом образ госпожи Дамбрез
воспринимается в довольно ограниченном аспекте: мы узнаем только о ее
физических качествах. Несколько раз Фредерик пытается интерпретировать их, но
как осторожно вводятся эти интерпретации! Слову томность предпослано
«будто бы», ее лоб «кажется» таящим и выдающим нечто. Флобер, следовательно,
не берет на себя ответственности за справедливость предположений своего
«отражателя».
3. Нам
потребуется далее ввести еще два дифференциальных признака точек зрения, никак,
однако, не связанных с их «оптической» природой: это противопоставления по
единичности/множественности, с одной стороны, по постоянству/изменчивости — с
другой. Действительно, каждая из рассмотренных выше категорий допускает
варьирование по этим новым параметрам: «изнутри» может быть виден лишь один
персонаж (благодаря чему «в фокус» попадают внутренние свойства) или все (тогда
мы имеем дело с «всеведущим» рассказчиком). Второй случай мы наблюдаем у
Боккаччо: в
72
«Декамероне» рассказчик одинаково хорошо осведомлен о намерениях
всех персонажей. Первый случай представлен в более позднем романе: наиболее
строго этот принцип применяется Генри Джеймсом. Аналогичным образом персонаж
может показываться «изнутри» либо на протяжении всего повествования, либо
только в одной из его частей (как, например, это имеет место в книге
«Укрепленные лагеря» Джона Каупера Пауиса); причем такие перемены точки зрения
могут не всегда носить систематический характер. Например, если Джеймс на протяжении
романа видит «изнутри» несколько персонажей, то переход от одного к другому
происходит по строго определенному плану, образующему иногда стержень
композиции всей книги. Однако опыт Джеймса вовсе не доказывает, что этот случай
является самым распространенным или самым лучшим.
Заметим
также вместе с Б. Успенским [33; стр. 130—1З4], что перемена точки зрения — в
частности, переход от внешней точки зрения к внутренней — выполняет функцию,
сравнимую с функцией рамки в живописном изображении; эта перемена используется
для выхода за пределы произведения (так сказать, перехода от произведения к
«непроизведению»).
4. Итак,
наши сведения о воображаемом мире могут быть объективными или субъективными,
они могут быть более или менее полными (причем как «внутренними», так и
«внешними»); но есть и еще одна важная для их классификации характеристика, а
именно, что эти сведения могут отсутствовать или присутствовать в
самом тексте, причем в последнем случае они бывают истинными или ложными.
До сих пор мы строили наше изложение так, как будто эти сведения всегда
истинны; но достаточно Фредерику, которому мы слепо доверяем, неправильно
истолковать форму локонов г-жи Дамбрез, чтобы оказалось, что мы имеем дело не с
достоверными сведениями, а с заблуждением. Такое несовершенное и даже
неправильное восприятие не обязательно является результатом ошибки
персонажа; может иметь место и намеренное сокрытие истины.
Для
возникновения иллюзии необходимы хотя бы какие-то сведения, пусть даже ложные.
Но возможен и случай полного отсутствия каких-либо сведений, — тогда мы имеем
дело не с заблуждением, а с неведением, незнанием. Кроме того, не
следует забывать, что всякое
73
описание всегда будет неполным, что вытекает из самой природы
языка; мы, следовательно, не имеем права предъявлять описанию обвинение в
неполноте до тех пор, пока не дойдем до некоторого места в повествовании, из
которого мы узнаем, что в каком-то другом, также вполне определенном, месте от
нас что-то было сознательно скрыто (сразу приходит в голову «Убийство Роджера
Экройда» Агаты Кристи, хотя это и не самый яркий пример, где рассказчик
«опускает» в своем сообщении, что убийцей является он сам). Неведение и
заблуждение, таким образом, предполагают, соответственно, два вида «поправок»:
появление данных о том, о чем ничего не было известно; введение новой
интерпретации взамен ошибочной.
5.
Несколько иначе по сравнению с остальными категориями, характеризующими точки
зрения, выражена оценка, даваемая описываемым событиям. Описание любой
части фабулы может заключать в себе определенную моральную оценку, и само
отсутствие такого суждения придает авторской позиции некоторую
многозначительность[56].
Для того чтобы быть понятой читателем, такая оценка вовсе не должна быть
сформулирована, мы угадываем ее по тем психологическим установкам и реакциям
персонажей, которые преподносятся в произведении как «естественные». Подобно
тому как читатель не обязан держаться «внешней» точки зрения и может делать
собственные выводы о «внутренней» подоплеке тех или иных событий, точно так же
он может не принимать и тех этических и эстетических суждений, которые
навязываются «видением» автора; в истории литературы есть немало примеров
«переворотов в оценках», в результате которых «отрицательные» персонажи старых
книг приобретали наше уважение, а «положительные» начинали вызывать презрение.
Вслед за
лихорадочной эксплуатацией выразительных средств, связанных с осознанием
феномена точки зрения и получивших воплощение в творчестве ряда писателей, от
Генри Джеймса до Фолкнера, в литературе, по-видимому, наметилась тенденция
придавать точкам зрения не столь первостепенное значение. Это объясняется тем,
что в современной художественной литературе вообще нет стремления к тому, чтобы
заставить читателя видеть; создаются тексты, не претендующие на
изобразительность (на то, чтобы быть fiction).
74
[…]
Роль точки зрения переходит к регистрам языка: если у Джеймса основная
конструкция произведения создавалась игрой точек зрения, то у Мориса Роша она
создается своеобразной комбинацией регистров. Здесь мы приближаемся к некоторой
границе, за которой исследование словесного аспекта текста как такового
теряет смысл, поскольку этот аспект
предстает как конститутивное свойство самой художественной прозы.
На все
рассмотренные выше категории словесного аспекта литературы можно взглянуть и
под другим углом, — а именно заняться соотношением не между текстом и
создаваемым им вымышленным миром, а между совокупностью этих двух явлений, с
одной стороны, и еще одним явлением — лицом, которое принимает на себя
ответственность за этот текст, — «субъектом акта высказывания», или, как его
обычно называют, рассказчиком, — с другой. Такой взгляд приводит нас к
проблеме повествовательного залога.
Рассказчик
— активный фактор в конструировании воображаемого мира, следовательно, каждый малейший
его шаг косвенно осведомляет нас о нем. Именно рассказчик является воплощением
тех установок, на основании которых выносятся суждения и оценки. Именно он
скрывает от нас или, наоборот, раскрывает нам мысли персонажей, навязывая нам
тем самым собственное представление об их «психологии»; именно он выбирает
между прямой и непрямой речью, между «правильной» хронологической
последовательностью изложения событий и временны́ми перестановками. Без
рассказчика нет повествования.
Однако
степень его присутствия в тексте может быть — и реально бывает — очень разной.
И не только потому, что его прямое вмешательство в повествование
(paccмотpeннoгo выше типа) может быть бо́льшим или меньшим, но и потому,
что повествование располагает еще одним способом представить рассказчикuа: он
может быть непосредственным участником событии, развертывающихся в воображаемом
мире. Эти два случая столь различны, что для их обозначения иногда даже
употребляют два разных термина, говоря о рассказчике только в том случае, когда
он явно присутствует в тексте, и оставляя термин скрытый автор для более
общего случая. Не следует думать, что рассказ от первого лица («я») сам по себе
уже достаточен для отличения одного
75
от другого. Рассказчик может называть себя «я» и не участвуя в
событиях — в этом случае он выступает не в качестве персонажа, а в качестве
автора, пишущего данную книгу (классический пример — «Жак-Фаталист»).
Существует
тенденция недооценки этого противопоставления, связанная с редукционистской концепцией
языка. Однако между повествованием, в котором рассказчик видит все, что видит
персонаж этого повествования, но сам не появляется на сцене, и повествованием,
где персонаж отождествлен с рассказчиком и рассказ ведется от имени его я,
имеется непереходимая граница. Смешивать эти два способа повествования значит
свести к нулю роль языка. Видеть дом и говорить: «я вижу дом» — два разных и
даже противоположных действия. События никогда не могут «рассказывать сами о
себе», так же как имена вещей не написаны на этих вещах; следовательно, акт
вербализации, облечения событий в словесную форму, никоим образом не может быть
устранен. В противном случае произошло бы ложное отождествление я
персонажа-рассказчика с настоящим субъектом процесса повествования. Как только
субъект процесса высказывания становится субъектом событий, о которых идет
речь, это уже не тот же самый субъект высказывания. Говорить о самом себе —
значит уже больше не быть тем же самым я. Рассказчик не может быть
назван; если он получает имя, то оказывается, что за этим именем никого нет.
Автор всегда должен оставаться анонимным. Он совершенно так же ускользает от
нас, как и вообще всякий субъект процесса высказывания, который по определению
не может быть представлен в тексте. В высказывании: «он бежит» есть он —
субъект высказывания (о котором идет речь) и я — субъект процесса
высказывания (говорящий). В высказывании: «я бегу» субъект процесса
высказывания, являющийся объектом высказывания, располагается как бы между
двумя раздельными субъектами (высказывания и процесса высказывания), присваивая
себе часть свойств того и другого, но не поглощая их обоих целиком; он лишь
заслоняет их собой. Дело в том, что он и я продолжают
существовать, но то я, которое бежит, это не то же самое я,
которое об этом рассказывает. Я не сводит два лица к одному, а,
напротив, делает из двух лиц три.
76
в тексте, где один из персонажей говорит «я», подлинный
рассказчик, то есть субъект процесса высказывания, оказывается, таким образом,
еще более замаскированной фигурой. Повествование от первого лица не только не
проясняет облика повествователя, но, наоборот, скрывает его. И всякая попытка
прояснить его ведет лишь к еще большей маскировке субъекта процесса
высказывания. Этот вид текста, открыто признавая себя текстом, лишь еще более
стыдливо скрывает свою текстовую природу.
С другой
стороны, в данном случае было бы ошибкой совершенно забывать о свойствах
рассказчика как «скрытого автора» и рассматривать его просто как одного из персонажей.
Для ясности полезно сравнить повествование с драмой, где высказываются
персонажи (и никто, кроме них). Однако различие между этими двумя литературными
формами является более глубоким: в повествовании, где рассказчик говорит «я»,
он — персонаж особого рода по сравнению с остальными; в драме же все персонажи
находятся на одном уровне. Поэтому персонаж-рассказчик оказывается изображенным
иначе, чем остальные: если о других персонажах мы узнаем из их непосредственных
речей, а также из описания их рассказчиком, то сам он дан исключительно через
его речь. Рассказчик не говорит, подобно остальным участникам повествования, а рассказывает.
Таким
образом, соединяя в себе одновременно героя и рассказчика, персонаж, от имени
которого рассказывается книга, занимает совершенно особую позицию — он
отличается как от того персонажа, которым бы он был, если бы назывался «он»,
так и от рассказчика, то есть потенциального «я» повествования. Нужно добавить,
что этот персонаж-рассказчик может играть в произведении как главную роль (быть
главным действующим лицом), так и роль всего лишь незаметного свидетеля
происходящих событий. Пример первого случая — «Записки из подполья», второго
«Братья Карамазовы». Между этими двумя полюсами располагается бесчисленное
множество промежуточных случаев, среди которых (мы назовем лишь несколько
достаточно разных) Цейтблом (в «Докторе Фаустусе»), Тристрам Шенди и знаменитый
доктор Ватсон.
77
Помимо
рассказчика (в широком смысле слова) следует помнить и о существовании его
«партнера», то есть того, к кому обращен рассказываемый текст (в современной
критике принят термин narrataire — «адресат повествования»). Он
похож на реального читателя не больше, чем рассказчик на реального автора (роль
не следует смешивать с играющим ее актером). Тот факт, что появление
рассказчика сразу же влечет за собой появление адресата повествования, — не что
иное, как следствие общего семиотического закона, согласно которому я и ты
(точнее, отправитель и получатель сообщения) неотделимы друг от друга. Адресат
повествования несет определенные функции: согласно Принсу [34], «он
представляет собой промежуточное звено между рассказчиком и читателем; помогает
более четко прочертить рамку повествования и охарактеризовать рассказчика;
способствует подчеркиванию некоторых элементов темы и развитию сюжета; может
играть роль рупора морали, утверждаемой в произведении». Изучение этой
категории не менее важно для теории повествования, чем изучение категории
рассказчика.
5. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ:
ТЕКСТОВЫЕ СТРУКТУРЫ
Обратимся
теперь к последней группе проблем, объединенных нами под названием
синтаксического аспекта текста.
Достаточно
очевидно, что любой текст поддается разложению на элементы. Характер отношений,
устанавливаемых между этими элементами, мы и будем считать главным критерием
при различении разных типов структур текста. Разберем три таких типа.
Следует,
однако, сразу же отметить, что наблюдать их отдельно друг от друга почти не
приходится — в каждом конкретном произведении используется одновременно
несколько типов отношений между элементами и, следовательно, это произведение
управляется одновременно закономерностями разного порядка. Если мы говорим о
какой-то книге, что в ней лучше всего представлен такой-то тип структуры, это
всего лишь значит, что в ней преобладает тип отношений, свойственный этому типу
структур. Это понятие преобладания или (большей или меньшей) роли
уже несколько раз появ-
78
лялось в нашем изложении, но мы пока не можем полностью его
эксплицировать. Мы ограничимся следующим утверждением: это преобладание имеет
как количественные аспекты (указывая на большую частоту появления некоторого
типа отношений в данном тексте), так и качественные (показывая, что этого рода
отношения между элементами текста возникают в наиболее важных точках
повествования).
Вслед за
Томашевским мы будем различать два принципиально разных способа организации
текста. Томашевский писал: «В расположении тематического материала наблюдаются
два важнейших типа: 1) причинно-временна́я связь между вводимым
тематическим материалом; 2) одновременность излагаемого или иная сменность тем
без внутренней причинной связанности излагаемого» [35]. В первом случае мы
будем говорить о временно́й и логической организации текста, а во втором —
который Томашевский определяет «посредством отрицания первого» — о
пространственной организации.
1. Логическая
и временна́я организация. Большинство художественных произведений
прошлого построено по законам одновременно временной и логической организации
(сразу же добавим, что обычно имеется в виду логическое отношение импликации,
или, как сейчас говорят, каузации, причинности).
Причинность
тесно связана с временно́й последовательностью событий; их даже очень
легко спутать друг с другом. Вот как иллюстрирует разницу между ними Форстер,
полагающий, что во всяком романе присутствуют обе, причем причинные связи
образуют его сюжет, а временные — собственно повествование: «Король умер и
вслед за ним умерла королева» — это повествование; «Король умер и вслед за ним
от горя умерла королева» — это сюжет. Однако, несмотря на то, что почти в
каждом повествовании, построенном по законам причинности, представлены и
временные отношения, последние воспринимаются очень редко. Это следствие того,
что с таким видом повествования у нас невольно и бессознательно связывается
некоторый детерминистский взгляд на вещи. «Пружиной повествовательного процесса
является само смешение следования во времени и причинного следования, когда то,
что происходит после этого, воспринимается при чтении как происшедшее по
причине этого; можно сказать, что подобное повество-
79
вание строится на систематическом
применении ложного логического вывода, известного в схоластике под названием
post hoc, ergo propter hoc»[57],
— пишет Ролан Барт [36]. В глазах читателя логическое следование — это
отношение, гораздо более сильное, чем следование во времени; если в
повествовании присутствуют одновременно оба, читатель видит только причинность.
Можно
представить себе случаи, когда причинно-следственные и временные связи
встречаются в чистом виде, причем каждый отдельно от другого, но для этого мы
должны выйти за пределы того, что обычно называют литературой. Временная,
хронологическая организация, лишенная какой бы то ни было причинности,
преобладает в исторической хронике, летописи, частном дневнике или судовом
журнале. Причинно-следственную структуру текста в наиболее чистом виде мы
находим в аксиоматических рассуждениях логиков или в телеологических
построениях адвокатов и политических ораторов. В литературе примером
причинности в чистом виде может служить жанр портрета и другие описательные
жанры, где временная задержка обязательна (характерный пример — новелла Кафки
«Маленькая женщина»). Иногда, наоборот, литература, строящаяся на временной
организации, не подчиняется — по крайней мере на первый взгляд — причинным зависимостям.
Такие произведения могут принимать непосредственно форму хроники или «саги»,
как, например, «Будденброки». Но наиболее совершенный образец полного
подчинения временно́му порядку — это «Улисс» Джеймса Джойса. Единственным,
или по крайней мере главным, отношением между событиями в «Улиссе» является
простое следование во времени; нам пунктуально, минута за минутой, сообщается,
что происходит в каком-либо месте или в сознании персонажа. Отступления в том
виде, в каком они знакомы классическому роману, здесь уже невозможны, поскольку
они указывали бы на присутствие в произведении какой-то структуры, отличной от
чисто хронологического порядка; единственная форма, в которой они здесь
допустимы, — это сны и воспоминания персонажей […].
Эти
исключительные случаи лишний раз подтверждают тесную связь, в которой находятся
друг с другом
80
временны́е и каузальные зависимости (причем последние
играют главную роль). Но и в самой причинности можно выделить различные типы. В
рамках нашего подхода наиболее важно выявить следующее противопоставление:
соотносятся ли минимальные единицы каузальной организации друг с другом
непосредственно или через посредство некоторого общего закона, иллюстрациями
которого они оказываются. Повествование, в котором преобладает первый из указанных
двух видов причинности, мы назовем мифологическим, а то, где преобладает
второй из них, — идеологическим.
а)
Повествование, которое мы назвали мифологическим, первым подверглось
исследованиям «структуралистского» толка. Первое систематическое описание этого
типа повествования [37] было дано русским фольклористом Владимиром Проппом
(1928) в духе идей современных ему русских формалистов. Правда, Проппа
интересовал только один жанр — волшебная сказка, причем он ограничился русским
материалом; однако признано, что ему удалось описать элементарные составляющие
всякого повествования подобного рода, и многочисленные исследования,
вдохновленные книгой Проппа, обычно строятся в направлении ее обобщения[58].
Мы еще вернемся к этому типу повествования в последующих разделах.
Непосредственные причинные связи не обязательно сводятся к связям между
событиями, действиями (как полагал Пропп); вполне возможны и случаи,
когда действие влечет за собой какое-то состояние или, наоборот, вызывается
каким-то состоянием. В этом случае мы имеем дело с так называемым
«психологическим» повествованием (как мы увидим, однако, этот термин может покрывать
самые разные явления).
В своем
«Введении в структурный анализ рассказа» Ролан Барт показал, насколько понятие
причинности нуждается в детализации: наряду с элементами, которые каузируют
подобные себе единицы или каузируются таковыми (он называет их «функциями»),
существует другой тип единиц текста, называемых «показателями», которые
отсылают «не к какому-то дополнительному по отношению к ним последующему событию,
находящемуся в той же причинной цепи, а к более или менее размытому понятию,
которое, однако,
81
необходимо по смыслу излагаемой фабулы: таковы сведения о
характерах персонажей, об их тождестве/различии, об ”атмосфере“ и т.п.»
б) В идеологическом
повествовании составляющие его единицы не вступают в прямые причинные связи
друг с другом; они выступают как проявления некоторой постоянной идеи,
некоторого единого закона. Иногда приходится подниматься на довольно высокии
уровень абстракции, чтобы понять, в каком соотношении находятся два действия,
соседство которых в тексте кажется, на первый взгляд, чисто случайным […].
В
изолированных и независимых действиях, совершаемых часто к тому же разными
персонажами, обнаруживается действие единого абстрактного закона, единой идеологической
организации.
Литература
ХХ столетия внесла серьезные коррективы в прежние представления о причинности.
Очень часто она пыталась совершенно выйти из-под ее господства, но, даже
подчиняясь ей, она в значительной степени ее изменяла. С одной стороны, начиная
с конца прошлого столетия, так сказать, абсолютная величина описываемых событий
резко уменьшилась; если прежде излюбленными темами были подвиги, любовь и
смерть, то с появлением Флобера, Чехова и Джойса литература обратилась к
незначительному, повседневному; и такого рода причинность кажется пародией на
причинность. С другой стороны, писатели, так сказать, «фантасмагорического»
направления заменили причинность «здравого смысла» своего рода «иррациональной»
причинностью; у них мы наблюдаем своего рода «антипричинность», но эта
категория принадлежит все-таки к сфере причинности. Сказанное относится,
например, к романам Кафки и Гомбровича и, несколько по-иному, — к новейшей
«литературе абсурда». Очевидно, такая причинность весьма существенно отличается
от причинности у Боккаччо.
Говоря о
причинности, ни в коем случае не следует сводить ее к тому, что можно было бы
назвать эксплицитной причинностью. Между высказываниями «Жан бросает камень.
Окно разбивается» и «Жан бросает камень, чтобы разбить окно» есть некоторая
разница. Причинность в полной мере присутствует в обоих случаях, но только во
втором случае она выражена эксплицитно. Это различие часто использовалось,
чтобы отличить хороших писателей от плохих, так как считалось, что
82
последние предпочитают эксплицитную причинность; это
утверждение, однако, не представляется достаточно обоснованным. Принято также
считать, что для массовой литературы (детективов, научной фантастики и т.п.)
характерна грубая и очевидная причинность; но например, Хэммет, как раз
наоборот, последовательно опускает всякие указания на причинные связи.
Если
повествование строится на связях причинного характера, но при этом они остаются
в значительной степени имплицитными, то читатель должен проделать работу, от
которой отказался автор. В той мере, в какой причинность необходима для
восприятия произведения, читателю приходится восполнять ее; при этом он
оказывается даже под более сильным воздействием произведения, чем в
противоположном случае, поскольку на него возлагается задача восстановления
связности повествования. Можно сказать, что подобная книга предполагает
некоторое определенное количество причинности; рассказчик и читатель вдвоем
должны обеспечить целостность повествования, так что их усилия обратно
пропорциональны друг другу.
2. Пространственная
организация. Художественные произведения, основанные на этом типе отношений,
обычно не рассматривают как «повествование» (récit); такой тип структуры в прошлом
был больше распространен в поэзии, чем в прозе. Изучался он также главным
образом на материале поэзии. Этот способ организации текста можно, в общем,
охарактеризовать как основанный на определенном, более или менее правильном
размещении единиц текста. Логические или временные отношения отступают при этом
на второй план или вовсе исчезают, и организация текста целиком определяется
пространственными соотношениями его элементов. (Очевидно, что это
«пространство» должно пониматься в особом смысле и обозначать нечто имманентное
по отношению к тексту.) […]
Наиболее
систематическое исследование пространственной организации в художественной
литературе было проведено Романом Якобсоном. В своих анализах поэзии он
показал, что все пласты высказывания, от фонемы и ее дифференциальных признаков
и до грамматических категорий и тропов, образуют сложнейшую конструкцию,
основанную на симметриях, нарастаниях, противопоставлениях, параллелизмах и
т.п., которые в
83
совокупности складываются в настоящую пространственную
структуру. Не случайно, по-видимому, рассмотрение параллелизма Якобсон заканчивает
ссылкой на геометрию, а наиболее абстрактная формулировка «поэтической функции»
принимает у него такую форму: «В поэзии на всех уровнях языка сущность художественной
техники состоит в многократно возвращающихся повторениях» [41, 234][59].
Пространственные отношения пронизывают, таким образом, «все уровни» равным
образом, и все повествование в целом может строиться в соответствии с этими
отношениями, будучи организовано на симметрии, нарастании, повторении, антитезе
и т.п. Кстати, Пруст, говоря о своем произведении, настаивал именно на
пространственной аналогии: он сравнивал его с кафедральным собором.
В наши
дни литература склонна ориентироваться на повествование пространственного или
временно́го типа в ущерб причинному […]. Конкретно в литературе
реализуется лишь определенная комбинация всех трех типов организации текста. В
чистом виде причинность мы встречаем только в деловых текстах, временную
организацию — в простейших исторических текстах, пространственную организацию —
в кроссвордах. Не в этом ли одна из причин того, как трудно говорить о
структуре текста?
6. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ:
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ СИНТАКСИС
В двух
следующих разделах мы ограничимся рассмотрением лишь одного типа синтаксической
организации — того, который характерен для так называемого «мифологического»
повествования.
Мы с
самого начала установили, что объектом нашего рассмотрения являются соотношения
между повествовательными единицами. Теперь нам следует более конкретно
посмотреть, какова природа этих единиц. С этой целью мы введем три типа единиц,
из которых первые два представляют собой конструкты, а третий — эмпирическую
данность. Речь идет о предложении, эпи-
84
зоде
и тексте. За примерами мы обратимся к «Декамерону» Боккаччо.
1.
Проблема выявления мельчайшей единицы повествования была поставлена уже у
одного из предшественников русских формалистов, историка литературы Александра
Веселовского. Оп обозначил ее термином «мотив», позаимствованным из
фольклористики, которому дал следующее неформальное определение: «Под мотивом
я разумею формулу, отвечавшую на первых порах общественности на вопросы,
которые природа всюду ставила человеку». Образцом мотива в этом смысле
является, например, такая фраза: «Змей похищает царскую дочь». Но уже Пропп,
хотя и вдохновлявшийся трудами Веселовского, подверг этот взгляд критике:
подобное предложение не является неразложимым, ибо содержит по крайней мере
четыре элемента (змей, похищение, дочь, царь)! Чтобы справиться с этой
трудностью, Пропп вводит дополнительный критерий выбора, связанный с понятиям и
постоянства и вариантности. Так, он замечает, что в русских волшебных сказках
постоянным является похищение, тогда как остальные три элемента меняются от
сказки к сказке. Поэтому он объявляет, что названия функции заслуживает
в данном случае только похищение; понятие функции и легло в основу его
концепции.
Но,
вводя критерий вариантности/инвариантности, Пропп вынужден перейти от общей
поэтики к поэтике определенного жанра (волшебной сказке, притом именно
русской). Однако вполне можно представить себе некий другой жанр, в котором
постоянной величиной будет король, а остальные «мотивы» — переменными. Лучшим
способом избежать упреков, адресуемых Проппом Веселовскому, не ограничиваясь
при этом рамками поэтики конкретного «жанра», является, по-видимому, сведение
первоначального «мотива» к множеству элементарных предложений, или суждений (в
логическом смысле слова), например:
X
— девушка.
Y
— отец.
Z — змей.
Z похищает
Х.
85
Эту
минимальную единицу мы назовем повествовательным предложением. Такое
предложение, по-видимому, всегда состоит из компонентов двух типов, которые
принято называть соответственно актантами (Х, У, Z) и предикатами
(похищать, быть девушкой, змеем и т.п.)
Актанты
являются двусторонними единицами. С одной стороны, они позволяют отождествить
некоторые дискретные элементы повествования, имеющие точный адрес в
пространстве и времени; речь идет о референциальной функции, которую в
языке выполняют собственные имена (а также выражения, сопровождающиеся
непосредственным указанием, деиксисом); ничего не изменится, если на место Х
мы подставим «Марью», на место У «Ивана» и т.п.; собственно, именно это
и происходит в реальных повествованиях, где актантам обычно (хотя не всегда)
соответствуют отдельные, обычно человеческие, существа. С другой стороны,
актанты находятся в определенном отношении к глаголам: например, в последнем из
приведенных предложений Z является субъектом, а Х — объектом. Это
синтаксическая функция актантов, которые в данном смысле не отличаются
от языковых синтаксических функции, во многих языках выражающихся в виде
категории падежа (отсюда и термин «актант»). Как показали исследования Клода
Бремона, основные роли актантов — это агенс и пациенс, каждый из которых может
далее характеризоваться по целому ряду параметров: первый может быть помощником
или вредителем, второй — получателем помощи или жертвой.
Предикаты
могут быть очень разнообразны, поскольку они соответствуют всему многообразию
языковой лексики; но уже с давних пор исследователи делят их на два больших
класса, в зависимости от того, как некоторый рассматриваемый предикат
соотносится с предикатом, предшествующим ему в тексте. Томашевский
сформулировал это различие между двумя классами предикатов (он говорит, правда,
о мотивах) следующим образом: «Фабула представляет собою переход от одной
ситуации к другой (… ) Мотивы, изменяющие ситуацию, являются динамическими
мотивами, мотивы же, не меняющие ситуации, — статическими мотивами».
В основу этой дихотомии положено четкое противопоставление, известное из
грамматики, где прилагатель-
86
ное (и существительное)
противопоставляются глаголу. Добавим, что предикат в адъективной форме, то есть
в форме прилагательного, дается как предшествующий процессу называния, тогда
как предикат в глагольной форме предстает как одновременный с этим процессом.
Как сказал бы Сепир, в первом случае предикат «существует», во втором —
«происходит».
Обратимся
к примеру, который позволит нам проиллюстрировать эти повествовательные «части
речи». Перонелла принимает своего любовника в отсутствие мужа, бедного
каменщика. Но однажды муж приходит домой раньше обычного. Перонелла прячет
любовника в бочку; когда муж входит, она говорит ему, что пришел человек,
пожелавший купить бочку, и что в настоящий момент он ее осматривает. Муж верит
ей и радуется продаже бочки. Он начинает скоблить бочку, чтобы очистить ее; в
это время любовник нежничает с Перонеллой, которая просунула голову и руки в
отверстие бочки и тем самым закрыла его (VII, 2).
Перонелла,
любовник и муж являются актантами этой фабулы; их можно обозначить через Х,
Y и Z. Слова любовник и муж указывают нам к тому же
на определенное положение вещей (речь идет именно о законности связи между
Перонеллой и этими двумя персонажами); поэтому они играют здесь роль «прилагательных».
Эти прилагательные описывают исходную ситуацию: Перонелла является супругой каменщика
и не имеет права вступать в любовную связь с другими мужчинами.
Далее
следует нарушение этого порядка вещей: Перонелла принимает любовника. Ясно, что
здесь должен появиться «глагол», что-то вроде нарушать, преступать
(закон). Это приводит состоянию
неравновесия, так как семейный порядок оказывается нарушенным.
Начиная
с этого момента есть две возможности восстановления равновесия. Первая состоит
в наказании неверной супруги, что и привело бы к восстановлению начального
состояния. Но новелла (по крайней мере новелла Боккаччо) никогда не строится на
таком повторении начального состояния. Следовательно, «наказание» присутствует
в структуре новеллы (в виде опасности, нависшей над Перонеллой), но оно не
реализуется, а остается лишь потенциальной возможностью.
Второй
способ восстановления равновесия состоит в
87
нахождении средства избежать наказания; именно это и делает
Перонелла. Она достигает этого путем «перекрашивания» ситуации неравновесия
(нарушение закона) в ситуацию равновесия (покупка бочки не нарушает законов
семейного очага). Таким образом, здесь мы встречаемся с еще одним глаголом
«перекрашивать, маскировать под». Конечным результатом является новое
состояние, то есть прилагательное: установлено новое положение вещей, новый
закон, хотя и не формулируемый в явном виде, согласно которому женщина имеет
право следовать своим естественным склонностям.
2.
Описав таким образом ту минимальную единицу повествования, которой является
предложение, мы можем теперь вернуться к первоначальному вопросу об отношениях
между минимальными единицами. Сразу же можно сказать, что с точки зрения своего
содержания отношения расслаиваются по тем различным «способам организации,
обзор которых был дан в предыдущем разделе, — мы имеем здесь дело с причинными
или логическими связями, отношениями включения и т.д., С временны́м
отношением следования или одновременности; с «пространственными» отношениями
повторения, контраста и т.д. Но сочетание предложений связано и с другими
категориями.
Прежде
всего напрашивается введение более крупной единицы повествования. Предложения
не образуют бесконечных цепочек; они объединяются в циклы, которые интуитивно
распознаются любым читателем (у него возникает ощущение законченного целого) и
которые вполне поддаются аналитическому описанию. Эта более крупная единица
называется эпизодом; граница эпизода помечается неполным повторением
(вернее, трансформацией) начального предложения. Если с целью упрощения анализа
принять, что начальное предложение описывает некоторое устойчивое положение
вещей, то окажется, что полный эпизод всегда состоит ровно из пяти предложений.
Идеальное повествование начинается с устойчивого положения, которое нарушается
действием некоторой силы. Возникает состояние неравновесия; благодаря действию
некоторой противоположной силы равновесие восстанавливается; новое равновесие
подобно исходному, но они никогда не тождественны полностью. Таким образом, в
состав повествова-
88
ния входят предложения двух типов: такие, которые описывают
состояние (равновесия или неравновесия), и такие, которые описывают переходы от
одних состояний к другим. Нетрудно узнать в них предложения атрибутивные и
глагольные. Конечно, эпизод может быть прерван посредине (сразу после перехода
от равновесия к неравновесию или от неравновесия к равновесию) или расчленен на
еще более мелкие составные части[60].
Формулировка
«переход от одного состояния к другому» (или, как говорит Томашевский, «от
одной ситуации к другой») описывает рассматриваемое явление на самом
абстрактном уровне. Но этот «переход» может реально осуществляться самыми
различными путями. Детальному рассмотрению разнообразных разветвлений исходной
абстрактной схемы посвятил свою книгу о логике повествования Клод Бремон («Logique
du récit»),
который попытался построить полную таблицу всех «возможных повествований».
Эпизод в
том виде, как мы его определили, содержит минимальное необходимое число
предложений; но он может содержать и большее их количество, не перерастая в два
самостоятельных эпизода, — благодаря тому, что не все предложения будут
относиться к ядерной конструкции эпизода. Здесь также важное различие было
впервые выявлено Томашевским (который опять-таки имел дело с «мотивами»,
покрывавшими в его терминологии одновременно и предикаты и предложения). Он
писал: «Мотивы произведения бывают разнородны. При простом пересказе фабулы
произведения мы сразу обнаруживаем, что́ можно опустить, не разрушая
связности повествования, и чего опускать нельзя, не нарушив причинной связи
между событиями. Мотивы не исключаемые называются связанными; мотивы,
которые можно устранять, не нарушая цельности причинно-временно́го хода
событий, являются свободными». Нетрудно узнать здесь противопоставление,
проводимое Бартом между «функциями» и «индексами». Само собой разумеется, что
эти факультативные предложения («свободные мотивы»-«индексы») являются таковыми
лишь с точки зрения связности конструкции; очень
89
часто именно они являются самым необходимым компонентом текста.
3.
Читатель реально имеет дело не с предложениями и даже не с эпизодами, а текстом
как целым: романом, новеллой или драмой. Но текст почти всегда содержит более
одного эпизода. Возможны три типа соединений эпизодов в тексте.
Первый
тип, часто встречающийся в «Декамероне», это обрамление. В этом случае
предложение некоторого эпизода заменяется целым новым эпизодом. Например:
Бергамин приезжает в незнакомый город, будучи приглашен на трапезу мессиром
Кане; но в последний момент тот отменяет свое приглашение, не возместив Бергамину
убытки. Последний оказывается вынужден потратить много денег; встретив однажды
мессира Кане, он рассказывает ему историю о примасе и аббате де Клюни. Примас
явился на обед к аббату де Клюни без приглашения, и тот отказал ему в угощении.
Впоследствии, терзаемый угрызениями совести, он осыпал примаса благодеяниями.
Мессир Кане понял намек и возместил Бергамину убытки.
Главный
эпизод содержит все обязательные компоненты: начальное положение Бергамина, его
ухудшение, отчаянное состояние, в котором он оказывается, найденный им способ
выйти из этого положения, конечное положение сходное с начальным. Но четвертым
предложением является рассказ, который образует в свою очередь целый эпизод; в
этом состоит техника обрамления.
Есть
много разновидностей обрамления, различающихся тем, к каким повествовательным
уровням принадлежат соединяемые эпизоды (к одному и тому же уровню или к
разным, как в только что приведенном примере) , и типами тематических
соотношений между ними. Так, например, встречаются: отношение причинной
мотивировки; отношение тематического присоединения при «прении сказками» или
при рассказывании истории, контрастирующей с предыдущей; отмеченное Шкловским
«рассказывание новелл-сказок, для задержания исполнения какого-нибудь
действия», как, скажем, в случае «Шехерезады».
Другой
характерный способ соединения эпизодов — это сцепление. В этом случае
эпизоды не вставляются друг в друга, а следуют друг за другом. Такова,
например, седьмая новелла восьмого дня: Елена оставляет
90
влюбленного в нее писца в саду зимой на ночь (первый эпизод),
впоследствии этот писец запирает ее летом в жару, совершенно обнаженную, в
башне на целый день (второй эпизод). Здесь, так же как и в первом случае, оба
эпизода имеют одинаковую структуру; ее тождество подчеркивается противопоставлением
временны́х и пространственных обстоятельств. У сцепления имеются
семантические и синтаксические разновидности; Шкловский различал, например,
«нанизывание», при котором один персонаж проходит через ряд эпизодов (как в
«Жиль Блазе»), «ступенчатое построение», или параллелизм эпизодов, и т.п.
Третий
тип комбинации эпизодов — чередование предложений первого и второго
эпизодов. В «Декамероне» примеры этого типа немногочисленны (ср, однако, V, 1);
но для романа подобные построения достаточно характерны. Таким образом
чередуются в «Опасных связях» линии мадам де Турвель и Сесили; это чередование
мотивировано эпистолярной формой романа. Разумеется, эти три элементарные формы
могут также комбинироваться друг с другом.
7. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: КАТЕГОРИЗАЦИЯ.
РЕАКЦИИ
После
этого общего обзора имеет смысл рассмотреть некоторые свойства
повествовательных предикатов, оставленные нами пока что без внимания.
1. Из
изложенного выше читатель мог заключить, что все предикаты совершенно отличны
друг от друга. Однако достаточно самого поверхностного взгляда на эти
предикаты, чтобы заметить сходства между ними, позволяющие объявить некоторые
действия разными проявлениями одного и того же более абстрактного действия.
Первый шаг в этом направлении был сделан Проппом, который свел все волшебные
сказки к тридцати одной функции. Однако выбор этой цифры показался читателям
произвольным, а потому неубедительным: дело в том, что 31 — это одновременно
слишком много и слишком мало. Слишком мало, если представить себе, что эмпирическое
число всех возможных разных действий не превышает 31; слишком много, если
исходить не из разнообразия действий, а из аксиоматической
91
модели. Поэтому общим местом работ, посвященных критическому
анализу модели Проппа, стали утверждения о возможности обобщения функций Проппа
путем представления одних функций как результатов преобразования других, более
элементарных. Так, Леви-Стросс пишет: «Можно было бы рассматривать «нарушение
(запрета)» как обращение «запрета», а этот последний — как негативную
трансформацию «приказа» ([44, 28]).
В
естественном языке категории, позволяющие выделить специфику некоторого
действия и в то же время указать на свойства, общие у него с другими
действиями, выражаются глагольными окончаниями, а также наречиями и частицами.
Простейшим и наиболее широко распространенным примером может служить отрицание
(и его вариант — противопоставление). Бергамин сначала богат, затем
беден, затем снова богат: имеет смысл усматривать здесь не два совершенно
различных предиката, а две формы — утвердительную и отрицательную одного и того
же предиката.
Еще
одной важной категорией глагола — наряду с утвердительностью/отрицательностью —
является вид: действие может представать как начинающееся, развивающееся
или законченное (в грамматике говорят о категориях инкоативности,
продолженности и завершенности). Еще более важной с точки зрения повествования
является категория наклонения, или модальности: с этой категорией мы уже сталкивались
в истории с Перонеллой, где существенную роль играло запрещение адюльтера; но
ведь запрещение это, по сути дела, не что иное, как предложение, высказанное в
отрицательной форме и с элементом модальности («Ты не должна…»).
Подобная
категоризация (spécification) кажется сама собой разумеющейся, когда речь идет о грамматических
категориях; но, по сути дела, такую же роль играют в предложении и так
называемые обстоятельства образа действия. Любые действия можно представлять
осуществленными «хорошо» или «плохо», устанавливая тем самым некоторые общие
для них всех категории; и наоборот, каждое отдельное действие можно характеризовать
по целому ряду категорий, в зависимости от того, каким образом оно совершается.
Этот
анализ по логическим категориям (именно логическим, а не грамматическим, как
это может пока-
92
заться на первый взгляд) — не просто еще одна новая форма
записи. Она позволяет довести анализ до неразложимых единиц, что является
необходимым условием подлинно научного описания.
2. Итак,
один из способов классификации и обобщения предикатов состоит в установлении
набора категорий, «оформляющих» и тем самым, так сказать, детально
характеризующих некоторый исходный предикат. Еще один способ классификации
предикатов связан с их первичным или вторичным характером.
Действительно,
есть такие действия, назовем их первичными, которые не предполагают каких-то других
действий. Обратимся к уже знакомому нам примеру. Мы можем узнать, например, что
змей похищает Марью, не зная, что она дочь царя; такие предложения могут следовать
друг за другом, образовывать причинную цепь, но ничто не мешает им фигурировать
и независимо друг от друга. Иначе обстоит дело, скажем, с тем же предикатом
«узнавать». Представим себе, что Иван узнает о похищении Марьи. Такое действие
мы будем называть вторичным, потому что оно предполагает существование другого,
предшествующего предложения: некто похищает Марью. Можно говорить, таким
образом, о действиях и реакциях на них; реакции всегда появляются как
необходимое следствие некоторого другого действия.
Можно ли
дать систематическое перечисление всех реакций? Собственно говоря, мы уже один
раз это сделали, и не случайно в предыдущем абзаце слово «узнавать» встретилось
дважды — один раз с подлежащим «мы» (то есть читатель), а другой раз с подлежащим
«Иван» (то есть персонаж) . Подобно тому как читатель на основании текста воссоздает
вымышленную «действительность» произведения, персонажи этой «действительности»
должны воссоздавать — на основании текстов и знаков, с которыми они имеют дело,
— мир своего восприятия. Таким образом, произведение содержит внутри себя
изображение того самого процесса чтения и воссоздания, которым занят читатель.
Персонажи творят свою «действительность» из воспринимаемых ими знаков
совершенно так же, как мы творим мир произведения из читаемого текста; освоение
ими мира, в котором они «живут», — прообраз освоения книги читателем.
93
Но в
таком случае мы будем иметь здесь дело со всеми теми категориями, которые мы
выявили при рассмотрении «словесного аспекта» литературного проиэведения, и можем
воспользоваться ими для более детальной разработки типологии повествовательных
предикатов. В качестве примера возьмем категорию времени. Подобно тому как мы,
читатели, можем узнавать о некотором действии до или после момента его
воображаемого совершения (проспективно или ретроспективно), точно так же и
персонажи не ограничиваются участием в действиях, а вспоминают о них или
представляют их себе заранее, что и дает «реакции», существующие,
так сказать, за счет других действий. К тому же имеется множество предикатов,
основанных на этой игре со временем, различия между которыми связаны с тем, кто
является субъектом знания о действии, насколько положительно оценивается это
действие и т.п. Например, планировать или решать — это действия,
осуществляемые самим субъектом и только им; тогда как обещать или угрожать
предполагают также и некоторого адресата; а в таких ситуациях, как надеяться
или опасаться, исход событий не зависит от субъекта.
С модальными
категориями мы встретимся, если обратимся к проблеме передачи информации внутри
вымышленного мира произведения: те или иные вещи могут говориться, рассказываться
или изображаться с большей или меньшей адекватностью (следует помнить,
что в этом воображаемом мире процесс рассказывания о каком-то факте, являющийся
«реакцией», может играть более важную роль в повествовании, нежели сам этот
факт).
Однако
наибольшее многообразие реакций связано с различными категориями, известными
нам из раздела о точках зрения.
Самый
простой случай — это заблуждение, или ложная информация, и его
устранение. Вспомним о ловкости Перонеллы, которая замаскировала
адюльтер под покупку бочки. В классической поэтике хорошо известна и функция,
являющаяся дополнительной к заблуждению, состоящая в обнаружении истины, или узнавании.
Вот как определяет его Аристотель: «Узнавание, как показывает и название, обозначает
переход от незнания к знанию …» [45; 74]. Как следует из определения
Аристотеля, узнавание соответствует двум компонентам сюже-
94
та: сначала «незнанию», а затем «знанию» Эти два компонента,
или, согласно нашей терминологии, два предложения, соотносятся с одним и тем же
реальным событием, но в первый раз некто интерпретирует его ошибочно, наиболее
часты примеры в которых речь идет об отождествлении какого-нибудь персонажа:
так, в первый раз Ифигения принимает Ореста за кого-то другого, а во второй раз
узнает его. Ясно, однако, что узнавание вовсе не обязательно сводится к
установлению подлинной личности какого-то персонажа, — всякое раскрытие подлинного
смысла какого-либо события, которое сначала было понято неправильно, также
равносильно «узнаванию», Сходным образом обстоит дело и с незнанием,
предполагающим в качестве «реакции» ознакомление.
Говоря,
что персонаж может «опасаться» того или иного события или, наоборот,
«надеяться» на его осуществление, мы обращали пока что внимание только на
временну́ю сторону этих «реакций». Но очевидно, что они подразумевают
одновременно и определенную оценку ожидаемых событий, причем эта оценка может,
конечна, принимать и другие формы, помимо деления на «хорошо» и «плохо».
Наконец, уже сама транспозиция некоторого действия из объективного плана в
субъективный план персонажа равносильна введению определенной точки зрения:
«Перонелла обманывает мужа» — это действие, а «муж полагает, что Перонелла его
обманывает», это реакция (которой как раз нет в данной новелле Боккаччо).
Таким
образом, все, что могло казаться простым приемом изложения на уровне линейного
текста, превращается — на уровне воображаемого мира произведения — в элемент
тематический.
Существенно
видеть разницу между категоризацией предикатов и реакциями: в первом случае
речь идет о различных формах, в которых выступает один и тот же предикат, во
втором — о двух разных типах предикатов, о первичных, или действиях, и
вторичных, или реакциях. Наличие и расположение в тексте предикатов того или иного
типа сильно влияет на его восприятие. Что может быть более поразительным в
тексте вроде «Поисков Грааля», чем две такие «реакции»: с одной стороны, все
происходящие события объявляются заранее, с другой — после того, как они
произошли, они получают
95
новое осмысление в терминах особого символического кода.
Литераторы конца XIX века особенно любили изображать процесс познания; этот
прием достиг своего расцвета у писателей вроде Генри Джеймса и Барбе
д’Оревильи, которые часто рассказывают нам лишь о процессе узнавания, но в
результате мы ничего так и не узнаем — потому что-либо и узнавать-то,
собственно, нечего, либо истина оказывается непознаваемой. Для подобных текстов
особенно характерен тот «эффект бездны», который вообще присущ литературе:
книга, как и мир, нуждается в истолковании.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ
1. ПОЭТИКА И
ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
Мы с
самого начала указали на взаимную дополнительность поэтики и критики; теперь,
после обзора проблем описания литературного текста, мы можем попытаться
сопоставить поэтику с другими дисциплинами, занимающимися изучением литературы.
И прежде
всего с историей литературы. Но для того чтобы заняться этим
сопоставлением, нам необходимо сначала вдуматься в самый смысл этого термина.
Вскрывая его двусмысленность, Тынянов писал в 1927 году: «Исторические
исследования распадаются по крайней мере на два главных типа по наблюдательному
пункту: исследование генезиса литературных явлений и исследование эволюции
литературного ряда, литературной изменчивости» ([46; 31]). Мы будем исходить из
этого противопоставления, позволяя себе придавать ему смысл, отличный от того,
который в него вкладывал сам Тынянов.
Генезис отдельных произведений
формалисты считали явлением, внешним по отношению к литературе, связанным с
соотношениями между литературным и нелитературным «рядами». Однако подобное утверждение
наталкивается на два возражения, которые, как это ни странно, были впервые
сформулированы тоже Тыняновым. В работе о теории пародии он показал что
некоторый текст одного писателя (Достоевского) не может быть полностью понят
без обращения к тексту другого писателя, более раннему (Гоголя). Именно
96
к этому исследованию Тынянова
восходят все позднейшие работы о том, что мы назвали здесь поливалентным (или
диалогическим) регистром текста. Из этого следует, что генезис неотделим от
структуры, история создания произведения — от его смысла: пренебрежение пародийной
функцией текста Достоевского (на первый взгляд относящейся исключительно к его
генезису) серьезно мешало его правильному пониманию.
В другой
работе, написанной несколько лет спустя и посвященной понятию «литературного
факта», Тынянов показал, что этому понятию невозможно дать вневременно́е,
внеисторическое определение: один и тот же вид текстов (например, личные
дневники) в одну эпоху может рассматриваться как часть литературы, а в другую —
как нечто, находящееся за ее пределами. За осознанием этой невозможности
фактически скрывалось другое утверждение (Тыняновым не сформулированное),
состоящее в том, что нелитературные тексты могут играть решающую роль в
создании литературного произведения.
Если мы
теперь объединим эти два отдельных вывода, то станет ясно, что нам придется
пересмотреть исходное положение о генезисе как явлении, внешнем по отношению к
литературе, способном претендовать лишь на внимание психологов и социологов, но
не литературоведов. Как далеко мы бы ни заходили в исследовании генезиса
какого-либо текста, мы не обнаружим ничего, кроме других текстов, других
продуктов языка, причем совершенно неясно, где должна быть проведена граница.
Следует ли исключить из рассмотрения языковые факторы, определившие генезис
бальзаковского романа, в частности сочинения не писателей, а философов,
моралистов, мемуаристов, хроникеров общественной жизни? Или даже те анонимные,
но постоянно и активно присутствующие в сознании эпохи тексты, которые
заполняют газеты, журналы, юридические документы, своды законов, повседневную
разговорную речь? То же самое может быть сказано и о взаимосвязях между
произведениями одного и того же писателя. В настоящее время все согласны
считать «существенной» связь между двумя поэмами одного автора; но можно ли
исключить из рассмотрения связь между той же самой поэмой и трактовкой —
скажем, противоположной — ее темы или лексики в дружеском письме
97
автора (только потому, что это письмо не принадлежит к
«литературе»)?
Нельзя
представить себе ничего «внешнего» по отношению к языку и знаку. Жизнь — это
био-графия, мир — это социо-графия, и нигде мы не найдем ничего
«экстрасимволического» или «доязыкового». Точно так же не является
«внелитературным» и генезис; но надо сказать, что сейчас стал неуместным и сам
этот термин: следует говорить не о генезисе, возникновении текстов из чего-то
нетекстового, а исключительно и только о переработке одних текстов в
другие.
Разница
между генезисом и изменчивостью связана, таким образом, вовсе не со степенью
«внутрилитературности» (intériorité à la
littérature).
Напротив, она подобна установленному выше различию между критикой (или
интерпретацией) и поэтикой. Ибо совершенно ясно, что изменяются вовсе не
отдельные произведения, а литература; и наоборот, говоря о генезисе, конечно,
имеют в виду исключительно историю создания тех или иных текстов[61].
Таким
образом, исследование изменчивости представляет собой неотделимую часть
поэтики, поскольку оно, как и поэтика в целом, интересуется абстрактными
категориями литературы как типа текстов, а не отдельными произведениями. В
рамках такого подхода можно представить себе исследования, посвященные каждому
из основных понятий поэтики. Таким образом, может описываться эволюция сюжета с
психологической причинностью, эволюция точек зрения или эволюция регистров
языка и их использования в литературе. Ясно, что эти исследования не будут
качественно отличаться от тех, которые относятся к области собственно поэтики.
Тем самым исчезает искусственное противопо-
98
ставление «структуры» и «истории», так как литературная эволюция
может описываться только на уровне структур; изучение структур не только не
препятствует изучению изменчивости, но, напротив, это единственный возможный
способ поставить вопрос об изменчивости как объекте науки.
Здесь на
сцену снова выходит понятие жанра. Как и понятие истории литературы, понятие
жанра должно быть прежде всего подвергнуто тщательному критическому анализу.
Как оказывается, этим словом покрываются два различных явления, для которых
Леммерт в уже упоминавшейся книге предлагает термины тип и (собственно) жанр.
Под типом подразумевается некоторый определенный набор свойств литературного
текста, признаваемых важными для тех текстов, в которых они встречаются.
Понятие типа — абстракция, имеющая право на существование лишь в рамках сугубо
теоретических построений; оно предполагает, что мы умеем абстрагироваться от
многочисленных специфических свойств разных текстов, признаваемых несущественными,
и выявлять постоянные их свойства, единые для всех текстов и потому
признаваемые определяющими для их структуры. Если свести число отбрасываемых
свойств к нулю, то каждое произведение предстанет в качестве особого типа (и
это утверждение не лишено смысла); с другой стороны, при максимальной степени
отвлечения от конкретных свойств текстов можно считать, что все литературные
произведения принадлежат к одному типу. Между этими двумя полюсами располагаются
те типы, к которым нас приучили классические трактаты по поэтике, например
поэзия и проза, трагедия и комедия и т.д.
Понятие
типа относится к общей, а не исторической поэтике.
Иначе
обстоит дело с жанром в узком смысле слова. Во всякую эпоху некоторый круг
литературных типов становится настолько хорошо известен публике, что она
пользуется ими как ключом — в музыкальном смысле этого слова — для понимания
остальных; по выражению Яусса[62],
жанр в этом случае образует для публики как бы «горизонт ожидания»; жанр
становится для нее «Моделью письма» («modèle d’écriture»). Иначе говоря,
99
жанр — это тип, который обрел конкретное историческое
существование и занял известное место в литературной системе определенной исторической
эпохи.
Воспользуемся
примером истории типа, который дал Михаил Бахтин в своей книге о поэтике Достоевского.
Бахтин выделяет некоторый тип, который редко подвергался серьезному изучению;
он называет его полифоническим или диалогическим повествованием (впоследствии
мы еще вернемся к этому определению). Этот абстрактный тип не раз в ходе истории
получал воплощение в виде конкретных жанров, например в диалогах Сократа, в
мениппее, в карнавальной литературе Средневековья и Возрождения.
Поэтому
если первой задачей истории литературы является изучение изменчивости
литературных категорий, то следующий шаг будет состоять в том, чтобы научиться
рассматривать жанры одновременно диахронически, как это делает Бахтин (иначе
говоря, изучать разновидности одного типа), и синхронически, в их
взаимоотношениях друг с другом. Не следует забывать, что в каждую из этих эпох
постоянные признаки жанра обрастают большим количеством других черт, которые,
однако, рассматриваются как менее важные и, следовательно, не влияющие на
отнесение произведения к тому или иному жанру. Можно поэтому полагать, что в
разные моменты истории одно и то же произведение может принадлежать к разным
жанрам, в зависимости от того, какие именно черты его структуры признаются
существенными. Так, в античности «Одиссею», бесспорно, относили к жанру
«эпопеи»; для нас, однако, это понятие утратило свою актуальность, и мы скорее
склонны отнести «Одиссею» к жанру «повествования» или даже к «мифологическому
повествованию».
Третья
задача истории литературы должна, по-видимому, состоять в формулировании
законов эволюции, управляющих переходом от одной литературной «эпохи» к другой
(разумеется, если такие законы существуют). Предлагалось немало моделей,
претендовавших на объяснение исторических поворотов; по-видимому, можно
констатировать (в исторической поэтике в целом) переход от «органической» модели
(согласно которой литературная форма рождается, живет и умирает) к
«диалектической» (тезис — антитезис — синтезис). Мы не рискнем излагать их
здесь от своего имени, но из этого
100
не следует, что такой проблемы не существует. Просто ее
рассмотрение сейчас затруднено в связи с отсутствием конкретных работ, которые
подготовили бы почву для постановки и решения этой проблемы. Дело в том, что
история литературы, в течение долгого времени пытавшаяся поглотить соседние
дисциплины, оказалась в конце концов на положении бедной родственницы:
историческая поэтика является в настоящее время наименее разработанным разделом
поэтики.
2. ПОЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Есть
одно требование, которое часто предъявляется к любому литературоведческому
анализу, — будь то структурному или неструктурному. Согласно этому требованию,
для того чтобы анализ мог считаться удовлетворительным, он должен быть в
состоянии объяснить эстетическую ценность художественного произведения, или,
другими словами, объяснить, почему одно произведение считается прекрасным, а
другое — нет. Если же анализ художественного произведения не дает
удовлетворительного ответа на этот вопрос, это считается свидетельством его
неудачи. «Ваша теория очень изящна, говорят обычно в таком случае, — но на что
она мне нужна, если она не в состоянии объяснить, почему человечество хранит и
так высоко ценит именно те произведения, которые составляют предмет ваших
исследований?»
Литературная
критика не оставляла этот упрек без внимания и регулярно предпринимала попытки
ответить на него созданием рецепта, автоматически устанавливающего присутствие
прекрасного. Едва ли нужно напоминать, что такие рецепты всегда вызывали
яростные нападки со стороны критиков следующего поколения и сейчас мы уже вряд
ли помним все эти попытки постичь универсальные законы красоты. Приведем здесь,
без комментариев, лишь одну из них, которая заслуживает внимания хотя бы из
уважения к имени автора. Гегель писал в «Идее прекрасного»: «Поскольку самое
идеальное состояние человека совместимо лишь с определенными эпохами,
предпочтительными в этом отношении по сравнению с другими, постольку и
искусство выбирает в качестве своих героев определенную среду,
101
которая предпочтительна по
сравнению с другими возможными; оно описывает жизнь царей. И вовсе не из
какой-то тяги к аристократизму или ко всему выдающемуся, а для того, чтобы
иметь возможность продемонстрировать свободу воли и творчества, которая не
может осуществиться ни в какой иной среде».
Возникновение
поэтики вновь поставило роковой вопрос об эстетической ценности произведения.
Попытки поэтики точно описать структуру художественного произведения с помощью
предлагаемых ею категорий наталкиваются все на то же недоверие относительно возможности
объяснить таким образом его красоту. Например, исследователь описывает грамматические
структуры или фонетическую организацию стихотворения — но зачем? Позволяет ли
нам это описание понять, почему данное стихотворение признается прекрасным? И
таким образом сама идея построения строго научной поэтики оказывается
поставленной под сомнение.
Было бы
ошибочно думать, будто исследователи, много сделавшие для выявления и описания
некоторых важнейших свойств явлений искусства, не интересовались изучением
вопроса о законах прекрасного. Есть даже один такой закон, сформулированный
приблизительно пятьдесят лет назад применительно к роману, который и сегодня
продолжает преподноситься — причем даже во многих вполне серьезных исследованиях
— в качестве критерия совершенства художественного произведения. Этот закон
заслуживает того, чтобы остановиться на нем несколько подробнее.
Он
касается того, что выше было названо точками зрения в повествовании. Когда
Генри Джеймс положил их. в основу своей творческой и эстетической программы,
казалось, что наконец впервые удалось нащупать какие-то подлинные и осязаемые
свойства структуры художественного произведения и что сезам литературной
эстетики вот-вот откроется. Перси Лаббок в книге, которую мы уже упоминали, пытался
оценивать произведения прошлого с помощью критерия, основанного на учении о
точках зрения: для того, чтобы произведение было хорошим, эстетически
прекрасным, утверждал он, рассказчик на протяжении всего повествования не
должен изменять точку зрения; если же изменение точки зрения все-таки
происходит, оно должно оправдываться сюжетом и всей структурой произ-
102
ведения. Исходя из этого критерия, Джеймса ставят выше Толстого.
История
этой концепции, которая жива и по сей день, имела забавное продолжение, хотя
нельзя утверждать, что ее различные приверженцы непосредственно влияли друг на
друга. Так, в этом же русле находятся утверждения, содержащиеся в уже
упоминавшеися книге Бахтина. В этой книге, которая, несомненно, является одним
из наиболее значительных трудов по поэтике, Бахтин противопоставляет диалогический
(или полифонический) «жанр» монологическому, к которому принадлежит
традиционный роман (как мы видели, это скорее не жанры, а типы). Конститутивным
свойством диалогического «жанра» является отсутствие объединяющего сознания
рассказчика, которое охватывало бы сознания отдельных персонажей. По Бахтину, в
романах Достоевского, которые являются наиболее совершенным образцом
диалогического повествования, не существует того сознания рассказчика, которое
было бы выделено в особый уровень, вознесенный над остальными сознаниями и
принимало бы на себя ответственность за текст в целом. «Новая художественная
позиция автора по отношению к герою в полифоническом романе Достоевского — это
всерьез осуществленная и до конца проведенная диалогическая позиция, которая утверждает
самостоятельность, внутреннюю свободу, незавершенность и нерешенность героя.
Герои для автора не «он» и не «я», а полноценное «ты», то есть другое чужое
полноправное «я».
Однако
Бахтин не довольствуется лишь описанием, которое оставляет другим произведениям
право не подчиняться этим законам без риска быть проклятыми, — в его анализах
всегда подразумевается превосходство этой формы над остальными. Например, он
пишет: «Подлинная жизнь личности доступна только диалогическому проникновению
в нее, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя», и т.п.
Таким
образом, Бахтин представляет нам другую версию эстетического закона,
установленного Джсймсом и вслед за ним Лаббоком. Он указывает, что точка зрения
в повествовании должна быть тем, что Пуйон называет точкой зрения «от
персонажа» (аvес), и что таких точек зрения должно быть несколько в одном и том
же произведении. Только при этих условиях
103
в повествовании может состояться диалог. Мы не беремся
оспаривать эти заключения, пока и поскольку речь идет о Достоевском. Однако
несколькими страницами позже сам Бахтин приводит другой пример некий
незаконченный отрывок, — также иллюстрирующий диалогический принцип. Автором
этого отрывка является уже не Достоевский, а Чернышевский, писатель,
произведения которого имеют, мягко выражаясь, весьма спорную эстетическую
ценность*. Таким образом, за пределами произведений Достоевского диалогический
принцип сразу же теряет все свои столь превозносимые достоинства.
Совсем
недавно Сартр в своей знаменитой статье о Мориаке по-новому переформулировал
закон Лаббока. В этой статье Мориак подвергается критике не с точки зрения
эстетики сартровского романа, а с точки зрения эстетики романа вообще. Опять
выдвигается требование сохранения точки зрения «от персонажа» (с исключительно
«внутренней фокусировкой», focalisation interne) на всем протяжении книги. «В настоящем
романе, так же как в мире Эйнштейна, не бывает избранного наблюдателя… Роман
пишется человеком для людей. Роман несовместим с божественным взглядом,
способным проникать в сущность явлений, не задерживаясь на поверхности».
В чем же
заключается основное требование этой эстетики? Прежде всего она исключает
неравноправие двух полюсов в повествовании — субъекта акта повествования
(рассказчика) и субъекта событий, о которых идет речь (персонажа). Если первый
хочет быть услышан, он должен выступить в обличии второго. Так, Сартр пишет:
«Персонажи романа живут по особым законам, самый строгий из которых состоит в
следующем: рассказчик может быть либо свидетелем, либо соучастником их
действий, но ни в коем случае не тем и другим одновременно: либо изнутри, либо
снаружи». Невозможно одновременно быть самим собой и кем-то другим. Голоса двух
персонажей создают полифонию, однако надо полагать, что из голосов персонажа и
такого рассказчика, который не скрывает, что он является единственным субъектом
процесса повествования, не может получиться ничего, кроме какофонии. Какофонии,
примерами которой являются «Одиссея» и «Дон Кихот».
104
Аналогично
тому, как Бахтин опирается в своем рассуждении на положительный пример Достоевского,
Сартр в своих построениях использует произведения Мориака, — но в качестве
отрицательного примера. Однако за коны нельзя формулировать на основании одного
примера. Рассмотрим небольшой отрывок из Кафки.
«К
сначала был счастлив оказаться за пределами этой жаркой комнаты, в которой
толклись гувернантки и прислуга. Было прохладно, снег затвердел, идти стало
легче. К несчастью, начало темнеть, и К. ускорил шаги» («Замок»).
Очевидно,
что этот текст построен на точке зрения «от персонажа». Мы следуем за К, мы
видим и слышим то, что он видит и слышит, мы знаем его мысли, и не знаем мыслей
других персонажей, И однако… Рассмотрим два слова «счастлив» и «к несчастью». В
первом случае К., возможно, чувствует себя счастливым, но он не думает: «Я
счастлив». Перед нами описание, а не цитата. Счастлив К., но пишет «К. был счастлив»
кто-то другой. Иначе обстоит дело с выражением «к несчастью». Эти слова —
запись констатации, принадлежащей самому К.; он ускоряет свой шаг ввиду этой
констатации, а не самого факта наступления темноты. В первом случае имеет место
безымянное ощущение К., имя которому дает сам рассказчик. Во втором случае К.
сам констатирует свое собственное ощущение, а рассказчик ограничивается передачей
слов К., а не описывает его ощущения; «модальные» различия очевидны.
Иначе
говоря, здесь не выполняется закон Лаббока — Бахтина — Сартра. В тексте
присутствуют одновременно два сознания, и они не равноправны: рассказчик
остается рассказчиком, не сливаясь с каким-либо персонажем. Но снижается ли от
этого эстетическая ценность приведенного отрывка? Не следует ли, напротив,
считать эту почти незаметную подмену субъекта акта повествования одной из
конститутивных черт того ощущения неопределенности и даже раздвоенности,
которое обычно создается у нас при чтении выдающегося произведения искусства?
Речь не
идет, разумеется, о том, чтобы заменить указанный закон противоположным. Целью
вышеизложенных замечаний было лишь показать невозможность
105
сформулировать универсальные эстетические законы, основываясь на
анализе, пусть даже блестящем, одного или нескольких произведений. Все, что
вплоть до сегодняшнего дня предлагалось в качестве критериев эстетической
ценности, на деле оказывалось в лучшем случае всего лишь хорошим описанием тех
или иных произведений или групп произведений: но ясно, что описание, сколь бы
удачным оно ни было, нельзя выдавать за раскрытие законов красоты. Не
существует такого литературного приема, применение которого безотказно вызывало
бы чувство прекрасного.
Как же
быть? Действительно ли надо оставить всякую надежду, что когда-нибудь мы
научимся говорить об эстетической ценности? На самом ли деле надо провести
непроходимую границу между поэтикой и эстетикой, между структурой и ценностью
произведения? Следует ли оставить право судить об эстетической ценности
произведений лишь за членами литературных жюри?
Неудачи
всех предпринимавшихся в прошлом попыток легко могли бы толкнуть нас на этот
путь. Однако эти неудачи имеют не более чем относительное значение. Поэтика
находится в самом начале своего пути. Неудивительно, что уже в первых
исследованиях по поэтике была поставлена проблема эстетической ценности
произведений искусства; но не более удивительно и то, что полученные ответы
были неудовлетворительными. Ибо, сколь бы многообещающими ни были описания,
содержащиеся в этих исследованиях, следует помнить, что они представляют собой
всего лишь первое грубое приближение к истине, ценное прежде всего как
указатель направления дальнейших поисков, не более. Проблема эстетической
ценности, по-видимому, более сложна; и в ответ тем, кто критикует описания,
исходящие из принципов поэтики, за их бесполезность для выяснения сущности
красоты, можно просто сказать, что для постановки этого вопроса еще не пришло
время, что нельзя начинать с конца еще до того, как сделаны самые первые шаги.
Однако вполне естественно задаться вопросом, куда должны быть направлены наши
усилия.
В
настоящее время считается неоспоримой истиной, что суждение об эстетической
ценности произведения зависит от его структуры. Но важно подчеркнуть и тот
106
факт, что структура не является
единственным фактором, влияющим на подобное суждение. Возможно, что для лучшего
понимания эстетической ценности произведения следует отказаться от того
первичного, необходимого, но обедняющего разграничения, которое отсекает
произведение от его читателя. Эстетическая ценность произведения — это
его внутреннее свойство, однако оно выявляется лишь в тот момент, когда
произведение вступает в контакт с читателем. Чтение представляет собой не
только процесс манифестации произведения, но также и процесс его оценки. Эта
гипотеза не равносильна утверждению, что красота произведения привносится в
него читателем и что этот процесс представляет собой каждый раз совершенно
индивидуальное переживание, которое не поддается строгой фиксации; эстетическая
оценка не является сугубо субъективным суждением; однако хотелось бы преодолеть
этот барьер между произведением и читателем и рассматривать их в неком
динамическом единстве.
Эстетические
оценки — это суждения, в которых существенную роль играет самый процесс их высказывания.
Подобное суждение не может восприниматься без учета как свойств контекста, в
котором оно произносится, так и того, кто его произносит. Я могу говорить о той
эстетической ценности, которую я вижу в произведениях Гёте; я могу, наверное,
взять на себя смелость говорить также об их эстетической ценности, как ее
понимали Шиллер или Томас Манн. Но вопрос об эстетической ценности этих
произведений как таковых, самих по себе, не имеет смысла. Возможно, именно это
свойство эстетических оценок фактически имела в виду классическая эстетика,
когда она утверждала, что они всегда остаются относительными.
В свете
всего сказанного ясно видно, почему поэтика не может и, более того, не должна
считать своей первой задачей научное объяснение эстетической ценности
произведений искусства. Для решения этой задачи требуется не только научное
знание о структуре произведений искусства, к которому ведут исследования по
поэтике, но и научное знание о читателе, о факторах, определяющих его оценки.
Если эта вторая часть задачи разрешима и будут найдены способы изучения того,
что обычно называют «вкусами» эпохи, будь то путем исследования традиций,
которые их формируют, или путем
107
выявления врожденных склонностей,
свойственных всякому индивиду, то тогда будет перекинут мост между поэтикой и
эстетикой и вновь можно будет поставить старый вопрос об эстетической ценности
произведения искусства.
3. ПОЭТИКА КАК ПЕРЕХОДНАЯ СТУПЕНЬ
Мы
видели, что поэтика определяется как наука о литературе, противопоставленная
одновременно интерпретации отдельных произведений (занятию, имеющему отношение
к литературе, но не носящему научного характера) и другим наукам, таким, как
психология или социология, от которых ее отличает выбор в качестве объекта
исследования именно литературы как таковой, тогда как раньше она рассматривалась
просто как одно из проявлений психической или общественной жизни.
Таким
образом, тот методологический шаг, благодаря которому поэтика конституируется
как самостоятельная наука, безупречен, ибо тем самым к области научного знания
добавляется еще один участок, до сих пор служивший лишь «проходом» к объекту
другой науки.
Однако
этот шаг имеет многочисленные последствия, вопрос о которых, впрочем, сразу же
был поставлен на повестку дня. Конституируя поэтику в качестве самостоятельной
дисциплины, объектом которой является литература, как таковая, мы постулируем и
автономность этого объекта: если бы она не была полноценной, то нельзя было бы
говорить и о самостоятельности поэтики. Якобсон еще в 1919 году выдвинул
формулу, ставшую впоследствии знаменитой: «Предметом науки о литературе
является не литература, а литературность, то есть то, что делает данное
произведение литературным произведением». Объект поэтики составляют
специфически литературные аспекты литературы, те, которые присущи только ей.
Самостоятельность поэтики зависит от автономности литературы.
Иначе
говоря, признание литературы в качестве объекта исследования не представляется
достаточным обоснованием права литературоведения на существование в качесгве
самостоятельной науки. Для этого потребовалось бы доказать не только необходимость
познания
108
литературы (необходимое условие), но и признать, что она
представляет собой нечто совершенно особое, специфическое (достаточное условие).
Более того, поскольку объект науки определяется прежде всего некоторыми самыми
простыми конститутивными элементами и категориями, постольку — для того чтобы
узаконить самостоятельность научного статуса поэтики — следовало бы доказать,
что специфика литературы начинается уже на самом элементарном, «атомном»,
уровне, а не на более сложном, «молекулярном», уровне комбинаций элементарных
единиц.
Сформулированная
таким образом гипотеза, конечно, не теряет смысла, но она противоречит нашему
повседневному опыту восприятия литературы. Литература на всех уровнях
обнаруживает свойства, общие с другими подобными ей явлениями. Так, уже
предложения, образующие литературный текст, разделяют многие свойства с любыми
другими высказываниями; и даже те их свойства, которые принято считать специфически
литературными, встречаются также в каламбурах, детских считалках, жаргонной
речи и т.п. Хотя и менее явно, они соотносятся также с жестовым и
изобразительным способами коммуникации. На уровне организации связного текста
лирическая поэма имеет одни черты, общие с философскими текстами, другие — с
молитвами или воззваниями и т.п. Повествовательная проза, как известно, во
многом сходна с сочинениями по истории, газетными статьями и свидетельскими
показаниями. С точки зрения социальной антропологии роль литературы, вероятно,
подобна роли кино или театра, всякой символической деятельности вообще.
Вполне
возможно поэтому, что специфика литературы (меняющаяся в ходе истории) может
быть установлена, но лишь на «молекулярном», а не на «атомном» уровне.
Литература окажется в таком случае точкой пересечения ряда уровней, что не
исключает, однако, возможности, что на каждом из них ее свойства будут общими
для литературы и для некоторых других видов деятельности. Высказывают также
предположение (мне это кажется сомнительным), что существуют некоторые
свойства, присущие только литературным текстам; но сколь бедным было бы
представление о литературе, сводящееся лишь к общему множителю всех
литературных текстов, к набору сугубо литературных свойств, — по
109
сравнению с таким, которое объединяло бы все свойства реально
существующих и потенциально возможных литературных произведений!
Выражение
«наука О литературе», таким образом, является вдвойне дезориентирующим. Не
существует единой науки о литературе, поскольку литература, если на нее
смотреть с разных точек зрения, оказывается частью объекта той или иной
гуманитарной науки. Соссюр говорил то же самое по поводу языка: «Чтобы отвести
лингвистике определенное место, не надо подходить к языку сразу со всех сторон.
Очевидно, в этом случае многие науки (психология, физиология, антропология,
грамматика, филология и т.д.) могли бы претендовать на язык как на объект
исследования». В применении к литературе Якобсон уже писал о том, что другие
науки «могут использовать литературные памятники как дефектные, второсортные
документы». Но, с другой стороны, не существует и науки именно о литературе,
поскольку ее существенные свойства встречаются и вне нее, хотя, быть может, и в
других комбинациях. Первый негативный вывод связан с законами научного
познания; второй — с особенностями изучаемого объекта.
Таким
образом, становится более ясным, в чем состояла и в чем должна состоять роль
поэтики. Отказ от познания литературы как таковой, — лишь одно из проявлений
невнимания к символической деятельности вообще, выражающегося в сведении
символа к чистой функциональности или к простому отражению. Тот факт, что
реакция на это невнимание наступила раньше всего в литературоведении, а не,
скажем, в исследовании мифа или ритуала, — результат стечения обстоятельств,
выяснение которых является делом историка. Но сейчас уже нет никакого смысла
ограничивать литературой сферу применения того научного подхода, который
сложился в рамках поэтики: «как таковые» должны изучаться не только литературные,
а вообще любые тексты, не только словесный, но и вообще всякий символизм […].
Итак,
поэтика призвана сыграть роль переходного этапа: она должна
послужить орудием обнаружения, открытия всего класса явлений, имеющих текстовую
природу («révélateur» de discours), благодаря тому, что наиболее
специфичные типы текста встречаются именно в литературе; но после этого
открытия и создания основ науки о тексте ее собственная роль оказывается
довольно
110
скромной: она сводится к выяснению причин, по которым в такие-то
эпохи такие-то тексты признавались «литературными». Едва появившись на свет,
поэтика оказывается призванной — в силу достигнутых ею самой результатов —
принести себя на алтарь общего прогресса науки. И кто возьмется утверждать, что
такая судьба не является завидной?
1973
ЛИТЕРАТУРА
1. Vа1érу Р., Dе l’enseignement de la poétique
au Collège de France, Variété, V, Paris, Gallimard, 1945,
р. 291.
2. Yggdrasill, II, 1937—1938, III,1938—1939.
3. Jаkоbsоn R., Linguistique et poétique. Essais
de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963.
4. Ваrthеs R., Critique et vérité, Paris,
Seuil, 1966.
5. Еmрsоn W., The Structure 01 Complex Words,
London, Chatto Windus, 1950.
6. Еmрsоn W., Assertions dans les mots,
«Poétique», 6, 1971, р.239—270.
7. Dubоis, Jасquе et аl., Rhétorique
générale, Paris, Larousse, 1970.
8. Вrооkе—Rоsе, Сhristinе, А Grammar of
Metaphor, London, 1958.
9. Вrоwnе R. М., Typologie des signes littéraires,
«Poétique», 7, 1971, р. 334—353.
10. «New
Literary Нistоrу», III (1972), 2 et IV (1973),
2.
11. «Le
Discours réaliste», «Poétique», 16, 1973.
12. Frуе N., Anatomy of Critecism, New York, Atheneum, 1967 (I-st ed., 1957).
13. Durand G., Les Structures anthropologiques de
l'imaginaire, Paris, Bordas, 1969 (I-re ed., 1960).
14. Girаrd R., Mensonge romantique et verité
romanesque, Paris, Grasset, 1961.
15. Grеimаs A.-J., Sémantique structurale, Paris,
Larousse, 1966.
16. Тоdоtоv Т., Introduction à la
littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970.
17. Тоdоtоv Т., Littérature et Signification,
Paris, Larousse, 1967.
18. Соhеn, Jеаn, Structure du langage poétique,
Paris, Flammarion, 1968.
19. Lеvin S., Deviation — Statistical and Determinate — in Poetic
Language, «Lingua»,
1963, р. 276—290.
20. Fоntаniеr Р., Les Figures du discours Paris Flammarion,
1968.
21. Бахтин
М., Проблемы поэтики Достоевского, изд. З-е,
«Художественная литература», М., 1972 (1-е изд. — 1929).
22. Вlооm, H., The Anxiety of influence. New York.
Oxford UP, 1973.
23. Parry М., The Making of Homeric Verse,
Oxford, Clarendon Рrеss, 1971.
111
24. Riffаtеrrе М., Le poème comme
représentation. «Poétique», 4, 1970, р. 401—418.
25. Bally Ch., Traité de stylistique
française, Genève — Paris, 1909.
26. Stаnkiеwiсz Е., Problems of Emotive
Language, Th. A. Sebeok и др. (eds), «Approaches to Semiotics», La Haye, Mouton, 1964.
27. Genette, Gerard, Figures III, Paris, Seuil, 1972.
28. Müller G., Erzählzeit und erzählte Zeit,
Festschrift für Р. Кluckhohn und Н. Schneider, 1948, 5. 195—212.
29. Lammert Е., Bauformen des Erzählers, Stuttgart,
J. В. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1955.
30. Меndilоw А. А., Time and the Novel,
London, 1952.
3l. Лихачев Д., Поэтика древнерусской литературы,
Л., 1967.
32. Riсаrdоu J., Problèmes du nouveau roman, Paris,
Seuil, р. 161—171.
33. Uspenski В., L’alternance des points de vue interne et
externe en tant que marque du cadre dans une œuvre littéraire,
«Poétique», 9, 1972.
34. Prince Gerald, Introduction a l’étude du
narrataire, «Poétique», 14, 1973, р. 178—196.
35. Томашевский
Б., Теория литературы. Поэтика, изд. 5-е, М. —
Л., 1930.
36. «Communications»,
8, 1966.
37. Пропп В. Я., Морфология сказки, изд. 2-е, М.,
«Наука», 1969 (l-е изд. 1928).
38. Bremond Cl., Logique du récit, Paris, Seuil,
1973. Русский
перевод в сб. «Семиотика и искусствометрия», М., 1972, стр. 108—135.
39. Hamon Ph., Mise au point sur les problèmes de
l’analise du récit, «Le Française moderne», 40 (1972), р.
200—221.
40. Garniar I. at Р., Poèmes architectures,
«Approaches» 1, 1965.
41. Jakobson R., Questions de poétique, Paris,
Seuil, 1973.
42. Ruwеt N., Language, musique, poésie, Paris,
Seuil, 1972.
43. Prince Gerald, A Grammar of stories. La
Haye, Mouton, 1973.
44. Levy-Strauss, Claude, La
structure et la forme, «Cahiers de l’ISEA», 99, 1960, р. 28.
45. Аристотель, Об искусстве поэзии, М., 1957.
46. Тынянов Ю. Н., Архаисты и новаторы., Л.,
1929.
47. Jоllеs, Аndrе, Die Einfachen Formen, 1930.
48. Jаuss Н. R., Littérature
médiévale et théorie des genres, «Poétique», I,
1970.
49. Stiеrlе К., L’Histoire comme Exemple. L’Exemple comme
Histoire, «Poétique», 10, 1972.
50. Lеjеunе Ph., Le pacte autobiographique
«Poétique» 14, 1973.
51. Auerbach Е.,
Mimesis, Paris, Gallimard, 1969 (l-е изд.1946).
52. D. Dе1аsе et J. Filliо1еt,
Linguistique et poétique, Paris, Larousse. 1971.
53. Еr1iсh V., Russian Formalism, History —
Doctrine, La Haye,
Mouton, 1965 (l-е изд. — 1955).
54. Genette G., Figures I, Paris, Seuil, 1966.·— Figures
II.
112
55. Kayser W., Das sprachliche Kunstwerk, Bern, Schweiz, 1959, (l-е изд. — 1948).
56. Лотман Ю.
М., Структура художественного текста, М.,
1970.
57. Меsсhоnniс Н., Pour la poétique, Paris,
Gallimard, 1970.
58. Mukаžоvskу J., Kapitel aus
der Poetik, Frankfurt,
1967 (l-e изд. — 1941).
59. Riffаtеrrе М., Essais de stylistique structurale, Paris,
Flammarion, 1971.
60. Stаrоbinski J., La Relation, Paris, Gallimard, 1970.
61. Тоdоrоv Т., Poétique de la prose, Paris,
Seuil, 1971.
62. Кibédi Vаrgа А., Les
constantes du poème, La Haye. 1963.
63. Wеllеk R., Wаrren А., La
Théorie littéraire, Paris, Seuil, 1971 (l-e изд. — 1949). Более полную и подробную
библиографию можно найти в работе:
64. Duсrоt О., Тоdоrоv Tz.,
Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972. За современным развитием
поэтики можно следить по таким специальным журналам, как «Poétique» (Франция), «New Literary History» (США), «Poétisa» (ФРГ), «Strumenti
Critici» (Италия), «Poetics» (Нидерланды), «Poetik» (Дания) и др.
[113]
ОСНОВЫ
СЕМИОЛОГИИ[63]
ВВЕДЕНИЕ
[…]
Соссюр, поддержанный ведущими исследователями в области семиологии, полагал,
что лингвистика является лишь частью общей науки о знаках. Все дело, однако, в
том, что у нас нет доказательств, что в современном обществе, помимо
естественного языка, существуют иные сколько-нибудь обширные знаковые системы.
До сих пор семиология занималась кодами, имеющими лишь второстепенное значение
(таков, например, код, образуемый дорожными знаками). Но как только мы
переходим к системам, обладающим глубоким социальным смыслом, мы вновь
сталкиваемся с языком. Бесспорно, различные предметы, изображения, манера вести
себя способны обозначать и в большинстве случаев обозначают нечто, но при этом
они всегда лишены автономности, любая семиологическая система связана с языком.
Так, значения зрительных образов (кино, реклама, комиксы, журнальные и газетные
фотографии) обычно подкрепляются языковым сообщением; в результате по краиней
мере часть иконического сообщения оказывается структурно-избыточной,
дублирующей языковую систему. Что касается совокупностей различных предметов
(одежда, пища), то они приобретают статус системы лишь при посредстве языка,
который выделяет в них означающие (в виде номенклатуры) и указывает на
означаемые (в виде обычаев, правил). Современная цивилизация гораздо в большей
степени, чем когда-ли-
114
бо прежде и несмотря на повсеместное распространение всякого
рода изображений, является письменной цивилизацией. И наконец, если взглянуть
на дело с более общей точки зрения, то чрезвычайно трудно вообразить систему
изображений или предметов, где означаемые существовали бы независимо от
языка: представить себе, что та или иная материльная субстанция нечто означает,
— значит неизбежно прибегнуть к членению действительности с помощью языка.
Смысл есть только там, где предметы или действия названы; мир означаемых есть
мир языка. Таким образом, хотя на первых порах семиология имеет дело с нелингвистическим
материалом, она рано или поздно наталкивается на «подлинный» язык. […] Однако
это вовсе не тот язык, который служит объектом изучения лингвистов: это
вторичный язык, единицами которого являются уже не монемы и фонемы, но более
крупные языковые образования, отсылающие к предметам или эпизодам, начинающим
означать как бы под языком, но никогда помимо него. Отсюда следует, что
в будущем семиология, возможно, растворится в транслингвистике*, объектом которой станут миф, рассказ, журнальная
статья либо предметы, созданные в рамках нашей цивилизации, в той мере, в какой
мы о них говорим (в прессе, в рекламном описании, в интервью, беседе и, быть
может, даже посредством внутренней фантазматической речи)*. Иначе говоря, уже теперь мы должны признать
возможным перевернуть формулу Соссюра: лингвистика не является частью — пусть
даже привилегированной — общей науки о знаках; напротив, сама семиология
является лишь одной из частей лингвистики, а именно той ее частью, которая
должна заняться изучением больших значащих единиц языка; в результате
обнаружится единство поисков, ведущихся в настоящее время в области
антропологии, социологии, психоанализа и стилистики вокруг понятия значения
[…].
Настоящая
работа имеет лишь одну цель: использовать ряд аналитических понятий,
выработанных лингвистикой, исходя а priori из предположения, что они обладают
достаточной степенью общности, позволяющей приступить с их помощью к
семиалогическому исследованию […].
Материал
«Основ семиологии» группируется по четырем большим рубрикам, заимствованным из
структурной
115
лингвистики: I. Язык и речь; II. Означаемое и
означающее; III. Синтагма и система; IV. Денотация и коннотация.
Нетрудно увидеть, что каждая из рубрик основана на принципе дихотомии; обратим
внимание, что бинарная классификация вообще характерна для структуралистскои
мысли; метаязык лингвиста словно воспроизводит на чистом месте бинарную
структуру описываемой им системы […]
1. ЯЗЫК И РЕЧЬ
1.1. В
ЛИНГВИСТИКЕ
I.1.1.
Дихотомия язык/речь, центральная у Соссюра, несомненно,
отличалась большой новизной по сравнению с предшествующей лингвистикой, занятой
поисками причин исторического изменения произношения, изучением спонтанных
ассоциаций и действия аналогии; она, следовательно, была лингвистикой
индивидуальных речевых актов. Разрабатывая свою, ставшую знаменитой, дихотомию,
Соссюр отталкивался от мысли о «многоформенности и разносистемности» языка, не
поддающегося на первый взгляд никакой классификации, лишенного единства, так
как он одновременно относится к области физики, физиологии и психики, к области
индивидуального и социального; однако хаос сразу же исчезнет, если из этого
разносистемного целого мы абстрагируем чисто социальный объект —
систематизированную совокупность правил, необходимых для коммуникации,
безразличную к материалу тех сигналов, из которых она состоит. Это и
есть язык, в противоположность которому речь является сугубо
индивидуальной частью речевой деятельности (фонация, реализация правил и возможных
комбинаций знаков).
1.1.2.
Таким образом, язык (langue) есть не что иное, как речевая
деятельность (langage) минус речь (parole); это одновременно и социальное
установление, и система значимостей. В качестве социального установления язык
ни в коем случае не является актом, он предшествует любому мыслительному
процессу; это социальный компонент речевой деятельности; сам по себе отдельный
индивид не может ни создать, ни изменить его; он по самому своему существу
является коллективным договором, которому индивид должен полностью и
116
безоговорочно подчиниться, если
он хочет быть участником коммуникации. Более того, этот социальный продукт
автономен; он подобен игре, имеющей свои правила; играть в нее можно лишь после
того, как научишься этим правилам. […] Рассматриваемый как элемент языка, знак
подобен монете: ценность монеты определяется тем, что на нее можно купить, но в
то же время эта ценность определяется и отношением к другим монетам большего
или меньшего достоинства. Очевидно, что институциональный и системный аспекты
языка тесно связаны: именно потому, что язык является системой договорных
значимостей (во многих случаях произвольных, или, точнее, немотивированных), он
сопротивляется всем изменениям, которые стремится внести в него отдельный
индивид, и, следовательно, предстает как социальное установление.
I. 1.3.
В противоположность языку, речь по самому своему существу есть индивидуальный
акт выбора и актуализации; она, во-первых, предполагает наличие «комбинаций,
при помощи которых говорящий субъект пользуется языковым кодом с целью
выражения своей личной мысли», и, во-вторых, наличие «психофизического
механизма, позволяющего ему объективировать эти комбинации»; очевидно, фонация
не может быть отнесена к языку: ни установление, ни система не будут затронуты,
если индивид станет говорить громче или тише, медленнее или быстрее и т.д.
Ясно, что основным для речи является ее комбинаторный аспект, предполагающий,
что она возникает как результат последовательного присоединения знаков друг к
другу. Именно потому, что в одном или многих высказываниях повторяются те же
самые знаки (хотя количество их комбинаций бесконечно), каждый знак становится
элементом языка. С другой стороны, именно потому, что речь есть свободное
комбинирование знаков, она представляет собой индивидуальный акт.
I. 1.4.
Окончательно определить язык и речь можно лишь с учетом того, что между ними
существует диалектическая связь: без речи нет языка; помимо языка не существует
речи. Язык и речь взаимно предполагают друг друга […]. Надо только отметить,
что с семиологической точки зрения невозможно (по крайней мере для Соссюра)
существование лингвистики речи, ибо всякая речь, рассмотренная как акт
коммуникации, уже зависит
117
от языка: можно создать лишь науку о языке, но не науку о речи
[…].
I.1.5.
Ельмелев[64] не отверг соссюровской
дихотомии язык/речь; он лишь ввел ряд новых, более формализованных
выражений. В самом языке (противопоставление которого речевому акту он
сохранил) Ельмслев выделил три плана:
1)
языковая схема, то есть язык как чистая форма: это соссюровский язык В
строгом смысле слова; таково, например, французское r, фонологическая
сущность которого определяется его местом в совокупности оппозиций к другим
звукам французского языка; 2) языковая норма, иными словами, язык как
материальная форма, определяемая условиями своей социальной реализации, но
независимая от деталей этой реализации: это французское устное, а не письменное
r, каковы бы ни были конкретные особенности его произношения; 3) языковой
узус, то есть язык как совокупность языковых «привычек» данного коллектива:
например, французское r как оно реально произносится в тех или иных
районах страны. Речь, узус, норма и схема по-разному определяют друг друга.
Норма определяет узус и речь; узус определяет речь, но и сам зависит от нее;
схема определяется одновременно и речью, и узусом, и нормой. Легко заметить,
что здесь выделяются два фундаментальных уровня: 1) схема, теория
которой есть теория формы[65] и
установления; 2) группа норма — узус — речь, теория которой есть теория
субстанции[66] и реализации, поскольку
же, по Ельмслеву, норма представляет собой чистую абстракцию, а речь — простую
конкретизацию нормы, Ельмелев заменяет соссюровскую пару язык/речь парой
схема/узус. Эта замена имеет существенное значение: ее
результатом оказывается радикальная формализация понятия язык (схема у
Ельмслева) и замена индивидуальной речи более социальным понятием узуса.
Формализация языка и социализация речи позволяют приписать речи все, что имеет
отношение к «субстанции», а языкувсе, что имеет дифференциальный характер. Это
дает возможность устранить одно из противоречий, возни-
118
кающих в результате разделения речевой деятельности на речь и
язык.
I.1.6.
Действительно, это разделение, несмотря на всю свою плодотворность, создает
немало трудностей. Укажем на три из них. Во-первых, можно ли отождествлять
понятие «язык» с понятием «код», а речь с сообщением? В свете теории Ельмелева
такое отождествление недопустимо […]. Напротив, с точки зрения соссюровской
лингвистики оно безусловно приемлемо […] Аналогичный вопрос можно поставить
применительно к отношению между речью и синтагмой[67].
Мы видели, что речь может быть определена как комбинация различным образом
повторяющихся знаков. Тем не менее устойчивые синтагмы существуют и в самом
языке (Соссюр приводит В качестве примера сложное слово magnаnimиs)*. […] Следовательно, граница между языком и речью
оказывается расплывчатой. Соссюр мимоходом обратил на это внимание: «Вероятно,
существует целая группа фраз, принадлежащих языку; говорящему индивиду не
приходится самостоятельно составлять их»[68].
Но если подобные стереотипы принадлежат языку, а не речи и установлено, что к
ним прибегают самые различные и многочисленные семиологические системы, то
следует предвидеть возникновение целой лингвистической науки о синтагме,
которая будет заниматься любым «письмом», где силен элемент стереотипности.
Наконец, третья проблема, о которой мы будем говорить, касается соотношения
языка и существенности (то есть собственно значимого элемента языковых единиц).
Некоторые лингвисты (среди них и Трубецкой) отождествляли язык и
существенность, иными словами, выводили за пределы языка все несушественные
черты, а именно комбинаторные варианты. Однако такое отождествление вызывает
сомнения, так как имеются комбинаторные варианты (на первый взгляд,
принадлежащие речи), являющиеся предписанными, то есть «произвольными»*: так, французский язык предписывает глухость звука l
после глухого согласного (oncle) и его сонорность — после сонорного (ongle);
однако такие явления все же принадлежат фонетике, а не фонологии.
Вытекающая отсюда теоретическая проблема сводится к вопросу: сле-
119
дует ли нам допустить, что, в противоположность точке зрения
Соссюра («в языке нет ничего, кроме различий»), недифференцирующие
элементы могут тем не менее принадлежать языку (как социальному установлению)?
Здесь не место вступать в спор по этому вопросу. Скажем только, что с
семиологической точки зрения необходимо признать существование синтагм и
незначимых вариантов, которые имеют, однако, «глоттический» характер, то есть
принадлежат языку. Такого рода лингвистика, которую Соссюр едва предугадывал,
может сыграть важнейшую роль при изучении систем, где многочисленны устойчивые
(или стереотипные) синтагмы; это имеет место в массовых языках, а также в
случаях, когда незначимые варианты образуют совокупность вторичных означающих,
как это имеет место в языках с сильной коннотацией[69]:
на денотативном уровне французское раскатистое r является простым
комбинаторным вариантом, но, к примеру, на театральной сцене оно может
выступить как признак крестьянского произношения, став элементом кода, без которого
сообщение о сельском происхождении говорящего не может быть ни передано, ни
воспринято.
I.1.7.
Завершая разговор о дихотомии язык/речь в лингвистике, введем еще
два дополнительных понятия. Первое из них — идиолект[70]. Идиолект — это
«язык отдельного индивида» (Мартине). Выражением «идиолект» можно обозначить:
1) язык больного, страдающего афазией; он не понимает собеседника и не получает
от него сообщений, соответствующих его собственным языковым моделям. По
Якобсону, такой язык является чистым идиолектом; 2) «стиль» того или иного
писателя, хотя этот стиль всегда несет на себе печать известных языковых
моделей, доставшихся ему по традиции, то есть от определенного коллектива; 3)
наконец, понятие «идиолект» можно расширить и определить его как язык
известного лингвистического коллектива, то есть группы индивидов, одинаково
интерпретирующих любые языковые сообщения. В этом случае понятие «идиолект» в
значительной мере будет совпадать с яв-
120
лением, которое мы попытались описать раньше, назвав его письмом[71].
В целом, те поиски, о которых свидетельствует введение понятия идиолект
в лингвистике, говорят о необходимости выделить явление, промежуточное между
языком и речью (на это указывает и теория узуса у Ельмслева); это
явление есть речь, уже возведенная в ранг установления, но еще не
формализованная в той же степени, как язык […].
1.2. СЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
I. 2.1.
Социологическое значение дихотомии язык/речь очевидно. На родство
соссюровского языка с Дюркгеймовой концепцией коллективного сознания, не
зависящего от своих индивидуальных манифестаций, было указано уже давно. Более
того, говорили даже о прямом влиянии Дюркгейма на Соссюра; возможно, Соссюр
самым внимательным образом следил за спором между Дюркгеймом и Тардом*. Его концепция языка идет от Дюркгейма, а концепция
речи явилась уступкой идеям Тарда об индивидуальном. В дальнейшем эта гипотеза
утратила свою актуальность, так как послесоссюровская лингвистика подходила к
языку в первую очередь как к «системе значимостей», что породило необходимость
его имманентного анализа; имманентный же анализ неприемлем для социологического
исследования. Поэтому, как это ни парадоксально, соссюровское
противопоставление язык/речь стало применяться отнюдь не в
социологии, а в философии, в лице Мерло-Понти*,
который, возможно, является одним из первых французских философов, заинтересовавшихся
учением Соссюра, […] и постулировавшим, что всякий процесс предполагает
наличие системы. Именно так возникла ставшая теперь классической
оппозиция между событием и структурой, плодотворность которой для
изучения истории хорошо известна. Мы знаем также, какое дальнейшее развитие получили
соссюровские понятия в области антропологии: опора на Соссюра слишком очевидна
в трудах Клода Леви-Стросса, чтобы лишний раз напоминать об этом […]. Уже из
этих общих замечаний можно видеть, сколь велики экстра- или металингвистические
возможности раз-
121
вития дихотомии язык/речь. Мы, следовательно, постулируем,
что существует всеобщая категория язык/речь, присущая любым
знаковым системам. За неимением других мы сохраним выражения язык и речь
даже в тех случаях, когда будем говорить о системах, материал которых не
является словесным.
I.2.2.
Мы видели, что разграничение языка и речи составляет сущность именно
лингвистической процедуры; поэтому не имеет смысла применять это разграничение
к системам предметов, образов, способов поведения, еще не подвергнутым
семантическому анализу. Можно лишь предположить, что в некоторых из таких
систем известные совокупности фактов должны принадлежать к категории язык, а
другие — к категории речь. Сразу же отметим, что в процессе этого
семиологического перехода соссюровское разграничение должно претерпеть определенную
трансформацию; ее-то и надо будет зафиксировать. Возьмем, к примеру, одежду. В
зависимости от того материала, который используется в процессе коммуникации,
здесь надо будет различать три разных системы. В словесном описании
одежды, фигурирующем в журнале мод, «речь» отсутствует вовсе: «описанная»
одежда никогда не соответствует индивидуальной реализации правил моды;
это лишь систематизированная совокупность знаков и правил; это — язык в чистом
виде. Однако, согласно соссюровской схеме, языка без речи существовать не
может. Правда, в данном случае язык моды является не продуктом «говорящей
массы», но продуктом группы лиц, которые принимают определенные решения и
сознательно вырабатывают известный код; вместе с тем абстракция, внутренне
присущая всякому языку, материализована здесь в форме письменной речи:
одежда, описанная журналом мод, является языком на уровне «платяной»
коммуникации и речью — на уровне вербальной коммуникации. В сфотографированной
одежде (для простоты предположим, что фотография не дублируется словесным
описанием) язык также создается какой-либо fashion-grоup*; но
здесь он существует уже не как абстракция, ибо фотография всегда представляет
ту или иную конкретную женщину, одетую в какое-либо платье. Фотография дает
полусистематическое состояние одежды: с одной стороны, язык моды возникает
здесь на основе псевдореальной одежды; с другой — сфотографирован-
122
ная манекенщица является, если так можно выразиться, нормативным
индивидом, выбранным в качестве модели из-за своей каноничности; следовательно,
манекенщица представляет собой как бы застывшую «речь», лишенную всякой свободы
комбинаций. Лишь в реальной одежде, на что указал еще Трубецкой[72],
мы наконец обнаружим классическое разграничение языка и речи.
Язык одежды состоит из: 1) совокупности оппозиций, в которых находятся части,
«детали» туалета, вариации которых влекут за собой смысловые изменения (берет
или котелок на голове имеют разный смысл); 2) правил, в соответствии с которыми
отдельные детали могут сочетаться между собой. Речь в данном случае включает в
себя все факты, относящиеся к индивидуальному способу ношения одежды (ее
размер, степень загрязненности, поношенности, личные пристрастия владельца,
свободное сочетание отдельных деталей). Однако отношение, связывающее здесь язык
(костюм) с речью (способ ношения костюма), не похоже на их
диалектическую связь в естественном языке. Бесспорно, способ ношения костюма
обусловлен существованием самого костюма, но костюм всегда предшествует
способу носить его, так как он сначала должен быть изготовлен сравнительно
малочисленной группой лиц.
I.2.3.
Рассмотрим теперь другую знаковую систему — пищу. Здесь мы также без труда
обнаружим соссюровское разграничение. Язык пищи состоит из: 1) правил
ограничения (пищевые табу); 2) совокупности значащих оппозиций, в которых
находятся единицы типа соленый/сладкий; 3) правил сочетания,
предполагающих либо одновременность (на уровне блюда), либо последовательность
(на уровне меню); 4) привычных способов приема пищи, которые, вероятно, можно
рассматривать в качестве своеобразной риторики питания. Что касается чрезвычайно
богатой пищевой «речи», то она включает в себя всевозможные индивидуальные (или
семейные) вариации в области приготовления пищи и сочетания различных ее
компонентов (кухню отдельной семьи, где еложились устойчивые привычки, можно
рассматривать как идиолект). Соотношение языка и речи очень
хорошо видно на примере меню; всякое меню
123
составляется с опорой на национальную, региональную или
социальную структуру, но эта структура реализуется по-разному в зависимости от
дня недели или от конкретного потребителя пищи, подобно тому, как
лингвистическая «форма» наполняется свободными вариациями и комбинациями,
необходимыми говорящему для того, чтобы передать индивидуальное сообщение.
Отношение языка и речи здесь весьма близко к тому, которое имеет
место в естественном языке: язык пищи в целом является продуктом обычая, своеобразного
речевого отстоя. Однако и факты индивидуального новаторства (составление новых
рецептов) могут приобретать характер установления. В любом случае (и в этом
состоит отличие от «языка одежды») здесь исключено действие специальных групп,
принимающих решения: язык пищи строится либо на основе сугубо коллективного
обычая, либо на основе чисто индивидуальной «речи» […].
I.2.5.
Наиболее интересные для анализа системы, по крайней мере те, которые относятся
к социологии массовой коммуникации, являются сложными системами, использующими
разнородный знаковый материал. В телевидении, в кино, в рекламе возникновение
смыслов зависит от взаимодействия изображения, звука и начертания знаков.
Поэтому преждевременно строго устанавливать для этих систем класс фактов,
относящихся к языку, и класс фактов, относящихся к речи, до тех пор, пока, с
одной стороны, мы не узнаем, является ли «язык» каждой из указанных сложных
систем «оригинальным» или же он просто составлен из входящих в него
вспомогательных «языков», а с другой — пока не проанализируем сами
вспомогательные языки (ведь если нам известен лингвистический «язык», то мы
ничего не знаем о «языке» изображений или «языке» музыки). Что касается прессы,
которую с достаточным основанием можно рассматривать как автономную знаковую
систему, то, даже если ограничиться ее письменным аспектом, мы почти ничего не
знаем о лингвистическом явлении, играющем здесь первостепенную роль, — о
коннотации, то есть о возникновении системы вторичных, так сказать
паразитических по отношению к языку смыслов. Эта вторичная система сама
является «языком», на основании которого возникают факты речи, идиолекты и
двойственные структуры. Даже в общем и гипотетическом виде невозможно решить,
какие группы фактов в этих слож-
124
ных системах коннотации относятся к языку, а какие — к речи.
I.2.6.
Распространение дихотомии язык/речь на область семиологии рождает
известные трудности по мере того, как исчезает возможность слепо следовать за
лингвистической моделью и возникает необходимость в ее трансформации. Первая
трудность касается самого диалектического соотношения языка и речи. Что
касается естественных языков, то здесь в языке нет ничего такого, что не
использовалось бы речью, и наоборот, речь не может существовать (то есть не
отвечает своей коммуникативной функции), если она не почерпнута из того
«клада», которым является язык. Подобное соотношение мы наблюдаем, по крайней
мере частично, в системах, подобных пище, учитывая, что здесь факты
индивидуального новаторства могут становиться фактами языка. Однако в
большинстве других семиологических систем язык создается не «говорящей массой»,
а определенной группой людей. Отсюда можно сделать вывод, что в большинстве
семиологических языков знак действительно «произволен»[73],
так как создается искусственно в результате одностороннего решения. […] Тот,
кто пользуется такими языками, выделяет в них сообщения («речь»), но не
участвует в самом процессе выработки языков […]. Однако если искусственность
языка не затрагивает коммуникации как установления, если она в какой-то мере
сохраняет диалектическое отношение между системой и ее реализацией, то это
значит, с одной стороны, что те, кто пользуется данным языком, соблюдают заключенный
семиологический «договор» (в противном случае «потребитель» этого языка в той
или иной мере оказывается отмеченным признаком асоциальности: самим
актом коммуникации он сообщает лишь о своей эксцентричности), а с другой — что
искусственно созданные языки все же не вполне свободны («произвольны»).
Коллектив контролирует их минимум тремя способами: 1) в процессе рождения новых
потребностей как следствия общественного развития (таков, например, переход к
полуевропейской одежде в странах современной Африки или возникновение новых
способов питания «на ходу» в индустриальных, урбанизированных обществах); 2) в
результате того, что
125
экономические императивы приводят к исчезновению или к
возникновению тех или иных материалов (искусственные ткани); 3) в результате
того, что господствующая идеология препятствует возникновению новых форм,
ставит ограничения в виде разнообразных табу и в определенном отношении сужает
границы того, что должно считаться «нормальным» […].
I.2.7.
Вторая трудность, связанная с семиологическим расширением дихотомии язык/речь,
касается соотношения «объемов» языка и речи. В речевой деятельности существует
резкое несоответствие между языком как конечной совокупностью правил и речевыми
высказываниями, подчиняющимися этим правилам, количество которых практически
бесконечно. Можно предполагать, что и в таких системах, как код пищи, разница в
объеме «языка» и «речи» будет весьма значительна, так как в рамках кулинарных
«форм» возможно большое количество вариантов и комбинаций; но наряду с этим
существуют системы, где амплитуда комбинаций и свободного сочетания элементов
чрезвычайно мала; […] это системы с «бедной» речью. В системах, подобных моде,
данной через словесное описание, речь отсутствует почти полностью; как это ни
парадоксально, но мы встречаемся здесь с фактом языка без речи. […] Но если
верно положение, что существуют языки без речи или с очень бедной речью, то мы
вынуждены будем пересмотреть теорию Соссюра, согласно которой язык является
всего лишь системой дифференциальных признаков (в этом случае, будучи совершенно
«негативным», он оказывается неуловим вне речи), и дополнить пару язык/речь
третьим, «предзначащим» элементом — материалом или субстанцией, каковая будет
служить необходимои опорой для возникновения значения. В выражении «длинное
или короткое платье» «платье» выступает лишь в роли материальной «опоры»
для варианта (длинное/короткое); только этот вариант полностью
принадлежит языку одежды. Естественный язык не знает подобного разграничения;
здесь невозможно разложить звук, имеющий непосредственное значение, на
семантически инертную часть и на часть, семантически значимую. Таким образом,
мы вынуждены выделить в семиологических (нелингвистических) системах не два, а
три плана: материал, язык и речь; это позволяет понять, каким образом могут
существовать системы, не имеющие «реализации»:
126
здесь наличие первого плана уже обеспечивает материальность
языка. Введение этого плана оказывается тем более оправданным, что оно дает нам
и генетическое объяснение: если в указанных системах «язык» нуждается в
«материале», а не в «речи», то это значит, что в противоположность естественным
языкам эти системы утилитарного, а не знакового происхождения.
II. ОЗНАЧАЕМОЕ И ОЗНАЧАЮЩЕЕ
II.1. ЗНАК
II.1.1.
Означаемое и означающее являются, по Соссюру, составляющими знака. Надо
сказать, что само выражение «знак», которое входит в словарь самых разных
областей человеческой деятельности (от теологии до медицины) и имеет богатейшую
историю (начиная Евангелием и кончая кибернетикой), отличается крайней
неопределенностью. Поэтому его место в соответствующем понятийном поле весьма
неясно, о чем необходимо сказать несколько слов, прежде чем обратиться к
соссюровскому пониманию знака. В самом деле, разные авторы сближают знак с
такими родственными, но одновременно и непохожими друг на друга выражениями,
как сигнал, признак, иконический знак, символ, аллегория.
Это — главные «соперники» знака. Прежде всего следует отметить, что у этих
выражений есть одна общая черта: все они предполагают наличие отношения между
двумя составляющими (relata): означаемым и означающим. Эта общая черта
не может служить для них различительным признаком. Чтобы установить разницу
между ними, надо будет привлечь другие признаки, которые выступят в форме
альтернативы (наличие признака/его отсутствие): 1) предполагает
или не предполагает отношение между составляющими знака психическое
представление одной из этих составляющих; 2) предполагает или не предполагает
это отношение аналогию между составляющими; 3) является ли связь между
составляющими (стимулом и реакцией) непосредственной или нет; 4) полностью ли
совпадают составляющие или же, напротив, одна из них оказывается «шире» другой;
5) предполагает или не предполагает отношение экзистенциальную связь с
субъектом, пользующимся знаком. Каждое
127
из понятий будет отличаться от
остальных в зависимости от того, предстанут названные признаки как положительные
или же как отрицательные (маркированные/немаркированные) . […]
Мы покажем, как эти понятия классифицируются в работах четырех авторов —
Гегеля, Пирса, Юнга и Валлона […]:
|
|
Сигнал |
Признак |
Иконический знак |
Символ |
Знак |
Аллегория |
|
1. Психическое представление |
Валлон — |
Валлон — |
|
Валлон + |
Валлон + |
|
|
2. Аналогия |
|
|
Пирс + |
Гегель + Валлон + Пирс — |
Гегель — Валлон — |
|
|
3. Непосредственность связи |
Валлон + |
Валлон — |
|
|
|
|
|
4. Адекватность |
|
|
|
Гегель — Юнг — Валлон — |
Гегель + Юнг + Валлон + |
|
|
5. Экзистенциальность |
Валлон + |
Валлон — Пирс + |
|
Пирс — Юнг + |
|
Юнг — |
Легко
обнаружить, что терминологические противоречия касаются по преимуществу понятий
признак (для Пирса он экзистенциален, для Валлона — нет) и символ
(для Гегеля и Валлона между составляющими символа существует отношение
аналогии, или «мотивированности», для Пирса — нет; более того, утверждаемая
Юнгом экзистенциальность символа отрицается Пирсом). Но нетрудно заметить и то,
что эти противоречия, ощутимые, если читать таблицу по вертикали. находят свое
объяснение, более того — как бы компенсируются, если начать читать ее по
горизонтали, рассмотрев все понятия на уровне одного и того же автора. Так, по
Гегелю, отношение аналогии между составляющими символа существует в противоположность
составляющим знака; и если Пире отрицает в символе наличие этого отношения, то
только потому, что приписывает его иконическому знаку. Если использовать
семиологическую терминологию, то можно сказать, что значение рассматриваемых
выражений возникает лишь вследствие того, что они противопоставлены (обычно
попарно) друг другу.
Пока
существует оппозиция, выражение сохраняет однозначность; в частности, сигнал
и признак, символ и знак являются функтивами двух
различных функций, которые сами могут стать членами более общей оппозиции, как
это имеет место у Валлона, терминологии которого свойственны большая полнота и
ясность[74].
Выражения же иконический знак и аллегория полностью относятся к
словарю Пирса и Юнга. Итак, вслед за Валлоном мы можем сказать, что в группе,
образуемой выражениями сигнал и признак, психическое
представление их составляющих отсутствует, но оно имеется в группе, куда входят
символ и знак. Кроме того, в сигнале, в противоположность признаку,
есть отношение непосредственной связи и экзистенциальности (признак же —
это только след). И, наконец, символ отличает отношение аналогии между
составляющими и их неадекватность (представление о христианстве «шире»
представления о кресте). Напротив, в знаке отношение между составляющими
является немотивированным и адекватным (не существует аналогии между словом бык
и образом быка, который полностью «исчерпывается» соответствующим
означающим).
II.1.2.
В лингвистике понятие знака не смешивается с родственными выражениями. Чтобы
указать на отношение значения, Соссюр сразу же отказался от слова символ
(так как оно связано с представлением о мотивированности) и предпочел выражение
знак, который определил как единство означающего и означаемого
(наподобие лицевой и оборотной стороны листа бумаги), или акустического образа
и психического представления […]. Это чрезвычайно важное положение необходимо
129
особо отметить, так как существует тенденция употреблять слово знак вместо слова означающее, в то время как для Соссюра речь идет о знаке как о двусторонней сущности. Отсюда вытекает весьма важное следствие, что, по крайней мере для Соссюра, Ельмслева и Фрея, поскольку означаемое входит в знак, семантика должна быть составной частью структурной лингвистики, в то время как американские языковеды, подходя к этому вопросу механистически, считают, что означаемые являются субстанциями, которые должны быть исключены из лингвистики и стать предметом изучения психологии […].
II.1.3.
Итак, знак состоит из означающего и означаемого. Означающие образуют план
выражения языка, а означаемые — его план содержания. В каждый из
этих планов Ельмслев ввел разграничение, которое может оказаться весьма важным
для изучения семиологического (а не только лингвистического) знака. По
Ельмслеву, каждый план имеет два уровня (strata): форму и субстанцию.
Необходимо обратить внимание на новизну определения этих выражений у Ельмслева,
так как за каждым из них стоит богатое лексическое прошлое. Согласно Ельмслеву,
форма — это то, что поддается исчерпывающему, простому и непротиворечивому
описанию в лингвистике (эпистемологический критерий) без опоры на какие бы то
ни было экстралингвистические посылки. Субстанцией является совокупность
различных аспектов лингвистических феноменов, которые не могут быть описаны без
опоры на экстралингвистические посылки. Поскольку оба уровня выделяются как в
плане выражения, так и в плане содержания, в итоге мы получим четыре уровня: 1)
субстанция выражения (например, звуковая, артикуляционная, нефункциональная
субстанция, которой занимается не фонология, а фонетика); 2) форма выражения,
образуемая парадигматическими и синтаксическими правилами (заметим, что одна и
та же форма может воплощаться в двух различных субстанциях — звуковой и
графической); 3) субстанция содержания; таков, например, эмотивный,
идеологический или просто понятийный аспект означаемого, его «позитивный»
смысл; 4) форма содержания; это формальная организация отношений между
означаемыми, возникающая в результате наличия или отсутствия соответствующих семантических
признаков. […] В семиоло-
130
гии разделение форма/субстанция может оказаться полезным и удобным в следующих случаях: 1) когда мы имеем дело с системой, где означаемые материализованы в иной субстанции, чем та, которая присуща самой этой системе (мы видели это на примере моды, данной через словесное описание); 2) когда система предметов обладает субстанцией, являющейся по своей прямой функции не непосредственно значащей, но, на известном уровне, попросту утилитарной: так, например, определенные блюда могут обозначать ситуацию, которая сопровождает обед, однако прямое назначение этих блюд — служить средством питания.
II. 1.4. Сказанное вызывает догадку о природе
семиологического знака в отличие от знака лингвистического. Подобно последнему,
семиологический знак также состоит из означающего и означаемого (в рамках
дорожного кода, например, зеленый цвет означает разрешение двигаться); но они
различаются характером субстанции. Многие семиологические системы (предметы,
жесты, изображения) имеют субстанцию выражения, сущность которой заключается не
в том, чтобы означать. Очень часто такие системы состоят из предметов повседневного
обихода, которые общество приспосабливает для целей обозначения: одежда служит
для того, чтобы укрываться от холода, пища предназначена для питания, и в то же
время они способны означать. Мы предлагаем называть такие утилитарные,
функциональные по своей природе знаки знаками-функциями.
Знак-функция показывает, что его надо анализировать в два этапа (речь здесь
идет об определенной операции, а не о реальной временной последовательности).
Сначала функция «пропитывается» смыслом. Такая семантизация неизбежна: с
того момента, как существует общество, всякое пользование предметом
превращается в знак этого пользования: функция плаща заключается в том,
чтобы предохранить нас от дождя, но эта функция неотделима от знака,
указывающего на определенную погоду. [...] Эта всеобщая семантизация практических
функций предметов имеет основополагающий характер; она показывает, что реальным
может считаться только умопостигаемое. Однако после того, как семиологический
знак возник, общество вновь может превратить его в функциональный предмет.
Общество может его повторно «функционализировать», Представить в виде предмета
обихода: о меховом манто
131
можно рассуждать так, словно оно служит только одной цели —
укрывать от холода. Эта новая «функционализация» предмета, возможная только при
наличии соответствующего вторичного языка, совершенно не тождественна его
первой функционализации: возникающая функция соответствует вторичному
семантическому установлению, относящемуся к области коннотации […].
II.2. ОЗНАЧАЕМОЕ
II.2.1.
В лингвистике долгое время дискутировался вопрос о степени «реальности»
означаемого. Все, однако, сходятся на том, что означаемое является не «вещью»,
а нашим представлением этой вещи. […] Соссюр сам подчеркивал психическую
природу означаемого, назвав его концептом: в слове бык означаемым
является не животное бык, но психический образ этого животного (это
важно для понимания дискуссий о природе знака)[75].
Однако все эти дискуссии носят на себе явный отпечаток психологизма. Мы со
своей стороны предпочли бы присоединиться к стоикам […] и считать, что
означаемое не является ни актом сознания, ни материальной реальностью; оно
может быть определено только из самого процесса обозначения, и такое
определение будет почти полностью тавтологическим.
Означаемое
есть «нечто», подразумеваемое субъектом, употребляющим данный знак. Таким
образом, мы приходим к чисто функциональному определению: означаемое есть одно
из соотносимых составляющих (relata) знака. Единственно, чем означаемое
отличается от означающего, так это тем, что последнее имеет опосредующую функцию.
Подобное же положение мы наблюдаем и в семиологии, где предметы, изображения,
жесты и т.п., поскольку они выступают в роли означающих, отсылают к тому, что
может быть названо лишь при их посредстве. Разница же между языком и
семиологией заключается в том, что семиологическое означаемое может быть
поставлено в связь с языковым означающим: если мы скажем, например, что данный
свитер обозначает долгие осенние прогулки в лесу, то увидим, что означаемое
здесь опосредовано не только означаю-
132
щим, являющимся одеждой (свитер), но и речевым
фрагментом. Явление, при котором язык нерасторжимо «склеивает» означаемое и означающее,
можно назвать изологией знака […].
II.2.3.
Каковы бы ни были успехи структурной лингвистики, она еще не создала семантики,
то есть не выработала классификации форм словесных означаемых. Поэтому
легко понять, что мы не можем пока предложить и классификацию семиологических означаемых.
В связи с этим попытаемся сделать лишь три замечания. Первое касается способа
актуализации семиологических означаемых, которые могут быть или не быть
изологичны означающим. В случае если изологичность отсутствует, семиологические
означаемые могут найти языковое выражение либо посредством отдельного слова (уик-энд),
либо посредством группы слов (продолжительная поездка за город). Такими
означаемыми легче оперировать, так как исследователь избавлен от необходимости
вырабатывать особый метаязык; однако здесь таится и опасность, поскольку приходится
неизбежно обращаться к семантической классификации (к тому же еще и
неизвестной) самого естественного языка а не к классификации, которая
основывалась бы на свойствах изучаемой системы. Означаемые в системе моды
даже если они опосредованы журнальным текстом, вовсе не обязательно должны распределяться
так же, как и языковые означаемые, поскольку все они обладают разной «длиной»
(тут слово, там — фраза). Если же мы имеем дело с изологичными системами,
означаемое материализуется только в форме своего типического означающего.
Оперировать с ним можно, лишь применив специальный метаязык. Можно, например, опросить
группу лиц относительно значения, которое они приписывают тому или иному
музыкальному фрагменту, предложив им при этом список словесных означаемых (тревожная
музыка, бурная, мрачная, томительная и т.п.); однако на
самом деле все эти словесные знаки относятся к одному-единственному
музыкальному означаемому, требующему единственного означающего, которое не
допускает ни словесного членения, ни метафорического перевода. […] Второе
замечание касается границ распространения семиологических означаемых. Совокупность
означаемых какой-либо
133
формализованной системы образует одну большую функцию. Вполне
вероятно, что эти семантические функции не только взаимодействуют друг с
другом, но и частично друг на друга накладываются. Несомненно, что форма
означаемых в языке одежды частично совпадает с формой означаемых в языке пищи:
обе они основаны на оппозиции труда и праздника, деятельности и отдыха. Отсюда
необходимость глобального идеологического описания всех семиологических систем,
относящихся к одному и тому же синхроническому срезу. И, наконец, третье
замечание: можно предположить, что каждой системе означающих соответствует (в
плане означаемых) совокупность определенных деятельностей и приемов. Эти
совокупности означаемых требуют от потребителей семиологических систем (от их
«читателей») различных знаний (разница зависит от разницы «культуры»). Отсюда
становится ясным, почему одна и та же совокупность означающих может быть неодинаково
дешифрована разными индивидами и при этом оставаться в пределах известного
«языка». В сознании одного и того же индивида может сосуществовать несколько систем
означающих, что обусловливает факт более или менее «глубоких» прочтений.
11.3. ОЗНАЧАЮЩЕЕ
II.3.1.
Природа означающего в целом требует того же изучения, что и природа
означаемого. Означающее есть relatum, его определение нельзя отделить от
определения означаемого. Разница лишь в том, что означающее выполняет
опосредующую функцию: ему необходим материал. Эта материальность означающего
еще раз заставляет напомнить о необходимости отличать материал от субстанции.
Субстанция бывает и нематериальной (например, субстанция содержания);
следовательно, можно сказать, что субстанция означающих всегда материальна
(звуки, предметы, изображения). В семиологии, которая имеет дело со смешанными
системами, использующими различный материал (звук и изображение, предметы и
письмо), было бы полезно объединить все эти знаки, воплощенные в одном и том
же материале, под названием типических знаков; в таком случае
словесные, графические, изобразительные знаки, знаки-жесты оказались бы типическим»
знаками […].
134
П.4.1. […] Значение может быть понято как
процесс. Это акт, объединяющий означаемое и означающее акт продуктом которого и
является знак. Такое разграничение имеет лишь классификационный, а не феноменологический
смысл, во-первых, потому, что семантический акт, как будет видно из дальнейших
рассуждений, не исчерпывается единством означающего и означаемого и значимость
знака обусловлена еще и его окружением; во-вторых, их единство является не
результатом присоединения, а, что будет показано ниже, результатом членения[76].
В самом деле, обозначение (semiosis) не объединяет две односторонние
сущности, не сближает два самостоятельных члена по той простой причине, что и
означаемое и означающее, каждое одновременно является и членом и отношением.
Эта двойственность затрудняет графическое изображение обозначения, которое,
однако, необходимо для семиологии. Напомним о попытках такого изображения:
1) :
По Соссюру, в языке означаемое находится как бы позади означающего; до
него можно добраться только при посредстве последнего. Впрочем, эти метафоры, в
которых слишком сильна идея пространственности, не могут передать
диалектической природы значения; вместе с тем закрытый характер знак имеет лишь
в системах с ярко выраженной дискретностью, например в естественном языке.
2)
ERC. Ельмслев
предпочел чисто графический способ изображения: между планом выражения (Е)
и Планом содержания (С) существует отношение (R). Такая формула
позволяет дать экономное и неметафорическое представление о метаязыках: ER (ERC)[77]
[…].
II.4.2.
Мы видели, что об означающем можно сказать лишь то, что оно является
материальным посредником по отношению к означаемому. Какова природа этого
посредничества? […] Исходя из того факта, что в естественном языке выбор звуков
не навязывается нам смыслом (реальный бык не имеет ничего общего со
135
звуковым комплексом бык) и в других языках тот же смысл
передается при помощи других звуков, Соссюр высказал мысль о произвольности
отношения между означаемым и означающим. Бенвенист оспорил это утверждение[78].
По его мнению, произвольным является отношение между означающим и обозначаемой
«вещью» (между звуковым комплексом бык и животным бык). Но мы уже
видели, что и для самого Соссюра означаемое — это не «вещь», а психическое
представление этой «вещи» (концепт). Ассоциация звуков и представлений
есть продукт коллективного обучения (например, обучения французскому языку).
Эта ассоциация (значение) отнюдь не произвольна (ни один француз не волен ее
изменить), но, напротив, необходима. Поэтому было предложено говорить, что в
языке значение не мотивировано.
Впрочем,
и эта немотивированность не является абсолютной (Соссюр говорил об
относительной аналогии). Означающее мотивировано означаемым в ономатопее, а
также всякий раз, когда новые знаки в языке образуются в результате подражания
готовой словообразовательной или деривационной модели. Слова пильщик, рубщик,
строгальщик и т.п., несмотря на немотивированность их корней и суффиксов,
образованы одним и тем же способом.
Итак,
можно сказать, что в принципе связь означаемого с означающим в языке основана
на договоре и что этот договор является коллективным и обусловлен длительным
историческим развитием (Соссюр писал: «Язык всегда есть наследство»).
[…] Сказанное позволяет прибегнуть к двум терминам, весьма полезным при
переходе в область семиологии: так, мы будем говорить, что система произвольна,
если ее знаки основаны не на договоре, а являются продуктом одностороннего
решения: в естественном языке знак не произволен, но он произволен в моде;
мы будем говорить также, что знак мотивирован, если между означаемым и
означающим существует отношение аналогии. Таким образом, с одной стороны, могут
существовать произвольные и вместе с тем мотивированные системы, а с другой —
непроизвольные и немотивированные […].
136
II.5. ЗНАЧИМОСТЬ
II.5.1.
Мы уже сказали, или по крайней мере дали понять, что рассмотрение знака «в
себе» в качестве простого единства означающего и означаемого — весьма произвольная,
хотя и неизбежная, абстракция. В заключение мы рассмотрим знак не с точки
зрения «строения», а с позиции его «окружения»: речь пойдет о проблеме значимости.
Соссюр не сразу понял важность этого понятия. Но уже начиная со второго курса
лекций по общей лингвистике он стал уделять ему все более пристальное внимание,
так что это понятие в конце концов стало для него основополагающим и даже более
важным, чем понятие значения. Значимость находится в тесной связи с понятием
«язык» (в противоположность речи). Она позволяет освободить лингвистику от
засилия психологии и сблизить ее с экономикой; для структурной лингвистики
понятие значимости является центральным. Соссюр обратил внимание[79],
что в большинстве наук отсутствует двойственность синхронии и диахронии. Так,
астрономия является синхронической наукой (хотя звезды и изменяются); напротив,
геология — наука диахроническая (несмотря на то, что она способна изучать
устойчивые состояния). История по преимуществу диахронична (ее предмет —
последовательность событий), хотя она и может останавливаться на тех или иных
статических «картинах». При этом, однако, существует наука, где диахрония и
синхрония существуют на равных правах; это экономика (политическая экономия —
это не то, что экономическая история); так же обстоит дело, продолжает Соссюр,
и с лингвистикой: в обоих случаях мы имеем дело с системой эквивалентностей
между двумя различными явлениями — трудом и заработной платой, означающим и
означаемым. Однако как в лингвистике, так и в экономике эта эквивалентность существует
не сама по себе: достаточно изменить один из членов, чтобы изменилась вся
система. Чтобы знак или экономическая «стоимость» могли существовать, нужно, с
одной стороны, уметь обменивать непохожие друг на друга вещи (труд и заработную
плату, означающее и означаемое), а с другой — сравнивать вещи, схожие между
собой: можно обменять
137
пятифранковую купюру на булку
хлеба, на кусок мыла или на билет в кино; но вместе с тем можно сравнить эту
купюру с купюрами в десять или пятьдесят франков. Точно так же «слово» может
быть «обменено» на идею (то есть на нечто непохожее на него), но в то же время
его можно сравнить с другими «словами» (то есть с чем-то похожим). Так, в
английском языке значимость слова mutton возникает благодаря тому, что рядом
существует слово sheep*. Смысл
устанавливается окончательно лишь благодаря этой двойной детерминации —
значению и значимости. Итак, значимость не есть значение. Значимость возникает,
писал Соссюр[80], «из взаимного
расположения элементов языка»; она даже важнее, чем значение: «идея или
звуковая материя в знаке менее важны, чем то, что находится вокруг него, в
других знаках». Итак, разграничив вслед за Соссюром значение и значимость и
вновь обратившись к ельмслевским стратам (субстанция и форма), мы тотчас
же увидим, что значение относится к субстанции содержания, а значимость — к его
форме (mutton и sheep находятся в парадигматическом отношении в
качестве означаемых, а не в качестве означающих).
II. 5.2.
Чтобы дать представление о двойственности явлений значения и значимости,
Соссюр прибегнул к сравнению с листом бумаги. Если разрезать лист бумаги, то мы
получим несколько разной величины кусков (А, В, С), каждый из которых обладает значимостью
по отношению ко всем остальным; с другой стороны, у каждого из этих кусков есть
лицевая и оборотная сторона, которые были разрезаны в одно и то же время
(А-А' В-В', С-С'): это — значение.
Сравнение
Соссюра замечательно тем, что оно дает оригинальное представление о процессе
образования смысла: это не простая корреляция между означающим и означаемым, а акт
одновременного членения двух аморфных масс, двух «туманностей», по
выражению Соссюра. Действительно, Соссюр писал, что, рассуждая чисто
теоретически, до образования смысла идеи и звуки представляют собой две бесформенные,
мягкие, сплошные и параллельно существующие массы субстанций. Смысл возникает
тогда, когда происходит одновре-
138
менное расчленение этих двух
масс. Следовательно, знаки суть articuli*;
перед лицом двух хаотических масс смысл есть упорядоченность, и эта
упорядоченность по существу своему есть разделение. Язык является посредующим
звеном между звуком и мыслью; его функция состоит в том, чтобы объединить звук
и мысль путем их одновременного расчленения […]. Приведенное сравнение
позволяет подчеркнуть следующий основополагающий факт: язык есть область артикуляции,
а смысл в первую очередь есть результат членения. Отсюда следует, что будущая
задача семиологии заключается не столько в том, чтобы создать предметную лексику,
сколько в том, чтобы установить способы членения человеком реального мира […].
III. СИНТАГМА И
СИСТЕМА
III.1. ДВЕ ОСИ
ЯЗЫКА
III.1.1.
Для Соссюра отношения, связывающие языковые элементы, могут принадлежать двум
планам, каждый из которых создает собственную систему значимостей. Эти два
плана соответствуют двум формам умственной деятельности. Первый план — синтагматический.
Синтагма есть комбинация знаков, предполагающая протяженность; эта
протяженность линейна и необратима: два звука не могут быть произнесены в один
и тот же момент. Значимость каждого элемента возникает как результат его
оппозиции к элементам предшествующим и последующим: в речевой цепи элементы
объединены реально, in praesentia; анализом синтагмы будет ее членение.
Второй план — ассоциативный (по терминологии Соссюра). «Вне процесса
речи слова, имеющие между собой что-либо общее, ассоциируются в памяти так, что
из них образуются группы, внутри которых обнаруживаются разнообразные отношения»[81].
Слово обучать может ассоциироваться по смыслу со словами воспитывать
или наставлять, а по звучанию — со словами вооружать, писать;
каждая такая группа образует виртуальную мнемоническую серию, «клад памяти»; в
отличие от синтагм в каждой серии элементы объединены in absentia.
139
Анализ ассоциаций заключается в их классификации. Синтагматический и ассоциативный планы находятся
в тесной связи, которую Соссюр
пояснил при помощи следующего
сравнения: каждый языковой элемент подобен колонне в античном храме; эта колонна находится в реальном отношении смежности с другими
частями здания, с архитравом,
например (синтагматическое отношение).
Но если это колонна дорическая, то она вызывает у нас сравнение с другими архитектурными ордерами, например ионическим или коринфским.
Здесь мы имеем дело с виртуальным
отношением субституции, то есть с
ассоциативным отношением. Оба плана связаны между собой таким образом, что синтагма может разворачиваться лишь тогда, когда она черпает все
новые и новые единицы из
ассоциативного плана. Со времен Соссюра анализ ассоциативного плана получил
значительное развитие; изменилось
даже его название; сейчас говорят
уже не об ассоциативном а о парадигмагическом[82] или же о систематическом плане (это
последнее выражение мы и будем
употреблять в данной работе). Очевидно, что ассоциативный план теснейшим
образом связан с языком как системой, в
то время как синтагма оказывается ближе к речи [...].
III.1.2. Соссюр предугадал, что синтагматика и
парадигматиuка должны соответствовать двум формам умственной деятельности человека, что означало
выход за пределы лингвистики, как
таковой. Этот выход осуществил Якобсон в знаменитой ныне работе[83]. Он
выявил оппозицию метафоры (систематика) и метонимии (синтагматика) в нелингвистических языках. Все
«высказывания» относятся либо к
метафорическому, либо к метонимическому типу. Разумеется, в каждом из этих
типов нет исключительного
господства одной из названных моделей
(поскольку для любого высказывания необходима как синтагматика, так и систематика);
речь идет лишь о доминирующеи
тенденции.
К метафорическим высказываниям относятся русские народные лирические песни, произведения романтиков
и символистов, сюрреалистическая
живопись, фильмы
140
Чарли Чаплина (наплывы, накладываюшиеся друг на друга, являются
самыми настоящими кинематографическими метафорами), символика сновидений по
Фрейду. К высказываниям метонимическим (с преобладанием синтагматических
ассоциаций) принадлежат героические эпопеи, произведения писателей реалистической
школы, фильмы Гриффита (крупные планы, монтаж, вариации угла зрения при съемке)
и онирические видения. Список Якобсона можно дополнить. К метафоричности
тяготеют дидактические сочинения (их авторы охотно прибегают к такого рода
определениям), тематическое литературоведение, афористические высказывания;
метонимия преобладает в произведениях массовой литературы и в газетной беллетристике
[…].
III.1.3.
Открытие Якобсона, касающееся существования высказываний с метафорической или
метонимической доминантой, открывает путь для перехода от лингвистики к
семиологии. Оба плана, обнаруженные в естественном языке, должны существовать и
в других знаковых системах; […] главной задачей семиологического анализа
является распределение обнаруженных фактов по этим двум осям […].
|
|
Система |
Синтагма |
|
Одежда |
Совокупность
частей, деталей одежды, которые нельзя одновременно надеть на одну и ту же
часть тела; варьирование этих деталей влечет за собой изменение «смысла»
одежды: шляпка/чепчик/капор и т.д. |
Сочетание
в пределах одного и того же костюма разных элементов: юбка — блузка —
куртка |
|
Пища |
Совокупность
однородных и несходных блюд; выбор того или другого из них меняет смысл;
таково варьирование первых, вторых блюд или десертов |
Реальная последовательность подачи блюд на стол во время приема пищи: меню |
|
|
«Меню»,
например, подаваемое в ресторане, актуализирует оба плана: знакомство со
всеми первыми блюдами, т. е. горизонтальное чтение есть чтение системы:
чтению синтагмы соответствует чтение меню по вертикали. |
|
141
Продолжение
|
|
Система |
Синтагма |
|
|
Меблировка |
Совокупность «стилистических» вариаций одного и того же предмета обстановки (кровати, например) |
Сочетание различных предметов обстановки в пределах одного и того же пространства (кровать—шкаф—стол и т.д.) |
|
|
Архитектура |
Стилевые варианты какого-либо элемента здания, различные формы крыши, балконов, входных проемов и т.п. |
Сочетание деталей между собой в пределах архитектурного ансамбля |
|
III.2. СИНТАГМА
III.2.1. Мы видели (1.1.6.), что речь
(в соссюровском смысле слова) обладает синтагматической природой, поскольку она
может быть определена как комбинация знаков. Произнесенная вслух фраза представляет
собой настоящий образец синтагмы. Итак, синтагма чрезвычайно близка к речи. Но,
по Соссюру, лингвистика речи невозможна.
Сам
Соссюр почувствовал, какая здесь таится трудность, и постарался указать, почему
все-таки синтагма не может быть понята как факт речи. Во-первых, потому, что существуют
устойчивые синтагмы, в которых языковой навык запрещает что-либо менять (надо
же! ну его!) и на которые не распространяется комбинаторная свобода,
присущая речи (эти застывшие синтагмы-стереотипы представляют собой своего рода
парадигматические единицы); во-вторых, потому что синтагмы в речи строятся на
основе правильных моделей, которые уже в силу своей правильности принадлежат
языку (слово неопалимый образовано по аналогии со словами неопределимый,
неутомимый и т.п.); существует, следовательно, форма (в
ельмслевском смысле слова) синтагмы, которую изучает синтаксис. Тем не
менее структурная близость синтагмы и речи остается чрезвычайно важным фактом,
[…] который ни на минуту не следует терять из виду.
III.2.2.
Синтагма предстает перед нами в форме цепочки (например, в речевом потоке).
Но мы уже видели (II.5.2), что смысл возникает только там, где есть ар-
142
тикуляция,
то есть одновременное расчленение означающей и означаемой масс. В известном
смысле язык проводит границы в континууме действительности (так,
словесное описание цвета представляет собой совокупность дискретных выражений,
наложенных на непрерывный спектр). Поэтому всякая синтагма ставит перед нами
следующую аналитическую проблему: она является одновременно и сплошной, непрерывной
цепочкой и в то же время может передать смысл, только будучи «артикулированой».
Как расчленить синтагму? Этот вопрос приходится задавать, сталкиваясь с любой
знаковой системой. В лингвистике велись бесконечные споры о природе (иными
словами — о границах) слова; что касается некоторых семиологических систем, то
здесь можно предвидеть значительные трудности. Разумеется, существуют элементарные
знаковые системы с ярко выраженной дискретностью, например дорожный код, где по
соображениям безопасности знаки должны быть четко отграничены друг от друга; но
уже иконические синтагмы, основанные на более или менее полной аналогии с
изображаемыми явлениями, гораздо труднее поддаются членению. Именно в этом,
несомненно, следует искать причину того, что подобные системы почти всегда
сопровождаются словесным описанием (ср. подписи под фотографиями), наделяющим
их дискретностью, которой они сами не обладают. Несмотря на эти трудности,
членение синтагмы является первой и главной операцией, потому что только она
позволяет получить парадигматические единицы системы. Здесь, в сущности,
коренится определение синтагмы; она возникает как результат разделения субстанции.
Синтагма в форме речи предстает как «текст, не имеющий конца». Каким же
образом выделить в этом бесконечном тексте значащие единицы, иными словами, как
определить границы знаков, составляющих синтагму?
III.
2.3. В лингвистике членение «бесконечного текста» осуществляется при помощи испытания,
называемого коммутацией. […] Коммутация заключается в том, что в плане
выражения (означающие) искусственно производит некоторое изменение и наблюдают,
повлекло ли оно соответствующее изменение в плане содержания (означаемые). […]
Если коммутация двух означающих ведет к коммутации означаемых, то это значит,
что в данном фрагменте синтагмы нам удалось выделить
143
синтагматическую единицу. […] В то же время целый ряд изменений
в плане выражения не влечет за собой никаких изменений в плане содержания.
Именно поэтому Ельмслев[84]
отличает коммутацию, которая влечет за собой изменение смысла (дом/том),
от субституции, которая, меняя один из планов, не затрагивает другого (здравствуйте/здрасьте).
[…] В принципе коммутация позволяет постепенно выявлять значащие единицы, из
которых состоит синтагма, готовя почву для их парадигматической классификации.
Понятно, что в естественном языке коммутация возможна только потому, что у
исследователя уже есть определенные представления о смысле этого языка. Однако
в семиологии можно столкнуться с системами, смысл которых неизвестен или
неясен. Можем ли мы с определенностью утверждать, что переходу от чепца к
шляпке, например, соответствует переход от одного означаемого к другому? Чаще
всего семиолог будет иметь здесь дело с промежуточными метаязыками, которые и
укажут ему на соответствующие означаемые, необходимые для коммутации:
гастрономический артикул или журнал мод, например. В противном случае ему
придется терпеливо следить за постоянством и повторяемостью известных изменений,
подобно лингвисту, имеющему дело с незнакомым языком.
III.2.4.
В принципе в результате коммутации выделяются значимые единицы, иными словами —
фрагменты синтагм, несущие определенный смысл. Но пока это только синтагматические
единицы, поскольку они еще не классифицированы. Вместе с тем очевидно, что
они являются также и парадигматическими единицами, ибо входят в виртуальную
парадигму:

В данный
момент будем рассматривать эти единицы только с синтагматической точки зрения.
В лингвистике испытание на коммутацию позволяет получить первый тип единиц —
значимые единицы, в каждой из которых есть план выражения и план содержания;
это монемы, или, если выразиться менее точно, слова, состоящие
144
в свою очередь из лексем и морфем. Но вследствие двойного членения
естественных языков повторная коммутация, теперь уже в пределах монем, выявляет
второй тип единиц — различительные единицы (фонемы). Сами по себе эти единицы
не имеют смысла, но он возникает с их помощью, поскольку коммутация одной из
них внутри монемы влечет за собой изменение смысла (коммутация звонкого и
глухого ведет к переходу от слова «дом» к слову «том»). В семиологии невозможно
заранее судить о синтагматических единицах, которые выделятся в результате
анализа каждой из семиологических систем. Ограничимся здесь тем, что укажем на
три проблемы. Первая касается существования сложных систем и, соответственно,
комбинированных синтагм. Семиологическая система таких предметов, как пища или
одежда, может сопровождаться собственно языковой системой (например, текстом на
французском языке). В этом случае мы имеем графически зафиксированную синтагму
(или речевую цепочку), собственно предметную синтагму, на которую нацелена
синтагма языковая (о костюме или о меню рассказывают на данном естественном
языке). Единицы этих двух синтагм отнюдь не обязательно должны совпадать. Одной
предметной синтагме может соответствовать совокупность синтагм языковых. Вторая
проблема связана с существованием в семиологических системах знаков-функций[85]; […] можно ожидать, что в таких
системах синтагматические единицы окажутся как бы составными и будут содержать
по крайней мере материальную опору значения и вариант в собственном смысле
слова (длинная/короткая юбка). И наконец, вполне вероятно, что мы
встретимся со своего рода «эрратическими» системами, где дискретные знаки к
тому же еще и разделены интервалами, заполненными инертным материалом; так,
«действующие» дорожные знаки разделены промежутками, не имеющими значения
(отрезки дороги, улицы). В этом случае можно говорить о «временно мертвых»
синтагмах.
III.2.5.
После того как для каждой семиологической системы выделены синтагматические
единицы, следует сформулировать правила, в соответствии с которыми они
комбинируются и располагаются в синтагме. Моне-
145
мы в языке, детали костюма, блюда в меню, дорожные знаки вдоль
улицы располагаются в определенном порядке, который является результатом
известных ограничений. Знаки комбинируются свободно, но сама эта свобода,
составляющая сущность «речи», находится под постоянным контролем. (Вот почему,
напомним еще paз, не следует смешивать синтагматику и синтаксис.) И
действительно, способы расположения синтагматических единиц являются
необходимым условием существования самой синтагмы. […] Можно представить себе
целый ряд моделей комбинаторных ограничений (это — «логика» знака). В качестве
примера приведем три типа отношений, в которых, по Ельмслеву, могут нахолнться
две смежные синтагматические единицы: 1) отношение солидарности, при котором
обе единицы взаимно предполагают друг друга; 2) отношение селекции
(простой импликации), когда одна единица предполагает существование другой, но
не наоборот; 3) отношение комбинации, когда ни одна из единиц не
предполагает существования другой. Комбинаторные ограничения фиксируются в
«языке», но «речь» реализует их по-разному; существует, следовательно,
определенная свобода соединения синтагматических единиц. Применительно к
естественному языку Якобсон отметил, что свобода комбинирования языковых единиц
возрастает от фонемы к фразе: свобода строить парадигмы фонем отсутствует
полностью, так как код здесь задается самим языком. Свобода объединять фонемы в
монемы ограничена, поскольку существуют «законы» словообразования. Свобода
комбинировать «слова» во фразы уже вполне реальна, хотя и ограничена правилами синтаксиса,
а также, в известных случаях, сложившимися стереотипами. Свобода комбинировать
фразы является наибольшей, так как здесь отсутствуют синтаксические ограничения
[…]. Синтагматическая свобода, по всей видимости, связана с вероятностными
процессами: существуют вероятности насыщения известных синтаксических форм
известным содержанием; так, глагол лаять может сочетаться с весьма
ограниченным числом субъектов; если речь идет о женском костюме, то юбка
неизбежно должна будет сочетаться либо с блузой, либо со свитером, либо с
курткой и т.п. Это явление сочетаемости называется катализом. Можно
представить себе сугубо формальную лексику, где будет даваться не смысл того
или иного
146
слова, но совокупность других слов, которые могут его
катализировать; вероятности здесь, разумеется, будут варьировать; наименьшая степень
вероятности будет соответствовать «поэтической» зоне речи […].
III.3. СИСТЕМА
III.3.1.
Система образует вторую ось языка. Соссюр представлял ее себе в виде серии ассоциативных
полей, основанных либо на сходстве звучаний слов (обучать, вооружать[86]), либо на
сходстве их смысла (обучать, воспитывать). Каждое ассоциативное
поле содержит в себе запас виртуальных терминов (виртуальных потому, что
в каждом данном высказывании актуализируется лишь один из них). […] Термины ассоциативного
поля (или парадигмы) одновременно должны обладать и сходством и различием,
иметь общий элемент и элемент варьируемый. Для плана означающих в качестве
примера можно привести слова обучать и вооружать, для плана
означаемых — слова обучать и воспитывать. Такое определение
термина через его оппозицию к другому термину кажется очень простым. Однако
здесь скрывается важная теоретическая проблема. Элемент, общий для терминов,
входящих в парадигму (например, элемент -ть в словах обучать и вооружать),
выступает в роли позитивного (не дифференциального) элемента, и это явление,
как кажется, находится в решительном противоречии с постоянными заявлениями
Соссюра о сугубо дифференциальной природе языка, построенного исключительно на
оппозициях: «В языке есть одни только различия и нет позитивных терминовь.
«Рассматривать (звуки) не как звуки, имеющие абсолютную значимость, но значимость
сугубо дифференциальную, относительную, негативную… Констатируя это, нужно идти
значительно дальше и рассматривать всякую значимость в языке как основанную на
оппозициях, а не как позитивную, абсолютную»[87].
И Соссюр продолжает еще более определенно: Одной из черт языка, как и всякой
семиологической системы вообще, является то, что в нем нет разницы между тем,
что отличает одну вещь от другой,
147
и тем, что ее составляет»[88]. Итак, если язык сугубо
дифференциален, как могут в нем существовать недифференциальные, позитивные
элементы? Это объясняется тем, что то, что кажется общим признаком в пределах
одной парадигмы, оказывается сугубо дифференциальным признаком в другой
парадигме, то есть там, где существуют другие принципы релевантности. Иначе
говоря, в оппозиции артиклей le и la звук l является общим
(позитивным) элементом; но зато в оппозиции le/ce он становится
элементом дифференциальным. Однако несмотря на то, что Соссюр сам думал над
этим вопросом, его утверждения могут быть оспорены, как только мы переходим к
семиологическим системам, материал которых не является знаковым по своей
природе и где, следовательно, значимые единицы имеют, очевидно, как позитивную
сторону (опора значения), так и сторону дифференциальную, вариант.
В выражении длинное/короткое платье предметный смысл (относящийся
к феномену «одежда») пронизывает все без исключения элементы (поэтому,
собственно, и идет речь о значимой единице). Но зато в парадигму входят только
два начальных элемента (длинное/короткое), а элемент платье (опора
значения) остается позитивным. Абсолютно дифференциальный характер языка, таким
образом, очевиден лишь для естественных языков. Во вторичных системах
(возникших на основе предметов, предназначенных для практического пользования)
язык оказывается как бы с «примесью»: он включает в себя и дифференциальные
элементы (это — «чистый» язык), но также и позитивный элемент (опора) […].
III.3.3.
Известно, что в языке существуют два типа оппозиций- различительные оппозиции
(между фонемами) и значимые оппозиции (между монемами): Трубецкой предложил
классификацию различительных оппозиций, которую Ж. Кантино попытался распространить
и на значимые оппозиции языка. Поскольку на первый взгляд семиологические
единицы ближе к семантическим чем к фонологическим единицам языка, то мы приведем
здесь классификацию Кантино[89].
[ …] Может
148
показаться, что в семантической (а не в фонологической) системе
число оппозиций бесконечно, поскольку каждое означающее противостоит всем
остальным; однако здесь можно установить определенный принцип классификации,
если в его основу положить типологию отношений между дифференциальным и
общим для членов оппозиции элементом. Кантино получил следующие типы
оппозиций (они могут комбинироваться между собой).
А. КЛАССИФИКАЦИЯ ОППОЗИЦИЙ ПО ИХ
ОТНОШЕНИЮ К СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ
А.l. Одномерные
и многомерные оппозиции. В этих оппозициях элемент, общий для обоих членов
(«основание для сравнения»), не присутствует ни в одной из остальных оппозиций
данного кода (это — одномерные оппозиции) либо же, наоборот,
присутствует и в других оппозициях этого кода (многомерные оппозиции). Возьмем,
к примеру, латинский алфавит. Оппозиция E/F является одномерной, так как общий
элемент F отсутствует во всех остальных буквах алфавита. Напротив, оппозиция
P/R является многомерной, поскольку форма (общий элемент) Р присутствует и в
букве В.
А.2. Пропорциональные
и изолированные оппозиции. В этих оппозициях дифференциальный признак
возведен в ранг своего рода модели. Так, оппозиции Mann/Männer и Land/Länder являются пропорциональными, равно
как и оппозиции (мы) говорим/(вы) говорите и (мы)
сидим/(вы) сидите. Непропорциональные оппозиции являются
изолированными. Они, конечно, наиболее многочисленны. В семантике только грамматические
(морфологические) оппозиции являются пропорциональными. Словарные оппозиции —
изолированные.
В. КЛАССИФИКАЦИЯ ОППОЗИЦИЙ ПО
ОТНОШЕНИЮ МЕЖДУ ИХ ЧЛЕНАМИ
В.l. Привативные
оппозиции. Они наиболее известны. Всякая оппозиция, где означающее одного
члена характеризуется наличием значимого (маркированного) элемента, который
отсутствует в означающем другого члена,
149
называется привативной. Речь, следовательно, идет об общей
оппозиции маркированный/немаркированный. Местоимение они (нет
указания на грамматическии род) выступает как немаркированное по отношению к
маркированному местоимению он (мужской род). Укажем здесь на две важные
проблемы. Первая касается признака маркированности. Некоторые лингвисты
связывают этот признак с понятием исключительности, а немаркированный член
оппозиции — с представленнем о норме. Не маркировано то, что чаще всего
встречается, что привычно; или же это то, что осталось после последовательного
отсечения у маркированного члена его признаков. Так появилось представление о негативной
маркированнасти. В самом деле, немаркированные элементы встречаются в языке
гораздо чаще маркированных. Так, Кантино полагает, что форма rond является
маркированной по отношению к форме ronde. Для него мужской род является
маркированным, а женский — нет. По Мартине, напротив, признак маркированности —
это прибавляемый элемент значения. Это, впрочем, не препятствует существованию
параллелизма между признаками маркированности означающего и означаемого в
оппозиции мужское/женское. Действительно, понятие «мужское» может соответствоватъ
нейтрализации признака рода, некоему абстрактному понятию (врач, шофер);
в противоположность этому женский род всегда маркирован. Признак семантической
маркированности и признак маркированности формальной взаимно предполагают друг
друга: если хотят уточнить род, вводят дополнительный знак. Вторая проблема
касается немаркированного члена оппозиции. К нему применимо выражение нулевая
степень оппозиции. Нулевая степень — это значимое отсутствие.
Наличие нулевой степени свидетельствует о способности любой знаковой системы
порождать смысл «из ничего». Родившись в фонологии, понятие нулевой степени
может быть применено в самых разных областях. Семантика знает нулевые знаки
(«о ”нулевом знаке“ говорят в тех случаях, когда отсутствие эксплицитного
означающего само функционирует как означающее»)[90].
Соответствующее понятие существует и в логике («А находится в нулевом
состоянии, то есть реально не существует, но при
150
известных условиях его можно
вызвать к жизни»)[91]
[…]. Наконец, в риторике на коннотативном уровне отсутствие риторических означающих
само является стилистическим означающим.
В.2. Эквиполлентные
оппозиции. В этих оппозициях оба члена являются эквивалентными, иными
словами, в отличие от привативных оппозиций, здесь нет ни отрицания, ни
утверждения какого-либо признака. В оппозиции foot/feet нет ни того, ни
другого. Семантически такие оппозиции наиболее многочисленны, хотя язык и
стремится в целях экономии заменить их привативными оппозициями, во-первых, потому,
что в них отношение между подобием и различием уравновешено, и, во-вторых,
потому, что они позволяют создавать пропорциональные серии типа: осел/ослица,
царь/царица, тогда как эквиполлентные оппозиции (конь/кобыла) не дают подобных
дериваций.
С. КЛАССИФИКАЦИЯ ОППОЗИЦИЙ ПО
ОБЪЕМУ ИХ СМЫСЛОРАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ
C.l. Постоянные
оппозиции. В этом случае разные означаемые всегда имеют разные означающие. (Je)mange/(nous)mangeons.
Во французском языке первое лицо единственного и первое лицо множественного
числа имеют различные означающие во всех глаголах, временах и наклонениях.
С.2. Устранимые
или нейтрализуемые оппозиции. В этом случае разные означаемые не всегда
имеют разные означающие, так что оба члена оппозиции иногда могут оказаться
идентичными. Во французском языке семантической оппозиции З-е лицо
единственного числа/З-е лицо множественного числа могут соответствовать
то разные (finit/finissent), то одинаковые (фонетически) означающие (mange/mangent).
III.3.4.
Каковы перспективы применения перечисленных типов оппозиций в семиологии? […]
Мы не можем быть уверены, что эти типы, выделенные Трубецким и частично
воспроизведенные у Кантино, приложимы к иным, неязыковым, системам. Легко себе
представить,
151
что существуют и другие типы, в особенности если мы согласимся
выйти за пределы бинарной модели. Мы, однако, попытаемся сопоставить типы
Трубецкого и Кантино тем, что нам известно о двух весьма различных
семиологических системах — дорожном коде и системе моды. В дорожном коде
можно обнаружить многомерные пропорциональные оппозиции (таковы, например, все
оппозиции, построенные на вариации цветов в рамках круга и треугольника,
противопоставленных друг другу); привативные оппозиции (в случае, когда
добавочный признак меняет значение круга); постоянные оппозиции (когда
различным означаемым во всех случаях соответствуют разные означающие). Но дорожныи
код не знает ни эквиполлентных, ни нейтрализуемых оппозиции, что вполне
понятно: во избежание несчастных случаев знаки дорожного кода должны
поддаваться быстрой и недвусмысленной расшифровке. […] В системе моды,
которая, напротив, тяготеет к полисемии, можно обнаружить все типы оппозиций,
за исключением одномерных и постоянных, которые подчеркивали бы узость и
негибкость системы […].
III.3.5. Значение и простота привативной оппозиции (маркированный/немаркированный), которая по определению предполагает наличие альтернативы, заставили поставить вопрос о возможности сведения всех известных оппозиций к бинарной модели, в основе которой лежит наличие или отсутствие признака. Иными словами, вопрос этот касается универсальности бинарного принципа. Очевидно, что бинаризм — явление .чрезвычайно широкое. Уже в течение многих столетии известно, что информацию можно передавать при помощи двоичного кода, и многочисленные искусственные коды, создававшиеся в рамках самых различных обществ, были двоичными, начиная с «bush telegraph» (напомним, в частности, о talking drum* конголезских племен) и кончая азбукой Морзе или двоичным кодом в кибернетике. Но если вернуться к естественным, а не искусственно созданным системам, то универсальный характер бинарного принципа кажется гораздо менее очевидным. Как это ни парадоксально, но сам Соссюр никогда не рассматривал ассоциативное поле как бинарное. Для него число терминов, входящих в ассоциативное поле, не является конечным, а их порядок — строго определенным. «Любой термин можно рассматривать как своего
152
рода центр созвездия, как точку
схождения координируемых с ним других терминов, сумма которых безгранична»[92].
На бинарный характер языка (правда. только на уровне второго членения) обратили
внимание в фонологии. Но абсолютен ли этот бинаризм? Якобсон[93]
полагает, что да; по его мнению, фонологические системы всех языков могут быть
описаны при помощи всего двенадцати бинарных различительных черт,
присутствующих или отсутствующих (в ряде случаев — перелевантных). Мартине[94]
оспорил и уточнил идею универсальности бинарного принципа; бинарные оппозиции
преобладают, но универсальность бинарного принципа далеко не очевидна.
Дискутируемый в фонологии, не примененный в семантике, бинаризм остался
незнакомцем и для семиологии, где до сих пор не установлены типы оппозиций.
Чтобы представить себе сложные оппозиции, можно прибегнуть к модели,
выработанной в лингвистике и сводящейся к «сложной» альтернативе, или к
оппозиции с четырьмя членами: два полярных члена (это или то), один
смешанный (и это и то) и один нейтральный (ни то, ни это). Эти
оппозиции, хотя и более гибкие, чем привативные, не снимают проблемы серийных
парадигм (в противоположность парадигмам, основанным на оппозициях):
универсальность бинаризма до сих пор все еще не обоснована * […].
111.3.6.
Чтобы завершить рассуждение о системе, необходимо сказать несколько слов о
явлении, называемом нейтрализация. В лингвистике это выражение
употребляют тогда, когда релевантная оппозиция утрачивает свою релевантность,
перестает быть значимой. Вообще говоря, нейтрализация систематической оппозиции
происходит под влиянием контекста: синтагма как бы «аннулирует» систему. Так, в
фонологии нейтрализация оппозиции двух фонем может быть следствием той позиции,
которую они занимают в речевой цепи: во французском языке обычно существует оппозиция
между é и е, когда они находятся в конечной позиции (j'aimai/j'aimais); во всех остальных случаях эта оппозиция
153
теряет свою релевантность. Напротив, противопоставление ó/ò
(saute/sotte) нейтрализуется
в конечной позиции (pot, mot, eau). Оба нейтрализованных признака объединяются в одном общем
звуке, называемом «архифонема»; e~ изображают при помощи прописной буквы: é/è
= Е; ó/ò = О. В семантике к изучению нейтрализации только
еще приступили, так как до сих пор не выявлена семантическая «система»: Ж. Дюбуа[95]
отметил, что в некоторых синтагмах семантическая единица может утрачивать
релевантные признаки: так, в начале семидесятых годов XIX века в выражениях
типа эмансипация трудящихся, эмансипация масс, эмансипация
пролетариата можно было коммутировать часть плана выражения, не меняя при
этом смысла сложной семантической единицы. Что касается семиологических систем,
[…] то дорожный код не может примириться ни с какой нейтрализацией, ибо она
противоречит его основной цели — быстрому и недвусмысленному чтению небольшого
количества знаков. Напротив, в моде, с ее полисемическими (и даже
пансемическими) тенденциями, нейтрализации весьма многочисленны. Обычно фуфайка
отсылает нас к представлению о море, а свитер — представлению о горах;
но в то же время мы можем говорить о фуфайке или свитере для
морской прогулки; релевантность оппозиции фуфайка/свитер
оказывается утраченной; два предмета оказываются как бы поглощенными
«архипредметом» типа «шерстяное изделие». С семиологической точки зрения (то
есть не принимая во внимание второе членение, а именно членение собственно
различительных единиц), можно сказать, что нейтрализация имеет место тогда,
когда два означающих отсылают к одному и тому же означаемому или наоборот (так
как нейтрализация означаемых тоже возможна). Здесь следует ввести два полезных
понятия — понятия дисперсивного поля и барьера безопасности.
Дисперсивное поле образовано вариантами реализаций какой-либо единицы
(например, фонемы), которые не влекут за собою смысловых изменений (то есть не
становятся релевантными); края дисперсивного поля как раз и представляют собой
«барьер безопасности». […] Имея
в виду язык пищи, можно говорить о диспер-
154
сивном поле какого-либо блюда; это поле будет ограждено
границами, в пределах которых данное блюдо остается значимым, каковы бы ни были
индивидуальные новации его «изготовителя». Варианты, образующие дисперсивное
поле, в ряде случаев являются комбинаторными вариантами; они зависят от
комбинации знаков, то есть от непосредственного контекстного окружения (звук d
в слове nada и в слове fonda неодинаков, но различие не влияет на смысл). Кроме того,
существуют индивидуальные, или факультативные, варианты: во
французском языке особенности бургиньонского и парижского произношения звука r
нерелевантны для смысла. Эти варианты долгое время рассматривали как факты
речи. Они и на самом деле очень близки к речи, но в настоящее время их считают
фактами языка, если они имеют «обязательный» характер. Вполне возможно, что в
семиологии, где изучение явлений коннотации должно играть чрезвычайно важную
роль, нерелевантные в языке варианты окажутся в центре внимания. В самом деле,
варианты, не имеющие смыслоразличительной функции в денотативном плане
(например, раскатистое r и r велярное), могут стать значимыми в
плане коннотативном. Раскатистое r и r велярное могут отсылать к
двум разным означаемым; в устах актера на сцене первое будет обозначать
бургиньонца, а второе — парижанина. Но в денотативной системе это различие так
и не приобретет значения. Таковы некоторые первоначальные возможности применения
понятия нейтрализации. Вообще говоря, нейтрализация представляет собой своего
рода давление синтагмы на систему. Наиболее сильные системы (например, дорожный
код) обладают бедными синтагмами; большие синтагматические комплексы (например,
изображения) тяготеют к неоднозначности смысла.
III.3.7.
Синтагма и
система образуют два плана языка. Хотя пути их изучения пока едва только намечены,
уже сейчас следует предвидеть возможность глубокого анализа того, как края этих
двух планов как бы находят друг на друга, что нарушает нормальное отношение между
системой и синтагмой; иногда способ организации этих двух осей искажается, так
что парадигма, например, превращается в синтагму; наблюдается нарушение обычной
границы в оппозиции синтагма/система; возможно, что значительное
число
155
явлений, связанных с творческим процессом, имеет в своей основе именно это нарушение, словно существует связь между эстетикой и отклонениями от нормы в семантической системе. Очевидно, главным нарушением является переход парадигмы в синтагматический план; обычно в синтагме актуализируется лишь один термин оппозиции, а другой (или другие) остается виртуальным. Нечто иное произойдет, если мы попытаемся создать высказывание, последовательно присоединив друг к другу все падежные формы какого-либо слова. Проблема такого превращения парадигмы в синтагму выдвигалась уже в фонологии. Но наибольший интерес проблема нормы и ее нарушений [...] представляет для семантики, которая имеет дело с единицами значения (а не просто с различительными единицами) и где наложение друг на друга двух языковых осей влечет за собой видимые изменения смысла. С этой точки зрения можно указать три направления исследования. Наряду с классическими оппозициями, основанными на принципе наличия или отсутствия признака, можно выделить оппозиции, в основе которых — способ расположения элементов; например, два слова состоят из одних и тех же элементов, но расположены они по-разному: роза/азор, раб/бра, куст/стук. Игра слов, каламбуры в большинстве случаев возникают именно за счет таких оппозиций. В сущности, в оппозиции Félibres/fébriles достаточно убрать черту, обозначающую оппозицию, чтобы получить необычную синтагму Félibres/fébriles*, фигурировавшую в качестве газетного заголовка. [...] Второе важное направление исследований — изучение рифмы. На звуковом уровне, то есть на уровне означающих, совокупность рифм образует ассоциативную сферу; существуют, следовательно, рифменные парадигмы; а это значит, что по отношению к этим парадигмам рифмованное высказывание представляет собой фрагмент системы, превращенной в синтагму. В целом рифма представляет собой нарушение дистанции между синтагмой и системой; в ее основе — сознательно достигаемое напряжение между принципом сходства и принципом различия; рифма — это своего рода структурный скандал. Наконец, с творческим нарушением нормы целиком связана вся риторика. Если вспомнить разграничение, предложенное Якобсоном, то легко понять, что всякая метафорическая последовательность представляет собой
156
парадигму, превращенную в синтагму, а всякая метонимия — застывшую и поглощенную системой синтагму. В метафоре селекция становится смежностью, в метонимии смежность становится полем селекции. Творческий акт всегда происходит на границе между этими двумя планами.
IV. ДЕНОТАЦИЯ И КОННОТАЦИЯ
IV. 1.
Мы знаем, что любая знаковая система включает в себя план выражения (Е) и план
содержания (С) и что значение соответствует отношению (R) между этими двумя
планами: ERC. Теперь предположим, что система ERC выступает в роли простого
элемента вторичной системы, экстенсивной по отношению к первой. В результате мы
получим две системы, как бы вставленные одна в другую, но в то же время и разделенные.
Однако такое «разделение» может быть осуществлено двумя совершенно различными
способами; в зависимости от того, каким образом первая система включается во
вторую, мы получим два противоположных явления. В первом случае первая
система (ЕRС) будет служить планом
выражения или означающим по отношению ко второй системе:
![]()
что можно выразить и как (ЕRС) R С. Полученную семиотику Ельмслев назвал коннотатиивной семиотикой; первая система представляет собой денотативный план, а вторая — коннотативный. Поэтому можно сказать, что коннотативная система есть система, план выражения которой сам является знаковой системой. Наиболее распространенные случаи коннотации представлены сложными системами, где роль первой системы играет естественный язык (такова, например, литература). Во втором случае первая система (Е R С) становится уже не планом выражения, как при коннотации, но планом содержания или означаемым по отношению ко второй системе:
![]()
157
что можно выразить так: Е R (Е R С).
Таковы все метаязыки. Метаязык
есть система, план содержания которой сам является знаковой системой; это
семиотика, предметом которой является семиотика. Таковы два пути удвоения
знаковых систем:
|
Sa |
|
Sé |
|
Sa |
|
Sé |
|
|
Sa |
Sé |
|
|
|
Sa |
Sé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коннотация |
Метаязык |
||||||
IV.2.
Систематического изучения явлений коннотаций до сих пор еще не предпринималось
(несколько указаний на нее можно найти в «Пролегоменах» Ельмслева). Однако
несомненно, что будущее принадлежит коннотативной лингвистике, так как в
человеческом обществе на базе первичной системы, образуемой естественным
языком, постоянно возникают системы вторичных смыслов, и этот процесс, то явно,
то нет, непосредственно соприкасается с проблемами исторической антропологии.
Коннотативная семиотика, будучи сама системой, включает в себя означающие,
означаемые и процесс, который их объединяет (значение). Означающие в
коннотативной семиотике, которые мы будем называть коннотаторами,
являются знаками (то есть единством означающих и означаемых) в
денотативной системе; нетрудно понять, что несколько знаков денотативной
системы могут в совокупности образовывать один коннотатор — в случае, если они
отсылают к одному и тому же коннотативному означаемому. Иначе говоря, единицы
коннотируемой системы могут иметь другую величину, нежели единицы денотативной
системы. Обширные фрагменты денотативного высказывания могут образовывать лишь
одну единицу коннотируемой системы (такова стилистика текста, состоящего из
множества слов, но отсылающего к одному-единственному означаемому). Каким бы
способом коннотация ни «накладывалась» на денотативное сообщение, она не может
исчерпать его полностью: денотативных означае-
158
мых всегда больше, чем коннотативных (без этого высказывание
вообще не могло бы существовать). Коннотаторы же в любом случае представляют
собой дискретные, «эрратические» знаки, «натурализованные» денотативным
сообщением, которое несет их в себе. Что же касается коннотативного
означаемого, то оно обладает всеобъемпющим, глобальным, расплывчатым
характером: это — фрагмент идеологии. Так, совокупность высказываний на
французском языке может отсылать нас к означаемому «французское»;
литературное произведение — к означаемому «литература» и т.п. Эти
означаемые находятся в теснейшей связи с нашими знаниями, с культурой,
историей; благодаря им знаковая система оказывается, если так можно выразиться,
пропитанной внешним миром. В сущности, идеология представляет собой форму
(в том смысле, в каком употребляет это слово Ельмслев) коннотативных
означаемых, а риторика — форму коннотаторов.
IV.3. В
коннотатинной семиотике означающие второй системы образованы знаками первой. В
метаязыке дело обстоит наоборот: означаемые второй системы образованы знаками
первой. Ельмслев определяет метаязык следующим образом: если операция
представляет собой описание, основанное на «эмпирическом принципе», то
есть обладает непротиворечивостью (связностью), исчерпывающим характером и
простотой, то метаязык (научная семиотика) является операцией, а коннотативная
семиотика ею не является. Отсюда очевидно, что, например, семиология является
метаязыком, поскольку в качестве предмета изучения она имеет первичный язык
(язык-объект). Язык-объект обозначается при помощи языка семиологии.
Выражение «метаязык» не следует закреплять за одним лишь языком науки: в
случаях, когда естественный язык, рассматриваемый в своем денотативном
аспекте, имеет предметом ту или иную систему значащих объектов, он превращается
в «операцию», то есть в метаязык. Таковы журналы мод, «рассказывающие» о
значеньях одежды. Таким образом, мы здесь имеем дело со сложной системой, где
язык, взятый на денотативном уровне, является метаязыком, но где в то же время
наблюдается и явление коннотации (так как журнал мод обычно не содержит чисто
денотативных высказываний):
159
|
3 |
Коннотация |
Sa риторика |
Sé идеология |
||
|
2 |
Денотация: Метаязык |
Sa |
|
Sé |
|
|
1 |
Реальная система |
|
Sa |
Sé |
|
IV.4. В
принципе ничто не препятствует тому, чтобы метаязык сам стал языком-объектом
для другого метаязыка. Сама семиология может стать таким языком-объектом в
случае, если появится наука, которая сделает семиологию своим предметом. Если
вслед за Ельмслевом мы согласимся считать гуманитарными науками связные,
исчерпывающие и простые языки, то есть операции, то каждая вновь возникающая
наука предстанет как новый метаязык, делающий своим предметом метаязык,
существовавший ранее и в то же время нацеленный на реальный объект, лежащий в
основе всех этих «описаний». Тогда история гуманитарных наук в известном
отношении предстанет как диахрония метаязыков, и окажется, что любая наука, включая,
разумеется, и семиологию, в зародыше несет собственную гибель в форме языка,
который сделает ее своим предметом. Эта относительность, внутренне присущая
всей системе метаязыков, позволяет понять относительность преимуществ семиолога
перед лицом коннотативных языков. […] Сама история, создавая все новые и новые метаязыки, делает его
объективность преходящей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОИСК
Цель
семиологического исследования состоит в том, чтобы воспроизвести
функционирование иных, нежели язык, знаковых систем согласно цели всякого
структурного исследования, которая заключается в создании подобия наблюдаемого
объекта[96].
Чтобы такое исследование стало возможным, необходимо с самого начала (и
160
в особенности — вначале) исходить
из ограничительного принципа. Этот принцип, также сформулированный в
лингвистике, называется принципом существенности[97]:
исследователь принимает решение описывать предстоящие ему факты лишь с одной
точки зрения; следовательно, он будет фиксировать в этой разнородной массе
фактов только те черты, которые важны с данной точки зрения (исключив все остальные).
Такие черты и называются существенными. Так, фонолог рассматривает звуки
лишь с точки зрения смысла, который они порождают, и не интересуется их
физической, артикуляторной природой. В семиологии существенность по определению
связана со значением анализируемых объектов; все объекты исследуются исключительно
с точки зрения их смысла; аналитик не касается, по крайней мере временно, то
есть до того момента, когда система будет воспроизведена с наибольшей степенью
полноты, остальных детерминирующих ее факторов (психологических, социологических,
физических и т.д.). Значение этих факторов, каждый из которых связан с иной,
несемиологической существенностью, не отрицается; но сами они должны быть
рассмотрены в терминах[98]
семиологии, то есть под углом зрения их функции в знаковой системе. Так, очевидно,
что мода теснейшим образом связана с экономикой и социологией, но в
задачу семиолога не входит занятие ни экономикой, ни социологией моды; он
должен только указать, на каком семантическом уровне экономика и социология
соотносятся с семиологической существенностью моды — на уровне ли
образования знака в языке одежды, например, или на уровне ассоциативных
ограничений (табу), или на уровне коннотативных высказываний. Принцип
существенности предполагает имманентный подход к объекту: всякую данную
систему наблюдают изнутри. Впрочем, поскольку границы изучаемой системы
не известны заранее (ведь задача и заключается в том, чтобы эту систему
воспроизвести), вначале принцип имманентности может быть применен лишь к
совокупности совершенно разнородных явлений, которые надо будет рассмотреть с
определенной точки зрения, чтобы выявить их структуру.
161
Эта совокупность должна быть определена исследователем до начала
работы. Такую совокупность называют «корпус». Корпус — это конечная сумма
фактов, заранее выделяемая исследователем в соответствии с его (неизбежно)
произвольным выбором. С этим корпусом он и будет работать. Например, если мы
хотим описать язык пищи современных французов, то мы должны заранее решить, с
каким «корпусом» будем иметь дело — с меню, предлагаемым газетами, с
ресторанным меню, с «реальным» меню за обедом или с меню, о котором нам кто-то
рассказал. Как только корпус будет определен, исследователь обязан строжайшим
образом его придерживаться. Во-первых, он обязан ничего не прибавлять к нему в
ходе исследования; во-вторых, дать его исчерпывающий анализ так, чтобы все без
исключения факты, входящие в корпус, нашли свое объяснение в рамках данной
системы. Каким же образом определить корпус, с которым будет работать исследователь?
Очевидно, это зависит от природы анализируемых фактов: критерии выбора корпуса,
образуемого продуктами питания, будут иными, нежели корпуса форм автомобилей.
Здесь можно дать лишь две общие рекомендации. С одной стороны, корпус должен
быть достаточно обширен, чтобы его элементы заполнили все ячейки, образуемые
целостной системой подобий и различий. Очевидно, что когда исследователь сортирует
известный материал, он по прошествии некоторого времени начинает отмечать факты
и отношения, уже зафиксированные им ранее; такие «повторы» будут становиться
все более и более частыми, пока не останется ни одного нового элемента; это
значит, что корпус «насыщен». С другой стороны, корпус должен быть однороден,
насколько это возможно. Прежде всего однородной должна быть его субстанция;
исследователь заинтересован в том, чтобы работать с материалом, имеющим одну и
ту же субстанцию, подобно лингвисту, имеющему дело лишь со звуковой
субстанцией; равным образом в идеале добротный корпус продуктов питания должен
состоять из однотипного материала (например, в него должны входить одни только
ресторанные меню). Однако на практике исследователь имеет дело со смешанной
субстанцией; так, мода включает в себя и одежду и письменный язык; кино
пользуется изображением, музыкой и речью и т.п. Поэтому приходится принять
162
существование гетерогенных корпусов; но в этом случае следует
четко и последовательно разграничить субстанции, из которых складывается данная
система (в частности, отделить реальные предметы от языка, на котором о них
говорится), иными словами, саму гетерогенность системы подвергнуть структурному
анализу. В принципе из корпуса должен быть устранен максимум диахронических
элементов; корпус должен соответствовать состоянию системы, представлять собою
исторический «срез». Не входя здесь в теоретические споры о соотношении
синхронии и диахронии, скажем только, что с чисто операциональной точки зрения
следует предпочесть корпус обширный, но относящийся к одному временному
моменту, корпусу узкому по объему, но растянутому во времени; так, если объектом
изучения является пресса, надо отдать предпочтение подборке газет, появившихся
одновременно, а не подшивке одной и той же газеты за несколько лет. Есть
системы, которые как бы сами указывают на собственную синхронию; такова мода,
меняющаяся ежегодно. Что касается других систем, то надо брать короткие периоды
их существования, что позволит впоследствии сделать экскурсы и в их диахронию.
Здесь речь идет, конечно, о первоначальных, сугубо операциональных и в
значительной мере произвольных выборах: ведь заранее ничего нельзя сказать о
том ритме, в котором происходит изменение семиологических систем именно потому,
что главной (то есть выявленной в последнюю очередь) целью семиологического
исследования является как раз установление собственного времени этих систем,
создание истории форм.
1965
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ
И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ
В ИСКУССТВЕ[99]
В
сравнении со всеми иными человеческими творениями, художественное произведение
явно кажется образцом преднамеренного творчества. Разумеется, и практическое
творчество преднамеренно, но в нем человек обращает внимание лишь на те
свойства изготовляемого предмета, которые должны служить задуманной цели,
игнорируя все остальные его свойства, безразличные с точки зрения поставленной
цели. Особенно заметным это стало с той поры, когда наступила резкая
дифференциация функций: так, например, в народных орудиях труда, созданных в
среде, где функции были недифференцированы, мы замечаем внимание и к
«нецелесообразным» свойствам (орнаментальные украшения с символической и
эстетической функцией и т.д.), в современной машине или даже орудии труда
осуществляется последовательный выбор свойств, важных с точки зрения данной
цели. Тем резче выступает сейчас различие между практическим и художественным
творчеством, ранее (а в народном творчестве — там, где таковое существует, — и
поныне) недостаточно явственное. Дело в том, что в художественном произведении
вне нашего внимания не остается ни одно из свойств предмета, ни одна из
формирующих его деталей. Свое предназначение — быть эстетическим знаком —
художественное произведение осуществляет как нераздельное целое. Здесь,
несомненно, источник и причина того
164
впечатления абсолютной преднамеренности, которое производит на
нас художественное произведение. Но, несмотря на это или, может быть, даже
именно благодаря этому, более внимательному наблюдателю еще со времен
античности — бросалось в глаза, что в художественном произведении как целом и в
искусстве вообще многое выходит за рамки преднамеренности, в отдельных случаях
преступает границы замысла. Объяснение этих непреднамеренных моментов пытались
найти в художнике, в психических процессах, сопровождающих творчество, в
участии подсознания при возникновении произведения.
[…]
Только современная психология пришла к выводу, что и подсознательное обладает
преднамеренностью, подготовив тем самым предпосылки для отделения проблемы
преднамеренного — непреднамеренного от проблемы сознательного —
подсознательного. К подобным же результатам, впрочем, приходит — независимо от
психологии — и современная теория искусства, которая показала, что может даже
существовать подсознательная норма, то есть преднамеренность,
сконцентрированная в правиле. Мы имеем в виду некоторые современные
исследования в области метрики, образцовым примером которых может служить
работа Я. Рипки «La métrique du Mutaqárib épique persan»
(« Travaux du Cercle linguistique de Prague», VI, 1936, стр. 192 и последующие). В этом труде автор путем
статистического анализа древнеперсидского стиха с абсолютной объективностью
показал, что параллельно метрической основе, подчиняющейся сознательным правилам,
здесь проявлялась тенденция к равномерному распределению ударений и границ
между словами, о которой сами поэты не подозревали и которая вплоть до открытия
Рипки была совершенно незаметна и многим современным европейским
исследователям, являясь тем не менее, как говорит автор, активным эстетическим
фактором. Дело в том, что несовпадения между метрической основой, чрезвычайно
систематичной, и внутренней тенденцией к регулярному расположению ударений и
границ между словами обеспечивали ритмическую дифференциацию стиха, который,
будь он основан исключительно на метрике, стал бы ритмически однообразным […].
165
И,
несмотря на то, что психология сделала очень много для решения вопроса о сознательных
и подсознательных элементах творчества, необходимо поставить проблему
преднамеренности и непреднамеренности в художественном творчестве заново и вне
зависимости от психологии. Подобную попытку и представляет собой наша работа.
Но если мы хотим радикально освободиться от психологической точки зрения, мы
должны отталкиваться не от субъекта деятельности, а от самой деятельности или,
еше лучше, от творений, возникших в результате ее […].
Иначе
обстоит дело в художественном творчестве. Творения художника не преследуют
никакой внешней цели, а сами суть цель; это положение остается в силе и в том
случае, если мы примем во внимание, что художественное произведение вторично,
что под влиянием своих внеэстетических функций, всегда, однако, подчиненных
эстетической функции, оно может приобретать отношение к различнейшим внешним
целям — ведь ни одна из этих вторичных целей недостаточна для полной и
однозначной характеристики направленности произведения, пока мы рассматриваем
его именно как художественное творение. Отношение к субъекту в искусстве также
иное, менее определенное по сравнению с практическими видами деятельности; в то
время как тем субъектом, от которого все зависит, является исключительно и
безапелляционно субъект деятельности или продукта (если мы вообще ставим вопрос
об «авторстве»), здесь — основной субъект не производитель, а тот, к кому
художественное творение обращено, то есть воспринимающий; и сам художник, коль
скоро он относится к своему творению как к творению художественному (а не как к
предмету производства), видит его и судит о нем как воспринимающий. Однако воспринимающий
— это не какое-нибудь определенное лицо, конкретный индивидуум, а кто угодно.
Все это вытекает из того, что художественное произведение не «вещь», а знак,
служащий для посредничества между индивидуумами, причем знак автономный, без
однозначного отношения к действительности; поэтому тем отчетливее выступает его
посредническая роль[100].
Таким образом,
166
и применительно к субъекту
направленность художественного произведения не может быть охарактеризована
однозначно […].
Следовательно,
обе крайние точки, которых в практической деятельности достаточно для характеристики
намерения, породившего деятельность или ее продукт, отступают в искусстве на
второй план. На первый же план выступает сама преднамеренность. Что же, однако,
представляет преднамеренность «сама по себе», если она не определяется
отношением к цели и автору? ·Мы упомянули уже, что художественное произведение
— автономный художественный знак без однозначного предметного отношения; в
качестве автономного знака художественное произведение не вступает отдельными
своими частями в обязательное отношение к действительности, которую оно
изображает (о которой сообщает) с помощью темы, но лишь как целое может вызвать
в сознании воспринимающего отношение к любому его переживанию или комплексу переживаний
(художественное произведение и «означает» жизненный опыт воспринимающего,
душевный мир воспринимающего). Это нужно подчеркнуть в особенности как отличие
от коммуникативных знаков (например, языкового высказывания), где каждая часть,
каждая мельчайшая смысловая единица может быть подтверждена фактом
действительности, на которую она указывает (ср., например, научное
доказательство). Поэтому в художественном произведении весьма важно смысловое
единство, и преднамеренность — это та сила, которая соединяет воедино отдельные
части и придает смысл произведению. Как только воспринимающий начинает
подходить к определенному предмету с расположением духа, обычным для восприятия
художественного произведения, в нем тотчас возникает стремление найти в
строении произведения следы такой его организации, которая позволила бы
воспринять произведение как смысловое целое. Единство художественного
произведения, источник которого теоретики искусства столько раз искали то в
личности художника, то в переживании как неповторимом контакте личности автора
с реальностью, единство, которое формалистическими направлениями безуспешно
толковалось как полная гармония всех частей и элементов произведения (гармония,
какой на самом деле никогда не существует), в действительности
167
может усматриваться лишь в преднамеренности, силе,
функционирующей внутри произведения и стремящейся к преодолению противоречий и
напряженности между отдельными его частями и элементами, придавая тем самым
единый смысл их комплексу и ставя каждый элемент в определенное отношение к
остальным. Таким образом, преднамеренность представляет собою в искусстве
семантическую энергию. Нужно, впрочем, заметить, что характер силы,
способствующей смысловому единству, присущ преднамеренности и в практических
видах деятельности, но там он затемнен направленностью на цель, а иногда
отношением к продуценту. Но как только мы начинаем рассматривать какую-либо
практическую деятельность или предмет, возникший в ее результате, как
художественный факт, необходимость смыслового единства сразу же выступит
совершенно явственно (например, если предметом самоцельного восприятия по
аналогии с танцевальным или мимическим искусством станут рабочие движения или
если машина — как это неоднократно случалось — будет по аналогии с ваянием рассматриваться
нами в качестве произведения изобразительного искусства).
И здесь
мы снова сталкиваемся с вопросом о том, насколько важен в искусстве
воспринимающий субъект: преднамеренность как семантический факт доступна только
тому, чье отношение к произведению не затемнено никакой практической целью.
Автор, будучи создателем произведения, неизбежно относится к нему и чисто
практически. Его цель — завершение произведения, и на пути к этому он встречается
с трудностями технического характера, иногда в прямом смысле слова — с
трудностями ремесла, не имеющими ничего общего с собственно художественной
преднамеренностью. Хорошо известно, что сами представители искусства, оценивая
произведения своих коллег, подчас придают немалую роль умению, с каким в этих
произведениях были преодолены технические трудности, точка зрения, как правило,
совершенно чуждая тому, кто воспринимает произведение чисто эстетически. Далее,
художник может в своей работе руководствоваться и личными мотивами
практического характера (материальная заинтересованность), выступающими,
например, у ренессансных художников совершенно открыто (см. многочисленные
свидетельства такого рода у Ва-
168
зари); и эти критерии заслоняют самоцельную, «чистую»
преднамеренность. Правда, и во время работы художник постоянно должен иметь в
виду художественное произведение как автономный знак, и практическая точка
зрения неустанно и совершенно неразличимо сливается с его отношением к
художественному произведению как к продукту чистой преднамеренности. Но это
ничего не меняет в сути дела: важно то, что в моменты, кoгдa он смотрит на свое
творение с точки зрения чистой преднамеренности, стремясь (сознательно или
подсознательно) сохранить в его организации следы этой преднамеренности, он
ведет себя как воспринимающий, и только с позиции воспринимающего тенденция к
смысловому единству проявляется во всей своей силе и незагуманенной
явственности. Отнюдь не позиция автора, а позиция воспринимающего является для
понимания собственно художественного назначения произведения основной,
немаркированной; позиция художника — сколь парадоксальным ни кажется такое
утверждение — представляется (разумеется, с точки зрения преднамеренности) вторичной,
«маркированной». Впрочем, применительно к произведению такое соотношение между
художником и воспринимающим вовсе не лишено подтверждений в жизненной практике,
и опять-таки нужно только (как мы уже подчеркнули в одном из подстрочных
примечаний) преодолеть в себе современный, связанный исключительно с конкретной
эпохой взгляд на вещи, который мы ошибочно считаем общепринятым всегда и
повсеместно […].
Соотношение
между позицией воспринимающего и позицией автора нельзя охарактеризовать и таким
образом, что одна из этих позиций активна, а другая пассивна. И воспринимающий
активен по отношению к произведению: осознание смыслового единства, происходящее
при восприятии, разумеется, в большей или меньшей мере предопределено
внутренней организацией произведения, но оно не сводится к впечатлению, а носит
характер усилия, в результате которого устанавливаются отношения между
отдельными элементами воспринимаемого произведения. Это усилие творческое даже
в том смысле, что вследствие установления между элементами и частями
произведения сложных, и притом образующих некое единство, отношений возникает
значение, не содержащееся ни в одном из них в отдельности
169
и даже не вытекающее из простого их сочетания. Итог
объединяющего усилия, разумеется, в известной, а порой и в нем алой степени
предопределен в процессе создания произведения, но он всегда зависит частично и
от воспринимающего, который (не важно — сознательно или подсознательно) решает,
какой из элементов произведения принять за основу смыслового объединения и
какое направление дать взаимным отношениям всех элементов. Инициатива
воспринимающего, обычно лишь в незначительной мере индивидуальная а по большей
части обусловленная такими общественными факторами, как эпоха, поколение, социальная
среда и т.д., перед разными воспринимающими (или, скорее, разными группами
воспринимающих) открывает возможность вкладывать в одно и то же произведение
различную преднамеренность, иногда весьма отличающуюся от той, какую вкладывал
в произведение и к какой приспособлял его сам автор: в понимании воспринимающего
может не только произойти замена доминанты и перегруппировка элементов,
первоначально бывших носителями преднамеренности, но носителями
преднамеренности могут стать даже такие элементы, которые первоначально были
вне всякой преднамеренности. Так происходит, например, в том случае, когда на
читателя старого поэтического произведения отмершие, но некогда общепринятые способы
языкового выражения производят впечатление архаизмов, обладающих действенной
поэтической силой.
Активное
участие воспринимающего в создании преднамеренности придает ей динамический
характер: как равнодействующая от пересечения намерений зрителя с внутренней
организацией произведения преднамеренность подвижна и колеблется даже в период
разового восприятия одного и того же произведения или по крайней мере — у
одного и того же воспринимающего при каждом новом восприятии; известно, что чем
живее воздействует произведение на воспринимающего, тем больше разных
возможностей восприятия оно ему предлагает.
[…]
Следовательно, преднамеренность в искусстве может быть постигнута во всей своей
полноте, только если мы взглянем на нее с точки зрения воспринимающего. Мы не
хотим, разумеется, чтобы из этого утверждения делался ошибочный вывод, будто мы
считаем
170
инициативу воспринимающего (в буквальном смысле слова)
принципиально более важной, чем инициативу автора, или хотя бы равноценной ей.
Обозначением «воспринимающий» мы характеризуем известное отношение к
произведению, позицию, на которой находится и автор, пока он воспринимает свое
произведение как знак, то есть именно как художественное произведение, а не
только как изделие. Очевидно, было бы неправильным характеризовать активное
авторское отношение к произведению как принципиально второстепенное (хотя,
конечно, в практике, как это видно на примере народного искусства, возможен и
такой случай); но необходимо было наглядно показать водораздел, отделяющий в
искусстве преднамеренность от психологии художника, от его частной душевной
жизни. А это возможно лишь тогда, когда мы явственно осознаем, что наиболее
чисто воспринимает художественное произведение как знак именно воспринимающий.
Благодаря
освобождению от прямой и односторонней связи с воспринимающим преднамеренность
была депсихологизирована: ее приближение к воспринимающему не делает из нее
психологического факта, поскольку воспринимающий — это не определенный индивид,
а любой человек; то, что воспринимающий вносит при восприятии в воспринимаемое
произведение (позитивная «психология» воспринимающего), различно у разных
воспринимающих и, таким образом, остается вне произведения как объекта. Но в
результате депсихологизации преднамеренности радикально меняется и характер
проблемы, которой наше исследование посвящено в первую очередь, то есть
проблемы непреднамеренности в искусстве, а также открывается новый путь к ее
решению. Обо всем этом будет сказано ниже.
Прежде
всего перед нами возникает вопрос, есть ли в произведении, с точки зрения
воспринимающего, вообще нечто такое, что заслуживало бы названия
непреднамеренности. Если воспринимающий неизбежно стремится воспринять все
произведение как знак, то есть как образование, возникшее из единого намерения
и черпающее в нем единство своего смысла, то может ли перед воспринимающим раскрыться
в произведении нечто такое, что было бы вне этого намерения? И мы действительно
встречаемся в теории искусства со
171
взглядами, пытающимися совершенно исключить из искусства
непреднамеренность.
Понимание
художественного произведения как чисто преднамеренного было, что вполне
естественно, особенно близко направлениям, основывающимся на точке зрения
воспринимающего, в том числе направлениям формалистическим. В кругу
формалистического понимания искусства на протяжении примерно последнего
полустолетия постепенно сформировались два понятия, сводящие художественное
произведение к чистой преднамеренности: это понятия «стилизация» И
«деформация». Первое из них, возникшее в сфере изобразительного искусства,
хочет видеть в искусстве исключительно преодоление, поглощение действительности
единством формы. В теоретических программах оно было популярно особенно в тот
период, когда постимпрессионистские направления в живописи обновляли вкус к
формальному объединению изображаемых предметов и картины в целом и когда в
поэтическом искусстве символизм подобным же образом реагировал на натурализм;
но понятие стилизации проникло и в зарождавшуюся тогда научную объективную эстетику;
так, например, у нас им пользуется О. Зих. Другое понятие — «деформация» —
стало господствующим вслед за понятием «стилизация» опять-таки в связи с
развитием самого искусства, когда с целью акцентирования формы стал
насильственно нарушаться и ломаться формообразующий канон, чтобы вследствие
напряжения между преодолеваемым и новым способом формообразования возникло
ощущение динамичности формы.
Если мы
взглянем сейчас на оба эти понятия, то есть на понятия «стилизация» и
«деформация», ретроспективно, то поймем, что в обоих случаях речь шла, в
сущности, о попытках завуалировать неизбежное присутствие непреднамеренности
как фактора того впечатления, которым художественное произведение воздействует
на нас: понятие «стилизация» хотя и молчаливо, но действенно отодвигает непреднамеренность
за пределы самого художественного произведения — в сферу его антецедентов, в
реальность изображенного предмета или в реальность материала, использованного
при работе над произведением, и эта «реальность» в процессе творчества
преодолевается, «поглощается», а понятие «деформация» стремится свести
непреднамерен-
172
ность к спору между двумя преднамеренностями — преодолеваемой и
актуальной. Сейчас с уверенностью можно сказать, что, несмотря на свою
плодотворность для решения известных проблем, эти попытки окончились неудачей.
ибо преднамеренность неизбежно вызывает у воспринимающего впечатление
артефакта, то есть прямой противоположности непосредственной, «естественной»
действительности, между тем как живое, не ставшее для воспринимающего
автоматизированным произведение наряду с впечатлением преднамеренности (или,
скорее, неотделимо от него и одновременно с ним) вызывает и непосредственное впечатление
действительности или, точнее, как бы впечатление от действительности […].
Как мы
уже показали, в каждом акте восприятия присутствуют два момента: один
обусловлен направленностью на то, что в произведении имеет знаковый характер,
другой, напротив, направлен на непосредственное переживание произведения как
факта действительности. Мы уже сказали, что преднамеренность, с точки зрения
воспринимающего, предстает как тенденция к смысловому объединению произведения
— лишь произведение со смысловым единством представляется знаком. Все, что
сопротивляется в произведении этому объединению, все, что нарушает смысловое
единство, ощущается воспринимающим как непреднамеренное. В процессе восприятия
— как мы уже показали — воспринимающий непрестанно колеблется между ощущением
преднамеренности и непреднамеренности, иными словами, произведение представляется
ему знаком (причем знаком самоцельным, без однозначного отношения к
действительности) и вещью одновременно. Если мы говорим, что оно является
вещью, то хотим этим дать понять, что произведение под влиянием всего
содержащегося в нем непреднамеренного, в смысловом отношении не объединенного
сходно в восприятии зрителя с фактом природы, то есть таким фактом,
который своим строением не отвечает на вопрос «для чего», а оставляет решение о
своем функциональном использовании на волю человека. Именно в этом
обстоятельстве — источник силы и непосредственности его воздействия на
человека. Разумеется, человек, как правило, оставляет факты природы без внимания,
если они не затрагивают его чувства своей загадочностью и если он
173
не предполагает использовать их практически. Но художественное
произведение пробуждает к себе внимание как раз тем, что оно является
одновременно и вещью и знаком. Внутреннее единство, данное преднамеренностью,
вызывает определенное отношение у предмета и создает прочный стержень,
вокруг которого могут группироваться ассоциативные представления и чувства. С
другой же стороны, как вещь без смысловой направленности (такую вещь
произведение представляет собой под влиянием присущей ему непреднамеренности),
оно приобретает способность привлекать к себе разнообразнейшие представления и
чувства, которые могут не иметь ничего общего с его собственным смысловым
наполнением; так про изведение оказывается способным установить интимную связь
с глубоко личными переживаниями, представлениями и чувствами любого
воспринимающего, не только воздействуя на его сознательную духовную жизнь, но и
приводя В движение силы, управляющие его подсознанием. С этого момента всякое личное
отношение воспринимающего к действительности — действенное или медитативное —
будет под этим влиянием в большей или меньшей степени изменено. Следовательно,
художественное произведение так сильно воздействует на человека не потому, что
— как гласит общепринятая формула — оно представляет собой отпечаток личности
автора, его переживаний и т.д., а потому, что оно оказывает влияние на личность
воспринимающего, на его переживания и т.д. И все это, как мы только что
установили, происходит благодаря тому, что в произведении заключен и ощутим
элемент непреднамеренности. Целиком и полностью преднамеренное
произведение, как всякий
знак, было бы неизбежно res nullius[101],
было бы всеобщим достоянием, лишенным способности воздействовать на воспринимающего
в том, что свойственно лишь ему одному.
[…]
Теперь, когда мы осознали, что непреднамеренность — это явление не временное,
характерное только для некоторых (упадочных) художественных направлений, а
неотъемлемо присущее всякому искусству, нужно поставить вопрос, каким образом непреднамеренность
— если мы смотрим на нее с точки зрения воспринимаю-
174
щего — проявляется в художественном произведении. Хотя уже в
предшествующих абзацах мы вынуждены были кое-что сказать по этому поводу, тема
эта нуждается в более систематическом анализе.
Вернемся
еще на мгновение к преднамеренности. Мы сказали, что здесь речь идет о
смысловом объединении. Добавим для большей очевидности, что это смысловое
объединение насквозь динамично; говоря о нем, мы не имеем, следовательно, в
виду общее статическое значение, которое в эстетике традиционно называется
«идеей произведения». Мы, разумеется, не отрицаем, что некоторые художественные
направления или некоторые периоды развития могут создавать произведение так,
чтобы его смысловое построение ощущалось как иллюстрация какого-то общего
принципа. В последний раз искусство пережило такой период сразу после войны. Я
имею в виду экспрессионизм. Так, например, театры тогда обошло несколько произведений,
в которых сцена уже была не «физическим пространством действия, а прежде всего
пространством идеи. Лестницы, подмостки и ступени… имеют свой источник не в
пространственном чувстве, а вырастают, скорее, из потребности идеального
членения, из склонности к символической иерархии персонажей. Движение и ритм
становятся не только главными средствами идейной композиции, но и основой новой
режиссуры и нового актерского искусства», — говорит критик. В это время пишутся
романы-видения, в сущности представляющие собой тезисы в форме романа, и
персонажи их имеют в значительной степени аллегорический характер. Но все это
было лишь кратковременным течением, и ставить проблему «идеи» применительно к
иным формам искусства, чем эта и ей подобные, можно лишь с известной натяжкой.
Зато вневременное значение в качестве принципа смыслового объединения
приобретает объединяющее семантическое устремление, составляющее неотъемлемое
свойство искусства и действующее всегда, в каждом художественном произведении.
Мы назвали его (в исследовании «Генетика смысла в поэзии Махи» и в трактате «О
поэтическом языке» — «Главы из чешской поэтики», т. 1) «семантическим жестом».
Это семантическое устремление является динамическим по двум причинам: с одной
стороны, оно создает единство противоречий, антиномий, на которых основано
смысловое построение произ-
175
ведения, с другой — оно обладает протяженностью во времени, ибо
восприятие всякого произведения, в том числе и произведения изобразительного
искусства, есть акт, который, как это вполне убедительно доказали и
экспериментальные исследования, имеет временную протяженность. Другое различие
между «идеей произведения» и семантическим жестом заключается в том, что идея
носит явственно содержательный характер, обладает определенным смысловым
качеством, тогда как по отношению к семантическому жесту различие между содержанием
и формой не имеет существенного значения: в процессе своего существования
семантический жест наполняется конкретным содержанием, хотя нельзя сказать, что
это содержание вторгается извне — оно рождается в круге досягаемости и в сфере
семантического жеста, который его тотчас при рождении и формирует.
Семантический жест, таким образом, может быть охарактеризован как конкретное,
но качественно отнюдь не предопределенное семантическое устремление. Поэтому,
прослеживая семантический жест в конкретном произведении, мы не можем его
просто высказать, обозначить присущим ему смысловым качеством (как это обычно
делает критика, говоря — с легким оттенком непроизвольного комизма — о том,
что, собственно, содержанием произведения является, например, «выкрик рождения
и смерти»); мы можем только указать, каким способом под его влиянием
группируются отдельные смысловые элементы произведения, начиная с наиболее
внешней «формы» И кончая целыми тематическими комплексами (абзацы, акты в драме
и т.п.). Но за семантический жест, который в произведении ощутит
воспринимающий, ответственны не только поэт и внутренняя организация, внесенная
им в произведение: значительная доля принадлежит здесь и воспринимающему. Более
детальным разбором, например, новейших анализов и критических оценок старых
произведений было бы нетрудно показать, что воспринимающий часто существенно
изменяет семантический жест произведения по сравнению с первоначальным
намерением поэта. В этом заключается активность зрителя, и в этом заключается
также преднамеренность, увиденная его глазами, то есть с позиции
воспринимающего. Итак, воспринимающий вносит в художественное произведение
известную преднамеренность, которая
176
хотя и обусловливается преднамеренным построением произведения
(иначе не было бы внешнего повода к тому, чтобы воспринимающий относился к
предмету, который он воспринимает, как к эстетическому знаку) и в значительной
мере находится под влиянием особенностей этого построения, но, несмотря на это,
как мы только что наблюдали, обладает самостоятельностью и собственной
инициативой. С помощью этой преднамеренности воспринимающий объединяет
произведение в смысловое единство. Все элементы произведения стараются привлечь
к себе его внимание — объединяющий смысловой жест, с которым он приступает к
восприятию произведения, проявляет стремление включить их всех в свое единство.
То обстоятельство, что, с точки зрения автора, некоторые элементы могли
находиться вне преднамеренности, как уже было показано, ни в коей мере не
накладывает каких-либо обязательств на воспринимающего (который не обязан даже
знать, как сам автор смотрит на свое произведение). Разумеется, вполне
естественно, что процесс объединения не проходит гладко: между отдельными
элементами и, еще скорее, между отдельными смысловыми значениями, носителями
которых эти элементы являются, могут выявиться противоречия. Но и эти противоречия
уравновешиваются в преднамеренности именно потому, что — как мы заметили выше —
преднамеренность, семантический жест, представляет собой не статический, а динамический
объединяющий принцип. Таким образом, перед нами вновь возникает вопрос, не
представляется ли воспринимающему все в произведении преднамеренным.
Ответ на
этот вопрос, если нам удастся его найти, приведет нас к самому ядру
непреднамеренности в искусстве. Мы только что сказали, что преднамеренность
способна преодолеть противоречия между отдельными элементами, так что и
смысловая несогласованность может представляться преднамереннои. Допустим, что
определенный элемент стихотворения, например лексика, будет производить на воспринимающего
впечатление «низкой» или даже вульгарной, тогда как тема будет восприниматься с
иным смысловым акцентом, например, как лирически взволнованная. Вполне
возможно, что читатель сумеет найти смысловую равнодействующую двух этих
взаимно противоречащих элементов (намеренно приглушенный лиризм), но
возможно
177
также иное: например, eгo понимание лиризма будет очень строгим
и равнодействующая не появится. Что произоидет в первом и во втором случаях? В
первом случае, когда воспринимающий сумеет объединить взаимно противоречащие
элементы в синтезе, противоречие между ними предстанет как внутреннее
противоречие (одно из внутренних противоречий) данной поэтической структуры; во
втором случае противоречие останется вне структуры, вульгарная лексика будет
расходиться не только с лирически окрашенной темой но и со всем построением
стихотворения: один элемент противопоставлен всем остальным как целому. Этот
элемент, противостоящий всем остальным, воспринимающий станет ощущать как факт
внехудожественный и ощущения, которые будут вызваны противоречием этого
элемента с остальными, также окажутся «внехудожественными», то есть связанными
с произведением не как со знаком, а как с вещью. Возможно и даже весьма
правдоподобно, что эти ощущения отнюдь не будут приятны. Но это в данный момент
неважно. Несомненно, что элемент, который поставит себя против всех
остальных, будет ощущаться как элемент непреднамеренности в данном
произведении. Пример, который мы обрисовали, не выдуман: мы имели в виду позицию
Неруды, особенно раннего, о которой Ф. Kс. Шальда в известном эссе «Аллея грез
и размышлении, ведущая к могиле Яна Неруды» писал: «У Неруды есть строфы и
строки, которые находились в момент своего возникновения на самом острие между
смелым и смешным, и в первую минуту неуверенно трепыхались на бумажных весах
между тем и другим. Сейчас от нас ускользает ощущение и смысл этого, сейчас мы
с трудом ощущаем даже их дерзость: они одержали победу, прижились, стали
всеобщим достоянием, и в результате мы перестали ощущать всю силу их
непосредственности и можем ее представить себе лишь умозрительно… Так, были
когда-то недалеки от смешного следующие две строфы из двух ранних стихотворений
Неруды, в которых сконцентрирована типичная трагика молодой и гордой души, томящейся
в стенах пустой и ленивой эпохи и задыхающейся от полноты собственной, никому
не нужной и не использованной внутренней жизни, две строфы, которые многие из
нас в свое время скандировали если не губами, то по крайней мере сердцем:
178
Из узелка торчат сапоги,
и подошвы у них толстые,
ведь я дал на них кожу
своей непреклонной гордости.
В холодной траве, в палящих грезах своих
вновь вываляюсь,
думая, как, вероятно, опять год жизни
понапрасну растрачу.
В словах
Шальды блестяще выражено колебание между преднамеренностью и
непреднамеренностью, которое проявляется в необычном и еще не стершемся
произведении: стихи Неруды «находились в момент своего возникновения на самом
острие между смелым и смешным и в первую минуту неуверенно трепыхались… между
тем и другим». «Смело» — это ощущение преднамеренного противоречия, проецируемого
внутрь структуры, смешное имеет свой источник в непреднамеренности:
противоречие ощущается вне структуры, как непроизвольное. Если общее отношение
воспринимающего к произведению руководствуется стремлением понять его как
совершенное смысловое единство, вытекающее из единого замысла, это еще,
следовательно, не значит, что произведение целиком и полностью поддается
подобному усилию: всегда может быть, что какой-нибудь элемент произведения
вопреки всем усилиям воспринимающего окажет им такое радикальное
противодействие, что останется целиком вне смыслового единства, образуемого
остальными элементами.
Непреднамеренность,
пока она интенсивно ощущается воспринимающим, всегда кажется глубокой трещиной,
раздваивающей впечатление от произведения […].
Разумеется,
всякой непреднамеренности суждено со временем перейти внутрь художественного построения,
начать восприниматься как его составная часть, стать преднамеренностью. Случай
с Нерудой демонстрирует это достаточно ясно, и Шальда прямо указывает, что
«сейчас от нас ускользает ощущение и смысл этого… [стихи Неруды] одержали
победу, прижились, стали всеобщим достоянием, и в результате мы перестали
ощущать всю силу их непосредственности и можем ее представить себе лишь
умозрительно». Но если художественное произведение переживает эпоху своего
возникновения, если оно спустя некоторое время вновь воздействует как живое,
непреднамеренность пробуждается в
179
нем заново, ибо именно непреднамеренность позволяет ощутить
произведение как факт, обладающий всей настоятельностью непосредственности […].
Приведенные
выше примеры позволяют нам сделать вывод, что непреднамеренность, если мы смотрим
на нее с позиции воспринимающего, проявляется как ощущение раздвоенности
впечатления, вызываемого произведением, как ощущение, объективной основой которого
является невозможностъ смыслового объединения определенного элемента со
структурой произведения в целом. Особенно явственно видно это на примере из
поэзии Неруды, как ее (с точки зрения воспринимающего) интерпретирует Шальда[102]
[…]. Интерпретация Неруды, данная Шальдой, весьма наглядно показала, как
непреднамеренность стремится превратиться в преднамеренность, как элемент,
исключенный из структуры, стремится стать ее составной частью […]. Из этого
следует, как мы, впрочем, уже неоднократно подчеркивали, что отношение между непреднамеренностью,
воспринимаемой с точки зрения автора (идет ли речь о подлинной непреднамеренности
или о непреднамеренности, внесенной автором в произведение специально для
воспринимающего), и непреднамеренностью, на которую мы смотрим глазами
воспринимающего, — отношение отнюдь не пря-
180
мое и не постоянное, а также что внутренняя организация
произведения, хотя воспринимающий всегда именно на основании его будет ощущать
преднамеренность и непреднамеренность, допускает в этом смысле разные
понимания.
[…] Непреднамеренность, несмотря на то, что воспринимающий
постигает ее в произведении как обусловленную, объективно данную в построении
произведения, не предопределена этим построением однозначно; тем более нельзя
предполагать, чтобы то, что представлялось непреднамеренным в произведении,
было непреднамеренным и с точки зрения современного ему поколения.
Все
приведенные нами примеры непреднамеренности касались произведений, переживших
эпоху своего возникновения, то есть постоянных ценностей, но в то же время мы
видели, что элементы, ощущавшиеся в них как непреднамеренные, часто оценивались
отрицательно. Следовательно, возникает вопрос, вредит или способствует
непреднамеренность воздействию произведения и каково вообще ее отношение к
художественной ценности. Пока мы стоим на точке зрения, согласно которой прямая
задача искусства — вызывать эстетическое наслаждение, непреднамеренностъ,
бесспорно, будет представляться нам отрицательным фактором, нарушающим
эстетическое наслаждение; ведь наслаждение проистекает из впечатления всестороннего
единства произведения, единства, по возможности ничем не нарушаемого; элемент
неудовольствия неизбежно вносят в структуру произведения уже противоречия,
которые содержатся в ней самой, и уж тем более, разумеется, противоречия,
нарушающие принципиальное единство структуры (и смыслового построения),
противопоставляя один элемент всем остальным. Этим мы можем также объяснить себе
противодействие воспринимающих, которым сопровождаются случаи открытой (и еще
не стершейся) непреднамеренности в искусстве. Но уже неоднократно указывалось,
что эстетическое недовольство не есть факт внеэстетический (таковым является
лишь эстетическое безразличие), что недовольство представляет собой важную
диалектическую противоположность эстетическому наслаждению и, в сущности, как
элемент эстетического воздействия присутствует повсеместно. Добавим далее, что
недовольство при непреднамерен-
181
ности — это лишь побочный факт, вытекающий из того, что в нашем
впечатлении от произведения с чувствами, связанными с художественным
произведением как знаком (так называемыми эстетическими чувствами), борются
реальные чувства, какие в человеке способна вызывать лишь непосредственная
действительность, по отношению к которой человек привык действовать прямо и
непосредственное влияние которой он привык испытывать.
И здесь мы подходим к вопросу о сущности, или, скорее, о
действии непреднамеренности как фактора восприятия художественного
произведения: непосредственность, с которой на воспринимающего воздействуют
элементы, находящиеся вне единства произведения, делают из художественного
произведения, автономного знака, одновременно и непосредственную реальность,
вещь. В качестве автономного знака произведение парит над действительностью:
оно вступает в отношения с ней только как целое, образно. Всякое художественное
произведение для воспринимающего представляет метафорическое изображение действительности
и в целом, и в любой из ее частностей, лично им пережитых. Когда речь идет о
фактах и событиях, изображенных в художественном произведении, воспринимающий
всегда сознает, «что дело касается преходящих чувств, что мир, собственно,
таков, каким он его знает независимо от этих переж иваний, что, как бы ни было
это произведение прекрасно, то, что он переживает и в художественном
произведении, лишь прекрасная греза и таковою останется» (F. Wеinhаndl, Übег das aufschliessende Symbol, Веrlin,
1929, стр. 17). Здесь, в этой принципиальной «нереальности» художественного
произведения, источник эстетических теорий, рассматривающих искусство как
иллюзию (К Ланге) или ложь (Пола́н). Не исключено, что эти теории
подчеркивают как раз знаковость и единство художественного произведения […].
В этой
связи нужно упомянуть и о теориях, основывавших свое понимание эстетического и
искусства на чувствах. Чувство, хотя и представляет собой весьма зримую сторону
эстетической позиции, особенно позиции воспринимающего, в то же время как раз
является самой прямой и непосредственной реакцией человека на действительность.
Поэтому при построении теории эстетического, основанной на чувствах, возникают
трудности, вызванные необходимостью примирить каким-то
182
образом эстетическую «незаинтересованность» (вытекающую именно
из знакового характера художественного произведения) с пристрастием, типичным
для чувства. Делалось это таким образом, что чувства «эстетические» в
собственном смысле слова объявлялись чувствами, связанными с представлениями, в
отличие от чувств «серьезных» (Ernstgefühle), связанных с
деиствительностью. «Эстетическим состоянием субъекта является, в сущности,
чувство (приятное или неприятное), связанное с наглядными представлениями,
причем эти представления составляют психическую предпосылку чувства.
Эстетические чувства — это чувства, опирающиеся на представления
(Vorstellungsgefühle)», — говорит об этом один из ведущих ученых, разрабатывавших
психологическую эстетику, основанную на теории чувств, Ст. Витасек в сочинении
«Основы всеобщей эстетики» (Лейпциг, 1904, стр. 181). Другие теоретики говорят
даже о «чувствах иллюзорных», или об «иллюзиях чувств», то есть всего лишь
«представлениях о чувствах», или о чувствах «понятийных» (Begriffegefühle)
(К. Ланге, цит. соч., 1, стр. 97, 103
и сл.); третьи пытаются выйти из затруднения с помощью понятия «технических»
чувств (то есть чувств, связанных с художественным построением произведения) ,
которые они и провозглашают сущностью эстетического. Интересно наблюдать, как и
эти теории, основывающие свое понимание эстетического на эмоциях, подчеркивают
пропасть между художественным произведением и действительностью.
Мы
цитировал и взгляды представителей эстетического иллюзионизма и эмоционализма
не для того, чтобы принять их или подвергнуть критике. Они должны были
послужить — при всей ныне уже совершенно явной своей односторонности — лишь
доказательством мысли, что художественное произведение, коль скоро мы
воспринимаем его в качестве автономного эстетического знака, представляется нам
оторванным от прямой взаимосвязи с действительностью, причем не только с
внешней действительностью, но — даже прежде всего — и с действительностью
духовной жизни воспринимающего. Отсюда «фантастический и фиктивный мир» у
Полана, «Scheingefühle»[103]
у Витасека. Этим, однако, не исчерпана
183
вся широта искусства, вся мощь и настоятельность его
воздействия, что чувствуют и сами эстетики иллюзионизма: «Даже самое идеальное
и абстрактное искусство часто нарушается элементами реальными и человеческими.
Симфония вызывает грусть или веселье, любовь или отчаяние. Разумеется, не в
этом состоит высшее назначение искусства, но так проявляется человеческая
природа», — говорит Полан (стр. 99). А в другом месте тот же автор пишет: «Мы
не можем ожидать, что искусство преподнесет нам жизнь абсолютно гармонически;
порой даже в передаче искусства жизнь будет менее гармонична, чем в реальности;
но в определенные моменты именно такая жизнь будет лучше всего отвечать
подавляемым потребностям, чрезвычайно живым в данную минуту» (I, стр. 110).
Здесь очень тонко подмечено осциллирование художественного произведения между
знаковостью и «реальностью», между опосредствованным и непосредственным его
воздействием. Впрочем, нужно подробнее про анализировать эту «реальность».
Прежде всего следует отметить, что здесь речь идет не о более или менее точном,
более или менее конкретном, «идеальном» или «реалистическом» изображении
действительности, а — как уже было отмечено — об отношении произведения к
духовной жизни воспринимающего. Точно так же ясно, что основа знакового
воздействия художественного произведения — его смысловое единство, основа же
его «реальности», непосредственности — то, что в художественном произведении противится
этому объединению, иными словами, то, что в нем ощущается как непреднамеренное.
Только непреднамеренность способна сделать произведение в глазах
воспринимающего столь же загадочным, как загадочен для него предмет, назначения
которого он не знает; только непреднамеренность своим противодействием
смысловому объединению умеет пробудить активность воспринимающего; только
непреднамеренность, которая благодаря отсутствию строгой направленности
открывает путь для самых различных ассоциаций, может при соприкосновении
воспринимающего с произведением привести в движение весь жизненный опыт
воспринимающего, все сознательные и подсознательные тенденции его личности. И в
результате всего этого непреднамеренность включает художественное произведение
в круг жизненных интересов воспринимающего, придает произведению
184
по отношению к воспринимающему такую настоятельность какой не
мог бы обрести знак в чистом виде, за каждой чертой которого воспринимающий
ощущает чье-то чужое, а не свое намерение. Если искусство представляется
человеку всегда новым и небывалым, то способствует этому главным образом
непреднамеренность, ощущаемая в произведении. Разумеется, и преднамеренность
обновляется с новым художественным поколением, с каждой новой творческой
личностью, а в известной мере — и с каждым новым произведением. Однако
современная теория искусства своими исследованиями достаточно определенно
показала, что, несмотря на это непрестанное обновление, воскрешение
преднамеренности в искусстве никогда не бывает совершенно неожиданным и
непредопределенным: развитие художественной структуры образует непрерывныи ряд,
и каждый новый этап есть лишь реакция на этап предшествующий, представляет
собой его частичное преобразование. В развитии непреднамеренности нет видимой
связи: она всегда возникает вновь при несовпадении структуры с общей
внутренней организацией артефакта, в данный момент являющегося носителем этой
структуры. Если новые художественные направления разного типа, подчас весьма
«нереалистические», в своей борьбе против предшествующих направлений ссылаются
на то, что они обновляют в искусстве ощущение действительности, которое было
потеряно в предшествующих направлениях и тем самым обеднило искусство, то они
утверждают, собственно, что оживляют непреднамеренность, необходимую, чтобы
художественное произведение ощущалось как факт жизненного значения.
Бросается
в глаза, хотя и может показаться странным, что непреднамеренность, с помощью
которой, как мы утверждаем, произведение устанавливает связь с действительностью
и, собственно, само становится составной частью действительности, нередко, как
видно уже из приведенных выше примеров, оценивается отрицательно. То, что в
произведении воздействует на воспринимающего как сила, нарушающая смысловое
единство произведения, подвергается осуждению. Каким же образом тогда может
непреднамеренность считаться существенным элементом впечатления, которое
производит художественное произведение на воспринимающего? Прежде всего не
следует забывать, что в качестве
185
нарушающего фактора непреднамеренность выступает лишь с точки
зрения определенного понимания искусства, начавшего развиваться главным образом
с эпохи Ренессанса и достигшего своей кульминации в XIX веке, то есть такого
понимания, для которого смысловое единство является главным критерием оценки художественного
произведения. Средневековое искусство в этом плане было совершенно иным, точнее
сказать, отношение воспринимающего к нему было совершенно иным. В качестве
доказательства приведем небольшое, но характерное замечание, которым в книге
Виликовского «Проза эпохи Карла IV» (1938, стр. 256) сопровождается «Житие св.
Симеона» (рассказ из «Жития святых отцов»): «В чешском переводе [этого рассказа]
отсутствует подробное описание пребывания Симеона в монастыре и мучений,
которые он должен был там переносить, чем в латинском тексте мотивировалось его
бегство из монастыря и опасения за него аббата; интересно, что ни одному из
переписчиков — а, очевидно, также и читателей — пяти древнечешских рукописей
эта недостаточность мотивировки не мешала». Итак, речь идет о принципиальнейшем
нарушении смыслового единства, о нарушении единства темы (нарушения такого рода
мы истолковали выше как несоответствие между значением высказанным и значением
невысказанным), и это нарушение принимают как вещь саму собой разумеющуюся один
за другим переписчики, а вместе с ними, видимо, и читатели. В народной поэзии
нарушение смыслового единства тоже явление обычное. Так, в народной песне очень
часто соседствуют строфы, одна из которых какую-либо вещь или какое-нибудь лицо
прославляет, а другая говорит о них же с насмешкой; комизм и серьезность здесь
сталкиваются порой так близко и без перехода, что общая точка зрения песни в
целом вообще может остаться неясной; воспринимающему эти резкие смысловые скачки
в песне явно не мешают, скорее, даже их неожиданность (увеличенная возможностью
постоянных импровизационных изменений песни) связывает песню в момент
исполнения с реальной ситуацией: если песня адресуется исполнителем
определенному присутствующему лицу (таковы, например, сольные песни,
представляющие собой составную часть обрядов), неожиданное изменение оценки
может весьма действенно — в положительном или отрицательном смысле — задеть
186
эту особу. Напомним, наконец, о пестром смешении разнородных
стилистических элементов в народном искусстве, о несоразмерности частей в
изобразительной манере народной живописи и скульптуры (например,
несоразмерность взаимной величины и значения отдельных частей тела и даже лица
в народных живописных изображениях и пластике — Шоурек). Все это действует на
воспринимающего как результат отсутствия смыслового единства произведения, как
непреднамеренность, и все это как проявление неумелости часто осуждалось теми,
кто смотрел на фольклор с точки зрения высокого искусства. Однако при
адекватном восприятии народного искусства эта непреднамеренность составляет
интегрирующую составную часть впечатления. Таким образом, становится очевидным,
что непреднамеренность является негативным элементом лишь для того восприятия
искусства, к которому мы привыкли, и притом еще, как мы сейчас увидим, элементом,
лишь по видимости негативным.
Дело в
том, что «ошибки», в которых современники упрекали художников […], превращаются
позднее в естественный элемент художественного воздействия произведения (едва
только элемент, противопоставлявший себя остальным, отказываясь вступить с ними
в единство, попадает, с точки зрения воспринимающего, вовнутрь
построения произведения ). И конечно, нужно быть особенно смелым, чтобы утверждать,
что как раз неприятие, которое интенсивно ощущаемая непреднамеренность
возбуждала в воспринимающем, может служить свидетельством живого воздействия
произведения на воспринимающего, свидетельством того, что оно ощущалось как
нечто более непосредственное, чем всего лишь знак. Чтобы мы допустили это,
достаточно осознать, что эстетическое наслаждение ни в коей мере не
единственный и не безусловный признак эстетического, что только диалектическое
соединение наслаждения с недовольством придает полноту художественному
переживанию.
После
всего сказанного может возникнуть впечатление, что непреднамеренность
(рассматриваемую, разумеется с точки зрения воспринимающего, а отнюдь не с
точки зрения автора) мы считаем более важной и существенной для искусства, чем
преднамеренность, что, видя в ней причину того, почему художественное
187
произведение воздействует на воспринимающего с настоятельностью
непосредственности, мы хотим даже объявить непреднамеренный элемент в том
впечатлении, которое мы получаем от художественного произведения, более
необходимым, чем момент смыслового объединения, и, следовательно, более
необходимым, чем преднамеренность. Разумеется, это было бы ошибкой, для которой
наше толкование лишь непроизвольно дало повод, поставив непреднамеренность в
полемике с общепринятым пониманием под слишком интенсивное освещение.
Необходимо еще раз настойчиво подчеркнуть основное положение, из которого мы
исходили: художественное произведение по самой своей сути есть знак, и притом
знак автономный, благодаря чему внимание сосредоточено на внутренней его
организации. Эта организация, разумеется, преднамеренна как с точки зрения
автора, так и с точки зрения воспринимающего, и потому преднамеренность — основной,
можно сказать, немаркированный фактор впечатления, вызываемого художественным
произведением. Непреднамеренность ощущается лишь на ее фоне: ощущение
непреднамеренности может возникнуть у воспринимающего, только если что-то
препятствует его стремлению к смысловому объединению художественного
произведения. Кажется, мы уже сказали, что всем тем, что в нем есть
непреднамеренного, художественное произведение напоминает естественную, не
обработанную человеком действительность; нужно, однако, добавить, что в
подлинном явлении природы, например в обломке камня, скальном образовании,
причудливой форме ветви или корня дерева и т.п., мы можем ощутить
непреднамеренность как активную силу, действующую на наши чувства, представления
и ассоциации, лишь в том случае, если мы будем подходить к такому явлению,
стремясь понять его как знак смыслового единства (то есть единый по значению).
Наглядное свидетельство тому — так называемые мандрагоры, корневища причудливых
форм. Присущей им тенденции к смысловому объединению содействовало то, что по
крайней мере какая-то их часть, пусть малая, «досоздавалась» художественным
вмешательством. Так возникали особые артефакты, которые, сохраняя случайность
природных явлений и, следовательно, преобладание смысловой необъединенности в
своих очертаниях, тем не менее заставляли воспринимающего видеть в них
188
изображения человеческих фигур, то есть знаки. Таким образом,
непреднамеренность представляет собой явление, сопутствующее преднамеренности,
можно даже сказать, что и она есть, собственно, известный вид преднамеренности:
впечатление непреднамеренности возникает у воспринимающего там и тогда, где и когда
стремление понять произведение в его смысловом единстве, объединить весь
художественный артефакт в единственное и единое смысловое целое терпит неудачу.
Преднамеренность
и непреднамеренность, хотя они находятся в постоянном диалектическом напряжении,
в сущности, представляют собой одно и то же. Механической — а уже не
диалектической — противоположностью обеих является семантическая индифферентность,
о которой можно говорить в том случае, если какая-либо часть или элемент
произведения безразличны для воспринимающего, если они находятся вне сферы его
стремления к достижению смыслового единства[104].
Более
подробно осветив тесную взаимосвязь между преднамеренностью и
непреднамеренностью в искусстве, мы устранили возможное недоразумение,
касающееся относительной важности каждого из двух факторов впечатления, которое
вызывается художественным произведением. Следует, разумеется, еще добавить, что
именно в силу своей диалектичности соотношение между участием преднамеренности
и непреднамеренности в создании этого впечатления постоянно изменяется в
процессе конкретного развития искусства и подвержено частым колебаниям: то
больше акцентируется преднамеренность, то сильнее подчеркивается
непреднамеренность. Изложение это, конечно, весьма схематично: отношения между
преднамеренностью и
189
непреднамеренностью могут быть чрезвычайно многообразны, ибо
важно не только количественное преобладание того или иного из этих факторов, но
и качественные оттенки, ими при этом приобретаемые. Разумеется, богатство таких
оттенков, по сути дела, неисчерпаемо; путем более детального исследования их
можно было бы, вероятно, сгруппировать и выявить некоторые общие типы.
Например, преднамеренность может то акцентировать максимальную
беспрепятственность смыслового объединения, по возможности исключающую или маскирующую
все противоречия (как в период классицизма), то, наоборот, проявляться как сила,
преодолевающая явные и подчеркнутые противоречия (искусство после первой
мировой войны); непреднамеренность может быть основана то на непредвиденных
смысловых ассоциациях, то на резких сдвигах в оценке и т.п. Естественно, что и
взаимоотношения преднамеренности и непреднамеренности оказываются иными при
каждом изменении аспектов одного из этих факторов или тем более при изменении
их обоих.
Наконец,
нужно упомянуть еще об одном возможном недоразумении, касающемся на этот раз
взаимосвязи между вопросом о непреднамеренности в художественном произведении и
вопросом о внеэстетических функциях искусства. Поскольку на протяжении этого
исследования преднамеренность часто изображалась как факт, тесно сопряженный с
эстетическим воздействием произведения, а непреднамеренность, напротив,
выступала как следствие контакта художественного произведения с
действительностью, легко может произойти подмена проблемы непреднамеренности
проблемой внеэстетических функций или даже отождествление двух названных
проблем. Это, однако, отнюдь не входило в наши намерения. Внеэстетические
функции искусства, особенно же, разумеется, функция практическая в самых различных
ее разновидностях, конечно, устремлены к действительности вне произведения и
ведут к воздействию на нее, но в силу этого еще не превращают само произведение
в непосредственную действительность, а сохраняют его знаковый характер. Свои
внеэстетические функции произведение осуществляет как знак, а под влиянием
четко выраженной и односторонней внеэстетической функции оно даже становится
более однозначным, чем знак чисто эстетический. Внеэстетические
190
функции, разумеется, вступают в противоречия с эстетической
функцией, но вовсе не со смысловым единством произведения. Доказательством
сказанного может служить тот факт, что явное приспособление произведения к
какой-либо внеэстетической функции может стать интегрирующей составной частью
эстетического, а также и смыслового построения произведения. Следовательно,
противоположность преднамеренности и непреднамеренности — нечто совершенно
иное, чем противоположность внеэстетических функций и функции эстетической.
Внеэстетическая функция может, разумеется, стать составной частью непреднамеренности,
ощущаемой в художественном произведении, но лишь в том случае, если она будет
представляться воспринимающему несоединимой со всем его остальным смысловым
построением […].
Итак,
внеэстетические функции становятся составной частью непреднамеренности лишь
иногда, принципиального же родства между ними и непреднамеренностью в художественном
произведении нет.
Предотвратив
возможные недоразумения, к которым могли дать повод некоторые формулировки нашей
работы, несколько упрощающие для большей четкости изложения слишком сложную
реальную ситуацию, мы подошли к концу своего исследования. Мы не намерены
заключать его, как это принято, резюмированием основных тезисов, поскольку
такое дальнейшее радикальное упрощение могло бы вызвать еще новые упрощения. Но
мы сознаем, что основные положения этой работы ведут к выводам, достаточно
резко отличающимся от общепринятых мнений, и поэтому хотели бы вместо резюме
ясно сформулировать главные из этих выводов.
1. Если
мы будем понимать художественное произведение только как знак, то обедним его,
исключив из реального ряда действительности. Художественное произведение не
только знак, но и вещь, непосредственно воздействующая на духовную жизнь
человека, вызывающая прямую и стихийную заинтересованностъ и проникаюшая своим
воздействием в глубочайшие слои личности воспринимающего. Именно как вещь
произведение способно воздействовать на общечеловеческое в человеке, тогда как
в своем знаковом аспекте оно в конечном счете всегда апеллирует к тому, что в
человеке обусловлено социальными факторами и эпохой. Преднамеренность дает
почувствовать произведение как знак,
191
непреднамеренность — как вещь. Следовательно, противоречие между
преднамеренностью и непреднамеренностью составляет одну из основных антиномий
искусства. Постижение одного только преднамеренного недостаточно для понимания
художественного произведения во всей его полноте и недостаточно для понимания
развития искусства, поскольку именно в самом этом развитии граница между
преднамеренным и непреднамеренным все время перемещается. Понятие «деформация»,
коль скоро с его помощью пытаются свести непреднамеренное к преднамеренному,
затемняет реальное положение вещей.
2.
Преднамеренность и непреднамеренность — явления семантические, а не
психологические: суть их — объединение произведения в некое значащее целое и
нарушение этого единства. Поэтому подлинный структурный анализ художественного
произведения носит семантический характер, причем семантический разбор
затрагивает все компоненты произведения, как «содержательные», так и
«формальные». Нельзя обращать внимание только на тенденцию к объединению
отдельных элементов произведения в общем значении; нужно видеть и
противоположную тенденцию, ведущую к нарушению смыслового единства
произведения.
1943
ЛИНГВИСТИКА И ПОЭТИКА[105]
Междv
научными и политическими конференциями нет, к счастью, ничего общего. Успех политического
собрания зависит от согласия между всеми его участниками или, по крайней мере,
между большинством из них. Что же касается научной дискуссии, то здесь не используются
ни вето, ни голосование, а разногласия, по-видимому, оказываются здесь более продуктивными,
чем всеобщее согласие. Разногласия вскрывают антиномии и точки наибольшего
напряжения в пределах рассматриваемой области и тем самым ведут к новым
исследованиям. Подобного рода научные встречи можно сравнить не с политическими
конференциями, а с исследовательскими работами в Антарктике, когда специалисты
по различным наукам, собравшиеся из разных стран, пытаются нанести на карты
неизвестный район и выяснить, где же лежат самые серьезные препятствия для
исследователя — непреодолимые пики и пропасти. Аналогичная цель была,
по-видимому, главной задачей нашей конференции, и в этом отношении ее работу
следует признать вполне удачной. Разве мы не осознали, какие проблемы являются
наиболее важными и вместе с тем наиболее спорными? Разве мы не научились
переходить от одного кода к другому, уточнять одни термины и отказываться от
употребления других, чтобы избежать недоразумений при общении с людьми,
пользующимися другими научными жаргонами? Мне кажется, что эти вопросы
193
приобрели для всех нас бо́льшую ясность, чем это было три
дня назад.
Мне
предложили выступить и подытожить все сказанное здесь об отношениях между
поэтикой и лингвистикой. Основной вопрос поэтики таков: «Благодаря чему
речевое сообщение становится произведением искусства?» Поскольку содержанием
поэтики являются differentia specifica словесного искусства по отношению к
прочим искусствам и по отношению к прочим типам речевого поведения, поэтика
должна занимать ведущее место в литературоведческих исследованиях.
Поэтика
занимается проблемами речевых структур точно так же, как искусствоведение
занимается структурами живописи. Так как общей наукой о речевых структурах является
лингвистика, поэтику можно рассматривать как составную часть лингвистики.
Следует
подробно рассмотреть аргументы, выдвигаемые против такой точки зрения.
Очевидно,
многие явления, изучаемые поэтикой, не ограничиваются рамками словесного
искусства. Так, известно, что «Wuthering Heights» («Гремящие высоты») можно
превратить в кинофильм, средневековые легенды — в фрески и миниатюры, а « L'Après-midi d'un faune » («Послеполуденный отдых фавна»)
— в балет или графику. Сколь нелепой ни кажется мысль изложить «Илиаду» и
«Одиссею» в виде комиксов, некоторые структурные особенности их сюжета
сохраняются и в комиксах, несмотря на полное исчезновение словесной формы. Сам
вопрос о том, являются ли иллюстрации Блейка к «Божественной комедии»
адекватными или нет, доказывает, что различные искусства сравнимы. Проблемы
барокко или любого другого исторического стиля выходят за рамки отдельных видов
искусства. Анализируя сюрреалистическую метафору, мы не сможем оставить в
стороне картины Макса Эрнста или фильмы Луиса Бунюеля «Андалузский пес» и «Золотой
век». Короче говоря, многие поэтические особенности должны изучаться не только
лингвистикой, но и теорией знаков в целом, то есть общей семиотикой. Это
утверждение справедливо не только по отношению к словесному искусству, но и по
отношению ко всем разновидностям языка, поскольку язык имеет много общих
свойств с некоторыми другими знаковыми системами или даже со всеми
(пансемиотические свойства).
194
Аналогично
этому второе возражение также не содержит ничего такого, что относилось бы
исключительно к литературе: вопрос о связях между словом и миром касается не
только словесного искусства, но и вообще всех видов речевой деятельности.
Ве́дению лингвистики подлежат все возможные проблемы отношения между речью
и «универсумом (миром) речи»; лингвистика должна отвечать на вопрос, какие
элементы этого универсума словесно оформляются в данном речевом акте и как
именно это оформление происходит. Однако значения истинности для тех или иных
высказываний, поскольку они, как говорят логики, являются «внеязыковыми
сущностями», явно лежат за пределами поэтики и лингвистики вообще.
Иногда
говорят, что поэтика в отличие от лингвистики занимается оценками. Такое
противопоставление указанных областей основывается на распространенном, но
ошибочном толковании контраста между структурой поэзии и других типов речевых
структур: утверждают, что эти последние противопоставляются своим «случайным»,
непреднамеренным характером «неслучайному», целенаправленному поэтическому
языку. Однако любое речевое поведение является целенаправленным, хотя цели
могут быть весьма различными; соответствие между используемыми средствами и
желаемым эффектом, то есть поставленной целью, — это проблема, которая все
больше и больше занимает ученых, исследующих различные типы речевой
коммуникации. Между распространением языковых явлений в пространстве и времени,
с одной стороны, и пространственно-временным распространением литературных
моделей — с другой, имеется точное соответствие, гораздо более точное, чем
полагает критика Даже такие дискретные скачки, как возрождение малоизвестных
или вовсе забытых поэтов, например, посмертное открытие и последующая
канонизация творчества Джерарда Мэнли Гопкинса, поздняя слава Лотреамона среди
сюрреалистов и значительное влияние до недавнего времени не признанного
Циприана Норвида на современную польскую поэзию, находят параллель в истории
литературных языков, в которых иногда оживают архаичные, давно забытые модели,
как, например, в литературном чешском языке, где в начале XIX века стали
распространяться модели XIV века.
195
К
сожалению, терминологическое смешение «литературоведения» и «критики» нередко
ведет к тому, что исследователь литературы заменяет описание внутренних
значимостей (intrinsic values) литературного произведения субъективным,
оценочным приговором. Название «литературный критик» столь же мало подходит
исследователю литературы, как название «грамматический (или «лексический»)
критик» — лингвисту. Синтаксические и морфологические исследования нельзя
заменить нормативной грамматикой; точно так же никакой манифест, навязывающий
литературе вкусы и мнения того или иного критика, не заменит объективного научного
анализа словесного искусства. Не следует, однако, полагать, будто это
утверждение означает проповедь пассивного принципа laissez faire; в любых
сферах речевой культуры необходима организация, планирующая, нормативная
деятельность. Однако почему же мы проводим четкое различие между теоретической
и прикладной лингвистикой или между фонетикой и орфоэпией, но не проводим его
между литературоведением и критикой?
Литературоведение,
центральной частью которого является поэтика, рассматривает, как и лингвистика,
два ряда проблем: синхронические и диахронические. Синхроническое описание
касается не только литературной продукции данной эпохи, но и той части литературной
традиции, которая в данную эпоху сохраняет жизненность. Так, например, Шекспир,
с одной стороны, и Донн, Марвелл, Китс и Эмили Диккинсон — с другой, являются
для поэтического мира Англии наших дней живой поэзией; в то же время творчество
Джеймса Томпсона или Лонгфелло сегодня не принадлежит к живым художественным
ценностям. Отбор классиков и их реинтерпретация современными течениями — это
важнейшая проблема синхронического литературоведения. Синхроническую поэтику,
как и синхроническую лингвистику, нельзя смешивать со статикой; в любом
состоянии следует различать более архаичные формы и инновации (неологизмы).
Любое современное состояние переживается в его временной динамике; с другой
стороны, как в поэтике, так и в лингвистике при историческом подходе нужно
рассматривать не только изменения, но и постоянные, статические элементы.
Полная, всеобъемлющая историческая поэтика или история языка —
196
это надстройка, возводимая на базе ряда последовательных
синхронических описаний.
Отрыв поэтики от лингвистики представляется оправданным лишь в том случае,
если сфера лингвистики незаконно ограничивается — например, если считать, как
это делают некоторые лингвисты, что предложение есть максимальная подлежащая
анализу конструкция, или если сводить лингвистику либо к одной грамматике, либо
исключительно к вопросам внешней формы без связи с семантикой, либо к инвентарю
значащих средств без учета их свободного варьирования. Вегелин четко
сформулировал две важнейшие связанные между собой проблемы, стоящие перед
структурной лингвистикой: пересмотр гипотезы о языке как о монолитном целом и
исследование взаимозависимости различных структур внутри одного языка. Несомненно,
что для любого языкового коллектива, для любого говорящего, единство языка
существует; однако этот всеобщий код (over-all code) представляет собой систему
взаимосвязанных субкодов, В каждом языке сосуществуют конкурирующие модели,
наделенные разными функциями.
Мы,
безусловно, должны согласиться с Сепиром в том, что, вообще говоря, «выражение
мыслей полностью господствует в языке…» [1], но это
не означает, что лингвистика должна пренебрегать «вторичными факторами».
Эмоциональные элементы речи, которые, как склонен полагать Джоос, не могут быть
описаны «конечным числом абсолютных категорий», рассматриваются им как
«внеязыковые элементы реального мира». Поэтому «они оказываются для нас слишком
смутными, неуловимыми, переменчивыми явлениями, — заключает Джоос, — и мы
отказываемся терпеть их в нашей науке» [2]. Джоос — большой
мастер редукции, исключения избыточных элементов; однако его настойчивое
требование «изгнать» эмоциональные элементы из лингвистики ведет к радикальной
редукции — к reductio ad absurdum.
Язык
следует изучать во всем разнообразии его функций. Прежде чем перейти к
рассмотрению поэтической функции языка, мы должны определить ее место среди
других его функций. Чтобы описать эти функции, следует указать, из каких
основных компонентов состоит любое речевое событие, любой акт речевого общения.
197
Адресант (addresser) посылает сообщение
адресату (addressee). Чтобы сообщение могло выполнять свои функции,
необходимы: контекст (context), о котором идет речь (в другой, не вполне
однозначной терминологии, «референт» = rеfеrеnt); контекст должен
восприниматься адресатом, и либо быть вербальным, либо допускать вербализацию;
код (code), полностью или хотя бы
частично общий для адресанта и адресата (или, другими словами, для кодирующего
и декодирующего);
и
наконец, контакт (contact) — физический канал и психологическая связь
между адресантом и адресатом, обусловливающие возможность установить и поддерживать
коммуникацию. Все эти факторы, которые являются необходимыми элементами речевой
коммуникации, могут быть представлены в виде следующей схемы:
|
Адресант |
Контекст Сообщение |
Адресат |
|
Контакт Код |
Каждому
из этих шести факторов соответствует особая функция языка. Однако вряд ли можно
найти речевые сообщения, выполняющие только одну из этих функций. Различия
между сообщениями заключаются не в монопольном проявлении какой-либо одной
функции, а в их различной иерархии. Словесная структура сообщения зависит
прежде всего от преобладающей функции. Тем не менее, хотя установка на референт,
ориентация на контекст — короче, так называемая референтивная
(денотативная, или когнитивная) функция — является центральной задачей многих
сообщений, лингвист-исследователь должен учитывать и побочные проявления прочих
функций.
Так
называемая эмотивная, или экспрессивная, функция, сосредоточенная на адресанте,
имеет своей целью прямое выражение отношения говорящего к тому, о чем он
говорит. Она связана со стремлением произвести впечатление наличия определенных
эмоций, подлинных или притворных; поэтому термин «эмотивная» (функция), который
ввел и отстаивал А. Марти [3], представляется более
удачным, чем «эмоциональная». Чисто эмотивный слой языка представлен
междометиями.
198
Они отличаются от средств референтивного языка как своим
звуковым обликом (особые звукосочетания или даже звуки, не встречающиеся в
других словах), так и синтаксической ролью (они являются не членами, а
эквивалентами предложений). «Тц-тц-тц! — сказал Мак-Гинти»; полное высказывание
конан-дойлевского героя состоит из повторений щелкающего звука. Эмотивная
функция, проявляющаяся в междометиях в чистом виде, окрашивает в известной
степени все наши высказывания — на звуковом, грамматическом и лексическом
уровнях. Анализируя язык с точки зрения передаваемой им информации, мы не
должны ограничивать понятие информации когнитивным (познавательно-логическим)
аспектом языка. Когда человек пользуется экспрессивными элементами, чтобы
выразить гнев или иронию, он, безусловно, передает информацию. Очевидно, что
подобное речевое поведение нельзя сопоставлять с такой несемиотической
деятельностью, как, например, процесс поглощения пищи — «съедание грейпфрута»
(вопреки смелому сравнению Чатмена). Различие между [big] (англ. «большой») и
[bi:g] с эмфатически растянутым гласным является условным кодовым языковым
признаком, точно так же как различие между кратким и долгим гласными в чешском
языке: [vi] «вы» и [vi:] «знает»; однако различие между [vi] и [vi:] является
фонемным, а между [big] и [bi:g] — эмотивным. Если нас интересуют фонемные
инварианты, то английские [i] и [i:] оказываются просто вариантами одной и той
же фонемы, однако, если мы переходим к эмотивным единицам, инвариант и варианты
меняются местами: долгота и краткость становятся инвариантами и реализуются
переменными фонемами. Тезис С. Сапорты о том, что эмотивные различия являются
внеязыковыми и «характеризуют способ передачи сообщения, а не само сообщение»,
произвольно уменьшает информационную емкость сообщения.
Один
актер Московского Художественного театра рассказывал мне, как на прослушивании
Станиславский предложил ему сделать из слов «сегодня вечером», меняя их
экспрессивную окраску, сорок разных сообщений. Этот артист перечислил около
сорока эмоциональных ситуаций, а затем произнес указанные слова в соответствии
с каждой из этих ситуаций, причем аудитория должна была узнать, о какой ситуации
идет речь,
199
только по звуковому облику этих двух слов. Для нашей работы по
описанию и анализу современного русского литературного языка мы попросили
актера повторить опыт Станиславского. Он составил список приблизительно
пятидесяти ситуаций, соотносящихся с указанным эллиптическим предложением, и
прочитал для записи на магнитофонную пленку пятьдесят соответствующих
сообщений. Большинство из них было правильно и достаточно полно понято
носителями московского говора.
Таким
образом, ясно, что все эмотивные признаки, безусловно, подлежат лингвистическому
анализу.
Ориентация
на адресата — конативная функция — находит свое чисто
грамматическое выражение в звательной форме и повелительном наклонении, которые
синтаксически, морфологически, а часто и фонологически отклоняются от прочих
именных и глагольных категорий. Повелительные предложения коренным образом
отличаются от повествовательных: эти последние могут быть истинными или
ложными, а первые — нет. Когда в пьесе О’Нила «Фонтан» Нано (резким,
повелительным тоном) говорит «Пей!», мы не можем задать вопрос: «Это истинно
или нет?», хотя такой вопрос вполне возможен по поводу предложений «Он пил»,
«Он будет пить», «Он пил бы». В отличие от повелительных
предложений, повествовательные предложения можно превращать в вопросительные:
«Пил ли он?», «Будет ли он пить?», «Пил ли бы он?».
В
традиционной модели языка, особенно четко описанной К. Бюлером [4],
различались только эти три функции — эмотивная, конативная и референтивная.
Соответственно, в модели выделялись три «вершины»: первое лицо — говорящий,
второе лицо — слушающий и «третье лицо» — собственно некто или нечто, о чем
идет речь. Из этой триады функций можно легко вывести некоторые добавочные функции.
Так, магическая, заклинательная функция — это, по сути дела, как бы превращение
отсутствующего или неодушевленного «третьего лица» в адресата конативного
сообщения. «Пусть скорее сойдет этот ячмень, тьфу, тьфу, тьфу, тьфу!»
(литовское заклинание, [5], стр. 69). «Вода-водица,
река-царица, заря-зорица! Унесите тоску-кручину за сине море в морскую пучину…
Как в морской пучине сер камень не вставает, так бы у раба божия имярека
тоска-кручина к ретивому сердцу не приступала и не прива-
200
ливалась, отшатилась бы и отвалилась» (севернорусские заговоры, [6], стр. 217—218). «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над
долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла…» («Книга Иисуса Навина»,
10.12—13). Мы, однако, выделяем в акте речевой коммуникации еще три
конститутивных элемента и различаем еще три соответствующие функции языка.
Существуют сообщения, основное назначение которых — установить, продолжить или
прервать коммуникацию, проверить, работает ли канал связи («Алло, вы меня
слышите?»), привлечь внимание собеседника или убедиться, что он слушает
внимательно («Ты слушаешь?» или, говоря словами Шекспира, «Предоставь мне свои
уши!», а на другом конце провода: «Да-да!»). Эта направленность на контакт,
или, в терминах Малиновского [7], фазическая
функция, осуществляется посредством обмена ритуальными формулами или даже
целыми диалогами, единственная цель которых — поддержание коммуникации. У
Дороти Паркер можно найти замечательные примеры:
«—
Ладно! — сказал юноша.
— Ладно!
— сказала она.
— Ладно,
стало быть, так, — сказал он.
— Стало
быть, так, — сказала она, — почему же нет?
— Я
думаю, стало быть, так, — сказал он, — то-то! Так, стало быть.
— Ладно,
— сказала она.
— Ладно,
— сказал он, — ладно».
Стремление
начать и поддерживать коммуникацию характерно для говорящих птиц; именно фатическая
функция языка является единственной функцией, общей для них и для людей. Эту
функцию первой усваивают дети; стремление вступать в коммуникацию появляется у
них гораздо раньше способности передавать или принимать информативные
сообщения.
В
современной логике проводится различие между двумя уровнями языка: «объектным
языком», на котором говорят о внешнем мире, и «метаязыком», на котором говорят
о языке. Однако метаязык — это не только необходимый инструмент исследования,
применяемый логиками и лингвистами; он играет важную роль и в нашем
повседневном языке. Наподобие мольеровского Журдена, который говорил прозой, не
зная этого, мы пользуемся метаязыком, не осознавая метаязыкового
201
характера наших операций. Если
говорящему или слушающему необходимо проверить, пользуются ли они одним и тем
же кодом, то предметом речи становится сам код: речь выполняет здесь
метаязыковую функцию (то есть функцию толкования). «Я вас не совсем понимаю,
что вы имеете в виду?» — спрашивает слушающий, или, словами Шекспира: «What
is't thou say'st?»
(«Что ты такое говоришь?»). А говорящий, предвосхищая подобные вопросы,
спрашивает сам: «Вы понимаете, что я имею в виду?» Вообразим такой восхитительный
диалог:
«—
Софомора завалили.
— А что
такое завалили?
— Завалили
— это то же самое, что засы́пали.
— А засыпали?
—
Засыпаться — это
значит не сдать экзамен».
— And
what is sophomore? («А что такое софомор?») — настаивает собеседник, не
знакомый со студенческим жаргоном.
— А sophomore
is (оr means) а second-year student («Софомор — значит второкурсник»).
Все эти
предложения, устанавливающие тождество высказываний, несут информацию лишь о
лексическом коде английского языка; их функция является строго метаязыковой. В
процессе изучения языка, в особенности при усвоении родного языка ребенком,
широко используются подобные метаязыковые операции; афазия часто заключается в
утрате способности к метаязыковым операциям.
Мы
рассмотрели все шесть факторов, участвующих в речевой коммуникации, за
исключением самого сообщения. Направленность (Einstellung) на сообщение как таковое,
сосредоточение внимания на сообщении ради него самого — это поэтическая функция
— языка. Эту функцию нельзя успешно изучать в отрыве от общих проблем языка, и,
с другой стороны, анализ языка требует тщательного рассмотрения его поэтической
функции.
Любая
попытка ограничить сферу поэтической функции только поэзией или свести поэзию
только к поэтической функции представляет собой опасное упрощенчество.
Поэтическая функция является не единственной функцией словесного искусства, а
лишь его центральной определяющей функцией, тогда как во всех прочих видах
речевой деятельности она выступает как вторичный, дополнительный компонент. Эта
функция,
202
усиливая осязаемость знаков, углубляет фундаментальную дихотомию
между знаками и предметами. Поэтому, занимаясь поэтической функцией, лингвисты
не могут ограничиться областью поэзии.
— Почему
ты всегда говоришь Джоан и Марджори, а не Марджори и Джоан?
Ты что, больше любишь Джоан?
— Вовсе
нет, просто так звучит лучше.
Если два
собственных имени связаны сочинительной связью, то адресант, хотя и
бессознательно, ставит более короткое имя первым (разумеется, если не
вмешиваются соображения иерархии): это обеспечивает сообщению лучшую форму.
[…] Как
мы говорили выше, с одной стороны, лингвистическое изучение поэтической функции
должно выходить за пределы поэзии, а с другой стороны, лингвистический анализ
поэзии не может ограничиваться только поэтической функцией. Наряду с
поэтической функцией, которая является доминирующей, в поэзии используются и
другие речевые функции, причем особенности различных жанров поэзии обусловливают
различную степень использования этих других функций. Эпическая поэзия,
сосредоточенная на третьем лице, в большой степени опирается на коммуникативную
функцию языка; лирическая поэзия, направленная на первое лицо, тесно связана с
экспрессивной функцией; «поэзия второго лица» пропитана апеллятивной функцией:
она либо умоляет, либо поучает, — в зависимости от того, кто кому подчинен —
первое лицо второму или наоборот. После того как беглое описание шести основных
функций речевой коммуникации более или менее закончено, мы можем дополнить нашу
схему основных компонентов акта коммуникации соответствующей схемой этих
функций:
Коммуникативная (референтивная)
Апеллятнвная
Поэтическая
Экспрессивная
Фатическая
Метаязыковая
Каков же
эмпирический лингвистический критерий поэтической функции? Точнее, каков
необходимый признак, внутренне присущий любому поэтическому произ-
203
ведению? Чтобы ответить на этот вопрос, мы напомним о двух
основных операциях, используемых в речевом поведении: это селекция и комбинация.
Если тема (topic) сообщения — «ребенок», то говорящий выбирает одно из
имеющихся в его распоряжении более или менее сходных существительных, таких,
как ребенок, дитя, подросток, малыш и т.д., которые
все в определенном отношении эквивалентны друг другу. Затем, чтобы высказаться
об этой теме, говорящий может выбрать один из семантически родственных
глаголов, например спать, дремать, клевать носом
и т.д. Оба выбранных слова комбинируются в речевой цепи. Селекция (выбор)
производится на основе эквивалентности, подобия и различия, синонимии и
антонимии; комбинация — построение предложения — основывается на смежности. Поэтическая
функция проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации.
Эквивалентность становится конституирующим моментом в последовательности. В
поэзии один слог приравнивается к любому слогу той же самой последовательности;
словесное ударение приравнивается к словесному ударению, а отсутствие ударения
— к отсутствию ударения; просодическая долгота сопоставляется с долготой, а краткость
— с краткостью; словесные границы приравниваются к словесным границам, а
отсутствие границ — к отсутствию границ; синтаксическая пауза приравнивается к
синтаксической паузе, а отсутствие паузы — к отсутствию паузы. Слоги
превращаются в единицы меры, точно так же как моры и ударения.
Могут
возразить, что метаязык также использует эквивалентные единицы при образовании
последовательностей, когда синонимичные выражения комбинируются в предложения,
утверждающие равенство: А = А («Кобыла — это самка лошади»): Однако поэзия и
метаязык диаметрально противоположны друг другу: в метаязыке последовательность
используется для построения равенств, тогда как в поэзии равенство используется
для построения последовательностей.
В
поэзии, а также до известной степени и в скрытых проявлениях поэтической
функции различные последовательности, ограниченные границами слов, становятся
соизмеримыми, когда они воспринимаются как изохронные или иерархически
упорядоченные. Словосочетание Джоан и Марджори иллюстрирует поэтический
прин-
204
цип слоговой градации, ставший обязательным в клаузулах
сербского народного эпоса (см. [8]). Если бы в сочетании innocent
bystander («простодушный зритель») оба слова не были дактилическими,
оно вряд ли стало бы шаблоном. Симметрия трех двусложных глаголов с одинаковым
начальным согласным и одинаковым конечным гласным придала блеск лаконичному
сообщению Цезаря о победе: «Veni, vidi, vici».
Измерение
последовательностей — это прием, который, кроме как в поэтической функции, в
языке не используется. Только в поэзии, где регулярно повторяются эквивалентные
единицы, время потока речи ощущается (is experienced) — аналогично тому, как
обстоит дело с музыкальным временем, если обратиться к другой семиотической
модели. Джерард Мэнли Гопкинс, выдающийся исследователь поэтического языка,
определял стих как «речь, в которой полностью или частично повторяется одна и
та же звуковая фигура» [9]. На вопрос Гопкинса, «является
ли любой стих поэзией», можно дать вполне определенный ответ, как только мы
перестанем произвольно ограничивать поэтическую функцию областью поэзии.
Мнемонические строчки, цитируемые Гопкинсом (такие, как Thirty days hath
September «В сентябре тридцать дней»); современные рекламные стишки;
версифицированные средневековые законы, упоминаемые Лотцем; санскритские научные
трактаты в стихах, которые в индийской традиции строго отличались от настоящей
поэзии (kāvya), —
все эти метрические тексты используют поэтическую функцию, хотя она и не
получает здесь той господствующей, определяющей роли, какой она обладает в
поэзии. Таким образом, стих выходит в действительности за рамки поэзии, но в то
же самое время он обязательно предполагает поэтическую функцию. Несомненно, что
ни одна человеческая культура не обходится без стихосложения, тогда как многим
культурам «прикладной» стих неизвестен; и даже в тех культурах, где существует
как чистый, так и прикладной стих, последний оказывается вторичным, несомненно
производным явлением. Использование поэтических средств для какой-либо
инородной цели не отнимает у них их первичной сущности — точно так же, как
элементы экспрессивного языка, используемые в поэзии, сохраняют свою
эмоциональную окраску. Обструкционист в парламенте может декламировать
205
«Песнь О Гайавате», потому что эта поэма достаточно длинна; тем
не менее поэтичность все-таки остается первичной сущностью текста, первичным
замыслом автора. Очевидно, что существование рекламных радио- и телепередач в
стихах, с музыкой и с художественным оформлением не заставляет нас
рассматривать вопросы стиха или музыкальной и живописной формы в отрыве от
изучения поэзии, музыки и живописи.
Подведем
итог. Анализ стиха находится полностью в компетенции поэтики, и эту последнюю
можно определить как ту часть лингвистики, которая рассматривает поэтическую
функцию в ее соотношении с другими функциями языка. Поэтика в более широком
смысле слова занимается поэтической функцией не только в поэзии, где
поэтическая функция выдвигается на первый план по сравнению с другими языковыми
функциями, но и вне поэзии, где на первый план могут выдвигаться какие-либо
другие функции.
Понятие
повторяющейся «звуковой фигуры», использование которой, как отметил Гопкинс,
является конституирующим признаком стиха, может быть уточнено. Подобные фигуры
всегда используют, по крайней мере, один (или более) бинарный контраст между
более и менее «выдвинутыми» сегментами речи, реализуемый различными отрезками последовательности
фонем.
В слоге
более выдвинутая, ядерная, слоговая часть, образующая вершину слога,
противопоставлена менее выдвинутым, периферийным, неслоговым фонемам. Любой
слог содержит слоговую фонему, и интервал между двумя последовательными
слоговыми фонемами заполняется — в одних языках всегда, а в других в
большинстве случаев — периферийными, неслоговыми фонемами. В так называемом
силлабическом (слоговом) стихосложении число слогов в метрически ограниченной
цепи (временном отрезке) является постоянным, тогда как наличие неслоговой
фонемы или группы таких фонем между каждыми двумя слоговыми в метрической цепи
необходимо только в тех языках, где между слоговыми фонемами всегда имеют место
неслоговые, и, кроме того, в тех системах стихосложения, где не допускается зияния.
Другим проявлением тенденции к единообразной слоговой модели является
отсутствие закрытых слогов в конце строки, наблюдаемое, например, в сербских
эпических песнях. В итальянском силлабическом стихосло-
206
жении проявляется тенденция трактовать последовательность
гласных, не разделенных согласными, как один метрический слог (ср. [10], разд. VIII-IX).
В
некоторых типах стихосложения слог представляет собой постоянную единицу меры
стиха и грамматическая граница является единственной демаркационной линией
между метрическими последовательностями, тогда как в других типах стихосложения
слоги в свою очередь делятся на более или менее выделяющиеся и различаются с
точки зрения их метрической функции два уровня грамматических границ — границы
слов и синтаксические паузы.
За
исключением тех разновидностей так называемого свободного стиха (vers libre),
которые основаны лишь на интонациях и сопряженных с ними паузах, в любом метре
слог используется как единица измерения, по крайней мере, в определенных
отрезках стиха. Так, в чисто тоническом стихе (sprung rhythm в терминологии
Гопкинса) число слогов в слабом времени (slack, букв. «долина», как его
называет Гопкинс) может варьироваться, но сильное время (иктус) обязательно
содержит один-единственный слог.
В любом
тоническом стихе контраст между большей и меньшей выдвинутостью реализуется
путем противопоставления ударных и безударных слогов. Большинство тонических
систем основано на контрасте между слогами, несущими словесное ударение, и
слогами, не несущими такового; однако некоторые разновидности тонического стиха
оперируют синтаксическими, фразовыми ударениями, которые Уимзетт и Бэрдсли
называют «главными ударениями главных слов», причем слоги с такими ударениями
противопоставляются слогам без главного, синтаксического ударения.
В
количественном («хронемном») стихе долгие и краткие слоги взаимно
противопоставляются как более выдвинутые и менее выдвинутые. Этот контраст
обычно реализуется в слоговых ядрах, которые бывают фонологически долгими и
краткими. Однако в таких метрических системах, как древнегреческая или арабская,
где долгота «по положению» приравнивается долготе «по природе», минимальные
слоги, состоящие из согласной фонемы и одноморной гласной, противопоставляются
слогам с добавочным элементом (со второй морой или согласной, закрывающей слог)
как более простые и
207
менее выдвинутые слоги, противопоставленные слогам более сложным
и более выдвинутым […].
В
классической китайской поэзии [12] слоги с модуляцией тона
(кит. tsê, цзе «ломаный тон») противопоставляются слогам без тоновой
модуляции (ping, пин «ровный тон»); однако несомненно, что в основе
этого противопоставления лежит количественный принцип, о чем догадывался
Поливанов [13] и что более точно истолковал Ван Ли [14]. В китайской метрической традиции ровные тоны оказались
противопоставленными ломаным тонам как долгие тоновые пики — вершины слогов —
кратким, так что по существу китайский стих основывается на противопоставлении
долготы и краткости.
Джозеф
Гринберг привлек мое внимание к другой разновидности тонового стихосложения —
стиху загадок народа эфик, основанному на уровне тона. В примерах. приводимых
Симмонсом [15] (стр. 228), вопрос и ответ образуют два
восьмисложника с одинаковым распределением слогов с высоким [в] И низким
[н] тоном; более того, в каждом полустишии последние три из четырех
слогов имеют одинаковое распределение тонов: нввн/вввн/нввн.
Тогда как китайское стихосложение является особой разновидностью
количественного стиха, стих загадок эфик связан с обычным тоническим стихом
противопоставлением двух степеней выделения — силой и высотой голосового тона.
Таким образом, метрическая система стихосложения может основываться только на
противопоставлении слоговых вершин и склонов (силлабический стих), на сравнительном
уровне слоговых вершин (тонический стих) и на относительной длительности
слоговых вершин или целых слогов (количественный стих).
В
учебниках по литературоведению мы иногда встречаемся с традиционным
предрассудком — противопоставлением силлабизма как просто механического отсчета
слогов живой пульсации тонического стиха. Однако, если мы одновременно
рассмотрим бинарные размеры строго силлабического и строго тонического
стихосложения, мы увидим две однородные волнообразные последовательности вершин
и долин. Из этих двух волнообразных кривых силлабическая имеет ядерные фонемы
на гребнях и обычно периферийные во впадинах. Как правило, и в тонической
кривой, накладываемой на силлабическую,
208
чередуются ударные и безударные слоги на гребнях и во впадинах
соответственно.
Для
сравнения с размерами английского стиха я обращу ваше внимание на аналогичные
русские бинарные размеры (за последние 50 лет эти размеры были изучены самым
тщательным образом; в особенности см. работу К. Тарановского [16]).
Структуру стиха можно полностью описать и интерпретировать в терминах условных
вероятностей. Обязательным правилом для всех русских размеров является совпадение
конца строки с границей слова; наряду с этим законом в классических образцах
русского силлабо-тонического стиха наблюдаются еще следующие закономерности: 1)
число слогов в строке (от начала до последнего иктуса) является постоянным; 2)
этот последний иктус в строке совпадает со словесным ударением; 3) ударный слог
не может занимать слабую позицию (upbeat), если на иктус приходится безударный
слог того же самого слова (таким образом, словесное ударение может совпадать со
слабой позицией только в случае односложного слова).
Помимо
всех этих характеристик, которые обязательны для любой строки, написанной в
данном размере, можно выделить еще ряд свойств, проявляющихся довольно часто,
хотя и не всегда. Эти свойства, появление которых вероятно («вероятность меньше
единицы»), наряду со свойствами, появление которых обязательно («вероятность —
единица»), также входят в понятие размера. Используя термины, в которых Черри
описывает коммуникацию между людьми [17], мы могли бы
слазать, что читатель стихов, безусловно, «может быть неспособен приписать
числовые значения частоты» отдельным компонентам размера, однако, поскольку он
воспринимает форму стиха, он подсознательно ощущает «частотную иерархию» этих
элементов.
В
русских двусложных размерах все нечетные слоговые позиции, считая назад от
последнего иктуса, короче говоря, все слабые позиции, обычно заполняются
безударными слогами; исключение составляет очень небольшой процент ударных
односложных. Все четные слоговые позиции (считая назад от последнего иктуса)
явно тяготеют к слогам, несущим словесное ударение, однако вероятности
появления таких слогов распределены неравномерно среди последовательных иктусов
209
строки. Чем выше относительная частота словесных ударений в
данном иктусе, тем ниже эта частота в предшествующем иктусе. Поскольку
последний иктус в строке всегда ударный, предпоследний характеризуется самым
низким процентом словесных ударений; во втором иктусе от конца их количество
снова увеличивается, хотя и не достигает максимума, который мы видим в
последнем иктусе; в следующем иктусе (ближе к началу строки) число ударений еще
раз понижается, но не до минимума предпоследнего иктуса и так далее. Таким
образом, распределение словесных ударений среди иктусов в строке (разделение
иктусов на сильные и слабые) создает регрессивную волнообразную кривую, которая
накладывается на волнообразное чередование иктусов и слабых позиций. Попутно
здесь возникает интересная проблема: отношение между сильными иктусами и
фразовыми ударениями.
В русских
двусложных размерах обнаруживаются три волнообразных кривых, накладывающихся
друг на друга: (1) чередование слоговых ядер и периферийных частей слога; (II)
разделение слоговых ядер на чередующиеся иктусы и слабые позиции; (III) чередование
сильных и слабых иктусов […].
В
ямбической строке Шелли «Laugh with an inextinguishable laughter» три из пяти иктусов лишены словесного
ударения. Безударны семь из шестнадцати иктусов в следующем четверостишии (Б. Пастернак, «Земля», четырехстопный ямб):
И у́лица запанибра́та
С око́нницей подслепова́той,
И бе́лой но́чи и́
зака́ту
Не размину́ться у́ реки́.
Поскольку
подавляющее большинство иктусов совпадает со словесными ударениями, слушатель
или читатель русских стихов ожидает — с высокой степенью вероятности — словесное
ударение на каждом четном слоге ямбической строки. Однако уже в самом начале
пастернаковского четверостишия четвертый и шестой слоги и в первой, и во второй
строках обманывают его ожидания. Степень такой «обманутости» повышается,
когда пропущено ударение в сильном иктусе, и становится особенно ощутимой, если
безударные слоги оказываются в двух соседних иктусах. Безударность со-
210
седних иктусов менее вероятна и поэтому еще более заметна, если
она характерна для целого полустишия, как в одной из последующих строк того же
самого стихотворения: «Чтобы за городско́ю гра́нью» [šəbyzəgərckóju
grán’ju].
Ожидание зависит от того, как трактуется данный иктус в рассматриваемом стихотворении
и вообще в существующей метрической традиции. Однако в предпоследнем иктусе
безударность может «перевешивать» ударение. Так, в стихотворении «Земля» из 41
строки только 17 имеют словесное ударение на шестом слоге. Тем не менее инерция
ударных четных слогов, чередующихся с безударными нечетными слогами, заставляет
ожидать ударение и на шестом слоге четырехстопного ямба.
Вполне
естественно, что именно Эдгар Аллен По, поэт и теоретик «обманутых ожиданий»,
правильно оценил — и в плане метрики, и в плане психологии — ощущение
вознаграждения за неожиданное, возникающее у читателя на базе «ожиданности»;
неожиданное и ожиданное немыслимы друг без друга, «как зло не существует без
добра» [18]. Здесь вполне применима формула Р. Фроста из
«The Figure А Роет Makes»: «Прием здесь тот же самый, что и в любви» [19].
Так
называемые сдвиги словесного ударения в многосложных словах с иктуса на слабую
позицию (reversed feet, букв. «опрокинутые стопы»), которые не встречаются в
стандартных формах русского стиха, вполне обычны в английской поэзии — после метрической
и/или синтаксической паузы. Ярким примером является ритмическое варьирование
одного и того же прилагательного в мильтоновской строке «Infinite
wrath and infinite despair».
В другой строке — «Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee» — ударный слог
одного и того же слова дважды оказывается в слабой позиции: первый раз — в
начале строки, а второй раз — в начале словосочетания. Эта вольность,
рассматриваемая О. Есперсеном [20] и допустимая во многих
языках, легко объясняется особой важностью отношения между слабой позицией и
непосредственно предшествующим ей иктусом. Там, где это непосредственное
предшествование нарушается паузой, слабая позиция становится своего рода безразличным
слогом (syllaba anceps).
Помимо правил,
задающих обязательные свойства стиха, к размеру относятся также и правила, управляю-
211
щие его факультативными особенностями. Мы склонны называть такие
явления, как отсутствие ударения в иктусе и наличие ударения в слабой позиции,
отклонениями, однако следует помнить, что все это — допустимые колебания,
отклонения в пределах закона. В британской парламентской терминологии это не
оппозиция его величеству размеру, а оппозиция его величества […]. Если
нарушения размера укореняются, они сами становятся метрическими правилами.
Размер
отнюдь не является абстрактной, теоретической схемой. Размер — или, в более
эксплицитных терминах, схема стиха (verse design) — лежит в основе
структуры каждой отдельной строки или, пользуясь логической терминологией,
каждого отдельного образца стиха (verse instance). Схема и образец —
соотносительные понятия. Схема стиха определяет инвариантные признаки образцов
стиха и ставит пределы варьированию. Сербский крестьянин-сказитель помнит,
декламирует и в значительной степени импровизирует тысячи, а иногда десятки
тысяч строк эпической поэзии, и их размер живет в его мышлении. Он неспособен
сформулировать правила этого размера, однако заметит и отвергнет самое
незначительное их нарушение.
В
сербской эпике любая строка насчитывает точно десять слогов, и за ней следует
синтаксическая пауза. Далее, перед пятым слогом обязательно проходит граница
слова, а перед четвертым и перед десятым слогами граница слова недопустима.
Кроме того, стих имеет важные количественные и акцентуационные характеристики;
ср. [21], [22].
Сечение
в сербском эпическом стихе наряду со многими аналогичными примерами, которые
можно найти в сравнительной метрике, еще раз предостерегает нас от ошибочного
отождествления границы слова с синтаксической паузой. Обязательный словораздел
вовсе не должен сочетаться с паузой и даже не обязан ощущаться ухом. Анализ
сербских эпических песен, записанных на фонограф, показывает, что слышимые
признаки словоразделов вполне могут отсутствовать; однако любая попытка
устранить словораздел перед пятым слогом с помощью самого незначительного
изменения в порядке слов немедленно отвергается сказителем. Для стиха необходим
чисто грамматический факт: четвертый и пятый слоги должны принадлежать к разным
лексиче-
212
ским единицам. Таким образом, схема стиха касается отнюдь не
только его звуковой формы; она оказывается гораздо более широким языковым
явлением и не поддается изолированной фонетической характеристике. Я говорю о
«языковом явлении», хотя Чатмен указывает, что «ритм как система существует и
вне языка». Да, ритм встречается и в других видах искусства, где играет важную
роль временная последовательность. Имеется много других лингвистических проблем
— например, синтаксис, — которые точно так же выходят за рамки языка и относятся
к различным семиотическим системам. Мы можем даже говорить о грамматике
сигналов уличного движения. Существуют такие системы сигналов, где желтый свет
в сочетании с зеленым означает, что свободный проход (проезд) сейчас будет
перекрыт, а желтый в сочетании с красным означает приближающееся возобновление
свободного прохода (проезда) ; в таких системах желтый свет аналогичен глагольному
совершенному виду. Тем не менее поэтический ритм имеет так много внутриязыковых
особенностей, что его наиболее выгодно рассматривать с чисто лингвистической
точки зрения.
Прибавим,
что в ходе исследования нельзя пренебрегать никакими языковыми свойствами схемы
стиха. Так, например, было бы непростительной ошибкой отрицать конституирующую
роль интонации в английских размерах. Не говоря уже о ее фундаментальном
значении в размерах такого мастера английского свободного стиха, как Уитмен,
невозможно игнорировать метрическую функцию паузной интонации («finаl juncture»
— концевой стык) в «кадансе» или в «антикадансе» [23],
например в таких стихах, как «The Rape of The Lock», где намеренно избегаются
enjambments. И даже нагромождение enjambments ничего не изменяет в их статусе:
они остаются отклонениями, они всегда лишь подчеркивают нормальное совпадение
синтаксической паузы и паузной интонации с метрической границей. При любом
способе декламации интонационные ограничения стихотворения остаются в силе.
Интонационный рисунок, присущий стихотворению, поэту или поэтической школе, —
это одна из наиболее важных тем, привлеченных к обсуждению русскими формалистами
[24], [25].
Схема
стиха воплощается в образцах стиха. Обычно свободное варьирование этих образцов
обозначается
213
несколько двусмысленным термином «ритм». Варьирование образцов
стиха в рамках одного стихотворения следует строго отличать от варьирования
образцов исполнения. Стремление «описывать стихотворную строку так, как она
действительно исполняется», менее полезно для синхронного и исторического
анализа поэзии, чем для изучения декламации в настоящем и в прошлом. Между тем
истина проста и очевидна: «Для одного стихотворения имеется много разных
способов исполнения, различающихся между собой во многих отношениях. Исполнение
— это событие, тогда как само стихотворение, если вообще мы имеем перед собой
стихотворение, должно быть неким постоянным объектом». Это мудрое напоминание
Уимзетта и Бердсли является одним из существенных принципов современной метрики.
В стихах
Шекспира второй ударный слог слова аbsurd обычно попадает в иктус, но один
раз — в третьем акте
«Гамлета» — он приходится на слабую позицию: «No, let the candied tongue lick absurd роmр».
Декламатор
может произнести слово absurd в первой строке с ударением на первом слоге или —
в соответствии с нормальной акцентуацией — с ударением на втором слоге. Он
может также ослабить словесное ударение
на прилагательном, подчинив его сильному синтаксическому ударению на следующем, определяемом слове, как это предлагает Хилл:
«Nó, lèt thĕ
cândĭed tóngue lîck ăbsùrd рómр» [26] и в
соответствии с тем, как Гопкинс
трактует английские антиспасты — regrét nëуеr [9]. Остается, наконец,
возможность эмфатического варьирования либо за счет «колеблющейся акцентуации»
(schwebende Betonung),
охватывающей оба слога, либо за счет экспрессивного выделения (exclamational reinforcement) первого слога
[àb-súrd].
Однако какое бы решение ни принял декламатор, сдвиг словесного ударения от
иктуса к слабой позиции при отсутствии предшествующей паузы привлекает внимание
и фактор обманутого ожидания остается в силе. Где бы декламатор ни поставил
ударение, расхождение между нормальным для английского языка словесным ударением
на втором слоге слова absurd и иктусом, привязанным к первому слогу,
сохраняется как существенный признак данного стиха. Противоречие между иктусом
и обычным словесным ударением внутренне присуще этому стиху независимо от того,
как его исполняют различные ак-
214
теры или чтецы. Как пишет Джерард Мэнли Гопкинс в предисловии к
книге своих стихов, «два ритма разворачиваются как бы одновременно» [27].
Теперь
мы можем по-новому интерпретировать данную им характеристику подобного
контрапункта. Распространение принципа эквивалентности на последовательность
слов, или, иначе говоря, наложение метрической формы на обычную речевую
форму, обязательно создает ощущение двойственности, многоплановости у любого,
кто знает данный язык и знаком с поэзией. Это ощущение обусловлено совпадениями
и расхождениями указанных двух форм, сбывшимися и обманутыми ожиданиями.
Как
именно данный образец стиха воплощается в данный образец исполнения, зависит от
схемы исполнения, которой следует чтец; он может придерживаться декламационного
стиля, или, наоборот, склоняться к «прозообразной» манере чтения, или же
свободно колебаться между этими двумя полюсами. Следует остерегаться
упрощенческого бинаризма, то есть сведения двух указанных противопоставлений к
одному-единственному либо за счет отказа от кардинального различия между схемой
стиха и образцом стиха (равно как и между схемой исполнения и образцом
исполнения), либо за счет ошибочного отождествления схемы исполнения и образца
исполнения со схемой и образцом стиха.
But tell me, child, your choice; what shall I buy
Yоu? — Father, what yоu buy me I like best.
Скажи, дитя, чего бы мне купить
Тебе? — Отец, что купишь, буду рад.
В этих
двух строчках из «The Handsome Heart» Гопкинса мы находим тяжелый enjambment
(«анжамбеман»: граница стиха проходит перед односложным you, завершающим словосочетание,
предложение, высказывание. Можно декламировать эти пятистопники, строго соблюдая
метрику, то есть с отчетливой паузой между buy и you, но без паузы после местоимения.
Или, наоборот, их можно читать наподобие прозы, не разделяя слова buy и you
и делая паузу в
конце вопроса. Однако при любом способе декламации останется явным намеренное
противоречие между метрическим и синтаксическим членением. Стихотворная форма
того или иного стихотворения совершенно независима от переменных
215
способов его исполнения; этим, однако, я отнюдь не пытаюсь
преуменьшить значение увлекательного вопроса относительно Autorenleser и Selbstleser, поставленного Сиверсом [28].
Несомненно,
что стих — это прежде всего повторяющаяся «звуковая фигура». Звуковая в первую
очередь, но отнюдь не единственно звуковая. Любые попытки свести такие
поэтические уклады, как метр, аллитерация или рифма, исключительно к звуку
оказываются спекулятивными построениями, лишенными эмпирического обоснования.
Проецирование принципа эквивалентности на последовательность имеет более
глубокое и широкое значение. Валери говорил о поэзии как о «колебании между
звуком и смыслом» [29]; этот взгляд более реалистичен и
научен, чем любой уклон в фонетический изоляционизм.
Хотя
рифма определяется как регулярное повторение эквивалентных фонем или групп
фонем, было бы опасным упрощенчеством рассматривать рифму только с точки зрения
звука. Рифма обязательно влечет за собой семантическое сближение рифмующихся
единиц («сотоварищей по рифме», как их называет Гопкинс). Рассматривая рифму,
мы сталкиваемся с целым рядом вопросов, например, участвуют ли в рифме сходные
словообразовательные и/или словоизменительные суффиксы (congratulations —
decorations «поздравления — украшения»), принадлежат ли рифмующиеся слова к
одному и тому же или к разным грамматическим классам? Так, например, у Гопкинса
есть четырехкратная рифма, основанная на созвучии двух существительных — kind
«род, вид» и mind
«разум», контрастирующих с
прилагательным blind
«слепой» и глаголом find
«найти». Есть ли семантическая близость, сопоставление по смыслу между такими
рифмующимися словами, как dove — love «голубь — любовь», light — bright «свет —
яркий», place — space «место — пространство», name — fame «имя — слава»? Выполняют
ли рифмующиеся элементы
одну и ту же синтаксическую функцию?
В рифме может отчетливо проявиться различие между морфологическим классом и его
синтаксическим использованием. Так, в следующих стихах Э. По:
While I nodded, nearly napping.
Suddenly there camе
а tapping,
As of someone gently rapping.
216
«Я
очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал, будто глухо так застукал»
(перевод М. Зенкевича) все три рифмующиеся слова имеют одинаковое
морфологическое строение, но выступают в разных синтаксических ролях. Каково
отношение к полностью или частично омонимичным рифмам? Запрещены ли они,
допустимы или даже особо ценятся? Как обстоит дело с такими полными омонимами,
как son — sun «сын — солнце», I — eye
«я — глаз», еvе
— eave «канун — карниз», и с «эхо-рифмами» вроде December — ember «декабрь —
(тлеющие) угли», infinite — night «бесконечный — ночь», swarm — warm «кишеть — теплый»,
smiles — miles «улыбки — мили»? А что можно сказать о сложных (compound) рифмах
(как у Гопкинса: enjoyment — toy meant «наслаждение — подразумеваемая игрушка»,
began some — ransom «начал что-то — выкуп»), когда слово рифмуется со
словосочетанием?
Поэт или
даже целая поэтическая школа могут тяготеть к грамматической рифме или, напротив, избегать ее; рифмы должны быть либо
грамматическими, либо
антиграмматическими; просто аграмматическая рифма, индифферентная по отношению к связи между звуком и грамматической
структурой, оказалась бы как и
любой аграмматизм, в сфере речевой патологии. Если поэт стремится избегать
грамматических рифм, то для него, как указывает Гопкинс, «красота рифмы
заключена в двух элементах — сходстве или тождестве звучания и несходстве или
различии значения» [9]. Каковы бы ни были отношения между
звуком и смыслом при различных подходах к рифме, оба плана обязательно
участвуют в игре. После ярких замечаний Уимзетта о семантической значимости
рифмы [30] и тщательного исследования рифмы в славянских
языках, проводившегося в последнее время, ученый, который занимается поэтикой,
вряд ли может утверждать, будто рифмы связаны со значением лишь очень смутным и
неопределенным образом.
Рифма —
это всего лишь частное, хотя и наиболее концентрированное проявление гораздо
более общей, мы бы сказали даже фундаментальной, особенности поэзии, а именно
параллелизма. И здесь Гопкинс в своей студенческой работе 1865 года
демонстрирует удивительное проникновение в сущность поэзии:
217
«Что
касается искусственных приемов в поэзии (возможно, мы не ошибемся, если скажем
— всех приемов), то они сводятся к принципу параллелизма. Структура поэзии
основана на непрерывном параллелизме, начиная от так наываемых «параллелизмов»
еврейской поэзии и антифонов церковной музыки и до сложных построений
греческого, итальянского или английского .стиха. При этом параллелизм
обязательно бывает двух типов: такой, где противопоставление отчетливо
выражено, и такой, где оно оказывается скорее переходным, так сказать,
хроматическим. Со структурой стиха связан лишь первый тип, то есть отчетливо
выраженный параллелизм, проявляющийся в ритме (повторяемость определенных
последовательностей слогов), размере (повторяемость определенных
последовательностей ритма), аллитерациях, ассонансах и рифмах. В силу этой
повторяемости порождается соответствующая повторяемость, или параллелизм, в
словах или мыслях. Грубо говоря, можно утверждать (имея в виду скорее
тенденцию, нежели результат), что чем отчетливее выражен параллелизм в
формальной структуре или в выразительных средствах, тем отчетливее будет проявляться
параллелизм в словах и в смысле… К параллелизмам отчетливого, или «резкого»,
типа принадлежат метафоры, сравнения, иносказания и т.д., где эффект достигается
за счет сходства вещей, а также антитеза, контраст и т.д., где параллелизм
достигается за счет их несходства» [9].
Короче
говоря, эквивалентность в области звучания, спроецированная на
последовательность в качестве конституирующего принципа, неизбежно влечет за
собой семантическую эквивалентность, а на любом уровне языка любой компонент
такой последовательности обязательно приводит к одному из двух коррелятивных
сопоставлений, которые Гопкинс удачно определил как «сравнение на базе
сходства» и «сравнение на базе несходства».
В
фольклоре можно найти наиболее четкие и стереотипные формы поэзии, особенно
пригодные для структурного анализа (как показал Сибеок на марийском материале).
Образцы устной традиции, использующей грамматический параллелизм для связывания
последовательных строк, как, например, в финно-угорской [31],
[32], а также в значительной степени и в русской народной
поэзии, можно успешно исследовать на всех языковых уровнях: фонологическом,
морфологическом, синтаксическом и лексическом. При этом мы узнаем, какие
элементы трактуются как эквивалентные и как именно сходство на одних уровнях
оттеняется нарочитым различием на других. Такие формы заставляют нас
согласиться с тонким замечанием Рэнсома о том, что «соотнесение размера и
значения (meter-and-meaning ргоcess) — это органический поэтический акт, в
котором
218
проявляются все существенные свойства поэзии» [33].
Подобные отчетливые традиционные структуры позволяют отвергнуть сомнения
Уимзетта в возможности написать грамматику взаимодействия размера и смысла, а
также грамматику размещения метафор. Как только параллелизм становится каноном,
так взаимодействие размера со значением и размещение тропов перестают быть
«свободными, индивидуальными, непредсказуемыми компонентами поэзии».
Приведем
типичный пример — несколько строк из русской свадебной песни, где описывается
появление жениха:
Доброй молодец к сеничкам приворачивал.
Василий к терему прихаживал.
Обе
строчки полностью соответствуют друг другу как синтаксически, так и
морфологически. Оба глагола-сказуемых имеют одинаковые префиксы и суффиксы и
одинаковое чередование гласных в основе; они совпадают по виду, времени, числу
и роду; более того, они синонимичны. Оба подлежащих — имя нарицательное и имя
собственное — обозначают одно и то же лицо, и одно служит другому приложением.
Оба обстоятельства места выражены одинаковыми предложными конструкциями, и
первая является синекдохой по отношению ко второй.
Этим
стихам может предшествовать еще одна строка, имеющая сходное грамматическое
(синтаксическое и морфологическое) строение: «Не ясен сокол за горы залетывал »
или «Не ретив конь ко двору прискакивал». «Ясен сокол» и «ретив конь» в этих
вариантах являются метафорами по отношению к «доброму молодцу».
Это
традиционный отрицательный параллелизм славянской народной поэзии — отрицание
метафорического образа в пользу фактического положения вещей. Однако отрицание
«не» может быть опущено: «Ясен сокол за горы залетывал» или «Ретив конь ко
двору прискакивал». В первом случае метафорическое отношение сохранится: добрый
молодец появляется («к сеничкам приворачивает»), как ясен сокол из-за гор.
Однако во втором случае семантическое соотношение теряет неоднозначность.
Сравнение появившегося жениха с мчащимся конем напрашивается само собой, однако
в то же самое время конь, «прискакивающий ко двору», как бы
219
предвосхищает приближение героя к терему. Таким образом, еще до
упоминания всадника и терема его невесты в песне вводятся смежные, то есть
метонимические, образы коня и двора: обладаемое вместо обладателя, двор вместо
дома. Появление жениха может быть разбито на два последовательных момента даже
и без субституции коня на место всадника: «Доброй молодец ко двору прискакивал,
// Василий к сеничкам приворачивал». Таким образом, «ретив конь», появляющийся
в предыдущей строке в той же самой метрической и синтаксической позиции, что и
«добрый молодец», выступает одновременно как нечто сходное с молодцем и как
представляющая его принадлежность; точнее говоря, конь — это часть вместо
целого для обозначения всадника.
Образ
коня занимает промежуточное положение между метонимией и синекдохой. Из
коннотаций словосочетания «ретив конь» естественно вытекает метафорическая
синекдоха: в свадебных песнях и в других разновидностях русского фольклора
«ретив конь» становится скрытым или даже явным фаллическим символом.
Еще в
80-х годах прошлого века замечательный исследователь славянской поэтики Потебня
указывал, что в народной поэзии символ может быть овеществлен, превращаясь в
аксессуары окружающей действительности. «Символ, однако, ставится в связь с
действием. Так, сравнение представляется в форме временной последовательности» [34]. В приводимых Потебней примерах из славянского фольклора
ива, рядом с которой проходит девушка, служит в то же время ее образом; дерево
и девушка как бы соприсутствуют в одном и том же словесном представлении ивы.
Совершенно аналогично конь в любовных песнях остается символом мужественности
не только тогда, когда молодец просит девицу покормить его скакуна, но и тогда,
когда коня седлают, отводят в конюшню или привязывают к дереву. В поэзии
существует тенденция к приравниванию компонентов не только фонологических
последовательностей, но точно так же и любых последовательностей семантических
единиц. Сходство, наложенное на смежность, придает поэзии ее насквозь символичный
характер, ее многообразие, ее полисемантичность, что так глубоко выразил Гёте:
«Все преходящее — это лишь сходство». Или, в более технических терминах, любое
А, следующее за В, — это сравнение с В. В поэзии, где
220
сходство накладывается на смежность, всякая метонимия отчасти
метафорична, а всякая метафора носит метонимическую окраску.
Неоднозначность
(ambiguity) — это внутренне присущее, неотчуждаемое свойство любого направленного
на самого себя сообщения, короче — естественная и существенная особенность
поэзии. Мы готовы повторить вслед за Эмпсоном: «Игра на неоднозначности
коренится в самом существе поэзии» [35]. Не только
сообщение, но и его адресант и адресат становятся неоднозначными. Наряду с
автором и читателем в поэзии выступает «я» лирического героя или фиктивного
рассказчика, а также «вы» или «ты» предполагаемого адресата драматических
монологов, мольбы или посланий. Так, например, поэма «Wrеstling Jacob» («Борющийся Иаков»)
обращена от лица ее героя к Спасителю; однако в то же время она выступает как
субъективное послание поэта Чарлза Уэсли (Wesley)[106]
к читателям. В потенции любое поэтическое сообщение — это как бы квазикосвенная
речь, и ему присущи все те специфические и Сложные проблемы, которые ставит
перед лингвистом «речь в речи».
Главенствование
поэтической функции над референтивной не уничтожает саму референцию, но делает
ее неоднозначной. Двойному смыслу сообщения соответствует расщепленность
адресанта и адресата и, кроме того, расщепленность референции, что отчетливо
выражается в преамбулах к сказкам различных народов например в обычных зачинах
сказок острова Майорка: Alxo еRа у nо
еrа
(«Это было и не было») [36]. Повторяемость, обусловленная
применением принципа эквивалентности к последовательности, настолько характерна
для поэзии, что могут повторяться не только компоненты поэтического сообщения,
но и целое сообщение. Эта возможность немедленного или отсроченного повторения,
это «возобновление» поэтического сообщения и его компонентов, это превращение
сообщения в нечто длящееся, возобновляющееся — все это является неотъемлемым и
существенным свойством поэзии.
В последовательности,
где сходство накладывается на смежность, две сходные последовательности фонем,
стоящие рядом друг с другом, имеют тенденцию к приобретению парономастической
функции. Слова, сходные по звучанию, сближаются и по значению. Верно, что
221
в первой строке заключительной строфы «Ворона» Эдгара По широко
используются повторяющиеся аллитерации, что отметил Валери [29],
однако «преобладающий эффект» этой строки и вообще всей строфы объясняется
прежде всего силой поэтических этимологии.
And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming,
And the lamp-light o’er his streaming throws his shadow on the floor;
And the soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted — nevermore.
И сидит, сидит над дверью Ворон,
оправляя перья,
С бюста бледного Паллады не слетает с
этих пор,
Он глядит в недвижном взлете, словно
демон тьмы в дремоте,
И под люстрой в позолоте на полу он тень
простер.
И душой из этой тени не взлечу я с этих
пор.
Никогда, о
nevermore!
(Перевод М.
Зенкевuча.)
«Бледный
бюст Паллады> — The pallid bust of Pallas — в силу «звуковой» парономасии
/pǽləd/ — /pǽləs/ превращается в одно органическое
целое (аналогично чеканной строке Шелли — Sculptured on alabaster obelisk /sk.lp/ — /l.b.st/ — /b.l.sk/ «Изваянный на алебастровом
обелиске»). Оба сопоставляемых слова были уже как бы сплавлены раньше, — в
другом эпитете того же самого бюста — placid /plǽsid/ «спокойный, безмятежный»,
который выступает как своеобразная поэтическая контаминация. Связь между
сидящим Вороном и местом на котором он сидит, также закрепляется посредством
парономасии bird оr beast
upоn
the… bust «птица или зверь на … бюсте».
Птица «с бюста бледного Паллады не слетает с этих пор»: несмотря на заклинания
влюбленного — take thy from, from off my door! «Прочь лети в ночной простор!» —
Ворон прикован месту словами just above /ǯʌ́st əbʌ́v/, которые сливаются в bust /bʌ́st/.
Зловещий
гость поселился навечно, и это выражено цепью остроумных парономасий, частично инверсивных, чего и следует ожидать от такого
сознательного экспериментатора в области регрессивного, предвосхищающего
modus operandi,
такого мастера «писать назад», как Эдгар Аллен По. В первой строке рассматриваемой
строфы слово raven «ворон», смежное с мрачным сло-
222
вом-рефреном
never «никогда», выступает как зеркальный образ этого последнего: /n.v.r/ —
/r.v.n/. Яркие парономасии связывают оба символа бесконечного отчаяния: с одной
стороны, the Raven, never flitting в начале последней строфы, с другой — shadow that lies floating оn
the floor и shall bе lifted — nevermore в последних
строках этой строфы: /nέvər flitiŋ/ — /flótiŋ]/ … /flór/ … /liftəd
nέvərmór/. Аллитерации, которые поразили Валери, образуют парономастическую
цепочку: /sti…/ — /sit…/
— /sti…/ — /sit…/.
Инвариантность этой группы особенно подчеркивается варьированием ее порядка.
Оба световых эффекта chiaroscuro — «горящие глаза» черной птицы и свет лампы,
отбрасывающий «тени на полу», усиливающие мрачный характер всей картины, также
связаны яркими парономасиями: /ɔlðə simiŋ… …/dimənz/ … /is drimiŋ/ — /orim strimiŋ/ «Тень, лежащая [на полу»]
/láyz/ и «глаза Ворона» /áyz/ образуют впечатляющую
эхо-рифму (хотя и оказавшуюся на неожиданном месте).
В поэзии
любое явное сходство звучания рассматривается с точки зрения сходства и/или несходства значения. Однако обращенный к поэтам призыв
Попа: «Звук должен казаться эхом смысла» — имеет более широкое применение. В
референтивном (коммуникативном) языке связь между означающим и означаемым
основывается главным образом на их кодифицированной смежности, что часто
обозначают сбивающим с толку выражением «произвольность словесного знака».
Важность связи «звучание — значение» вытекает из наложения сходства на
смежность. Звуковой символизм — это, несомненно, объективное отношение, опирающееся
на реальную связь между различными внешними чувствами, в частности между
зрением и слухом. Если результаты, полученные в этой области, бывали иногда
путаными или спорными, то это объясняется прежде всего недостаточным вниманием
к методам психологического и/или лингвистического исследования. Что касается
лингвистической стороны дела, то картина нередко искажалась тем, что
игнорировался фонологический аспект звуков речи, или же тем, что исследователь
— всегда впустую! — оперировал сложными фонологическими единицами, а не их
минимальными компонентами. Однако если, рассматривая, например, такие
фонологические оппозиции, как «низкая тональность/высокая тональность»
(grave/acute)
223
мы спросим, что темнее — /i/ или
/u/, некоторые из опрошенных могут ответить, что этот вопрос кажется им
лишенным смысла, но вряд ли кто-нибудь скажет, что /i/ темнее, чем /u/.
Поэзия
не единственная область, где ощутим звуковой символизм, но это та область, где
внутренняя связь между звучанием и значением из скрытой становится явной,
проявляясь наиболее ощутимо и интенсивно, как это отметил Хаймз (Hymes) в своей
интересной работе. Скопление фонем определенного класса (с частотой,
превышающей их среднюю частоту) или контрастирующее столкновение фонем антитетичных
классов в звуковой ткани строки, строфы, целого стихотворения выступает, если
воспользоваться образным выражением По, как «подводное течение, параллельное
значению». У двух противоположных по смыслу слов фонемные отношения могут соответствовать семантическим, например русск. /d,en,/; «день» и /nоč/ «ночь», где в первом — высокотональный
гласный и диезные согласные, а
во втором — наоборот. Этот контраст можно усилить, окружив первое слово
высокотональными гласными и диезными согласными, а второе — низкотональными
гласными; тогда звучание превращается в полное эхо смысла. Однако во французском
jour «день» и nuit «ночь» высокотональный и низкотональный
гласные распределены обратным образом, так что Малларме в своих «Divagations»
(«Разглагольствования»)обвиняет французский язык «в обманчивости и
извращенности» за то, что со смыслом ʼденьʼ связывается темный
(низкий) тембр, а со смыслом ʼночьʼ — светлый тембр [37].
Уорф указывает, что, когда звуковая оболочка «слова имеет акустическое сходство
с его значением, мы сразу видим это … Но когда происходит обратное, этого никто
не замечает». Однако в поэтическом языке, и, в частности, во французской
поэзии, при возникновении коллизии между звучанием и значением (вроде той,
которую обнаружил Малларме) либо стремятся фонологически уравновесить подобное
противоречие и как бы приглушают «обратное» распределение вокалических признаков,
окружая слово nuit низкотональными
гласными, а слово jour — высокотональными, либо сознательно используют семантический
сдвиг: в образном представлении дня и ночи свет и темнота заменяются другими
синестетическими коррелятами фонологической оппози-
224
ции «низкая тональность/высокая тональность», например душный,
жаркий день противопоставляется свежей, прохладной ночи; это допустимо,
поскольку «люди, по-видимому, ассоциируют друг с другом ощущения яркого,
острого, твердого, высокого, легкого, быстрого, высокотонального, узкого и т.д.
(этот ряд можно значительно продолжить); аналогично ассоциируются друг с
другом, также выстраиваясь в длинный ряд, противоположные ощущения — темного,
теплого, податливого, мягкого, тупого, низкого, тяжелого, медленного,
низкотонального, широкого и т.д.» ([38], 267 и сл.):
Хотя
ведущая роль повторяемости в поэзии подчеркивается вполне справедливо, сущность
звуковой ткани стиха отнюдь не сводится просто к числовым соотношениям: фонема,
появляющаяся в строке только один раз, в ключевом слове в важной позиции на
контрастирующем фоне может получить решающее значение. Как говаривали
живописцы, «килограмм зеленой краски вовсе не зеленее, чем полкилограмма».
При
любом анализе поэтической звуковой ткани необходимо последовательно учитывать
фонологическую структуру данного языка, причем наряду с общим фонологическим
кодом следует принимать во внимание также и иерархию фонологических различий в
рамках данной поэтической традиции. Так, приблизительные рифмы,
использовавшиеся у славян в устной традиции, а также в некоторые эпохи и в
письменной традиции, допускают несходные согласные в рифмующихся элементах
(например, чешск. boty, boky, stopy, kosy, sochy); однако, как заметил Нич, эти
согласные не могут быть соотносительными глухими и звонкими фонемами [39], так что приведенные чешские слова нельзя рифмовать с body,
doby, kozy, rohy. В
некоторых индейских народных песнях, например, у пипа-папаго и тепекано (в
соответствии с наблюдениями Герцога, опубликованными лишь частично [40]), фонологическое различие между звонкими и глухими
взрывными и между взрывными и носовыми заменяется свободным варьированием,
тогда как различие между губными, зубными, велярными и палатальными строго
соблюдается. Таким образом, в поэзии согласные этих языков теряют два из
четырех различных признаков: «глухой/звонкий» И «носовой/ротовой», сохраняя два
других: «низкая тональность/высокая тональность» и «компактный/диффузный». Отбор
и иерархиче-
225
ская стратификация релевантных категорий является для поэтики
фактором первостепенной важности как на фонологическом, так и на грамматическом
уровне.
Древнеиндийские
и средневековые латинские теории литературы строго различали два полярно противоположных
типа словесного искусства, обозначаемые санскритскими терминами Pāñkālī и Vaidarbhī и
латинскими терминами ornatus diffici1is и ornatus faci1is (см. [41]).
Несомненно, последний стиль гораздо труднее поддается лингвистическому анализу,
поскольку в таких литературных формах словесные приемы менее на виду и язык
представляется почти прозрачным одеянием. Однако мы должны признать вместе с
Чарлзом Сэндерсом Пирсом,
что «эта одежда никогда не может быть сорвана полностью — ее можно лишь заменить чем-то более прозрачным» ([42], 171). «Бесстиховая композиция», как Гопкинс называет
прозаическую разновидность словесного
искусства, где параллелизмы не так четко выделены и не так регулярны, как «непрерывный параллелизм», и где нет
доминирующей звуковой фигуры, ставит
перед поэтикой более сложные проблемы, как это бывает в любой переходной зоне языка. В этом случае речь
идет о переходной зоне между строго поэтическим и строго референционным языком.
Однако глубокое исследование Проппа о структуре волшебной сказки [43] показывает нам, насколько полезным может оказаться
последовательно синтаксический подход даже при классификации традиционных
фольклорных сюжетов и при формулировании любопытных законов, лежащих в основе
их отбора и комбинирования между собой. В новых исследованиях Леви-Стросса ([44], [45], [46])
развивается более глубокий, но, по сути дела, аналогичный подход к той же самой
проблемt.
Отнюдь
не случайно, что метонимия изучена меньше, чем метафора. Хотелось бы повторить здесь мое старое наблюдение:
исследование поэтических тропов было сосредоточено главным образом на метафоре?
и так называемая реалистическая литература, тесно связанная с принципом
метонимии, все еще нуждается в интерпретации, хотя те же самые лингвистические
методы, которые используются в поэтике при анализе метафорического стиля
романтической поэзии, полностью применимы к метонимической ткани реалистической
прозы [47].
226
[…] В
поэзии внутренняя форма имени собственного, то есть семантическая нагрузка его компонентов, может вновь обрести свою релевантность,
Так, «коктейли» (cocktail,
букв. «петушиный хвост») могут вспомнить о своем забытом родстве с оперением.
Их цвета оживают в
cстихах
Мак Хэммонда «The ghost of а Bronx pink lady//With orange blossoms afloat in her
hair» («Дух Розовой леди Бронкса [название коктейля] с цветами апельсина,
плавающими в ее волосах»), а затем реализуется этимологическая метафора: «О, Bloodу Маrу,//The
cocktails have
crowed not
the cocks» «О, Кровавая Мэри [название
коктейля], это кричали коктейли [или «петушиные хвосты»], а не петухи!» («At an
old Fashion Bar in Manhattan»). В стихах Уоллеса Стивенса «Аn
ordinary evening in New Наvеn» («Обычный вечер в Нью-Хейвене»)
существительное Haven /heivn/ «гавань» в названии города как бы оживает благодаря легкому
намеку на heaven /hevn/
«небо», вслед за которым идет прямое каламбурное сопоставление наподобие
heaven-haven у Гопкинса:
The dry
eucalyptus seeks god in the rainy cloud.
Professor Eucalyptus of New Haven seeks him in New
Haven…
The instinct for heaven had its counterpart:
The instinct for earth, for Nеw Наvеn, for his raoom…
Сухой эвкалипт
ищет бога в дождливом облаке.
Профессор
Эвкалипт из Нью-Хейвена ищет его в Нью-Хейвене…
Инстинктивному
стремлению к небесам соответствует
Инстинктивное
стремление к земле, к Нью-Хейвену, к своей комнате…
Прилагательное
new
«новый» в названии Нью-Хейвена обнажается посредством сцепления антонимов:
The
oldest-newest day is the newest alone.
The
oldest-newest night does not creak bу…
Лишь
старейший-новейший день — новейший,
Старейшая-новейшая
ночь не скрипит мимо…
Когда в
1919 году Московский лингвистический кружок обсуждал проблему ограничения и
определения сферы epitheta ornantia, Владимир Маяковский выступил с возражением,
заявив, что для него любое прилагательное, употребленное в поэзии, тем самым
уже является поэтическим эпитетом — даже «большой» в названии «Большая
Медведица» или «большой» и «малый»
227
в таких названиях московских улиц, как Большая Пресня и Малая Пресня. Другими словами, поэтичность — это не просто дополнение речи риторическими украшениями, а общая переоценка речи и всех ее компонентов.
Один
миссионер укорял свою паству — африканцев за то, что они ходят голые. «А как же
ты сам? — отвечали те, указывая на его лицо. — Разве ты сам кое-где не голый?»
— «Да, но это же лицо». — «А у нас повсюду лицо», — ответили туземцы. Так и в
поэзии любой речевой элемент превращается в фигуру поэтической речи.
Мой
доклад, в котором я пытался отстоять права и обязанности лингвистики направлять
исследование словесного искусства в его полном объеме и во всех его разветвлениях,
можно закончить тем же выводом, которым я подытожил свой доклад на конференции
1953 года в Индианском университете: «Linguista sum; linguistici nihil a me
alienum puto»[107] [48].
Если поэт Рэнсом прав (а он прав!), утверждая, что «поэзия — это своеобразный
язык» [49], то лингвист, которого интересуют любые языки,
может и должен включить поэзию в сферу своих исследований. Данная конференция
отчетливо показала, что то время, когда лингвисты и литературоведы игнорировали
вопросы поэтики, ушло бесповоротно. В самом деле, как пишет Холлэндер, «по-видимому, нет оснований для
отрыва вопросов литературного характера от вопросов общелингвистических».
Правда, все еще встречаются литературоведы, которые ставят под сомнение право
лингвистики на охват всей сферы поэтики; однако лично я объясняю это тем, что
некомпетентность некоторых фанатичных лингвистов в области поэтики ошибочно
принимается за некомпетентность самой лингвистики. Однако теперь мы все четко
понимаем, что как лингвист, игнорирующий поэтическую функцию языка, так и
литературовед, равнодушный к лингвистическим проблемам и незнакомый с
лингвистическими методами, представляют собой вопиющий анахронизм.
1960
228
ЛИТЕРАТУРА
1.
Sapire E., Language, New York, 1921.
2. Jоos М.,
Description of language design, «Journal of the acoustic of America», 22. 1950,
р.
701—708.
3. Marty А.,
Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Spracphiloosophie, vol. 1, Наllе, 1908.
4.
Büh1er К., Die Axiomatik der Sprachwissenschaft «Kant-Studien». 38, 1933, 5. 19—90.
5.
Mansikka V. Тhe
Litauische Zaubersprüche, «Folklore Fellows communications», 87, 1929.
6.
Рыбников П. Н., Песни, т. 3, М.,
1910.
7.
Malinowski В.,
«The problem meaning in primitive languages»: в С. К.
Ogden and J. А. Richards, «The meaning of meaning», New York—London, 9-th
edition.
1953, р. 296—336.
8.
Maretié Т., Меtrikа
narodnih naših pjesama «Rad Jugaslavenske Akademije», 168. 170, Zagreb, 1907.
9.
Hopkins G. М., The journals and papers, London 1959.
10. Levi А. Della
versificazione italiana, «Archivum
Romanicum», 14, 1930, р. 449—526.
11. Якобсон Р. О. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским («Сборник по теории
поэтического языка», 5), Берлин
— Москва, 1923.
12. Вishор J. L.,
Prosodic elements in T’ang poetry («Indiana University
conference on Oriental-Western literary relations» Chapel Hill, 1955).
13. Поливанов Е. Д., О
метрическом характере китайского стихосложения, «Доклады Российской Академии наук» серия V 1924, Стр. 156—158.
14. Wаng Li, Han-yū
shih-lū-hsüeh («Китайское стихосложение»).
Шанхай, 1958.
15. Simmons D. C.,
Specimens
of
Ерiс
Folklore, «Folk-Lore», 66, 1955. р. 441—459.
16. Тарановский К.,
Руски дводелни ритмови Београд, 1955.
17. Cherry С. On human communication, New York, 1957.
18. Рoе E. А., Marginalia, «The works», vol. 3, New York, 1857.
19. Frоst R., Collected роеms, New York, 1939.
20. Jesperson O. Cause psychologique de quelques
phénoménes de métrique germanique, «Psichologie du
langage», Paris,
1933.
21. Jakobson R. О., Studies in
comperative Slavic metrics «Oxford Slavonic papers», 3. 1952, р. 21—66.
22. Jаkоbsоn R. О., Über
den Verbau der serbokroatischen Volksepen, «Archives néerlandalses de phonétique
expérimentale» 7—9, 1933, р. 44—53.
23. Кarasevskij S., Sur
la phonologie de la phrase «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», 4, 1931, р. 188—223.
24. Эйхенбаум Б.,
Мелодика стиха. Л., 1923.
25. Жирмунский В.,
Вопросы теории литературы Л., 1928.
26. Hill A. А.,
Review, «Language», 29, 1953. р. 549—561.
27. Hopkins G. М., Poems, Ne\v York — London,
изд. 3-е, 1948.
28. Siеvеrs Е., Ziele und
Wege der Schallanalyse,
Heidelberg. 1924.
229
29. Valéry Р.K.,
The art of
poetry, Bollingen
series, 45, New York,
1958
30. Wimsаtt W. К.,
Jr., The veral icon, Lexington, 1954.
31. Austerlitz R.,
Ob-Ugric metrics, «Folklore Fellows communications», 174, 1958.
32 Stеinitz W., Der Parallelismus in der
Finnisсh-karelisсhen
Volksdichtung. «Folklore Fellows communications», 115, 1934.
33. Rаnsоm J. C., The new
critism, Norfolk, Conn., 1941.
34. Потебня А.
Объяснения малорусских и сродных народных песен, Варшава, т. 1, 1883; т. II, 1887.
35. Еmрson W.,
Seven
types of ambiguity, New York, изд. 3-е, 1955.
36. Giеsе W., Sind
Märchen Lügen?
«Cahiers. S Puşcariu», I, 1952, р. 137 и сл.
37. Mallarmé S., Divagations, Раrs, 1899.
38. Whоrf В. L.,
Language, thought and reality, New York,
1956.
39. Nitsсh К. Z histórii polskich rymów
(«Wybór pism роlоnistycznych», I,
Wroclaw, 1954, s. 33—77).
40. Негzоg G., Some
linguistic aspects of American Indian poetry. «Word», 2, 1946, р. 82.
41 Аrbusоw L., Colores
rhetorici, Göttingen,
1948.
42: Peirce С. S., Collected papers, vol. 1, Cambridge, Mass., 1931.
43. Propp V., Morphology of the folktale, Bloomington, 1958.
44. Lеvi-Strаuss С. Analyse
morphologique des contes russes, «International Journal of Slavic linguistics аnd poetics», 3, 1960.
45. Lеvi-Strаuss С. La
geste d'Asdival (Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris, 1958).
46. Lеvi-Strаuss С. The structural study of myth, в: Т. А. Sebeok, ed., «Myth: а symposium», Philadelphia, 1955, р. 5066.
47. J а k о Ь s о n R., The metaphoric and
metonymic poles, «Fundamentals
of language», 's Grаvenhage, 1956, р. 76—82.
48 Lеvi-Strаuss С. Jаkоbsоn R., Vоеgеlin С. F. and Sebeok Т. А., Results of the Conference of Anthropologists and Linguists, Baltimore, 1953.
РОМАН ЯКОБСОН И КЛОД ЛЕВИ-СТРОСС
«КОШКИ» ШАРЛЯ БОДЛЕРА[108]
Возможно,
что антропологический журнал, публикуя исследование о французском стихотворении
XIX века, вызовет у читателя удивление. Однако объяснить это просто: лингвист и
этнолог сочли необходимым объединить свои усилия и попытаться понять, как
сделан сонет Бодлера, ибо независимо друг от друга, каждый в своей области, они
столкнулись с дополнительными проблемами. В поэтическом произведении лингвист
обнаруживает структуры, сходство которых со структурами, выявляемыми этнологом
в результате анализа мифов, поразительно. Со своей стороны этнолог не может не
признать, что мифы — это не только некоторые концептуальные упорядоченности;
это также и произведения искусства, которые вызывают у слушателей (равно как и
у самих этнологов, читающих их в записи) глубокие эстетические эмоции. Не может
ли оказаться так, что обе эти проблемы сливаются в одну?
Правда,
сам автор этой вводной заметки в ряде случаев противопоставлял миф поэтическому
произведению («Anthropologie structurale», р. 232); но те, кто упрекал его в этом, не учли, что само
понятие контраста требует, чтобы обе противопоставляемые формы с самого начала
рассматривались как взаимодополняющие, относящиеся к одной и той же категории.
Сближение мифа и поэтического произведения не отрицает, следовательно, их
разграничения, которое мы подчеркивали ранее, а именно: взятое изолированно,
любое
231
поэтическое произведение уже содержит в себе свои собственные
варианты, организованные по оси, которую можно представить себе как
вертикальную, ибо она сформирована из накладывающихся друг на друга уровней
фонологического, фонетического, синтаксического, просодического, семантического
и т.д. Миф же, по крайней мере в предельном варианте, может изучаться на одном
только семантическом уровне, поскольку система его вариантов (всегда
необходимая для структурного анализа) создается множественностью версий этого мифа,
то есть при помощи горизонтального среза в мифологическом корпусе, на одном
лишь семантическом уровне. Однако нельзя упускать из виду, что такое
разграничение необходимо прежде всего в целях практических, то есть для того,
чтобы структурный анализ мифов мог развиваться даже в случае отсутствия
собственно лингвистической базы для такого анализа. Только при условии
применения обоих методов, даже если это будет связано с резкой переменой
области исследования, можно оказаться в силах решить вопрос, поставленный
вначале; в зависимости от обстоятельств можно избрать либо один, либо другой
метод, а это значит, что в конечном счете они способны заменять друг друга,
даже если не всегда могут дополнять один другой.
1. Les
amoureux fervents et les savants austères
2. Aiment
également dans leur mûre saison,
3. Les chats
puissants et doux, orgueil de la maison,
4. Qui comme
eux sont frileux et comme eux sédentaires.
5. Amis de
la science et de la volupté,
6. Ils
cherchent le silence et l'horreur des ténèbres;
7. L’Erèbe
les eût pris pour ses coursiers funèbres,
8. S’ils
pouvaient au servage incliner leur fierté.
9. Ils
prennent en songeant les nobles attitudes
10. Des
grands sphinx allongés au fond des solitudes,
11. Qui
semblent s'endormir dans un rêve sans fin;
12. Leurs
reins féconds sont pleins d’étincelles magiques,
13. Et des
parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin,
14.
Étiolent vaguement leurs prunelles mystiques.
1. Пылкие любовники и суровые ученые
2. Равно любят в свою зрелую пору
3. Могучих и ласковых кошек, гордость
дома,
4. Которые, как и они, зябки и, как они,
домоседы.
232
5. Друзья наук и сладострастия,
6. Они ищут тишину и ужас мрака;
7. Эреб взял бы их себе в качестве
траурных лошадей,
8. Если бы они могли склонить свою
гордыню перед рабством.
9. Грезя, они принимают благородные позы
10. Огромных сфинксов, простертых в
глубине одиночеств
11. Которые кажутся засыпающими в сне
без конца; ,
12. Их плодовитые чресла полны
магических искр,
13. И крупицы золота, как и мельчайший
песок
14. Туманно усыпают звездами их
мистически зрачки.
[…]
Бодлер расположил рифмы в сонете по схеме аВВа CddC eeFgFg (стихи с мужскими рифмами обозначены прописными буквами, а
стихи с женскими рифмами -
строчными). Таким образом, в соответствии с последовательностью рифм в сонете можно выделить три группы стихов: два четверостишия
и одно шестистишие состоящее
из двух трехстиший; последние, однако, образуют определенное единство, так как
расположение рифм
в сонете, как показал Граммон, подчиняется «тем же правилам, что и в любой строфе из шести стихов»[109].
В
приведенном сонете рифмы располагаются в соответствии с тремя внутренними законами: 1)
две попарно чередующиеся
рифмы не могут следовать одна за другой; 2) если в двух смежных стихах рифмы разные то одна из
них должна быть женской, а другая — мужской; 3) в конце смежных строф стихи с
женскими и мужскими рифмами чередуются; 4sédentaires — 8fierté 14mystiques.
В
соответствии с правилом классического французского стихосложения женские рифмы
всегда оканчиваются немым
слогом, а мужские — произносимым ; разница между обоими классами рифм подкрепляется также и разговорным
произношением: во всех женских рифмах
сонета e
немое конечного слога опускается когда за последним произносимым слогом следует согласный (austères — sédentaires; ténèbres — funèbres, attitudes — solitudes; magiques — mystiques); напротив, все мужские рифмы сонета
оканчиваются гласным (volupté — fierté; fin — fin).
233
Тесная
связь между классификацией рифм и выбором грамматических форм показывает, что наряду с рифмой важную роль в структуре
сонета играет также грамматика.
Каждый
стих сонета оканчивается ли,о именем существительным (8 раз), либо именем прилагательным (6 раз). Все существительные,
стоящие в конце строки — женского рода. Во всех восьми стихах с женской рифмой
они стоят во множественном числе. Согласно традиционной норме, это удлиняет
стих либо на один слог, либо (в современном произношении) на поствокальный
согласный звук. В то же время более короткие стихи, то есть стихи с мужской риф
мои, во всех шести случаях оканчиваются именем в единственном числе.
В обоих
четверостишиях мужские рифмы образованы существительными, а женские —
прилагательным. Исключение составляет лишь ключевое слово 6ténèbres рифмующееся со словом 7funèbres. (Ниже мы вернемся к вопросу о связи
между этими двумя стихами.)
Что же
до трехстиший, то в первом все три стиха оканчиваются существительным, а во
втором — прилагательным. А это значит, что в рифме, связывающей оба трехстишия,
единственной омонимической рифме сонета, 11sans fin — 13sable
fin,
существительное женского рода противопоставлено прилагательному мужского рода;
среди всех мужских рифм сонета это единственное прилагательное и единственное
слово мужского рода.
Сонет
состоит из трех сложных предложений, разделенных точкой. Каждое из этих
предложении обнимает по одному четверостишию и заключительное шестистишие. По
числу независимых предложении и личных глагольных форм эти фразы находятся в
отношении арифметической прогрессии: 1. один verbum finitum (aiment); 2. два (cherchent, eût
pris); 3. три (prennent, sont, étoilent). Что касается подчиненных предложении в этих трех фразах, то они имеют
только по одному verbum
finitum: 1. qui …sont; 2. s’ils pouvaient; 3. qui semblent.
Такое
деление сонета на три части противополагает каждую из строф с двумя рифмами заключительному шестистишию, построенному на трех
рифмах. Этому де-
234
лению противостоит и
уравновешивает его дихотомическая разбивка сонета на две группы строф. Первую составляют два начальных четверостишия,
а вторую — два заключительных трехстишия.
Этот
бинарный принцип подкрепляет и грамматическая организация текста. Однако он
также предполагает несоответствие, на этот раз между первой частью сонета, где
содержатся четыре рифмы, и второй, где их только три. Несоответствие есть и между
самими строфами. Две первые состоят из четырех стихов, а две последние — из
трех. Именно эта антиномия первой и второй частей сонета, симметрия и
асимметрия составляющих их элементов лежит в основе композиции всего
произведения.
Нетрудно
обнаружить отчетливый синтаксический параллелизм между первым четверостишием и
первым трехстишием, с одной стороны, и вторым четверостишием и вторым
трехстишием — с другой. И первое четверостишие, и первое трехстишие — каждое
состоит из двух предложений; второе предложение, относительное, в обоих случаях
вводится относительным местоимением и охватывает последний стих строфы.
Антецедентом этого местоимения является существительное мужского рода во
множественном числе, выступающее в главном предложении в роли прямого дополнения
(ЗLes chats, 10Des …sphinx).
Что
касается второго четверостишия и второго трехстишия, то каждое из них состоит из двух
сочиненных частей; вторая
часть, обнимающая два последних стиха строфы (7—8 и 13—14),
представляет собой сложное предложение
с подчинительным союзом. В четверостишии это условное предложение (8S’ils
pouvaient), в
трехстишии —
сравнительное (13ainsi qu’un). В четверостишии подчиненное предложение следует
за главным, в трехстишии
оно неполное и разбивает главное.
В тексте
сонета, опубликованном в журнале «Корсар» (1847), пунктуация соответствует такому членению. И первое четверостишие и первое
трехстишие оканчиваются точкой.
Во втором четверостишии и во втором трехстишии перед двумя последними стихами стоит точка с запятой.
Семантика
грамматических подлежащих усиливает этот параллелиpм четверостиший, с одной стороны, и трехстиший — с другой.
235
|
I Четверостишия |
II. Трехстишия |
|
1. Первое 2. Второе |
1. Первое 2. Второе |
Подлежащие
первого четверостишия и первого трехстишия обозначают только одушевленные существа,
тогда как одно из двух подлежащих второго четверостишия и все грамматические
подлежащие второго трехстишия — неодушевленные явления или предметы: 7L’Erèbe, 12Leurs
reins, 13des
parcelles, 13un
sable.
Помимо
этих, так сказать, горизонтальных соответствий, можно отметить соответствие, которое удобно назвать вертикальным: совокупность
обоих четверостиший противостоит
совокупности обоих трехстиший.
Если в
трехстишиях все прямые дополнения выражены неодушевленными существительными (9les
nobles attitudes,
14leurs prunelles), то единственное прямое дополнение первого четверостишия выражено существительным одушевленным (3Lеs
chats), а среди
дополнений второго
четверостишия наряду с неодушевленными существительными (6le
silence et l’horreur)
есть местоимение les, относящееся к кошкам, о которых
говорилось в предыдущем
предложении.
С точки
зрения отношений между подлежащими и дополнениями в сонете можно выделить две «диагональные» линии:
диагональ, идущая сверху вниз, объединяет обе внешние строфы (начальное четверостишие и заключительное трехстишие); она противостоит
диагонали, идущей снизу
вверх; последняя связывает обе внутренние
строфы.
Во
внешних строфах дополнения принадлежат к тому же семантическому классу, что и подлежащие: это одушевленные существительные
(amoureux, savant — chats)
в первом четверостишии и неодушевленные (reins, parcelles — prunelles) во втором трехстишии.
Напротив,
во внутренних строфах дополнения и подлежащие относятся к противоположным
классам: в первом трехстишии
неодушевленное дополнение противостоит одушевленному подлежащему (tls[= chats]
—attitudes); во
втором четверостишии наряду с таким же отношением (ils[= chats] — silence, horreur) существует еще
и отношение между одушевленным дополнением и неодушевленным подлежащим (Erèbe —les [= chats]).
236
Итак,
каждая из четырех строф имеет свое лицо: признак одушевленности, общий для подлежащего и дополнения в первом четверостишии,
характеризует одно только
подлежащее в первом трехстишии; во втором четверостишии этот признак относится то к подлежащему, то к дополнению, а во втором
трехстишии — ни к
тому, ни к другому.
Что
касается грамматической структуры сонета, то в начале и в конце его можно отметить несколько ярких соответствий. Лишь в первой и
последней строфах мы находим
два подлежащих, имеющих одно и то же сказуемое и дополнение. Все подлежащие и дополнения
сопровождаются определяющим их словом (Les amoureux
fervents, les
savants austères — Les chats puissants et doux; des parcelles
d'or, un sable fin — leurs
prunelles mystiques).
Первое и
последнее сказуемые в сонете единственные, при которых имеются наречия; оба эти наречия образованы от прилагательных и
связаны друг с другом рифмой,
подчеркнутой ассонансом: 2Aiment
également — 14Étoilent
vaguement.
Второе и
предпоследнее сказуемые в сонете — единственные, состоящие из глагола-связки и именной части; при этом в обоих случаях именная
часть подчеркнута при
помощи внутренней рифмы: 4Qui, comme eux sont frileux; 12Leurs
reins féconds sont pleins.
Что
касается прилагательных, то их число велико лишь во внешних строфах: девять в четверостишии и пять в трехстишии; напротив, в
обеих внутренних строфах
вместе содержится всего три прилагательных (funèbres, nobles, grands).
Как уже
говорилось, только в начале и в конце сонета подлежащие и дополнения относятся к одному и тому же классу: в первом четверостишии
они одушевленные, а
во втором трехстишии — неодушевленные. Именно в начальной строфе, где фигурируют по преимуществу одушевленные существа,
указывается на их функции
и деятельность.
Первая
строка сонета состоит из одних только прилагательных. Два
из них субстантивированы и служат подлежащими: Les amoureux и les savants. В обоих
легко различить
глагольную основу; в этом смысле текст начинается словами «те, кто любят» и «те, кто знают».
237
В последней же строке сонета все обстоит наоборот: переходный
глагол Étoilent, выступающий в роли сказуемого, является производным от существительного. Глагол этот связан с группой
неодушевленных и конкретных апеллятивов,
доминирующих в этом трехстишии и
отличающих его от трех предшествующих строф. Укажем на явственную омофонию,
связывающую глагол с членами
этой группы: /etēsɛsɛlə/ — /е de parsɛlə/ — /etwalə/.
Наконец,
в подчиненных предложениях, занимающих в обеих строфах последний стих, есть по
инфинитиву, примыкающему к сказуемому и выступающему в роли дополнения. Оба эти
дополнения являются единственными инфинитивами во всем стихотворении: 8S’ils
pouvaient… incliner;
11Qui semblent s'endormir.
Итак, мы
видели, что ни дихотомическое членение сонета, ни его деление на три части не приводят к равновесию изометричных частей. Но если
разделить четырнадцать стихов
сонета ровно пополам, то седьмой стих окажется как раз в конце первой половины стихотворения, а восьмой обозначит начало
второй. Показательно, что
именно эти два средних стиха наиболее ясно выделяются своей грамматической структурой.
Итак, с
известной точки зрения стихотворение делится на три части: средняя пара и две изометричные группы, то есть шесть стихов,
предшествующих этой паре,
и шесть, следующих за ней. Мы получили, таким образом, своего рода дистих, обрамленный двумя шестистишиями.
Все
личные глагольные и местоименные формы, а также все подлежащие глагольных предложений сонета стоят во множественном числе, за
исключением седьмого
стиха — L'Erèbe les eût pris pour ses coursiers
funèbres.
В этом же стихе находится и единственное во всем сонете имя собственное; только в этом стихе verbum finitum и его подлежащее
стоят в единственном числе.
К тому же это единственный стих, где притяжательное местоимение (ses) указывает на единственное число.
В сонете
употребляется только третье лицо, а единственное глагольное время в нем — настоящее. Исключение опять-таки составляют седьмой и
восьмой стихи, где
поэт говорит о воображаемом поступке 7eût
pris), связанном с ирреальным условием (8S’ils
pouvaient).
В сонете
заметна явная тенденция снабдить каждый
238
глагол и существительное определяющим словом. Здесь каждая глагольная форма управляет
тем или иным членом (существительным,
местоимением, инфинитивом) или
именноa
частью сказуемого. Все переходные глаголы управляют только существительными (2—3Aiment… Les
chats; 6cherchent le silence et l'horreur; 9rennent…
les… attitudes; 14Etoilent… leurs prunelles). И опять-таки единственное исключение представляет
седьмой стих где
в роли дополнения выступает местоимение: les eût
pris.
За
исключением адноминальных дополнений, ни у одного из которых нет определения,
все существительные в сонете (включая и субстантивированные прилагательные)
сопровождаются эпитетами (например, 3chats
puissant et doux)
или определительными дополнениями (5Amis de la science et de la volupté). И вновь единственное исключение обнаруживаем в седьмом
стихе: L'Erèbe les eût pris.
Все пять
эпитетов первого четверостишия (1fervents 1austères,
2mûre, 3puissants, 3doux) и шесть эпитетов обоих трехстиший (9nobles
l0grands, 12féconds, 12magiques, fin,
mystiques) являются
качественными прилагательными, тогда как во втором четверостишии есть всего один эпитет, и именно в
седьмом стихе (coursiers funèbres).
Кроме
того, именно в этом стихе нарушается отношение «одушевленное — неодушевленное», существующее между подлежащим и дополнением в
остальных стихах второго
четверостишия; только в седьмом стихе возникает обратное отношение между
подлежащим и дополнением: «неодушевленное — одушевленное».
Мы
видим, таким образом, что седьмой стих или же оба последних стиха второго
четверостишия отличаются яркими характерными особенностями. Однако следует
сказать, что тенденция особо выделить среднее двустишие сонета противоречит
принципу его асимметричного деления на три части. Согласно этому принципу,
второе четверостишие целиком противостоит, с одной стороны, первому четверостишию,
а с другой — заключительному шестистишию. Таким образом, оно представляет собою
центральную строфу, по многим признакам отличающуюся от строф маргинальных.
Итак, мы
отметили, что седьмой стих является единственным, где подлежащее и сказуемое
стоят в
239
единственном числе. Но это наблюдение можно расширить: только во
втором четверостишии в единственном числе стоит либо подлежащее, либо
дополнение; и если в седьмом стихе единственное число подлежащего (L'Erèbe) противостоит множественному
дополнения (les), то в соседних стихах можно наблюдать обратное
отношение: здесь подлежащее стоит во множественном числе, а дополнение — в
единственном (6Ils cherchent le silence et l’horreur; 8S’ils
pouvaient… incliner leur fierté).
В
остальных же строфах и дополнение и подлежащее стоят во множественном числе (l—3Les
amoureux… et les savants… Aiment… Les chats; 9Ils prennent… les…
attitudes; 13—14Et des parcelles… Étoilent… leurs
prunelles). Отметим, что во втором
четверостишии единственному числу
подлежащего и дополнения соответствует признак неодушевленности, а множественному — одушевленности. Важность грамматического числа для Бодлера
становится особенно заметной благодаря той роли, которую противопоставление
«единственное — множественное» играет в рифмах сонета.
Добавим,
что структура рифм второго четверостишия отличается от всех остальных рифм
стихотворения. Среди женских рифм рифма второго четверостишия ténèbres
— funèbres единственная,
где встречаются две разные
части речи.
Кроме
того, во всех рифмующихся словах сонета, за исключением рифм второго четверостишия, ударному гласному со стоящим, как правило,
перед ним опорным согласным
предшествует одна или несколько совпадающих фонем: 1savants
austères
— 4sédentaires, 2mûre
saison — 3maison, 9attitudes — 10solitudes, 11un
rêve sans fin
— 13un sable fin, 12étincelles
magiques — 14prunelles
mystiques.
Во втором же четверостишии ни пара 5volupté
— 8fierté, ни пара 6ténèbres — 7funèbres не содержат никаких созвучий в слогах,
предшествующих собственно рифме.
Вместе с
тем слова, стоящие в конце седьмого и восьмого стихов, аллитерируют между собой: 7funèbres
— 8fierté; шестой же стих оказывается
связанным с пятым: 6ténèbres повторяет последний слог слова 5volupté; сближает стихи также и
внутренняя рифма 5science — 6silence. Таким образом, даже рифмы свидетельствуют о некотором ослаблении связи
между двумя половинами
второго четверостишия.
240
В
звуковом строении сонета особую роль играют носовые гласные. Эти гласные,
природа которых «как бы завуалирована их назальностью», по удачному выражению
Граммона[110], очень часты в первом четверостишии
(9 назальных — от двух до трех на строку) и особенно в заключительном
шестистишии (21 назальный с тенденцией к количественному возрастанию от строки
к строке в первом трехстишии — 93 — 104 — 116:
Qui semblent s'endormir dans un rêve sans
fin и с
тенденцией к уменьшению во
втором — 125 — 133 — 141). Зато во втором четверостишии всего только три
назальных —
по одному на стих.
Исключением опять-таки является седьмой стих — единственный в сонете, где нет носовых гласных. А вторая строфа в целом
— единственная где носовой
отсутствует в мужской рифме.
Вместе с
тем во втором четверостишии ведущая роль переходит от гласных к согласным, в частности к плавным. Второе четверостишие —
единственное, где наблюдается избыток
плавных фонем — 23 по сравнению с 15 в первом четверостишии, 11 в первом трехстишии и 14 — во втором.
Количество /r/ несколько выше, чем /l/, в четверостишиях и слегка ниже в
трехстишиях.
В
седьмом же стихе, где только два /l/, содержится пять
/r/, то есть больше, чем в любом другом стихе сонета. Вспомним, что, по Граммону,
именно в противопоставлении к
/r/ фонема /l/
«дает впечатление звука не
скрежещущего, не царапающего, не скрипящего, но, напротив, плавного, тягучего… ясного»[111].
Недавнее акустическое исследование
м-ль Дюран[112] подтверждает резкое звучание всякого /г/, в
особенности французского, по
сравнению с gllssando /l/. Поэтому выдвижение на первый план /l/ и уменьшение количества /r/ ярко подчеркивает процесс превращения реальных
кошек в фантастические существа.
Шесть
первых стихов сонета объединены одной повторяющейся чертой: здесь наличествуют симметричные пары членов, соединенных
сочинительным союзом et: 1Les
amoureux fervents et les savants austères; 3Les
chats puissants et doux; 4Qui comme eux sont frileux et comme
eux sédentaires; 5Amis de la science
241
et de la volupté. Бинаризм определений в этих
стихах в сочетании с
бинаризмом определяемых слов в следующем, шестом, стихе — 6le
silence et l’horreur des ténèbres — дает хиазм; вместе с тем шестой
стих замыкает цепочку бинарных конструкций. Эти конструкции, связывающие почти
все стихи первого «шестистишия», больше в сонете не появляются.
Пары
согласованных членов предложения, а также и рифмы (не только внешние,
подчеркивающие семантические связи, такие, как laustères — 4sédentaires,
2saison — Зmaison, но также и в особенности внутренние)
укрепляют связь первых шести стихов: 1amoureux — 4comme
eux — 4frileux — 4comme eux; lfervents
— 1savants — 2également
— 2dans — 3puissants;
6science — 6silence. Таким образом, все прилагательные,
характеризующие персонажей в первом четверостишии, рифмуются между собой;
исключение составляет одно слово: 3doux. Двойная этимологическая фигура,
связывающая начальные слова трех стихов — 1Les
amoureux —
2Aiment — 5Amis, — также укрепляет единство шестистрочной «псевдострофы»,
начинающейся и кончающейся парами стихов, где первые полустишия рифмуются между
собой: lfervents — 2également;
6science — 6silence.
Слово 3Les
chats,
являющееся прямым дополнением в предложении, обнимающем три первых стиха
сонета, начинает подразумеваться в качестве подлежащего в предложениях,
обнимающих три следующих стиха (4Qui comme
eux sont frileux; 6Ils cherchent le silence), Так намечается разделение
нашего квазишестистишия на два квазитрехстишия.
В
среднем дистихе вновь происходит превращение слова Les chats из дополнения (на этот раз подразумеваемого) в седьмом стихе (L’Егèbе
les eût pris)
в грамматическое
подлежащее, также подразумеваемое, в восьмом стихе (S'ils pouvaient). В этом отношении восьмой стих оказывается
связанным со следующей фразой
(9Ils prennent).
Что касается
подчиненных предложении, то в целом они служат своего рода мостиком между главным предложением и следующей фразой. Так,
подразумеваемое подлежащее
chats
в девятом и десятом стихах уступает место отсылке к метафоре sphinx в относительном
предложении одиннадцатого
стиха (Qui semblent s'endormir
242
dans un rêve sans fin) и, следовательно, сближает этот
стих с тропами, выступающими в роли грамматических подлежащих в заключительном
трехстишии. Неопределенный артикль полностью отсутствует в первых десяти стихах
сонета, где использовано четырнадцать определенных артиклей; зато в последних
четырех стихах употреблен только неопределенный артикль.
В целом, благодаря взаимной соотнесенности двух относительных предложений — в
одиннадцатом и четвертом стихах — в четырех последних строчках вырисовываются
контуры воображаемого четверостишия, которое словно соответствует реально
существующему начальному четверостишию. Вместе с тем похоже, что формальная
структура заключительного трехстишия воспроизведена в трех первых строках
сонета.
Одушевленные
подлежащие в стихотворении ни разу не выражены существительными, но скорее
субстантивированным прилагательным в первой строке сонета (Les
amoureux, les
savants) и
личными или относительными местоимениями — в следующих предложениях.
Человеческие
существа упоминаются лишь в первом предложении, где в роли подлежащих выступают
субстантивированные отглагольные прилагательные, являющиеся однородными
членами.
Кошки,
по имени которых назван сонет, в самом тексте называются только один раз — в
первом предложении, где слово chats является прямым дополнением: l Les amoureux… et
les savants… 2Aiment… ЗLеs chats. Не только само слово chats не повторяется больше в стихотворении, но даже и аллитерация на /ʃ/ имеет место лишь в одном слове 6/ilʃɛrʃə/.
Она
дважды подчеркивает основное действие кошек. Это глухое шипение, ассоциирующееся с названием «героев» сонета, в дальнейшем
тщательно избегается.
С
третьего стиха слово chats становится подразумеваемым подлежащим — последним
одушевленным подлежащим сонета.
Существительное
chats в роли подлежащего, прямого и косвенного дополнения заменено анафорическими местоимениями 6, 8, 9ils, 7les; 8, 12, 14leur (s); местоимения ils и les относятся только к
кошкам. Эти зависимые
(приглагольные) формы встречаются лишь в двух внутренних строфах — во втором четверостишии и в первом двухстишии. В начальном
четверостишии
243
им соответствует независимое местоимение 4eux (два раза), относящееся только к человеческим
существам; в последнем же
трехстишии нет ни одного личного местоимения.
При
подлежащих начального предложения сонета стоит по одному сказуемому и по одному дополнению; получается, что 1Les
amoureux fervents et les savants austères в конце концов 2dans
leur mûre saison
отождествляются благодаря
существу-медиатору, объединяющему антиномичные черты двух хотя и человеческих, но противопоставленных образов
жизни. Они находятся в
оппозиции: чувственный/интеллектуальный. Поэтому функцию субъекта начинают выполнять именно кошки, одновременно являющиеся и учеными
и влюбленными.
В
четверостишиях кошки предстают в качестве реально существующих животных; напротив, в трехстишиях речь идет об их фантастическом
превращении. Однако
второе четверостишие существенно отличается от первого, равно как и от всех остальных строф. Двусмысленное выражение ils
cherchent le silence et l'horreur des ténèbres указывает на ошибку относительно кошек; намек на эту ошибку
содержится в седьмом стихе,
а в следующей строке она становится очевидной. Вводящий в заблуждение характер этого четверостишия, в особенности обособленность его
второй половины, и
в частности седьмого стиха, усилен отличительными чертами его грамматического и звукового строения.
Семантическая
близость между словом L’Erèbe («мрачные области, прилетающие к
Аду»), являющимся метонимическим
субститутом выражения «силы тьмы», а также имени Erèbe («брат Ночи»), И тягой кошек к l'horreur des ténèbres, подкрепленная звуковым
сходством между /tenɛbrə/ и /erɛbə/, — эта близость способствует тому, что кошки едва не начинают
восприниматься в
качестве исполнителей страшной работы coursiers [ипёбсев.
О чем идет речь — об обманутой надежде
или о ложной идентификации со стороны Эреба — в стихе, где говорится: L’Erèbe
les eût pris pour ses coursiers funèbres? Смысл этого места, которое
пытались понять критики[113],
остается двойственным.
244
В каждом четверостишии и в каждом
трехстишии делается попытка по-новому
идентифицировать кошек. В первом
четверостишии кошки ассоциируются с двумя человеческими
образами жизни; зато во втором четверостишии, где им навязывается образ жизни упряжных животных, помещенных в мифологический мир, эта новая идентификация отвергается из-за
гордости кошек. Во всем сонете это
единственная отвергаемая идентификация. Грамматическое строение этого
места в тексте, явно
контрастирующее со строением остальных строф, подчеркивает его необычность: ирреальное наклонение, отсутствие качественных прилагательных,
неодушевленное подлежащее
в единственном числе, лишенное всяких определений и управляющее одушевленным дополнением во множественном числе.
Строфы
объединены аллюзивными оксюморонами. 8S'ils POUVAIENT an servage incliner leur fierté, «если бы они могли склонить свою
гордыню перед рабством», но
они не «могут» этого сделать, поскольку они являются по-настоящему «могучими», ЗРUISSАNТS. Они не могут быть пассивно «взяты», 7PRIS, с тем чтобы играть активную роль, и вот уже
они сами активно «берут»
на себя, 9РRЕNNENТ, пассивную роль, будучи упорными домоседами.
«Их
гордость», 8L’eur fierté заставляет их принимать «благородные позы», 9nobles
attitudes,
«огромных сфинксов», 10Des grands
sphinx.
Сближение «простертых сфинксов»,
10sphinx allongés, и кошек, которые, «грезя», 9еn songeant, им подражают, подкреплено
парономастической связью
между двумя причастными формами — единственными в
сонете: /ãsɔ˜zã/ и /alɔ˜:ze/[114].
Кошки отождествляются со
сфинксами, которые в свою очередь выглядят спящими, 11semblent
s'endormir; но
это обманчивое сравнение,
уподобляющее домоседов-кошек (и имплицитно всех, кто «как они» 4comme eux) неподвижным сверхъестественным существам, на
самом деле приобретает
значение метаморфозы. Кошки и отождествленные с ними человеческие существа как бы встречаются в облике сказочных чудовищ с
человеческой головой и
с телом животного. Таким образом, одна отвергнутая идентификация заменяется другой,
также мифологической.
Кошки
отождествляются с «огромными сфинксами», 10grands sphinx,
благодаря тому, что они лежат в
245
задумчивости, 9еn songeant; это превращение подчеркнуто
парономастической цепочкой, связанной с указанными ключевыми словами и
комбинирующей носовые гласные с зубными и лабиальными согласными: 9en
songeant: /ãsɔ˜…/ — 10grands
sphinx /…ãsfɛ…/ — 10fond /fõ/
— 11semblent /sã…/ — 11s’endormir /sã…/ — 11dans
un /dãzœ˜/ — 11sans
fin /sãfɛ˜/.
Носовой
/ɛ˜/ и другие фонемы слова 10sphinx /sfɛ˜ks/ вновь появляются в последнем
трехстишии: 12rens /rɛ˜/ — 12pleins /plɛ˜/ — 12étincelles /…ɛ˜s…/ — 13ainsi [ɛ˜s] — 13qu'un sable /kœ˜s…/.
В первом
четверостишии говорится: 3Les chats
puisants et doux, orgueil de la maison. Следует ли понимать эту фразу в том смысле, что кошки, гордясь
своим домом, являются воплощением этой гордости, или же, наоборот, сам дом,
гордый своими обитателями-кошками, пытается, подобно Эребу, подчинить их? Как
бы то ни было, очевидно одно: «дом», 3maison, который замыкает в себе кошек в
первом четверостишии, в дальнейшем превращается в бескрайнюю пустыню, «глубину
одиночеств», 10fond des solitudes; боязнь холода, сближающая
«зябких», 4frileux, кошек и «пылких», 1fervents, любовников (отметим парономасию
/fɛrvã/
— /frilɸ/), обретает подходящий климат в
суровом (подобно ученым) безлюдье жаркой (подобно пылким любовникам) пустыни
окружающей сфинксов.
Bо
временно́м
плане выражение 2mûre saison, «зрелая пора», рифмовавшееся со
словом 3maison, «дом», в первом четверостишии и
сближавшееся с ним по значению, находит свою явную противоположность в первом трехстишии; эти две явно
параллельные группы (2dans
un rêve sans fin) взаимно противопоставлены друг
другу: в первом случае речь
идет об ограниченном отрезке времени, во втором — о вечности. Ни в одном другом месте сонета не встречается конструкций с
предлогом dans,
ни с каким-либо иным
адвербальным предлогом.
Оба
трехстишия посвящены чудесному превращению кошек. Это превращение длится до
конца сонета. Если в первом трехстишии лежащие в пустыне сфинксы заставляли
колебаться между представлением о живых существах и представлением о каменных
изваяниях, то
246
в следующем трехстишии живые существа уступают место
материальным частицам. Синекдохи замещают кошек-сфинксов частями их тела: 12leurs reins, 14leurs prunelles. Подразумеваемое подлежащее двух
внутренних строф становится дополнением в последнем трехстишии: сначала слово
«кошки» выступает в роли имплицитного определения подлежащего — 12Leurs
reins féconds sont pleins, — а затем, в последнем предложении, оно становится лишь
имплицитным определением прямого дополнения: 14Etoilent
vaguement leurs prunelles.
Слово «кошки», таким образом, оказывается связанным с прямым дополнением
переходного глагола в последнем предложении сонета и с подлежащим — в
предпоследнем, атрибутивном. В результате возникают два соответствия, в первом
случае — со словом «кошки», выступающим в качестве прямого дополнения в первом
предложении сонета, а во втором — со словом «кошки» в качестве подлежащего
второго предложения.
Если в
начале сонета и подлежащее, и дополнение принадлежат
к классу одушевленных существ, то в заключительном предложении оба эти члена
относятся к классу
неодушевленных предметов. Вообще говоря, в последнем трехстишии все неодушевленные существительные обозначают конкретные предметы: 12reins, 12étincelles,
13parcelles, 13or, 13sable,
14prunelles;
зато в предыдущих строфах
все неодушевленные апеллятивы, за исключением адноминальных, обозначали абстрактные понятия: 2saison, 3orgueil,
6silence, 6horreur, 8servage,
8fierté, 9attitudes, 11reve. Неодушевленные подлежащее и
дополнение женского рода в
заключительном предложении, 13—14des
parcelles d'or… Etoilent… leurs prunelles, уравновешены подлежащим и дополнением
начального предложения; оба
они мужского рода и обозначают одушевленные существа — 1—3Les amoureux et les
savants… Aiment… Les chats. Единственным подлежащим женского рода во всем сонете является слово 13parcelles, контрастирующее с мужским родом, появляющимся в конце того же стиха: 13sable
fin; со своей
стороны это единственный
пример имени мужского рода в мужских рифмах сонета. В
последнем трехстишии слова, обозначающие мельчайшие частицы материи, выступают
сначала в роли дополнения,
а затем — в роли подлежащего. Заключительная идентификация в сонете связывает именно эти
247
раскаленные частицы с «мельчайшим песком», 13sable
fin, и превращает их в звезды.
Характерна
рифма, связывающая оба трехстишия; это единственная омонимическая рифма сонета
и единственная мужская рифма, связывающая две разные части речи. Между
рифмующимися словами существует известная синтаксическая симметрия, поскольку
каждым из них завершается подчиненное предложение, одно полное, другое —
эллиптическое. Звуковое совпадение наблюдается не только в последнем слоге рифмующихся
стихов, но распространяется на обе строки в целом: 11/sãiblə
sadɔrmir dãzœ˜ revə sã fɛ˜/ — l3/pɑrselə dɔr
ɛsi kœ˜ saiblə fɛ/. Не случайно именно эта рифма,
объединяющая трехстишия и напоминающая нам о «мельчайшем песке», un sable fin, как бы подхватывает мотив
пустыни, куда в первом трехстишии были помещены громадные сфинксы с их
«бесконечным сном», un rêve sans fin.
«Дом», 3maison,
замыкавший в себе кошек в первом четверостишии, исчезает в первом трехстишии, где рисуется царство пустынного одиночества, —
самый настоящий дом
наизнанку, где обитают кошки-сфинксы. В свою очередь этот «недом» уступает место космическому множеству кошек (они, подобно
всем остальным персонажам
сонета, трактуются как pluralia tantum). Они становятся, если можно так выразиться, домом недома, так как в их зрачках
заключен и песок пустыни, и
звездный свет.
В
заключительных строках сонета происходит возврат к теме ученых и любовников,
которой сонет открывался; и те и другие как бы объединены в «могучих и ласковых
кошках», Les chats puissants et doux. Похоже, что первый стих второго
трехстишия дает ответ на вопрос, поставленный в первом стихе второго четверостишия.
Поскольку кошки являются «друзьями сладострастия», 5Amis…
de la volupté,
то «их плодовитые чресла полны», 12Leurs reins
féconds sont pleins.
Можно предположить, что речь здесь идет о производительной силе, но сонет
Бодлера допускает и иные интерпретации. Идет ли здесь речь о силе, заключенной
в чреслах, или же об электрических искрах в шерсти животных? Как бы то ни было,
в любом случае им приписывается магическая сила. Поскольку же в начале
второго четверостишия
248
стояли два согласованных определительных дополнения: 5Amis
de la science et de la volupté, то все, что говорится в заключительном трехстишии, относится
не только к «пылким любовникам», 1amoureux
fervents, но и к
«суровым ученым», 1savants
austères.
В
последнем трехстишии рифмуются суффиксы; это сделано для того, чтобы подчеркнуть тесную семантическую связь
между «искрами», 12étinCELLES. «частицами», 13parCELLES, и «зрачками», 14prunELLES, кошек-сфинксов, а также между «магическими», 12MagIQUES, искрами и «мистическими», 14MystIQUES, зрачками, излучающими внутренний свет и
открытыми навстречу некоему тайному смыслу.
Словно
для того, чтобы с особой силой подчеркнуть эквивалентность морфем, эта
последняя рифма сонета оказывается единственной, где отсутствует опорный
согласный; зато оба прилагательных связаны аллитерацией начального [m]. Под этим двойным освещением
«ужас мрака», 6l’horreur des ténèbres, рассеивается. На фоническом
уровне назальный вокализм последней строфы подчеркивает тему света за счет преобладания
фонем с ясным тембром (7 палатальных против 6 велярных); в предыдущих же
строфах наблюдалось явное количественное преобладание велярных (16 против О в первом
четверостишии, 2 против 1 — во втором, 10 против 5 в первом трехстишии).
В
результате преобладания синекдох в конце сонета когда животных замещают отдельные части их тела одновременно
целое мироздания становится на место животных, которые являются лишь частью этого мироздания, все образы, словно
нарочно, тяготеют к
неясности. Определенный артикль уступает место неопределенному, а глагольная метафора — 14Etoilent
vaguement —
великолепно отражает поэтику всего эпилога. Соответствия между трехстишиями и четверостишиями (горизонтальный параллелизм)
поразительны. Если
узким пространственным (Зmаisоn) и временным (2mûre
saison) границам
первого четверостишия в первом трехстишии
противопоставляется расширение или уничтожение всяких границ (10fond des solitudes, 11rêve
sans fin), то,
соответственно, и во втором трехстишии магический свет, исходящий от кошек, одерживает победу над «ужасом мрака», 6l’horreur
des ténèbres, упо-
249
минание о котором во втором четверостишии едва не привело к
ошибочным выводам относительно кошек.
Соберем
теперь воедино отдельные части нашего анализа и постараемся показать, каким
образом пересекаются, дополняют друг друга и комбинируются различные его
уровни, придавая сонету характер завершенного объекта.
Прежде
всего — вопрос о членении текста. Его можно членить несколькими способами, и
такое членение оказывается вполне четким как с грамматической точки зрения, так
и с точки зрения семантических связей между отдельными его частями.
Как мы
показали, первый способ членения состоит в выделении трех частей, каждая из
которых кончается точкой; иначе говоря, мы выделили каждое из четверостиший и
оба трехстишия вместе. В первом четверостишии описывается в форме объективной и
статичной картины фактическая (или принимаемая за таковую) ситуация. Во втором
четверостишии кошкам приписываются определенные намерения, которые стремятся
использовать силы Эреба, а силам Эреба — намерения по отношению к кошкам,
отвергаемые этими последними. В обеих этих частях кошки рассматриваются как бы
со стороны; в первой части они находятся в пассивном состоянии, в особенности
свойственном любовникам и ученым, во втором — в активном, воспринимаемом силами
Эреба. Зато в третьей части это противоречие преодолевается, так как кошки
наделяются здесь пассивностью, которую они активно принимают; к тому же они
рассматриваются здесь не со стороны, а как бы изнутри.
Второй
способ членения позволяет противопоставить совокупность обоих трехстиший
совокупности обоих четверостиший и в то же время показать тесную связь первого
четверостишия с первым трехстишием и второго четверостишия — со вторым
трехстишием. Действительно:
1. Оба
четверостишия противостоят совокупности трехстиший в том смысле, что в
последних уничтожается точка зрения наблюдателя (любовников, ученых, сил
Эреба); кроме того, здесь кошки оказываются вне каких бы то ни было
пространственных или временны́х границ.
250
2. Эти
пространственно-временны́е границы существовали, однако, в первом
четверостишии (maison, saison); первое же трехстишие их уничтожает (au fond des solitudes,
rêve sans fin).
3. Во
втором четверостишии кошки связываются с мраком, который их окружает, во втором трехстишии — со светом, который сами
излучают (искры, звезды).
Наконец,
третий способ членения дополняет предыдущий, группируя строфы так, что они
образуют хиазм; хиазм образован, с одной стороны, начальным четверостишием и
заключительным трехстишием, с другой — внутренними строфами, вторым
четверостишием и первым трехстишием. В первой группе слово «кошки» является
дополнением, в двух же других строфах оно с самого начала выступает в роли
подлежащего.
Эти
особенности формального членения имеют семантическую основу. В первом
четверостишии отправной точкой служит соседство в одном и том же доме кошек с
учеными или любовниками. Из этого соседства вытекает и двойное подобие (comme
eux, comme eux).
В заключительном трехстишии отношение смежности также перерастает в отношение
подобия; но если в первом четверостишии метонимическое отношение между кошками
и людьми, живущими в доме, способствует возникновению метафорического отношения
между ними, то в заключительном четверостишии такой же переход осуществляется
уже «внутри» самих кошек: отношение смежности является здесь скорее продуктом
синекдохи, чем метонимии в собственном смысле слова. Упоминание частей тела кошек
(reins, prunelles) готовит возникновение образа астральной, космической кошки,
чему соответствует переход от точности к неясности (également — vaguement). Что касается сходства двух
внутренних строф, то оно основывается на отношении эквивалентности. Одна из
этих эквивалентностей отвергается во втором четверостишии (кошки и coursiers
funèbres)
, другая принимается в первом трехстишии (кошки и сфинксы). В первом случае это
приводит к отказу от смежности (между кошками и Эребом), во втором — к тому,
что кошки помещаются в «глубине одиночеств», au fond des
solitudes. Мы
видим, таким образом, что, в противоположность внешним строфам, во внутренних
переход совершается от отношения эквивалентности, являющегося усиленной формой
подобия (и,
251
следовательно, имеющего метафорический смысл), к отношениям смежности (метонимическим),
которые могут быть
либо позитивными, либо негативными.
До сих
пор мы рассматривали сонет как систему эквивалентностей, словно вставленных одна в другую
и в своей
совокупности представляющих закрытую систему. Нам остается рассмотреть последний аспект, при котором стихотворение предстает в
качестве открытой системы
с динамическим развитием от начала к концу.
Вспомним,
что в начале данной работы мы подчеркнули возможность разбить сонет на два шестистишия,
разделенные дистихом, структура которого очень сильно отличается от структуры
остальных частей сонета.
Перечисляя
возможные способы членения стихотворения, мы временно не стали упоминать об
этом, ибо именно это членение, в отличие от всех остальных, показывает, на наш
взгляд, этапы движения от плана реального (первое шестистишие) к плану сюрреальному.
Этот переход как раз и осуществляется при помощи среднего дистиха, на короткий
миг вовлекающего читателя, благодаря обилию различных семантических и
формальных средств, во вдвойне ирреальный мир, так как от первого шестистишия в
нем остается характер внешнего описания, и в то же время он предвосхищает
мифологическое звучание второго шестистишия.
|
Стихи |
1—6 |
7—8 |
9—14 |
|
Внешний |
Внутренний |
||
|
Эмпирический |
Мифологический |
||
|
Реальный |
Ирреальный |
Сюрреальный |
|
За счет
резкой перемены тона и темы, происходящей в дистихе, переход выполняет в сонете
функцию, напоминающую роль модуляции в музыкальном произведении. Цель этой
модуляции в том, чтобы разрешить существующее с самого начала (имплицитно или
эксплицитно) противоречие между метафорической и метонимической тенденциями в
сонете. Решение, которое дается во втором шестистишии, состоит в том, что
противоречие переносится в глубь самой метонимии, хотя
252
и продолжает оставаться выраженным метафорическими средства ми.
В первом
трехстишии кошки, находившиеся первоначально в доме, как бы выскальзывают из
него и начинают расти в пространстве и во времени — в бескрайних пустынях и в
бесконечных снах. Движение здесь направлено изнутри наружу, от кошек-затворниц
— к кошкам, очутившимся на воле. Во втором трехстишии уничтожение границ
происходит как бы внутри самих кошек, достигающих космических размеров,
поскольку некоторые части их тела (чресла и зрачки) заключают в себе
песок пустынь и звезды неба. В обоих случаях превращение осуществляется за счет
метафорических средств. Но оба превращения не уравновешены полностью: первое
связано еще с, кажимостью (prennent… les … attitudes… qui semblent
s’endormir) и со
сном (en songeant… dans un rêve…), тогда как второе действительно
доводит тенденцию до конца из-за своего утвердительного характера (sont
pleins… Étoilent).
В первом случае, чтобы заснуть, кошки закрывают глаза, во втором они у них
открыты.
Однако
обилие метафор во втором шестистишии лишь переносит на уровень вселенной оппозицию, которая имплицитно была сформулирована
уже в первом стихе сонета.
«Любовники» и «ученые» соответственно объединяют вокруг себя элементы, находящиеся в отношении взаимного сближения или
отдаления: любовник-мужчина привязан к женщине, так же как
ученый — ко вселенной;
это два типа связи; в основе первой лежит близость, в основе второй —
отдаленность[115].
253
То же
самое отношение мы обнаруживаем и в заключительных превращениях: расширение кошек
во времени и в пространстве; сжатие времени и пространства до размеров кошек.
Но и здесь, как мы уже отметили, симметрия двух трехстиший не является полной —
в последнем оказываются собранными все оппозиции сонета: плодовитые чресла
говорят о сладострастии любовников, а зрачки — о науке, которой
занимаются ученые; слово магические напоминает о деятельной пылкости
одних, а слово мистические — о созерцательности других.
В
заключение — два замечания.
Тот
факт, что все грамматические подлежащие сонета (за исключением имени
собственного Эреб) стоят во множественном числе и что все женские рифмы также
образованы именами в.о множественном числе (включая и существительное solitudes) , любопытным образом находит
освещение в некоторых пассажах из «Толп»: «Быть в толпе, быть в одиночестве:
равнозначные и обратимые выражения для активного и плодовитого поэта … Поэт
пользуется той ни с чем не сравнимой привилегией, что он может по собственному
желанию быть и самим собой, и кем-то другим … То, что люди называют любовью,
настолько мало, настолько узко и настолько слабо по сравнению с неизреченным
буйством, со священной проституцией души, в которой живет и поэзия, и
милосердие и которая отдается вся целиком любой явившейся неожиданности, любой
мелькнувшей неизвестности»[116].
В начале
сонета Бодлера кошки характеризуются как «могучие и ласковые», puissants
et doux, а в заключительном
стихе их зрачки сравниваются со звездами. Крепе и Блен[117]
отсылают в этой связи к стиху Сент-Бёва: «…l'astre
puissant et doux»
(1829) и обнаруживают те же эпитеты в одном из стихотворении Бризё (1832), где
есть такое обращение к женщинам: «Êtres deux fois doués!
Êtres puissant et doux!»
254
Если бы
возникла надобность, эти сопоставления подтвердили бы, что для Бодлера образ кошки
теснейшим образом связан
с образом женщины, на что эксплицитно указывают два стихотворения из того же сборника, озаглавленные «Кошка» и «Кот», а
именно сонет «Viens,
mon beau chat, sur mon cœur amoureux», где содержится
много объясняющий стих: «je vois ma femme en esprit…», а также стихотворение: «Dans
ma cervelle se promène… un beau chat, fort, doux», где прямо ставится вопрос: «est-il
fée, est-il dieu?» Этот
мотив колебания между
женским и мужским началом имплицитно содержится и в «Кошках», где он просвечивает сквозь нарочитые неясности («Les
amoureux… Aiment… Les chats puissants et doux…»; «Leurs reins féconds…»). Мишель Бютор справедливо отметил,
что у Бодлера «эти два
аспекта — женственность и сверхмужественность отнюдь не исключают друг друга,
но, напротив, объединяются»[118].
Все персонажи сонета — мужского рода, но кошки и их alter ego — огромные сфинксы, обладают двуполой природой. Та же
двойственность подчеркивается на
протяжении всего сонета благодаря парадоксальному выбору существительных женского рода для образования рифм, называемых
мужскими. Из созвездия, данного
в начале поэмы и образованного любовниками и учеными, кошки вследствие своей медиативной функции позволяют исключить
женщину и оставляют лицом
к лицу (если не сливают их воедино) «поэта Кошек», освобожденного от «узкой» любви,
и вселенную, освобожденную
от суровости ученых.
1962
К ТЕОРИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА[119]
Вопросы
о «сущности» поэтического творчества, о «духе» поэзии, ее «магическом» действии, о том, мыслит поэт или лишь испытывает эмоции,
а если мыслит, то
образами или понятиями (последний вопрос занимал многие догматические умы последнего столетия) — эти и подобные им вопросы становятся
все большим анахронизмом
в
современной теории литературы […]. Это означает отказ от вопросов о «сущности»
поэзии И сосредоточение внимания исследователя на «способе ее существования» в
мире продуктов культуры. Другими словами, место прежней теории (или философии)
поэзии занимает теория поэтического языка. Упомянутый процесс, представляющий
собой частичное проявление более общего процесса дробления традиционных
областей философии, начался примерно полвека назад, когда ясно обозначился
интерес к литературному произведению, прежде всего как к факту языка.
Разработанная
русскими формалистами концепция литературы как искусства слова отличалась ярко
выраженной антиметафизической направленностью. Работы формалистов открыли
современный «нефилософский» этап изучения поэзии. Начиная с двадцатых годов, на
которые пришелся расцвет формальной школы, эти исследования претерпели
значительную эволюцию, однако теперешнее их состояние было бы немыслимо без
революционных открытий того периода. И хотя многие положения формализма
признаны устаревшими, его негатив-
256
ная программа теперь особенно актуальна. Ее можно сформулировать следующим образом: поэзию нельзя Описывать в категориях, не относящихся либо к материалу поэзии (язык), либо к поэтическому способу обращения с ним (прием), либо к некоторой системе правил (стиль); никакие утверждения, касающиеся процесса создания произведения (особенно его психологического аспекта), ни в коей мере не объясняют механизма этого процесса; исследование литературы не должно сопровождаться качественными оценками, внешними по отношению к данной литературной системе. Два последних пункта этой программы — антигенетизм и антинормативизм - относятся к числу заповедей, обязательных для современного исследователя поэзии. Что же касается первого пункта, то в процессе дальнейшего развития науки о поэзии он претерпел существенные изменения, хотя содержащаяся в нем общая тенденция трактовать поэтическое произведение как вид языкового сообщения определила направление всех позднейших исследований[120]. В тридцатые годы теория поэтического языка решительно пошла по лингвистическому пути, что связано в основном с деятельностью так называемой Пражской школы структурной лингвистики. В своем теперешнем состоянии теория поэтического языка разделяет все основные положения этой школы. Но добавились новые элементы, заимствованные из наук, бурно развивавшихся в послевоенные годы: семиотики, теории информации, кибернетики, математической лингвистики. Изучение поэтического языка является актуальной областью, в которой, как в фокусе, собираются прогрессивные устремления гуманитарных наук, героически пытающихся наверстать упущенное с тем, чтобы сохранить (а может быть, вернуть?) свой сильно пошатнувшийся авторитет[121].
257
II
Своеобразие поэзии как особого языка до сих пор трактовалось двояко. От романтизма идет противопоставление поэзии как языка эмоционального языку интеллектуальному. Первый является выражением личности, второй носит общественный характер. Правило, регулирующее первый язык, — стиль, второй — грамматика. В нашем веке это противопоставление занимает важное место в неоидеалистической стилистике, которая своими корнями уходит в эстетику и философию Кроче. Вторая теория противопоставляет язык поэзии информативному языку, трактует его как не подчиняющийся грамматическим и синтаксическим правилам практической речи. Поэзия отрицает традиции, правящие этим миром, снимает со слов — пользуясь определением Лешьмяна — «шапки-невидимки», преображает и умножает их значения, вырывает их из традиционного контекста, возвращает им конкретность и выразительность. Такого взгляда на поэзию придерживались русские формалисты.
Обе концепции, несмотря на то, что они исходили из диаметрально противоположных предпосылок, в некотором смысле сходны. В обоих случаях именно качество «поэтичности» (в первом случае отождествленное с эмоциональностью языка, во втором — связанное с некоторым набором «приемов», трансформирующих языковой материал) было резко отделено от других функции языка и не только им противопоставлялось, но и рассматривалось изолированно. И здесь, и там поэзия представала как язык, обладающий только одной функцией. В поэтическом тексте как бы полностью исчезали функции, выполняемые словом в процессе общения, в сфере познания, идеологии, дидактики и т.д. Это явное упрощение, оправданное в ситуации, когда главной задачей было четко сформулировать новое понимание основного предмета поэтики и добиться признания ее автономии, сейчас не принимается даже теми, кто открыто признает формалистическое или неоидеалистическое происхождение своих взглядов (особенно первыми). Поэтическая речь по природе своей многофункциональна, как, впрочем, и любой другой речевой акт (товарищеский разговор, рекламный плакат, эссе, философский трактат, телефонная книга). Более того, во всех этих случаях мы имеем дело с одним и тем же набором
258
основных функций языка. Разница между различными типами речи
связана исключительно с их иерархией. Характер высказывания определяется
доминирующей функцией, которая подчиняет себе остальные функции и задает их
положение в иерархии[122].
Функции, свойственные «непоэтическому языку», в поэзии выступают в роли фона —
активного фона, добавим мы, — для «поэтической функции». Эта функция никогда не
выступает одна, она лишь наиболее важная из всего набора. И наоборот,
поэтическая функция присутствует и в текстах иной природы, где, занимая в
иерархии некоторое более или менее высокое положение, либо помогает, либо
героически сопротивляется доминанте. «Поэтичность» при таком ее понимании
присуща всем текстам, а поэзия — это тот вид речи, в котором поэтическая
функция наиболее интенсивна и преобладает над другими. Следует признать, что
эти формулировки звучат несколько загадочно. Какие же черты языка имеются в
виду, когда говорят о «поэтической функции» и «поэтичности»?
III
Лингвисты
вслед за Карлом Бюлером (К. Bühler,
Sprachtheorie, 1934)
различают обычно три основных измерения
языкового сообщения, три функции знака в процессе общения: экспрессивную (способность языкового знака выражать переживания
говорящего), импрессивную
(способность знака воздействовать на адресата высказывания) и познавательную (способность знака высказывать истину — или
ложь — о фактах действительности). Роман Якобсон выделяет еще три функции языка. Поскольку посредством
языкового знака всегда
осуществляется определенный социальный контакт между людьми, постольку можно говорить о контактивной (фатической) функции языка[123].
Использование знаков
регулируется системой норм и соглашений (это понятие все чаще выступает вместо langue Сос-
259
сюра), которая определяет структуру и значение конкретных словесных сообщений. Тот факт,
что сообщение находится
в постоянной связи со своим кодом и является частичной реализацией содержащихся в коде правил, позволяет выделить еще
одну функцию, связанную с
соотнесением знака с кодом — метаязыковую[124] функцию. Каждая из этих функций
(мы назвали пока что
пять) ориентирует высказывание вовне, соотносит его с некоторой системой отсчета. Слово связывается здесь с
чем-то, существующим вне него: предметом, переживанием, общественной ситуацией.
Однако, помимо всего этого, слово еще как-то взаимодействует с другими словами
в пределах сообщения: притягивается к ним или отталкивается от них, гармонирует
или диссонирует, в общем, пытается как-то определить свое положение в
контексте. На многих уровнях — звуковом, семантическом, грамматическом,
синтаксическом — слово штурмует контекст. Тот в свою очередь навязывает слову
уступки, урезает часть его значения — определяет его. В мире сообщения царит
насилие, здесь действует принцип взаимного ограничения отдельных составляющих.
Вообще принуждение — основа организации текста. Эту организацию нельзя целиком
свести к внешним обстоятельствам, которые служат мотивом или фактической
основой его возникновения. В большей или меньшей степени сообщение всегда
противостоит своей внеязыковой мотивации. Ее естественному хаосу
противопоставляется присущая тексту внутренняя согласованность, отсутствию
связей — ясные связи между словами, беспорядочности — порядок, свободе —
принуждение. Высказывание отличается некоторой избыточностью организации по отношению
к своим внешним обязательствам и условиям. Избыток порядка, порядок «сверх
потребностей общения», заложенный в структуре высказывания, как бы возмещают
недостаток дисциплины во внешнем «положении дел». Избыток организации
оказывается средством преодоления внешнего хаоса и одновременно самоутверждения
языкового акта, как такового.
Разумеется,
этот порядок может присутствовать в разной степени; между его полным
отсутствием и де-
260
монстративным господством имеется множество градаций — как,
впрочем, во всех областях культуры. Литургическая кодификация религиозного акта
стесняет искренность и непосредственность естественного диалога верующего со
сверхъестественным существом, однако только в ней религиозные чувства находят
свое выражение. Ритуал литургии — это одновременно и продолжение религиозного
переживания, объективированное в знаках, и частичное преодоление этого
переживания именно в той мере, в которой ритуал реализует принципы внутренне присущей
ему организации.
Бронислав
Малиновский, анализируя «поэтику» магического заклятия, обнаружил в нем, помимо
слов, относящихся непосредственно к предмету данного акта, и звукоподражаний
(создающих «настрой»), также слова, которые выполняют исключительно
организующую функцию: они обеспечивают внутреннюю связность обряда (независимо
от его конкретного «содержания»), соотнося его со всей традиционной системой
магических действий. Существуют, однако, и крайние случаи избытка организации в
явлениях культуры […].
То, что
в тексте присутствует избыток порядка, не обусловленный внешними причинами, не
может быть объяснено исключительно в категориях передатчика, приемника или
десигната высказывания. Это обстоятельство, столь существенное для современной
лингвистики, было обнаружено в тот момент, когда в поле зрения исследователей
попала собственно поэтическая функция, до тех пор остававшаяся в тени. Похоже,
что она представляет собой диалектическое отрицание всех остальных функций
текста. В отличие от них она направлена на само словесное сообщение. Если
остальные функции связывают сообщение с внеязыковым контекстом, то эта функция
отличается центростремительной направленностью на саму систему знаков и
значений. Прочие функции языка относят сообщение к внешнему миру; поэтическая
функция стремится создать внутренне мотивированный «мир» сообщения.
Чем выше
положение поэтической функции в иерархии текста, то есть чем сильнее
эгоцентрическая направленность высказывания на себя, тем выше уровень его
организованности и выразительности не как языкового эквивалента внешней
ситуации, а как знака имманентных правил, определяющих конфликты, зависимости и
261
взаимоотношения между словами. Поэтическая функция имеет
тенденцию овеществлять высказывание, ограничивать его роль как носителя эмоций,
понятий и приказаний, подчеркивать его самоценность как новой «вещи».
Разумеется, говорить об этом можно лишь как о тенденции, а не как о реальном
факте. Поэтическая функция существует наряду с остальными, и ее влияние
ограничено их влиянием. Но она занимает в иерархии определенное — более или
менее высокое — место, влияя на характер высказывания.
Кибернетически
ориентированная лингвистика рассматривает акт языкового общения как «совместную
игру говорящего и слушателя против сил, вызывающих беспорядок»[125],
против хаоса, дезорганизации и помех, против инертной среды, заглушающей и
смазывающей передаваемую информацию. Каждое завоеванное взаимопонимание — это
«анклав организации» (выражение Винера) , локальное ограничение беспорядка,
появление очага кристаллизации в среде, подверженной действию выравнивающей
тенденции, стремящейся к статистической однородности. «Информация противостоит
распылению; подобно тому, как энтропия есть мера беспорядка, информация есть
мера организации»[126].
Чем больше «открытость» сообщения, чем сильнее его направленность вовне, его
подчиненность внеязыковым потребностям, тем в большей степени содержащаяся в нем
информация имеет склонность «рассеиваться», теряться среди «шумов». И наоборот,
избыток организации, направленность на себя, которые сообщение
противопоставляет своим внешним обязанностям, можно рассматривать как главное
препятствие к утечке информации (познавательной, экспрессивной, прагматической
и т.д.), как способ защитить ее от заглушения и уничтожения неблагоприятными
факторами. Это позволяет по-новому взглянуть на «эгоизм» поэтической функции.
Роль ее в определенном смысле героическая; благодаря ее экстремизму
нейтрализуется естественная склонность передаваемой информации к «растворению»,
тенденция выравнивания уровней сообщения и «мира». В текучей и однородной среде
появляется твердое образование,
262
тем более отчетливое и резкое, чем выше положение поэтической
функции в иерархии функций сообщения.
Таким
образом, поэзия — это вид речи, который стремится к избытку порядка, отличается
высокой степенью «поэтичности» языка и выдвигает на первый план в качестве
главной ценности центростремительную направленность словесного сообщения,
которая в других случаях играет лишь роль противовеса.
IV
Выше,
определяя роль поэтической функции, мы сказали о ней еще не все. Эта функция
способствует не только сохранению, но и увеличению объема передаваемой
информации. «Избыточная организованность» создает одновременно новую
информацию; сообщение обогащается информацией, предметом которой является оно
само. Эта информация, «избыточная» в других текстах, в поэтическом сообщении
выступает на первый план. По-видимому, нечто подобное имел в виду Поль Валери,
когда — следуя за Малербом — сравнивал прозу с маршем, а поэзию — с танцем. У
марша есть задание, состоящее в достижении внешней цели; танец же представляет
собой совокупность действий, единственный смысл которых — в демонстрации их
самих (мы оставляем здесь в стороне такие случаи, как, например, ритуальный
танец). Борис Пастернак сказал как-то, что поэтическое произведение — это
высказывание на тему о самом себе. Как большинство теоретических утверждений
самих художников, эта формулировка относится не к реальному состоянию поэзии,
а, так сказать, к идее поэтичности. Но как вообще можно рассуждать о поэзии, не
определив предварительно ее принципиально возможные крайние ситуации, ее
границы, столь же, вероятно, абстрактные, как понятия волны, точки или прямой?
«Экспедицией»
к этим крайним пределам была у нас поэтика Пейпера. Интересно, в какой степени
это учение вождя авангардистов предвосхитило проблематику современной теории
поэтического языка. Относительно недавно Пшибось высказал предположение, что,
возможно, «кибернетическое будущее» (как он выразился) возьмет на вооружение
идеи Пейпера о поэтической речи, которые, впрочем, даже участники «Звротницы»
263
считали крайними[127].
Это будущее, по существу, уже наступило. Утверждение, что проза дает вещам
имена, а поэзия — псевдонимы, было в представлении Пейпера равнозначно более
широкому противопоставлению поэтической функции языка всем остальным его
функциям. Автор «Tędy» («Этим путем») очень ясно сознавал, что знак языка, будучи в
различных областях общения и познания носителем информации о предметах и
переживаниях, в поэзии сам является главной информацией, информацией о своем
положении среди других знаков, о своем отношении не к чувствам автора
(«искренность поэзии») и не к реальным фактам («правдивость образа»), а к своим
соседям по «метафорическому ряду». Метафорическое выражение нельзя проверить,
сравнив его с внешним положением вещей. В отличие от других типов высказываний,
к которым применим критерий истинности, поэтический текст являет пример
высказывания, не подлежащего проверке. Поэтический псевдоним есть знак
собственной организации. Его истинность можно поверять только им самим. Строго
говоря, поэтический знак склонен превращаться в объект несемиотический,
лишаться «прозрачности», свойственной знакам, и приобретать «непрозрачность»,
свойственную предметам. Характерно, что к подобным выводам пришел Ижиковский —
один из наиболее солидных оппонентов авангарда — в своей посмертно
опубликованной статье «Materia poetica»: «В поэзии слова не только сообщают о
чем-то, но и сами являются предметами»[128].
Пытаясь определить положение поэтической речи в мире языкового общения, под
поэзией обычно понимают прежде всего лирику. Эпическое повествование идет
параллельно течению фабулы. Слово рассказчика инициируется событием. В пьесе
высказывание героя обращено к некоторому адресату, второму лицу, и определяется
им. Адресат этот двоякий: другое лицо из мира пьесы и одновременно зритель. И в
том и в другом случае поэтическая функция словесного знака ограничена его
подчиненностью внешним факторам и нуждам. Разумеется, категория жанра — это
абстракция, и было бы наивно искать чистых примеров литературного жанра в
литературной действительности. Эта действительность
264
синкретична, а классификация пытается это игнорировать для того,
чтобы сделать ее картину более четкой и понятной. Говоря о том, что поэтичность
особенно ярко проявляется в лирике и несколько заглушается в эпосе и драме, мы
имеем в виду только то, что в этих жанрах — разные тенденции, разные полюса
притяжения. Реальный литературный факт никогда не находится ни на одном из
полюсов, но всегда где-то посредине. Главное, конечно, не в том, чтобы пытаться
обнаружить чистое проявление полюса «поэтичности» (мыслимое только теоретически),
а в том, чтобы констатировать степень удаленности от него.
Язык лирики в наибольшей степени насыщен поэтической
информацией, которая — пора это признать — парадоксальна по своей природе. Само
ее существование основано на противопоставлении, она может выступать не сама по
себе, а только как отрицание информации иной природы. Поэтическая информация
как бы переносится с помощью информации другого рода, которой она
противопоставлена, — познавательной, выразительной, дидактической,
политической, религиозной и т.п. И только наличие такого «носителя» делает
возможной передачу информации поэтической. Своеобразие поэтической функции, по
существу, основано на том, что она по-своему противоречит понятию
функциональности; взятая сама по себе, она не направлена к достижению
какой-либо цели. Она может быть функцией только на фоне другой функции,
направленной вовне от сообщения. Этот онтологический парадокс «поэтичности» и
делает естественным
состоянием поэзии напряжение: между поэтичностью и непоэтичностью, между
эгоистическим сосредоточением на собственной организации и выполнением внешних
обязанностей, психологических, социальных или познавательных. Иерархия функций
здесь представлена в виде системы, находящейся в динамическом равновесии.
Преобладание доминантной функции находится под постоянной угрозой. Граница между
ситуациями, когда поэтическая информация подчиняет себе информацию иного рода
или, наоборот, эта последняя подчиняет себе поэтическую, зыбка и неопределенна.
Общественные
функции поэзии многообразны. Она может играть роль философии, идеологии, религии,
науки, этики, магии, воспитателя, агитатора, может превратиться в башню из
слоновой кости, чем только она
265
не бывает! Она силится найти
адекватное выражение капризам фантазии, но она же дает реалистическое описание
окружающей действительности, выражает эмоции и формирует мнения. Но все эти
роли поэзии всегда выступают как элементы драматического произведения. Само
понятие «роли» предполагает существование инварианта, постоянной величины,
которой даются эти переменные роли; тем самым обусловливается и напряжение
между инвариантом и играемой им ролью. Поэзия диалектична по своей природе; например,
выполняя задачи философии, она не отождествляет себя с ней, а держится как бы
на конфликте между «философичностью» и «поэтичностью». В каждом случае возможен
тот или иной вариант конфликта, в зависимости от того, какие партнеры выступают
против поэтической функции. Мне кажется, что различия между видами поэзии,
поэтическими канонами периодов истории литературы или литературными школами
определяются в большой степени разными наборами таких партнеров (поэзия —
экспрессия, поэзия — пропаганда, поэзия — школа жизни и т.п.).
V
Доминирование
поэтической функции определяет особые принципы упорядочения элементов языкового
сообщения, как знаков, так и смыслов, особый характер целостности произведения,
находящийся в противоречии с остальными принципами его организации, ориентированными
на связь с «внешним миром». Положение знака в системе поэтического текста
определяет другой знак, обоснованием значения служит другое значение, а не
внеязыковая ситуация. Обесценение «мира» как контекста для знака увеличивает
роль языкового контекста. Лишаясь внешних связей, слова укрепляют связи между
собой. В отличие от других текстов поэтическое произведение является кодифицированным
текстом, составляющие которого подчинены иерархии и образуют замкнутую
конфигурацию[129]. Такая организация
является основой существования поэтической информации. Она дает твердую опору
словам, заменяя внетекстовые связи, позволяет им иметь значение без ссылки на
действи-
266
тельность. Знак в кодифицированном сообщении функционирует во многих планах. Разговор,
например, можно охарактеризовать
исключительно в категориях чередования словесных знаков, исходящих от собеседников. Разговор имеет линейный порядок,
параллельный, так сказать,
предмету, интересующему собеседников; то же самое верно для монологического высказывания и научного доказательства. Иначе выглядит ситуация
кодифицированного сообщения.
В нем тоже есть следование, но не
однолинейное, а многомерное в каждый момент времени. Оно упорядочено не только
относительно оси
одновременности. Кодифицированное
сообщение протекает во
времени, но одновременно является синхронным образованием. Оно — parole, следующий за langue,
сообщение, которое
своей организацией приближается
к системе языка —
коду. Эта, характерная для системных образований, одновременность связей между словесными знаками, одновременность функций,
выполняемых этими знаками,
является основным свойством поэтического сообщения. Слово — элемент предложения
и одновременно участник ритмической структуры, оно связано с контекстом семантически
и одновременно участвует в звуковой инструментовке сообщения. Слово находится
сразу во многих плоскостях и вступает в множество разных отношений по
«смежности». Структурная организованность поэтического сообщения опирается на
определенные правила эквивалентности, действующие на разных лингвистических
уровнях. Стих равноценен стиху, слог (в силлабическом стихосложении) — слогу, строфа
— строфе, интонация — другой интонации. Слово в рифменной позиции созвучно с
другим словом. Параллелизм, возводящий в закон эквивалентность следующих друг
за другом элементов (на уровне как означающих, так и означаемых) является, по
мнению некоторых теоретиков, универсальным принципом строения поэтического
сообщения[130]. Это основной принцип
сегментации языкового потока в самых различных его аспектах:
интонационно-синтаксическом, грамматическом, лексико-семантическом,
метрическом. Поэтому понятен тот особый интерес, который современные
исследователи прояв-
267
ляют к стихотворному языку, где принцип параллелизма находит
наиболее явное выражение. Метрическую упорядоченность можно рассматривать как
крайний случай кодифицированности сообщения, как пример близости «избыточной»
организации к полюсу поэтичности. Тенденция к максимально доступной для языка
степени организованности, регулярности, стремление придать связям слов
структурный характер, установка на замкнутость, которую сообщение
противопоставляет своим внеязыковым функциям, — это еще один парадокс поэтической
речи. Внутренняя организованность сообщения, которую мы выше определяли как основу
его информативности, имеет тенденцию по мере роста обращаться в свою
противоположность.
Чем
более система замкнута и упорядочена, тем более — как это нам известно из
других источников — сильной становится тенденция к уравниванию частей, к
схематизму, монотонности и усреднению, то есть к возрастанию энтропии[131].
В абсолютно упорядоченном тексте информация распылилась бы и потерялась,
растворилась в усилившемся шуме. Такой текст, не создающий условий для
кристаллизации информации, текст равномерно регулярный, приближался бы, по сути
дела, к отрицанию поэтичности. Эту зависимость всегда интуитивно осознавали
читатели поэзии. Когда мы имеем дело со стихотворением вполне метрически
упорядоченным — например, силлабо-тоническим, — у нас возникает впечатление,
что контуры слов и предложений стерты, значения их теряют выразительность,
растворяясь в монотонной «мелодии». Монотонность ее, вытекающая из членения
произведения на совершенно одинаковые отрезки (стопы, полустишия, изосиллабические
строки), как бы замазывает семантику и стилистику произведения, убаюкивая наше
внимание отсутствием необходимого ему сопротивления. Упорядоченная метрическая
структура (бесконечное число примеров тому дает поэзия послеромантического периода)
не только стирает непоэтическую информацию, но, полностью накладываясь на
«схему ожидания» читателя, исключая момент неожиданности, и сама становится незаметной,
а потому теряет и свойство «поэтичности».
268
Не будем
задерживаться на этом абстрактном описании «парадокса упорядоченности», скажем только, что поэтическое сообщение, стремясь к
максимуму организации, одновременно
сопротивляется его последствиям, стремясь к отрицательной энтропии, ведет войну на два фронта: в направлении кодификации
и в направлении ее
нарушения. Отступление от правила здесь играет роль его подтверждения. Норма, подвергнутая сомнению, тем самым утверждается в своем
качестве нормы. Симметрия
параллелизмов обнаруживается в столкновении с асимметрией исключений. Притяжение знаков наблюдается на фоне их
отталкивания, и наоборот. Метрическая
структура требует, как писал Седлецкий, своего подтверждения посредством «нарушения метра». Система «констант» подчеркнута
своей противоположностью, свободной
игрой «стихий». Пословица «согласие строит, а несогласие рушит» не применима к поэзии. В поэтической речи вопрос о выборе
между согласием (то
есть упорядоченностью) и несогласием неуместен. Важно само напряжение между принципом и свободой, напряжение, которое выявляет в
тексте выразительные места,
центры кристаллизации, то есть поэтическую информацию. В читательском восприятии этому
напряжению соответствует
диалектика «ожидания» и «оправдания
надежд», о которой речь пойдет в конце статьи.
Поэтическое
сообщение характеризуется определенной системой ограничений (присущих,
например, данной литературной
школе), которые регулируют «канал» связи между автором и читателем. Регулируют — это значит устанавливают «фильтры», с
помощью которых читатель
отбирает информацию из неограниченного потока теоретически возможной (то есть возможной в рамках данной языковой и литературной
культуры). Читатель,
принявший к сведению эту систему ограничений (неважно, с одобрением или без), имеет право ожидать сообщений определенного типа; при
чтении он настраивается
на получение определенного рода информации, ожидает реализации «обещанной» схемы. Если его ожидания оправдываются
полностью, объем информации в
сообщении близок к нулю. Читатель не получил ничего, чего бы он не знал раньше. Такое «удовлетворение» дает
поэзия манерная или эпигонская. Количество информации пропорционально ее неожиданности с точки
269
зрения воспринимающего. Чем меньше ее ожидаешь, тем больше ее объем[132].
Наибольшую информацию несут нарушения
ожидаемого порядка. Выразительным местам текста в читательском восприятии соответствует категория удивления[133].
Читатель удивляется, что данная кодифицированная система несет в себе противоречия, что она оказывается многозначной.
Особенность
поэтического сообщения в том, что, подвергаясь большим, чем какое-либо другое языковое сообщение, ограничениям, оно оказывается
насыщенным и гораздо
большим количеством информации. Поэтическое сообщение «представляет собой передачу большого количества информации по каналу
малой пропускной способности»[134].
Составные части этой информации сжаты, сплавлены в нерасторжимое единство, взаимно проникают друг в друга. Каждый элемент
осмыслен многократно, все
значения реализуются одновременно. Перефразируя слова Збигнева Беньковского (см. его «Введение в поэтику»), можно сказать, что
многозначность — судьба поэзии. Слово в поэтическом
тексте живет сложной жизнью,
определяемой и данным контекстом, и всем обликом слова, сложившимся в различных ситуациях общения: на фоне словесного
контекста произведения и на
фоне бытового употребления, употребления в познавательных и императивных формулах, а также
в других художественных
текстах. Участвуя в жизни нового поэтического сообщения, слово тянет за собой все свое прошлое, свою роль и обычаи,
связанные с принадлежностью к
данной языковой системе и определенным сферам социального функционирования. В слове, использованном поэтически, пересекаются обе эти
стороны его
существования. Слово осмыслено одновременно в нескольких разных областях. На этом основана его принципиальная многозначность,
его специфическая омонимичность.
Напряжение,
существующее между двумя биографиями слова, вносит в произведение постоянное движение
270
значений, вызывает их «мерцание» и неопределенность Значения,
стремящиеся подавить друг друга, обречены на сосуществование. Слова колеблются
между «называнием», «выражением» и «воздействием», с одной стороны, и
«поэтичностью» — с другой. Этот драматизм их взаимоотношений имел в виду еще
Гораций, когда говорил, что слова в поэтическом произведении должны удивляться
своему соседству. Это «удивление» выражается в характере семантической связи
между словами, в множественности значений и отказе от предпочтения одних в
ущерб другим, в утверждении одновременно всех, хотя бы отдаленно возможных,
значений слова, включенного в текст. Традиционные поэтики фиксировали и
систематизировали различные виды этой «многозначности» в каталогах тропов и
стилистических фигур. Метафора, эта концентрированная формула поэтического
языка, ярко демонстрирует сосуществование значений буквальных и переносных, уже
готовых и едва появившихся, которое служит неотъемлемым признаком поэзии даже
при отсутствии метафор в узком смысле слова. Метафора демонстрирует увеличение
информации, которую несет словесный знак, когда он указывает одновременно и на
себя и вовне.
Принцип
многозначности распространяется и на фигуры обоих участников поэтической игры:
автора и читателя[135].
Первый — реальный автор, но вместе с тем он и воображаемый субъект
повествования (лирический герой, рассказчик); второй — конкретный читатель, но
в то же время и воображаемое «ты», условный адресат сообщения. Оба находятся
одновременно внутри сообщения и вне него. Литературное произведение можно
рассматривать как сообщение поэта, адресованное читателю, и как чье-то
сообщение, передаваемое поэтом. Автор и читатель амбивалентны по своей природе:
они и «буквальны» и «переносны», разделены фактом поэтического сообщения и
одновременно зафиксированы в его словесной структуре.
Поэтическая
речь осуществляет непрерывное переосмысление языковых знаков. Ослабляя их упорядоченные
и социально признанные связи с действительностью, она открывает им простор для
взаимодействия, в котором они обнаруживают свое сродство или вражду. Та-
271
кое новое использование знака переносит его из сферы обыденности
в сферу неожиданности, сферу сюрпризов. Поэзию мы всегда воспринимаем на фоне
непоэзии, в большей или меньшей степени соотнося ее с другими видами словесного
общения. Текст, в котором знаки непосредственно указывают друг на друга, мы понимаем
на фоне таких сообщений, где конфронтация знаков опосредствована их соотнесением
с обозначаемыми понятиями. Надо полагать, первичной составляющей переживания,
вызываемого поэтическим произведением, является именно это ощущение
трансформации слова (в большей или меньшей степени заметной в разных видах
поэзии), впечатление, что слова занимают «необоснованное» с точки зрения нужд
практической речи положение, сознание неожиданного своеобразия их использования.
Знак здесь как бы проверяется другими знаками в различных планах: фонетическом,
синтаксическом, семантическом и т.д. Рифма или аллитерация ассоциируют слова на
базе их созвучия, противопоставляют тождество (или сходство) звучаний различию
значений. Метафора порождает драматические столкновения между «семантическими
полями» слов. Порядок ритмизованного сообщения превращает просодические
элементы языка (например, слоги в силлабическом стихе или акцентные группы в
тоническом) в ритмически повторяющиеся периоды. Несоответствие стиховых единиц
просодическим (например, стоп и акцентных групп в силлабо-тоническом стихе)
обнажает напряжение между двумя семиотическими системами — языком и метром.
Членение повествования на стихи может изменить его интонационно-синтаксический
рисунок, как в случае несовпадения границ стиха с границами предложения (enjambement)[136].
В свободном стихе (например, у Пшибося) часто создается ситуация, при которой
одно слово, выделенное в отдельную строку, выступает как эквивалент целой группы
слов другой строки. Примеры можно множить без конца. Роман Якобсон провел (на
материале произведений Норвида) удивительно тонкий анализ, в котором показал,
как основные грамматические категории морфологии и словообразования активно
272
участвуют в поэтической игре[137].
Ему же принадлежит формулировка эффектной аналогии между ролью геометрии в
изобразительном искусстве и ролью грамматики в поэзии. Подобно геометрическим
структурам, категории грамматики «омонимичны»; одни и те же категории могут
иметь разные значения. И наоборот, разные структуры могут быть «синонимичны»,
тождественны или почти тождественны по смыслу. Выбор таких «синонимичных» форм
в практической речи произволен (одно и то же можно выразить разными способами),
в поэзии же он играет решающую роль («то же», по-другому высказанное, не будет
«тем же» с поэтической точки зрения). Поэзия часто подчеркивает грамматические
категории, как в изобразительном искусстве геометрические фигуры отвлекаются от
форм реальных предметов. В этом смысле весьма наглядна аналогия между
современной поэзией и абстракционистской скульптурой, которые объединяются
общей тенденцией к обнаружению структуры. Ян Прокоп интересно показал на
нескольких примерах, в какой степени «область чисто абстрактных отношений между
грамматическими формами» может стать чуть ли не «тематическим центром
поэтического произведения»[138].
Мне
кажется, что понятие переосмысления может стать ключом к пониманию явления так
называемой «образности» поэзии. Критики, охотно пользующиеся термином «образ»,
слишком часто придают ему визуальный смысл, ищут в поэзии образы, родственные
тем, которыми пользуется скульптура или кинематография. Они не обращают при
этом внимания на тот факт, что, по сути дела, они говорят о представлениях,
которые литературное произведение вызывает в их воображении, а не о том, что в
нем фактически содержится. «Образность» в поэзии имеет лингвистический
характер, а не пластический. Вся она целиком заключена в последовательности
звуков и смыслов текста. Поэтический образ — это вспышка, вызываемая неожиданным
пере-
273
осмыслением одного языкового знака в контексте другого. Вспышка фонетическая,
морфологическая, синтаксическая
или семантическая, которая освобождает знаки из-под власти обыденности и являет их в новом свете, обнаруживая их взаимные
притяжения и отталкивания.
VI
Как уже
говорилось, поэтическая информация измеряется степенью ее противопоставленности иной информации, содержащейся в тексте, степенью
ее оппозиции внешним
коррелятам текста. Этим теоретически и определяется своеобразие поэзии в ряду других
видов речи, ее
специфика как «языка в языке», пользуясь словами Поля Валери. Практически, однако, в конкретной
общественно-исторической ситуации поэтическая информация измеряется не этой
«онтологической» мерой. При восприятии
отдельных сообщений она учитывается только как фон. На первом плане выступает другая, социально и исторически обусловленная
величина. Это уровень
оппозиции данного сообщения запасу уже известной поэтической информации, то есть степень его выразительности на фоне традиции.
Вводя
это понятие, мы обнаруживаем еще один парадоксальный аспект поэтического языка — двузначность пространства, на котором
разыгрывается диалог между
автором и читателем. Традиция как система принципов и норм, существующих в сознании писателей и читателей, выступает в роли
набора ограничений, накладываемых на данное поэтическое сообщение, в роли системы координат, системы эталонов.
Очевидно, эта роль
посредника в диалоге читателя и поэта может быть понята только тогда, когда мы освободимся от груза чисто исторических
разъяснений и поймем, что традиция
не прошлое, а компонент настоящего, что ее нельзя рассматривать в категориях причинно-генетических, поскольку это такое «прежде»,
которое существует и
«теперь» И находится с ним в функциональной связи. Явление традиции обнаруживается в
форме превращения диахронической
смены (сначала — потом) в синхроническую упорядоченность, в закон сосуществования слагаемых определенной культурной
ситуации.
Только
такое «одновременное», а следовательно, структурное, понимание традиции позволяет видеть в ней
274
контекст для той игры, которая происходит в ситуации «автор —
сообщение — читатель». В эту ситуацию традиция входит двояким образом: как
система правил и средств создания текста (то есть как система ограничений на
пути от замысла к произведению) и как система ожиданий со стороны читателя.
Первая роль традиции очевидна и не требует разъяснений. Каждая
поэтика соотносится со сложившимся уже набором норм и средств поэтической речи.
Соотношение это — понимать ли его в положительном или в отрицательном смысле —
есть необходимое условие осмысленности всякого сообщения. Оно ограничивает
замысел произведения, но позволяет ему отлиться в форму общепринятых ценностей.
Граница между традицией, отрицающей новаторство, и традицией, обусловливающей
возможность его существования, расплывчата и неопределенна. В сознании
потребителя поэзии традиция предстает в виде набора утвержденных навыков
восприятия, склонностей и привычек, ясно определяющих границы между различными
типами поэтической информации: понятной и непонятной, известной и неизвестной,
воспринимаемой как знакомая и чуждой. Литературный эквивалент этого набора —
поэтический канон, конвенция (или несколько сосуществующих конвенций)[139],
которая содержит «приемы» (стилистические, композиционные, образные и т.п.),
уже опробованные, отработанные, освященные в ее рамках. Всеми принятая
конвенция — это своего рода установление, систематизирующее и регулирующее
обязанности поэзии по отношению к читателям. Это образец, по которому читатель
проверяет «правильность» сообщения. Как всякое установление, конвенция создает
область взаимопонимания между общающимися партнерами. Всякое понимание, однако,
достигнутое на почве соглашения, сопряжено с постоянной опасностью непонимания.
Правильное понимание сообщения, то есть распознание в нем упорядоченного набора
единиц информации, требует от читателя знакомства с правилами передачи, с
системой «предписаний», устанавливающих соответствие между определенными
элементами сообщения и определенными информационными величинами. Читатель
должен
1
275
уметь ориентировать произведение относительно литературного кода
— поэтики[140], а также относительно
другого кода, общего у данного произведения с рядом родственных ему
произведений (литературная школа), и, наконец, относительно кода, однократно
реализованного в данном произведении и являющегося носителем его индивидуальной
поэтичности. Понимание поэтического сообщения тем полнее, чем яснее читатель
отдает себе отчет в двойственности правил кодирования. Однако процесс
восприятия — это не просто покорное следование читателя за правилами,
реализованными в произведении. Он сам, приступая к диалогу с автором,
располагает кодом собственных поэтических склонностей и привычек. Следовательно
восприятие произведения всегда есть в той или иной степени перекодирование,
попытка перевода из кода, использованного в сообщении, в код, ожидаемый
читателем в соответствии с поэтической конвенцией, которая принята и одобрена
им в качестве модели. Читатель стремится свести неизвестное к известному,
информацию, имеющую для него смысл более или менее правдоподобный, свести к
очевидному. В результате, пытаясь понять, читатель может прийти к непониманию,
потерять то, что не предусмотрено соглашением, а потому наиболее информативно,
или же прийти к выводу, что данное произведение не больше чем препарированный
скелет уже известной поэтической модели.
Ориентирующаяся
на лингвистику теория поэтической речи бросает яркий свет на парадоксальную
природу поэзии. В свою очередь сама эта теория порождает определенные парадоксы
исследования, которые, как мы надеемся, окажутся плодотворными для науки. И прежде
всего следующий: пытаясь описывать то, что противопоставляет поэзию другим
видам языкового общения, ее «эгоцентризм», эта теория подводит, казалось бы
вопреки себе самой, к пониманию поэзии как социального явления.
Май 1961
ТЕОРИЯ
ИНФОРМАЦИИ И
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС[141]
С самого
момента своего возникновения наука о литературе использовала, порой даже злоупотребляя ими, результаты других научных
дисциплин. В этом одна из причин
ее значения в сфере идеологии: «Для философии чрезвычайно важна именно та дисциплина, которая использует наибольшее количество вспомогательных
отраслей знания или соединяет их в себе, отражая и выражая как можно более
широкие сферы действительности, и может таким образом создать основу для
целостного представления о природе»[142].
Методологический плюрализм в науке о литературе, характерный для ее
домарксистского этапа и для сегодняшнего буржуазного литературоведения,
сменился у некоторых ученых-марксистов слишком уж строгим методологическим
монизмом […].
В группе
родственных наук наиболее влиятельны в методологическом отношении и наиболее
агрессивны а) самые развитые дисциплины; б) те отрасли знания, которые играют
подсобную роль В наибольшем количестве областей науки[143].
Этим можно объяснить, почему на литературоведение столь сильно влияет а)
лингвистика; б) философия, психология, а в последнее время также математика. В
то же время надо принять во внимание, что некоторые из этих дисциплин (особенно
математика и лингвистика) описывают феномены менее
277
сложные, чем литературное произведение, Это дисциплины низшего порядка*,
поэтому они имеют только ограниченное
значение для истолкования литературного произведения. «С помощью модели низшего структурного порядка по сравнению со
структурой определенного участка
действительности эта, более сложная, действительность может быть объяснена только
аппроксимативно… Например, с помощью понятия механизма можно объяснить часовой
механизм, механизм памяти, механизм общественной жизни. Но только в первом
случае понятие механизма исчерпывает сущность явления, и притом вполне
адекватно, тогда как в двух других случаях модель механизма объясняет только
некоторые стороны или аспекты явления или его определенное (фетишизированное)
подобие»[144].
Таким
образом, использование дисциплин низшего порядка вполне законно: «Так же как
высшая форма движения подразумевает низшую, так и наука, изучающая высшую форму
движения, предполагает в качестве вспомогательной дисциплины ту, которая
исследует низшую форму движения»[145].
Американский
профессор Гарольд Уайтхолл подытожил, каким образом развивались в последние десятилетия
взаимоотношения между литературоведением и лингвистикой: «Подобно
математическому анализу, который является основой физики, лингвистический
анализ становится основой литературоведения». Это прежде всего относится к
современной ситуации, когда науку о литературе, долго считавшуюся частью
философии, большинство американских «новых критиков» считают дисциплиной,
занимающейся изучением литературных функций языка. Кроме того, как
литературоведение, так и лингвистика в своей современной фазе ориентированы на
структурализм. Современные тенденции развития в обеих дисциплинах начали проявляться
около 1917 года, и обе достигли известной зрелости приблизительно в 1948 году»
[…]. Сам Уайтхолл отмечает, что европейские структуралисты исходили прежде
всего из теории вертикальных уровневых планов, опирающейся на концепцию Р.
Ингардена: план философский, план культурно-исторический, план образный, план
семантический, план
278
языковой. Например, американские теоретики в конце второй мировой войны, опираясь на
психологию (в США бихевиористскую) и теорию информации, занимались прежде всего
горизонтальными соотношениями:
передатчик
→ сообщение → принимающий.
Из
такого подхода родилась общественная наука, точности которой, по мнению
Уайтхолла — несмотря на некоторые недостатки антропологической и
психологической методологии, — могли позавидовать другие общественные науки.
Новое
сближение литературной науки со смежными дисциплинами, которое мы сегодня
наблюдаем (пока что более явственно за границей, чем у нас), является
результатом нынешнего состояния науки в целом. Характерной чертой современного
научного мышления является исследование сходных черт (гомоморфизм и изоморфизм)
и разработка методологического подхода, пригодного для более широких сфер
действительности.
Результат
подобного развития — возникновение «промежуточных отраслей» (математической
логики, биохимии и т.д.), а также возникновение «синтетических наук» (главным
образом кибернетики) […].
Интегрирующие
тенденции современной системы наук коснулись литературоведения и искусствознания
прежде всего в том смысле, что через лингвистику они усваивают методы обеих
синтетических наук о передаче значений, то есть теории информации и семиотики
(а вместе с тем данные математической логики, современной психологии и т.д.).
Методологическое влияние теории информации сильно сказывается во всей области общественных
наук […].
Учитывая
эту ситуацию, будет нелишним задуматься над вопросом, какие же технические
достижения новой методологии могут быть использованы нашей наукой о литературе.
2
Литература
— это специфическая форма сообщения, передачи информации (идейной и
эстетической) читателю. Процесс, начинающийся созданием произведения автором и
завершающийся конкретизацией произведения читателем, является одним из случаев
цепи
279
коммуникации. Модель простейшей коммуникативной цепи, собственно
говоря, в иных терминах изображает литературный процесс, которому в
марксистской теории отражения мы даем следующее определение: из элементов
объективной реальности и субъективного опыта (источник информации) автор
(передатчик) выбирает и преобразует элементы (выбор), чтобы выразить их с
помощью языка (кодирование). Техническим средством (каналом) переноса
литературного сообщения является текст произведения; текст, состоящий из букв
(система сигналов), читатель принимает в процессе чтения, интерпретирует его
(декорировка) в некоторых деталях иногда неверно (шумы), например если ему не
известны те исторические факты, на которые откликнулось произведение.
В литературе реализуются коммуникативные цепи различной сложности. В случае
перевода мы имеем дело со сложной цепью коммуникации, в которой результат
сообщения становится источником дальнейшего сообщения; еще более сложной
становится цепь при сценическом воплощении переводной пьесы. При наиболее
сложных информационных цепочках иногда каждым звеном занимается особая научная
дисциплина[146] […].
В
литературном процессе необходимо принимать во внимание то, что некоторые его
звенья намного сложнее, нежели при технической коммуникации, а часто также сложнее
обычного языкового сообщения:
1.
Человеческий «передатчик» и «приемник» более сложны уже потому, что в них
важную роль играет память, что бы мы под этим ни подразумевали: различную силу
ассоциативных связей, основывающихся на разной степени правдоподобия в
возникновении единиц (об этом речь идет при так называемых диссипационных
матрицах), или репертуар конкретных представлений, хранящихся в сознании.
2. Из-за
сложности человеческого «передатчика» и «приемника» здесь наблюдаются гораздо
более радикальные переосмысление и искажение информации,чем в канале, и поэтому
повышается значение категории так называемого семантического шума.
3.
Методы, разработанные для анализа информации, пока могут скорее характеризовать
выбор комбинаций,
280
составленных по принципу кода с ограниченным репертуаром знаков,
чем выбор конкретных значений, взятых из действительности.
Языковые
сообщения — равно литературного или нелитературного характера, имеют ли они
место между автором и читателем, между актером и зрителем или между двумя
персонажами драмы, — относятся к категории процессов сообщения, и поэтому к ним
можно применить обычную схему коммуникативной цепи. Теперь мы можем приступить
к установлению того, какие из результатов, разработанных в теории информации
для отдельных звеньев цепи сообщения, можно использовать при разборе
литературного произведения, и прежде всего его языковой стороны. Мы
сосредоточимся на семи основных понятиях (пока что без их математических
характеристик): коммуникативные связи, сигнал, канал, код; память, шум и информация.
3
Передача
сообщения от адресанта А к адресату В осуществляется благодаря коммуникативной
связи: все коммуникативные связи данной системы сообщения составляют
коммуникативную сеть. Литературное произведение при своем воздействии на
публику вступает в коммуникативные связи со своей публикой (читателями,
зрителями). Произнесенное слово вступает в коммуникативные связи нескольких
типов, и они могут реализоваться и внутри произведения (особенно в театральной
пьесе):
1.
Односторонние коммуникативные связи: а) в направлении от адресанта к адресату
(А → В):
доклад по радио (его стиль приспособлен к целям коммуникации);
б) в
направлении от адресата к адресанту (А ← чтение
«про себя» (имеет характер дешифровки и также включает в себя ее проблемы);
некоторые авторы стремятся возбудить в читателе иллюзию двусторонней
коммуникативной связи (путем обращения к читателю и т.д.).
II.
Двусторонняя коммуникативная связь:
а)
простая (А +!: В): диалог, в ходе которого адресат становится адресантом, и наоборот[147];
281
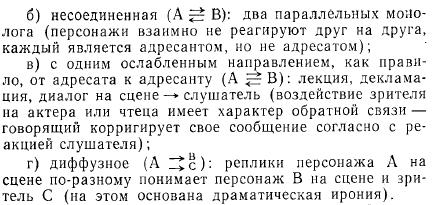
Модель различных коммуникативных связей, которую мы здесь попытались представить
на примере театрального диалога, позволяет привести в единую логическую систему
изолированные наблюдения; она имеет значение скорее для классификации, чем для
познания предмета.
4
В
процессе, который мы обозначили как цепь сообщения, информация закодирована в
виде сигналов, подходящих для определенного канала, через который и
осуществляется передача. Для литературы могут быть обозначены два типа каналов
— акустический и графический. и две системы сигналов: произнесенное слово и
письмо; они реализуются в виде текста и потока речи. Другую точку зрения
отстаивает Р. Абернети; он обозначает в качестве «канала» поэтический язык в
отличие от языка национального: «…понятие поэтического языка отвечает дефиниции
канала сообщения со сравнительно небольшой пропускной способностью,
содержащегося в подобном же, более широком канале. Когда поэт руководствуется
определенными стилистическими правилами - например, когда он примет
определенную метрическую схему или рифмовку, — он ограничивает таким образом
для себя количество альтернатив, данных ему первоначально повседневным языком…
Это означает, что выбор, осуществленный при таких условиях, содержит меньшее
количество информации, чем выбор из всей суммы выражений обычного языка»[148].
Я полагаю,
282
что
поэтический язык в литературном процессе играет скорее роль кода, чем канала:
канал — это техническое средство, к которому надо приспособить сообщение, чтобы
оно не превышало его возможности, тогда как код это система условных «правил»
для выражения данного сообщения с помощью системы сигналов (репертуаром
сигналов и системой «ограничений» определяется код, а не канал, как полагает
Абернети). Впрочем, когда Абернети далее размышляет о параметрах, которые
выражают ограничения поэтического языка по сравнению с языком национальным, он
приходит к понятию масштаба избыточности, что является параметром,
характеризующим код (или субкод), а вовсе не канал*.
Акустическая
система в языке первична, а для перевода в графическую систему необходимо
разделить звуковой поток на ограниченное количество дискретных единиц. […]
Графический канал имеет меньшую пропускную способность, чем акустический.
Графический вид текста состоит из сигналов с меньшей способностью информации,
чем соответствующие акустические .участки: отсутствует особая интонация, ударение,
тон голоса (ирония и т.д.)*; если воспользоваться
терминами современной лингвистики, недостает элементов суперсегментальных. Для
теории информации, как таковой, необходимо расчленить суперсегментальный ряд
также на дискретные единицы, так называемые интонемы, причем в понятие
интонации включается и ударение во фразе и тембр. Все это с учетом их
семантического дистинктивного значения[149].
Экспериментальное
исследование этих зависимостей сейчас в полном разгаре. Н. И. Жинкин установил
с помощью опытов над актерами, какие элементы выражения, являясь реакцией на
определенную ситуацию, инвариантны, а какие подвержены изменениям. Так как
акустические сигналы обладают большей информационной ценностью, часто содержание
одного акустического сигнала разложено на ряд графических сигналов. Чем меньшим
репертуаром звуков обладает сигнальная система, тем на большее количество единиц
раскладывается информация, содержащаяся в единице более богатой системы
(например, слово, которое в устном
283
произнесении могло бы подчеркиваться ударением, в письменном
тексте иногда приходится повторять). Декламация и вообще актерское прочтение
текста являются, собственно говоря, дешифровкой упрощенной системы письменных
сигналов и реконструкцией более сложного звукового подобия. При этом информационные
возможности письменной речи неодинаковы во всех языках (кодах). Текст,
написанный по-английски, более точно определяет ударение на слове и интонацию,
чешский текст с помощью определенного порядка слов точнее устанавливает
ударение в предложении. Сравнительное изучение стиха до сих пор уделяло мало
внимания следующим вопросам: а) до какой степени просодия стиха объективно
предопределена его письменной формой; б) каково относительное содержание
просолической информации в письменном тексте на разных языках; в) какими
способами содержание акустической информации раскладывается на дальнейшие ряды
письменных сигналов.
Когда мы
начинаем размышлять о значении единичных акустических или графических сигналов
или комплексов сигналов, мы подходим к их знаковой функции, а также к вопросу о
том, каким образом значение сегментируется и в каком отношении находятся эти
сегменты к знакам, а знаки — к комплексам сигналов. Результаты, достигнутые в
этой области, пока не дают однозначных данных для теории литературы. Понятие
канала сообщения удобно для анализа некоторых художественных явлений в тех
случаях, когда читатель получает информацию нескольких видов по нескольким каналам.
«Одновременная передача несущих значение сигналов по нескольким каналам
(например, сигналов, адресованных различным органам чувств) повышает
редунданцию, если релевантные в языковом отношении параметры сигналов в обоих
каналах в достаточной степени синхронны. Акустически оптическая передача
информации по нескольким каналам возникает, например, в том случае, когда
устная речь дополняется или подкрепляется жестами»[150].
Эта проблематика касается не только немого фильма в отличие от звукового, радио
в отличие от телевидения и письменного текста
284
в отличие от песни, но и некоторых смысловых отношений внутри самого произведения:
«Особым типом многоканального приема,
который имеет место только у слушателя, мы можем считать вызывание симультанных ощущений различного чувственного
характера (синтезия)»[151].
Таким образом, внимание снова сосредоточивается на этом понятии,
дискредитированном дилетантской дедукцией в девятисотые годы. Современные
исследователи опираются не на метафизические соотношения между различными
областями действительности[152]
(см.: «Correspondances» Бодлера), а на а) статистически доказанные ассоциативные связи
(см.: Р. Guirаud, Langage et versification d’après
l’œuvre de Paul Valery, 1953);
б) реальный разбор звукового спектра и изучение значений отдельных формообразующих элементов (здесь в основу кладется статья
«Language and Synesthesia, «Word»,
5 — 1949, стр. 224—233).
Разумеется,
теория информации рассматривает целое в несколько иной перспективе, чем
лингвистика и литературоведение первых десятилетий нашего столетия: отношения и
свойства «трехмерной» модели раскладываются на несколько рядов дискретных величин.
В этом случае используется аксиоматический подход современной математики,
которая раскладывает сложные математические отношения на ряд более простых
операций, например, с помощью алгоритмов*.
5
Несколько
наивную формулировку положения, что «поэт сообщает свои чувства читателю»,
можно рационально исследовать с помощью понятий теории информации: впечатления,
которые автор воспринял по каналам своих чувств, закодированы в языковые
сигналы*, и этот метод потому так затруднителен, что
каналы приема и передачи в данном случае не соизмеримы, и информация, таким
образом, трансформируется. Современная психология анализирует эти изменения;
так, например, советский психолог Н. И. Жинкин разработал
285
для такого анализа систему так называемых сравнительных и коммутативных блоков[153].
Жинкин,
собственно говоря, пытается сегментировать процесс мышления, разделив его на участки, характеризуемые с точки зрения вероятности их
появления. Только
дальнейшие исследования могут показать, до какой степени этот метод поможет проникнуть в психологию художественного творчества. Для
теории литературы более
принципиальное значение имеет декодировка (то есть интерпретация) литературного произведения. Этот процесс более сложен, чем
лингвистическая декодировка,
потому что в литературе в отличие от лингвистики речь идет не о коде, в каждый данный момент статическом, и мы не можем
предполагать тождественность авторского
и читательского кода. Код читателя — это система, развивающаяся в ходе приема, то есть при чтении и
слушании. Читатель воспринимает, например, смысл строчки, которую он читает, но
одновременно он 1) ожидает продолжения, 2) его ожидание*,
вызванное предшествующим чтением, реализуется или обманывается.
Если в
начале стиха правильно чередуются ударные и безударные слоги и читатель
ожидает, что так будет и дальше, то начнет действовать метрический импульс у
читателя, начавшего читать прозаическое произведение, также возникает ожидание,
что характерные черты (разговорный язык, резкие антитезы, пуанты в конце
абзацев, парадоксальные формулировки и т.д.) будут встречаться и дальше. Начинает
действовать принцип, который мы назвали бы стилистическим импульсом. В
терминах теории информации: «Эстетический знаковый процесс, очевидно,
принадлежит к той категории процессов, которые начинаются при равномерно
распределенной вероятности, то есть чисто стохастически*,
но в ходе процесса вероятность, с которой выбираются и возникают некоторые
знаки, возрастает; напротив, вероятность некоторых других знаков уменьшается и
наконец совсем исчезает»[154].
Это касается не только стиля, но и всех элементов литературы: чем больше
романов Э. Золя знает читатель, тем меньше будет он ожидать хэппи энда.
286
Экстраполяция
на будущее проявляется с разной интенсивностью в разных элементах произведения:
«Например, интонация в начале произведения может предвидеться адресантом без
того, чтобы это в такой же мере относилось к смыслу слов. Точно так же и
музыкальный ритм можно предвидеть в гораздо большей степени, чем мелодическое и
гармоническое развитие»[155].
Развитие фабулы мы можем предсказать на десятки и десятки фраз вперед.
В общем,
можно сказать, что разные элементы произведения имеют свой специфический радиус
действия и свою интенсивность предсказуемости.
Результатом
продвижения читателя по тексту от пункта А до пункта Z является, помимо всего
прочего, возрастающая интенсивность ожидания и экстраполяции; это значит, что
читатель усваивает авторский код, более глубоко осваивает специфические черты
его стиля и его отношения к действительности, код читателя все более
приближается к коду автора.
Этот
процесс изменяет качество принимаемой информации: каждое S (предложение) имеет
свою информационную ценность. Постепенное нагромождение этих S с синтаксической
точки зрения является простым переходом от слов к предложениям, от предложений
к абзацам, от абзацев к главам или частям произведения и, наконец, к
произведению как к целому. Это сопровождается семантической аккумуляцией, то
есть аккумуляцией информации. Такое накопление информации не является столь же
механическим, как последовательность грамматических единиц.
По мере
последовательности предложений информация их синтезирует. В то время как
порядок предложений подобен арифметическому ряду, порядок информативных
комплексов напоминает геометрический ряд. Этот процесс не развивается в целом
произведении автоматически: в соответствии со структурой произведения создаются
отдельные комплексы (сцены, эпизоды, второстепенная интрига, мотивы, относительно
независимые образы и т.д.)[156].
В определенных пунктах в результате прироста информации из ряда семантических
единиц
287
возникает инструкция, то есть указание, как понимать определенный семантический ряд (особенно в произведениях с несколькими планами значения). В этой перспективе Тшинадловский рассматривает и литературный жанр не как комплекс статических характеристик, а как программу для интерпретации произведения. Тут, несомненно, открываются новые возможности для точного выражения организации литературного произведения. С этой точки зрения оно является не раз и навсегда данной формой, а постепенно осуществляющейся постройкой, так что, например, тот же мотив в конце произведения появляется в другом смысловом контексте, чем в начале. При этом линейное восприятие по временной оси создает условия для математического выражения некоторых отношений в литературном произведении и для экспериментального исследования его постепенной конкретизации читателем.
Этот процесс зависит не только от структуры произведения, но и от так называемого индивидуального идиолекта читателя. Определение идиолекта говорит, что это «множество всех парадигматических и синтагматических знаков и содержания, ими обозначенного, которыми овладевает данный индивидуум»[157]. Например, если речь идет о словаре, то к индивидуальному идиолекту принадлежат слова, которыми данный индивидуум владеет активно или пассивно. Таким же образом мы и в других областях различаем идиолект активный или пассивный. Степень понимания произведении читателем равняется, если использовать выражение Мейер-Эпплера, произведению активного идиолекта автора на пассивный идиолект адресата. Это различие важно для любого репродуцированного искусства (перевод, актерская игра и т.д.): переводчик воспринимает явление искусства в объеме своего пассивного идиолекта (то есть в той мере, в какой он способен понять отдельные его элементы) и сообщает читателям на родном языке свою интерпретацию с помощью приемов активного идиолекта (согласно своим художественным возможностям).
Не так трудно разработать методы, с помощью которых можно было бы определить активный и пассивный идиолект кандидатов в актеры или переводчики. Изучением пассивного идиолекта музыкантов занимались
288
К. Седлачек и А. Сыхра, предлагая им в своих опытах провести нотную запись двух фраз Яначека. Общие закономерности, которые они установили, действительны для более широкой области репродуцирующих искусств, их можно сравнить, например, с тенденциями, проявляющимися в переводческой работе[158] […].
«Слушатели-музыканты не повторяют мелодию речи фотографически точно, они стилизуют ее, сознательно типизируя звуки с точки зрения эмоционального впечатления… заботливо выдерживая пропорции того, что является и что не является релевантным… При этом часто некоторые звуковые элементы речи, которые недоступны музыке или невыразительны в ней, заменяются иными, более музыкальными элементами». Точно так же прибегает к типизации и субституции переводчик. Музыкальная наука сегодня отмечает факты, которые литературоведение уже установило относительно своего искусства репродукции - перевода. Так как в музыке такие сдвиги менее заметны, музыковедение должно было использовать для их анализа более развитые методы, опирающиеся на математически обработанные результаты психологических экспериментов. Видимо, введение понятия «код» помогает более плодотворно использовать соответствия между разными системами сообщения (семиотическими системами).
6
Понятие
памяти в теории информации соединяет в себе два аспекта: а) в нем используют
данные современной психологии относительно памяти; б) это модель для различных
факторов, основывающихся на сохранении и поддающихся математическому выражению
с точки зрения вероятности их возникновения. А. Моль указывает, что цель
изучения памяти «состоит в том, чтобы выяснить, как на основе полученных сообщений
строится статистический закон, относящийся к будущим соотношениям»[159].
На этом основывается условность в искус-
289
стве. Восприятие литературной формы возможно только на основе
возможности предвидеть: сонет для чешского читателя — это весьма выразительная
и сильно стилизованная форма, зато для читателя, который не знает из предыдущего
читательского опыта механику намеков, слоговую схему строфы и т.д., это форма,
по-видимому, свободная.
Теория
информации обращает здесь внимание на важный социальный фактор, который до сих
пор в искусствознании мало принимался во внимание. «Приемник является
саморазвивающейся системой. Каждое принятое сообщение изменяет его способность
к восприятию последующих сообщений»[160].
А. Моль
объясняет принципом памяти возникновение символов. Стимул S1 ведет к реакции R1,
стимул S2 — к
реакции R2 Если же стимулы многократно встречаются почти
одновременно, практически в интервале 0, меньшем, чем плотность настоящего,
возникает условный рефлекс, то есть стимул S1 ведет не только к реакции R1,
но и при
отсутствии S2 —
к реакции R2, то есть наступает разветвление стимулов[161].
Весьма простой пример: слово «сердце» (стимул S1) вызывает представление органа
cor (R1)
, слово «любовь» (S2)
вызывает представление о
чувстве amour
(R2), Любовь и сердце так часто соединяются, что слово «сердце» (S1) вызывает не только представление сог (R1)
, но и amour (R2). В синекдохе происходит символизация памяти
при следующих условиях: элементы
сигнала Е (Е1, …,Еn )
связаны с основными восприятиями Р1, …,Рn ; один удачно выбранный член
множества Е может вызвать в памяти все элементы множества Р, а
элемент Ei становится символом для всего ряда Р.
Память
действительно таким образом участвует в восприятии литературы; это не только
вспомогательная аналогия, извне привнесенная в литературоведение, она вскрывает
самую сущность некоторых явлении. Поэтому для литературоведения небезразличны
открытия современной психологии относительно того, как функционирует память. А.
Моль различает три ступени памяти:
290
«В
современной психологии… существуют следующие три функциональных типа временных
постоянных:
а) минимальное
время (задержка) восприятия — величина порядка 1/10—1/20
сек;
б)
длительность ощущения — время как бы «послесвечения » («фосфоресценции»)
мгновенных восприятий, изменяющееся от нескольких долей секунды до нескольких
секунд… Именно длительность ощущения делает возможным распознавание образов… в
сообщении, которое слишком сложно, чтобы могло быть воспринято мгновенно. Она
представляет собою элементарную память, необходимую для восприятия автокорреляции…
и обусловливает восприятие временных форм ритма и мелодии. Ее переменный
характер отражается в переменной длительности мелодических фраз,
рассматриваемых как целостные музыкальные образы. Фрэсс показал, что ошибка в
оценке длительности минимальна, если последняя близка к 0,8 сек;
в)
собственно память соответствует постоянной задержке и не фиксируется в
сознании (разве путем сопоставления с внешним событием, например с положением
стрелок на циферблате)»[162].
Для
литературы совершенно иррелевантны психофизиологические объяснения всех трех
типов памяти. Первый тип не проявляется в литературе достаточно активно, зато
второй и третий отвечают некоторым литературным фактам.
Вторая
ступень памяти, безусловно, является основой, например, для восприятия ритма,
если он базируется на повторении ограниченных рядов слогов. Ограничение этой
ступени памяти максимум несколькими секундами, по-видимому, объясняет некоторые
общие свойства стиха: а) почему один ритмический ряд, то есть нецензурированный
стих (полустих) на всех языках не превышает, как правило, 8—10 слогов; б) почему
выразительность рифмованных соединений обратно пропорциональна расстоянию между
рифмующимися стихами и это расстояние чаще всего ограничено двумя или тремя
стихами. Очевидно, в стихах имеет место еще некая промежуточная ступень памяти,
благодаря которой возможна гармония строф.
291
Третья
ступень — это основа литературной условности и такого понятия, как «авторский
стиль», и т.д. Категория памяти позволяет, таким образом, привлечь некоторые
исторические аспекты литературных явлении. Очевидно, что теория информации —
интегрирующая методология, втягивающая в свою орбиту ряд .научных дисциплин:
кроме математики и математической логики, еще и психологию. При этом новом
сближении литературоведения и психологии речь уже идет не об индивидуальной, особенно
патологической психологии, применяемой к литературным персонажам и к автору, а
о психологии восприятия произведения коллективом. В этом одна из прогрессивных
черт такой. идеологически сложной методологии.
7
Понятие
«шум» в теории информации не совсем однозначно. Согласно мнению некоторых
исследователей, к этой категории принадлежат только помехи в каналах, по мнению
других (Мейер-Эпплер, Й. Бар-Гиллель, Й. Земан), сюда относятся все искажения,
в каком бы звене коммуникативной цепи они ни возникли, то есть также, например,
в передатчике или приемнике или, наконец, из-за различия кодов (Мейер-Эпплер
использует термин Dekodierungsstörung, code
nois. Шум в его
первом, более узком,
понимании не играл бы в литературном процессе никакой роли, сюда относились бы только ошибки в записях древних текстов,
акустика театральных залов и т.д.; отсюда понятна точка зрения И. Крамского что
в языковом сообщении вообще не приходится говорить о шуме[163].
Шум во
втором, более широком, понимании включает также искажения, которые возникают
при интерпретации. […] Между шумом техническим и шумом семантическим существует
качественное различие. Для нас здесь важна вторая категория, но ради упрощения
мы не будем употреблять для нее специальный термин. Семантический шум возникает
чаще всего а) при переходе информации из одного канала сообщения в другой; б)
при интерференции двух рядов*.
292
Переход
информации из одного канала в другой имеет место при каждой реализации произведения путем чтения «про себя» или чтения
вслух[164]. Перед теорией информации стоит сегодня — так же
как и перед традиционной теорией
литературы — вопрос, где же грань между добавочной информацией и семантическим шумом. Информационное содержание
сообщения, конечно, значительно
повышается тогда, когда при его реализации возникает новый ряд сигналов, передаваемых следующим пар аллельным каналом.
При передаче по одному
каналу, например при переписывании, первоначальная информация не может быть размножена,
канал может только
деформировать информацию, то есть способствовать ее убыванию. Но новая информация может возникнуть при декодировании, при
котором «деформирующим фактором»
будет уже не канал, а несходство кода у передатчика и приемника,
опирающегося на память. Отсюда
вытекает принципиальное различие между шумом в канале и шумом приемника; становится совершенно очевидным, что необходимо
принимать во внимание искажающие
влияния в обоих звеньях, но что это влияния разного порядка (грубо говоря, пассивные и механические в отличие от
активных и органических). В
этом отличии одновременно заключено и определение грани между механической репродукцией (например, описанием) и переводом:
проблематика перевода сосредоточена именно на действии кода и памяти.
Интерференция
двух рядов происходит в том случае, когда мы, например, слушаем одновременно два ряда звуков […]. При слушании
литературного произведения также
имеет место перекрывание нескольких рядов; простейшими случаями здесь будут а) перекрывание двух семантических рядов; б)
перекрывание семантического и
акустического рядов.
Первый
случай имеет место при восприятии литературного произведения с двумя и более смысловыми планами. Было бы интересно установить,
проявляется ли и
тут закономерность, обнаруженная у физических шумов, например повышается ли порог
восприятия, то есть
снижается ли степень понимания основного смыслового ряда благодаря тому, что читатель
одновременно вникает
в «переносный смысл». Несомненно, что
293
аллегорические и символические произведения обычно в основном плане значения оперируют
очень простыми и
распространенными мотивами: розы, лилии, дерево, звезды, река и т.д. Фонадь так суммирует результаты своих опытов по интерпретации
деловых и литературных текстов:
«Поэт пытается выразить невыразимое, необычайно снижая семантическую и грамматическую редунданцию и отвергая языковые и грамматические
ограничения. Такова
суть поэтических вольностей. Мысль, которую поэт выражает, сопровождается другими мыслями, лишь намеченными. Возрастание емкости
информации идет параллельно
возрастанию шумов. Слушатели и читатели не интерпретируют имплицитные грамматические формы (семантические и грамматические
метафоры, неологизмы, звуковую
окраску, ритмическое выражение и т.д.) так же однозначно, как традиционные эксплицитные символы»[165].
Другой случай перекрывания имеет место, собственно, всегда при восприятии
поэзии: одновременно воспринимается физическая (акустическая) форма стиха и его семантическое содержание. Тут
можно согласиться с наблюдением,
что, когда усиливается интенсивность диафрагмированного ряда (звука), понижается чувствительность в отношении основного ряда: чем
выразительнее акустическая
форма стиха, тем больше внимания отвлекается от содержания; поэтому поэзия, более сложная в интеллектуальном
отношении, не выражается в
напевных и подчеркнуто ритмических стихах. Возможно, что это эмпирическое наблюдение
можно уточнить с
помощью методов, выработанных для анализа шумов, разумеется, уточненных вследствие знания того, что между звуковой и смысловой сторонами
стиха существует диалектическая связь.
В
категорию шумов попадает также диспропорция между отдельными элементами театральной постановки, которые определил О. Зих в своих
трех театральных антиномиях:
«а) Чем
поэтичнее текст театрального спектакля, тем скорее можно ожидать, что драматизм произведения (то есть постановки) будет
ослаблен. «Поэтичность» мы понимаем,
впрочем, в смысле чистой поэзии, которая
294
выражена в лирике и эпике… Все
специфически поэтические ценности, которые нас захватывают при чтении
произведения, интеллектуальные и эмоциональные тонкости, игра слов,
великолепные метафоры, символические намеки бледнеют, теряются и исчезают при
свете рампы…
б) Чем
музыкальнее музыка оперы, тем скорее можно ожидать, что драматичность спектакля
пойдет на убыль. «Музыкальнее» употреблено здесь в смысле чистой, то есть
инструментальной музыки…
в) Чем
живописнее оформление драматического спектакля, тем скорее может быть ослаблена
драматичность произведения…
г) Чем
более театральна игра актеров, тем сильнее драматичность произведения»[166].
Смысл
антиномий* Зиха заключается в следующем: основной элемент
театрального представления — это актер, а все остальные элементы действуют в
качестве интерферирующих рядов, которые могут отвлекать внимание от основного
ряда в случае, если их интенсивность превысит определенную границу. Одновременно
тут ясно проявляется опасность такой методологической модели для искусства: в
искусстве определение шума, возникающего при пересечении двух рядов, потребует
качественно более сложного метода, потому что во многих случаях речь идет не об
интерференции двух изолированных рядов, но о диалектических противоречиях (в
этом не отдавал себе отчета Зих, понимавший «поэтичность» скорее
формалистически, как сумму стилистических приемов, отличных от обычного сообщения).
Относительно легче использовать сведения об одновременном воздействии
нескольких рядов в музыке.
В пользу
введения понятия «шум» В литературоведение говорят следующие факты: а) это дает
возможность свести к единому методологическому базису некоторые изолированные
наблюдения над отношениями внутри литературного произведения и объяснить их
сущность (интерференция); б) позволяет хотя бы в известной мере использовать
некоторые методы точных наук. Применяемых к физическим явлениям, или прямо в их
математических формулировках, или хотя бы в обшем аналитическом подходе. Замена
традиционной литературоведческой
295
терминологии новыми понятиями приносит с собой изменение
методологической точки зрения, а это может дать новые результаты и там, где мы
пока что пытаемся только сформулировать основную систему понятии.
8
Основное
понятие этой методологии — «информация» используется в статистическом, а не в
семантическом смысле. «Каждый раз, когда выбирается что-то из двух или более
предметов, мы можем в определенном смысле говорить что к нам доходит
«информация»; до выбора предмета мы не знали, какой из них будет отобран, после
осуществления выбора мы это знаем. Разумеется, выбор одного предмета из
множества дает нам больше информации, чем при наличии меньшего количества
альтернатив. Шеннону принадлежит заслуга открытия, что неясное, интуитивное
понятие «информация» можно математически уточнить с помощью логарифмической
меры, именуемой «энтропия»; это сумма всех произведений, имеющих форму = р (а)
lоg р (а), где р (а) — это вероятность «предмета» или «события» а … отсюда
можно сделать вывод, что понятие «выбора» в его первоначальном обыденном
подобии играет важную роль в лингвистическом анализе литературных (то есть по
существу также языковых) произведений[167].
Это понятие позволяет с помощью математических методов охарактеризовать а)
выбор языковых и формальных элементов из репертуара, данного кодом, то есть из
конечного и известного количества; б) выбор содержательных элементов из
действительности, то есть из бесконечного и трудноопределяемого множества… Надо
отдать себе отчет, что же может нам сообщить математическая величина энтропии о
литературе: «Вообще эта мера показывает, какое сильное влияние имеет организация
предшествующих элементов на появление элементов последующих, и раскрывает, до
какой степени порядок подобных элементов структурализован (то есть ни в коей
мере не случаен)»[168].
Подсчет энтропии языковых элементов наиболее легок, и пока только в это и
области
296
были достигнуты результаты,
которые позволяют точнее характеризовать некоторые эстетические понятия.
Количество информации прямо пропорционально непредвиденности, а стало быть, и
выразительности приема: «Чем реже появляются определенные символы, тем большую
они несут информацию, тем выше их способность удивлять»[169].
Более редкое слово более выразительно, и наоборот.
Были
разработаны также методы для анализа содержания с точки зрения информации.
Наиболее прост подсчет меры информации в соответствии с тем, как часто в
среднем появляются понятия А, В, С… которые и составляют мысль. Основным
вспомогательным средством для этого может служить словарь частот, если мы
примем во внимание то обстоятельство, что для некоторых понятий в языке
существует несколько обозначений. В случае многочисленных семантических единиц
устанавливается, как часто соединяются понятия А и В, или предмет А и
метафорическое обозначение В в тексте определенного размера. Отношение между
абсолютной фреквенцией понятий А и В и количеством случаев, когда они
соединяются, является показателем ассоциативной или диссоциативной тенденции
обоих представлений. И. Фонадь применил этот принцип к отношению между обычной
действительностью и переносным обозначением: «Если мы укажем на волосы, которые
женщина в это время расчесывает, и спросим кого-нибудь, что это такое, то он,
очевидно, ответит: «Волосы». Семантические правила, соединяющие знаки с
предметами, которые мы имеем в виду, создают самую основу речи и общественных
отношений. Каждое уменьшение вероятности перехода делает понимание более трудным».
Малая
вероятность перехода от предмета к его обозначению часто встречается как раз в
литературе, например если волосы метафорически обозначаются как «пламя» И т.д.
«Неправильный термин вызывает душевный процесс, который приведет к разрешению
этого диссонанса … статическая связь между словом и предметом уступает место
динамической, противоречивой, диалектической форме. (Когда скульптор изображает
скачущего коня, он обычно избирает из целой цепи движений звено, наиболее
отдаленное от параллельной
297
плоскости. Так он вызывает представление, что. за этим движением должно вскоре последовать
дальнейшее, для того чтобы конь не утратил равновесия.)»[170].
Если бы мы были в таких случаях способны вычислить степень вероятности перехода
от означаемого к означающему, мы полечили бы возможность обозначить и протяженность
этого семантического движения. Энтропию можно определить и для более сложных
единиц, чем образ, состоящий из двух слов, например для синтаксических связей,
композиции фразы или абзаца, сложения мотива, композиции драмы и т.д. Чем выше
содержание информации в сообщении, тем большее сопротивление возникает при
прохождении ее через цепь сообщения и тем больше вероятности деформации. Чем
более редкие слова и непредвиденные обороты автор использует, тем больше вероятность
непонимания со стороны читателя. Поэтому энтропия не всегда величина
эстетически положительная (она обратно пропорциональна доступности формы).
* * *
Сообщение содержит наибольшее количество информации в том
случае, когда все его символы обладают одинаковой вероятностью. Например,
вопрос, закончится ли роман счастливой развязкой или трагически, будет иметь
большую информативную ценность для произведения писателя, который
приблизительно так же часто завершает свои романы счастливо, как и трагически
(мы не знаем, как закончится роман, который мы как раз читаем, и его конец
несет высшую степень неожиданности); минимальную информационную ценность будет
иметь тот же вопрос у Диккенса (потому что для него почти обязателен хэппи энд)
или для Гарди (у него почти столь же обязательна трагическая развязка).
У Диккенса и Гарди благодаря повторению одной и той же композиционной схемы в каждом новом романе снижается информационная ценность концовки и возрастает избыточность, или редунданция. Ее математический смысл мы получим, если вычтем из единицы отношения между подлинной энтропией Н и наивысшей возможной энтропией данного явления Нmax:
298
К
редундантным, избыточным, то есть легко предсказуемым, элементам литературного
произведения относятся все
типы повторений: повторений слов, одинакового ритмического или рифмового узора, параллелизмов и т.д. Меру подобных повторений нетрудно
вычислить и тем самым
точно охарактеризовать интенсивность этих стилистических приемов.
Весьма
часто в литературе повторяются и значения, которые уже известны читателю или зрителю и сообщают ему, так сказать, информацию из
вторых рук. Г.
А. Миллер говорит в таких случаях о «вторичной информации»: «Первичная
информация — это то сообщение, которое данная группа хочет пустить в оборот. Вторичная информация — это знание
того, что известно членам
этой Группы, знакомство с современным состоянием информации… Вторичная информация сообщает говорящему ответы слушателей».
Когда говорящий произносит:
«У Яна черное пальто», он сообщает слушателям первичную информацию. Когда же потом слушатель передаст это сообщение другому
лицу, первый передатчик может
также слушать и проверить, правильно ли передано сообщение. В нормальном разговоре вторичная информация передается выражением
лица, словами
«да», «что» и т.д. или тем, что само поведение обозначает правильность реакции. Такая реакция не содержит никакой первичной
информации. В театральном диалоге
эти два типа информации отчетливо проявляются в сценах, эпических по своему характеру и драматизированных самым элементарным образом, то
есть рассказом,
который только для сохранения контакта между обоими партнерами прерывается подтверждением или повторением информации,
содержащейся в предыдущей реплике.
В более художественных драмах вторичная информация, так же как и другие редундантные элементы
(повторение того же сообщения другому персонажу и т.д.), сведена к минимуму.
Носителем вторичной информации становится актерский ансамбль, а в самом тексте
те элементы, первоначальная функция которых — передавать вторичную информацию,
часто сопровождаются хотя бы небольшим количеством первичной информации […].
Отношение
между первичной и вторичной информацией и вообще процент избыточных элементов
диалога — это один из факторов, которые характеризуют
299
степень или авторское понимание драматичности. Противоречие
между первичной и вторичной информацией могло бы быть использовано и для
разбора некоторых типов непрямой речи.
* * *
И.
Фонадь полагает, что художественный язык имеет по сравнению с языком обычных
сообщении более высокую избыточность и высшую энтропию, представляющие собой
величины приблизительно обратно пропорциональные: «Имеем ли мы в виду рифму,
ритм или рефрен, всюду тенденция повторов в поэзии менее ограниченна, чем в
прозе. Эта бо́льшая редунданция тем более неожиданна в сравнении с энтропией,
также характерной для поэтического сообщения; такое острое противопоставление
исключается в повседневном языке, в котором отношения между обеими величинами
решаются компромиссно»[171].
Это
противоречие только кажущееся. Обратим внимание на то, каким образом повышается
энтропия в стихах.
а)
Фонетический строй стиха очень часто необычен (нестохастически упорядочен);
частота некоторых звуков бывает повышена (например, в «Осенней песне» Верлена),
иногда звуки располагаются согласно какой-то композиционной закономерности
(например, скопление долгих гласных в ударных словах, в заключительной каденции
и т.д.). Так возникают скопления звуков, редкие в обычном языке.
б)
Расположение ударений отличается от «нормального» или соотношением ударных и
безударных слогов (в трохеическом стихе процент ударений бывает выше, в
дактилическом ниже средней языковой нормы), или особым их расположением
согласно принципам метрической схемы, то есть снова по принципу, в обычной речи
исключительному.
в) Точно
так же отличается от предполагаемой нормы и выбор слов, и характер соединении
между отдельными образами или между поэтическим обозначением и действительностью.
Если мы
принимаем литературное произведение или его часть за самостоятельное множество,
возрастает
300
упорядоченность его избыточности. Но если мы рассматриваем это особо организованное
произведение как один
из элементов целого, охватывающего все выраженное на данном языке, то его организация является исключительной, а его
информационная ценность (энтропия) высокой. Так одновременно возрастают и энтропия и избыточность, но не возникает
противоречия между
ними, потому что увеличение двух противоположных величин происходит в двух различных измерениях. Избыточность и энтропия не
являются мерами, прилагаемыми к произведению в целом, они применимы только к
его отдельным элементам и могут иметь в различных соотношениях разное
эстетическое значение: «…тенденция повторов в поэзии менее ограниченна, чем в
прозе. Полному повторению (в прозе) препятствуют стилистические правила, такие
же строгие, как и правила грамматические. Но никакие языковые или общественные
условности не обязывают говорящего избегать предсказуемых словосочетаний. В
противоречии с принципом «золотой середины», действующим в обыденном языке, для
поэтической речи характерна поляризация и центробежные тенденции… автор
банальностей экономит душевное напряжение за наш счет. Естественно, что
общество оценивает каждый из этих двух типов редунданции по-разному»[172].
Редунданцию нельзя считать в литературе при всех обстоятельствах негативным
фактором, это вытекает хотя бы из того, что под эту категорию подпадает
собственно характерный стиль, «творческая индивидуальность» автора. «Именно
язык великих поэтов в известном смысле легко предсказуем и избыточен. Это видно
хотя бы из того, что их стиль легче имитировать и пародировать, чем стиль менее
значительных авторов»[173].
Безусловно, нельзя считать единственным мерилом эстетической ценности энтропию
изолированного элемента; именно так поступает А. Моль, определяя оригинальность
концертной программы с помощью статистики, то есть подсчитывая, как часто
исполняются отдельные номера. «Информация Н, сообщаемая суммой этих
произведений, измеряет и тем самым объективно определяет коэффициент
оригинальности
301
концерта, какое бы значение мы ни вкладывали в этот термин»[174].
Понимаемая
таким образом оригинальность совпадает с редкостью исполнения; эта категория
может быть, но необязательно бывает и эстетической. Самым оригинальным был бы,
видимо, концерт из произведений, которые никогда не исполнялись, очевидно
потому, что они не представляют художественной ценности. И, напротив, вполне
правдоподобно, что хотя бы часть самых банальных концертов именно потому так
«неоригинальна» что она состоит из наиболее эстетически значительных
произведений. Таким образом, оригинальность, зависящая от той или иной степени
вероятности появления данного элемента, может находиться в прямом противоречии
с эстетической ценностью*.
К весьма
спорным результатам вели попытки отличить информацию семантическую от
информации эстетической. Такую попытку сделал опять-таки Моль:
«Семантическая
информация, подчиняющаяся универсальной логике, имеющая структуру, допускающая
точное представление, переводимая на другие языки, согласно концепции
бихевиористов, она подготавливает действия;
Эстетическая информация, «непереводимая»,
относящаяся не к универсальному набору символов, а только к набору знаний,
общих для приемника и передатчика, теоретически непереводима на другой «язык»
или в систему логических символов потому, что другого такого языка для передачи
подобной информации попросту не существует. К ней можно подойти как к некоей
персональной информации …
Эстетический подход в противоположность
семантическому не ставит своей целью подготовить принятие решения приемником, у
него в точном смысле слова нет никакой цели, он лишен свойства преднамеренности;
по существу, он определяет внутренние состояния… Эстетическая информация
неразрывно связана с каналом, по которому она передается, она существенно
изменяется при замене одного канала другим»[175].
В этом
определении можно обнаружить ряд спорных мыслей, которые даже и не вытекают
логически из ак-
302
сиоматики теории информации: а) интенциональность вряд ли можно
считать специфическим различием между семантической и эстетической информацией
(также и художественное сообщение имеет свою преднамеренность, эстетическую или
идейную, и напротив, сообщение внехудожественного порядка может быть только
реакцией на определенный импульс); б) эстетическая информация не является
непереводимой, если она верно перекодируется согласно запросам нового канала, и
т.д. Спорные тезисы Моля опираются на два неверных положения:
а. Он
приписывает эстетическую информацию только индивидуальному способу выражения,
сообщенному ей спецификой канала, а не высшим содержательным единицам и не
способу кодирования: «Так, в театральном представлении содержание, действие,
рассказанная история принадлежат к области семантической информации; сюда же
можно отнести грамматические конструкции и логическую импликацию. Игра актеров,
темперамент их голосов, выражение, богатство оформления — все это относится к
эстетической информации»[176].
В таком случае драма и вообще литературное произведение содержали бы только
семантическую информацию.
б.
Различие между двумя типами информации Моль объясняет противоречием общего и
особенного, а отсюда и тезис о непереводимости эстетической информации. Может
быть, это верно в языковой области (энтропия кода в противоположность энтропии
индивидуальной), но не относится к искусству вообще. Очевидно, что теория
информации пока неспособна сформулировать надежные критерии эстетической ценности.
Она может быть использована в качестве вспомогательного метода для точного
анализа внутренней организации произведения (с этой точки зрения она может
помочь углубленному пониманию некоторых его элементов), но пока не может
служить методологической основой для общей теории литературы в основном по двум
причинам: а) она не принимает пока во внимание основных идеологических проблем;
б) эстетические категории, качественные по своей природе, нельзя без остатка
описать в количественных терминах.
303
9
Термины,
о которых шла речь выше, перенесены в область общественных наук из наук
технических, которые сегодня опередили их в своем развитии и некоторые
достижения которых можно — с подобающей осторожностью — по законам аналогии
использовать также и в других областях (как явствует из тезиса о материальном
единстве мира) […].
При
использовании аналогии возникает модель: «Под моделью мы понимаем… изображение
фактов, предметов и отношений определенной области науки с помощью более
простой, прозрачной материальной структуры в той или другой области». В нашем
случае благодаря использованию частичной аналогии между коммуникативной целью и
литературным процессом возникает модель, которая помогает осмыслить только
литературный процесс, но не сущность литературного произведения (общественную
функцию, обусловленную эстетической ценностью): «Как уже подчеркивалось нами,
необходимо различать модель поведения определенного предмета и модель его
структуры… Существование модели какой-либо функции еще не является
доказательством существования определенной структуры»[177].
Делать вывод, что одинаковое поведение двух систем свидетельствует об одинаковой
основе, — это бихевиористский, а отнюдь не марксистский подход к вопросу, а
именно так рассуждают западные эстетики (Моль, Бензе, Абернети и др.), когда
они хотят полностью заменить нынешние эстетические критерии категориями теории
информации.
Применение
модели коммуникации к литературному процессу наталкивается на принципиальные ограничения
и чревато определенными опасностями, из которых принципиальный характер имеет
то обстоятельство, что эта модель неспособна воспроизвести литературное
произведение как исторически конкретный и исторически обусловленный факт. Но
такова сущность моделирования, как его производит кибернетика во всех областях
человеческой деятельности: «Как мы уже неоднократно подчеркивали, к основам кибернетики
относится то, что она отворачивается от специфического характера явле-
304
ний. Но оправданность такой абстракции надо от случая к случаю исследовать»[178]
[…].
Именно
таков характер нашей модели: это частичная модель, которая не охватывает сущность литературы, но приводит известные изолированные
факты в систему и дополняет
их некоторыми наблюдениями, которые не были установлены другими методами. Поскольку она выполняет эту познавательную
функцию, она имеет значение как
методологическое пособие, но, конечно, не как единственная основа для критической оценки литературы или историко-литературной работы.
1971
СПОРЫ ВОКРУГ СТРУКТУРАЛИЗМА
ДИАЛЕКТИКА
СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ[179]
МАРКСИСТСКИЕ
ЗАМЕТКИ О НОВОМ ФОРМАЛИЗМЕ
Чешский
перевод «О теории прозы» Шкловского, безусловно, полезен хотя бы потому, что он
вызвал дискуссию об основной проблеме художественного творчества и научной
эстетики: об отношении содержания и формы. В разрешении этой проблемы
диаметрально противоположные позиции занимают идеалистическая эстетика и
эстетика диалектического материализма.
Острые
формулировки Шкловского и не менее четкие тезисы его чешских приверженцев
требуют и ясной критики с позиций диалектического материализма[180].
1
«Я
занимаюсь в теории литературы исследованием внутренних законов ее. Если провести
заводскую
309
параллель, то я интересуюсь не положением мирового
хлопчатобумажного рынка, не политикой трестов, а только номерами пряжи и способами
ее ткать. Поэтому вся книга посвящена целиком вопросу об изменении литературных
форм»[181].
Так
Шкловский сам определяет свою программу; он хочет остаться в границах движения формы и изучать только ее изменения. Но уже с
самого начала ясно, что Шкловский
не очень строго придерживается этой программы; он изучает не только «номера пряжи» И «способы ее ткать», но и оценивает, пусть
от случая к случаю, их
возникновение и функцию, которую он связывает не с «положением на мировом хлопчатобумажном рынке» и с уровнем развития
производительных сил в текстильной
промышленности эпохи «трестов», а — чтобы использовать образ Шкловского — с технологией ткацкого дела. Одним словом, Шкловский
не просто исследует
эстетическую проблему «изменения литературных форм», но вторгается и в область философского осмысления взаимоотношения формы
и содержания, и в
социологию, то есть представляет в негативном виде тезис о «нейтральности
искусства». Стало быть, он занимается и ситуацией на рынке, и политикой трестов
— хоть и негативно, исключив их влияние
на виды пряжи. Эту
невыдержанность программы мы считаем первым доказательством того, что проблему формы нельзя рассматривать изолированно от проблемы
содержания и от общественной
функции художественного произведения, и даже последовательному формалисту Шкловскому это не удается.
Оценивая
подлинную научную ценность исследования Шкловского, мы должны не упускать из виду эти две тенденции, тем более что они
органически не связаны друг
с другом. Шкловский аналитически исследует метод в искусстве, который, по его представлениям, является «методом остранения предметов и осложнения формы, увеличивающего
продолжительность и интенсивность восприятия». Поэтический ритм заключается, по его мнению, в нарушении ритма
прозаической речи, являющегося автоматизирующим
фактором. Так он приходит к
определению поэзии как затрудненной, осложненной речи. В то время как практическое мышление
310
стремится к обобщению, к созданию
наиболее широких и всеобъемлющих формул, искусство рождено жаждой конкретного.
Затем он
анализирует различные способы осуществления этой антиавтоматизирующей функции искусства:
ретардацию, ступенчатую композицию, параллелизм, роман тайн и т.д. Это «номера
пряжи и способы ее ткать», и тут мы найдем чисто научныи анализ, и полный
остроумных наблюдений и весьма плодотворныи.
Но при
разборе особенностей искусства, специальных признаков поэтического языка,
функции и динамики стилевых направлений неожиданно проявляется совершенно
формалистическое, идеалистическое понимание этих проблем. Причем эти общие
рассуждения отнюдь не необходимы в работе и недостаточно аргументированы.
Но часто
Шкловский все же не может не признать, что его идеалистические выводы не
доказаны и что материалистическая трактовка возможна и даже необходима. Он показывает,
например, как сюжеты и мотивы переживают формальную трансформацию в том или
ином стилевом направлении, которая вызвана потребностями остранения, но это не
меняет м~териалистическую природу самих этих мотивов; свои формалистически
идеалистический анализ он не может подкрепить положением о нереальности этих
мотивов, он может только доказать, как то или иное направление воспроизводит
эти мотивы всякий раз по-разному, и утверждает, что главный двигатель этих
изменении — стремление преодолеть автоматизм. При этом доказательства
Шкловского иногда совершенно неубедительны.
По
сравнению с парадоксальным и афористическим радикализмом Виктора Шкловского
формалистические положения Яна Мукаржовского имеют преимущество строгой
систематичностИ. И тут тоже нам надо строго отделять анализ от гносеологии.
Разборы формы чешского стиха, произведенные Мукаржовским, принадлежат к таким
научным трудам, которые марксистско-диалектическая эстетика должна прежде всего
принять во внимание. Его анализ звуковой формы, динамики и методики языка
поэтических про изведений является важным вкладом в выработку художественных
критериев искусства в целом. Мукаржовский не выключает, подобно Шкловскому,
художественное произведение из
311
общественных связей. Если он и считает нужным «поставить В центр
рассмотрения само произведение, как таковое, освободив его от всех связей,
объединяющих его с другими рядами явлений», то такая изоляция имеет у него
характер только методологического приема. Роман Якобсон обозначает этот прием
таким образом: «Предмет литературоведения не литература, а литературность, то
есть то, что делает данный текст литературным произведением». Эта методика,
которая является некоторым отступлением по сравнению с абсолютной автономией художественного
творчества у Шкловского, была бы допустима, если бы целью изучения
изолированного таким образом рроизведения была бы только формальная динамика. К
сожалению, формализм Мукаржовского выражен не менее ярко, чем формализм
Шкловского, хотя и не так категорично. у Мукаржовского мы найдем утверждение,
что «элементы содержания имеют в известном смысле формальный характер». И для
него актуализация (антиавтоматизирующие функции художественного произведения) —
самоцель, они «отодвигают» на задний план сообщение как цель выражения; «тема
поэтического произведения не может оцениваться в отношении к внеязыковым
моментам… не имеет смысла постановка вопроса о правдивости темы поэтического
произведения»; «тема — это не эквивалент «действительности», а элемент
структуры», «поэт… избирает такие мотивы, которые подходят к формальным
свойствам его произведения», и т.д. И наконец, в лекции по радио о ритме в
современной чешской поэзии Мукаржовскии утверждает: «Новое построение фразы или
новoе словоупотребление обозначает и новое отношение к действительности.
Поэтому ритм в поэзии постоянно обновляет способы оценки мира человеком».
Здесь, так же как у Шкловского, мы находим идеалистическую основу эстетики; и
тут форма творит содержание, и тут все зависит от формы и все оказывается
формой. Но так же как и русские формалисты, Мукаржовский не смог полностью
освободиться от влияния исторического материализма. В то же самое время, когда
Шкловский производит социологический анализ романа Толстого «Война и мир»,
Мукаржовский ищет социологические параметры для .своего аналитического метода.
Результат этих искании — структурализм, новый способ исследования литературы,
которым вместе с Мукаржовским
312
пользуется весь Пражский лингвистический кружок и который имеет свою теорию
познания, свою психологию, свою
социологию как основу эстетического анализа. Надо сказать, что отношение структурализма к диалектическому материализму главным образом негативное. Его теория познания — это
«телеология» Энглиша, представляющая собой один из новейших типов чистого идеализма. С точки зрения психологии
структурализм примыкает
к современной гештальтпсихологии, которая исходит из аристотелевского положения о том, что целое существует прежде, чем части, и
наполнила его новым содержанием:
всякое духовное и интеллектуальное восприятие — это прежде всего восприятие целого (определенной структуры), в
котором только затем выступают отдельные элементы. Целое определяет части — в
этом структурализм сближается с одним из диалектических принципов современной
психологии, и это его научное достижение. Социологическая же основа, которую
Мукаржовский подводит под структурализм, так же недиалектична, как и его
телеологическая гносеология. Мукаржовский ее формулирует так: «Область
социальных явлений, частью которых является и литература, складывается из
множества рядов (структур), каждая из которых имеет свое автономное развитие;
таковы, например, наука, политика, экономика, социология, язык, мораль, религия
и т.д. Но, несмотря на свою автономность, отдельные ряды воздействуют друг на
друга. Если мы возьмем в качестве исходного пункта любой из них, чтобы
исследовать его функции, то есть воздействие на другие ряды, то выяснится, что
и эти функции представляют собой структуру, что они постоянно перегруппировываются
и уравновешивают друг друга. Поэтому ни одна из них не может априорно предпочитаться
остальным, так как в их взаимоотношениях наступают в процессе развития
разнообразные изменения; но нельзя также упускать из виду основополагающее
значение и особый характер специфической функции данного ряда… потому что при
полном невнимании к этой стороне вопроса ряд перестанет быть самим собой …
Специфическая функция того или иного ряда возникает не благодаря ее воздействию
на другие ряды, а, наоборот, в тяготении к автономности данного ряда».
Структуралистская
социология признает более или менее автономные, но взаимовлияющие ряды явлений.
313
Однако основной недостаток этой концепции в том, что она
отлучает эти ряды от их общественного знамена. теля, от общественного человека.
Структурализм тут полностью остается в плену идеологических воззрений,
порожденных неверными представлениями. Он неспособен постичь фетишизм
экономических и общественных форм. Подобные воззрения, которые идеологу внушает
буржуазное общество, заставляют его представлять все отношения как отношения
вещей, давящих на человека, а не как плод общественной активности людей,
создающих вещи. Структурализм рассматривает отдельные части общественного
целого как изолированные научные Дисциплины, а не как сферы деятельности
общественного человека. Таким образом, все явления представляются замкнутыми
областями, не имеющими общего знаменателя, определяющего их движение и жизнь.
Но именно существование этого общего знаменателя различных рядов обусловливает
превосходство (лучше сказать, Основополагающий характер) общества и его
решающих в конечном итоге движущих сил; экономической необходимости
производства и воспроизводства жизни. Только люди, не знакомые с диалектикой,
могут отрицать автономность отдельных областей (рядов, структур), которая
определяется особенностями того или иного ряда; конечно, тут наблюдается
обратное и взаимное воздействие, которое касается и базиса, то есть экономики.
Если же
структурализм видит равноправные сферы, ни одна из которых не должна «априорно
главенствовать над остальными», то диалектический материализм выделяет как
верховную инстанцию, пробивающуюся в разных формах, экономическую
необходимость. Структурализм справедливо требует, чтобы изучалось не только
развитие вещей, но и «вещи сами», но нельзя отделить предмет от его движения,
нельзя отделить его от общественного фактора, который сообщает ему энергию
движения и развития. Если структурализм справедливо возражает против
поляризации содержания и формы, то также неверно категорически
противопоставлять «предмет» И его «движение»; они неразделимы и взаимосвязаны,
предмет — это материальный объект движения, точно так же как содержание — это
предмет формы.
314
Таким
образом, структурализм приписывает автономным
рядам особую, самостоятельную энергию движения и не признает в общественном
развитии, в активности общественного человека единственный источник энергии
всех, казалось бы, автономных рядов. «Дурная релятивистская тотальность»,
свойственная структурализму, возникает в связи с абстрагированием плодов
человеческой деятельности от самой деятельности, от «деятеля», от общественного
человека.
Однако
для Мукаржовского как раз эта «дурная тотальность» «открывает новый взгляд на
историю литературы»; «…таким образом становится возможно учесть и закономерное
развитие поэтической структуры, определяемое постоянной перегруппировкой
элементов, и вмешательства извне, которые хотя и не способствуют развитию, но
явственно определяют его новую фазу. Каждый литературный факт предстает в таком
случае как результат двух сил: внутренней динамики структуры и внешних
воздействий».
«Дурная
тотальность» заставляет структурализм допускать воздействие внелитературных сил
только как «вмешательство извне», а не как ту живую почву, которая придает
жизнь литературным фактам. И здесь структурализм отделяет «литературный факт»
от деятельности общественного человека, который этот факт порождает. В целом
структурализм представляет собой типичную «идеологию», фетишистское миропонимание,
не видящее за «вещами», «фактами» человеческую деятельность, создавшую их и
являющуюся движущей силой их развития. Идеалистическая гносеология и
релятивистская «дурная тотальность» сливаются тут в единое нерасторжимое целое
с формалистической эстетикой.
2
Если мы
хотим критически оценить новый формализм Шкловского и Мукаржовского[182],
то мы должны принять во внимание его отношение к классическому формализму
кантовского типа. Новый формализм отказывается от этого своего источника: надо
установить, справедливо ли это.
315
Старый
формализм кантовского типа имеет с новым общую гносеологическую базу. Если Кант
утверждает (в своей «Критике способности суждения»), что восхищение красотой
лишено всякой заинтересованности, что основное в любом искусстве — это его
форма и что искусство служит только для развлечения, то мы найдем и у
Шкловского сходные утверждения о «нейтральности искусства», его «замкнутости в
себе» его неспособности воздействовать на жизнь, о том, что «литературное
произведение — это чистая форма, что у него нет ничего общего с познанием, что
оно адресуется только к восприятию». Шиллер заявлял, что настоящий секрет
мастерства состоит в том, как преодолеть содержание формой, и у Мукаржовского
мы найдем в разборе «Мая» рассуждение о том, как тематическая сторона
произведения ослабляется ради большей эстетической действенности. Можно
сказать, что новый формализм пошел по пути идеализма даже дальше, чем Кант и
Шиллер. В то время как у Канта эстетическая реакция включает и «отношение сил
воображения к самим себе», то есть отношение образности, охватывающей
разнообразие мнений, и разума, объединяющего представления в единстве понятий,
новый формализм вообще исключает «разум» из сферы «эстетического воздействия».
Эстетическую восприимчивость Мукаржовский приписывает некоему «эстетическому
чувству» (какое чисто кантовское априористское понятие: ведь эстетическое
чувство априорно присутствует в нашем сознании!). Таким образом, Мукаржовский
еще усиливает идеалистический смысл предложенного Шкловским категорического
разъединения «видения», «восприятия», с одной стороны, и познания — с другой.
Хотя новый формализм и не говорит о «прекрасном» в кантовском априористском
смысле и переносит абсолютное идеальное существование прекрасного в
человеческую психологию, в восприятие, сама способность эстетического
понимания, само «эстетическое чувство» не менее априористично и носит не менее
абсолютный характер, даже если речь идет не об «абсолютно прекрасном», а только
о способности человека воспринимать это прекрасное.
Кстати,
и Маркс говорил об эстетической потребности, но для него эта эстетическая
потребность не априорна и u не является биологической данностью, предшествующей
всякому общественному развитию. Маркс
316
видит в эстетической потребности человека исторический продукт,
результат долгого развития материального и духовного производства. Конечно,
такое материалистическое и диалектическое понимание проблемы не имеет ничего
общего с формалистским априоризмом.
Однако
новый формализм отличается от старого тем, что он отвергает механистическое
противопоставление содержания и формы и, согласно Гегелю, устанавливает их
диалектическое единство. Но он признает не только диалектическое единство, но и
примат формы, оставаясь в этом далеко позади Гегеля[183].
Тут
необходимо напомнить, что диалектический материализм, безусловно, отвергает
старое, механистическое противопоставление содержания форме также и в его часто
встречающемся материалистическом варианте, когда содержание рассматривается в
качестве основы, ядра, к которому добавляется форма совершенно внешним образом,
как нечто вроде скорлупы. Мы исходим из диалектического единства содержания и
формы, но видим в содержании то начало, которое в конечном счете определяет
форму.
Мы уже
указывали, что новый формализм в своей структуралистской модификации — типично
«идеологическая» точка зрения, основанная на «ложном сознании». Основной пункт
этого «идеологизма» — та роль, которую новый формализм приписывает автономному
развитию искусства. Здесь проявляется недопустимая изоляция одной области человеческой
активности от общественного человека, который в ней действует. В то время как
формализм настаивает на абсолютной автономии, структурализм пытается заключить
ложный компромисс с историческим материалом: он принимает социальный элемент
как «вмешательство извне». Но это включение социологического момента так же
недиалектично, как и прежние формалистические представления: строго изолируется
внутреннее развитие искусства (как формы) от его внешнего развития (в
обществе). Это — механическое расторжение диалектического единства на
317
два полюса, которые предстают как чуждые друг другу и только
внешне смыкающиеся элементы.
Второй
признак идеологизма — это резкое отграничение «восприятия» от «познания» в
новом формализме, а соответственно — эстетической ценности художественного
произведения от его содержательного, тематического значения. Исключение
элемента значения ведет к самым радикальным экспрессионистским экспериментам в
области соединения лишенных смысла звуков в стихотворные строчки (но это уже не
поэзия а нечто близкое чистой музыке) и к автоматическим текстам сюрреалистов,
хотя последние не отказываются от значащей стороны слова как выразителя
психических процессов.
Третий
признак идеологизма новых формалистов — атомизация тем и вытекающее отсюда
поверхностное эмпирическое понимание действительности. Мукаржовский различает,
так же, как и русские формалисты, в художественном произведении материал и
художественную форму.
Материалом
литературного произведения он считает тему («представления, мысли и чувства,
заключенные в произведении» ). Художественная форма (способ, с помощью которого
в художественном произведении «материал используется для возбуждения эстетического
впечатления») создается в основном посредством двух приемов деформации (то, что
Шкловский называл «остранением») и организации (систематичность в деформации
отдельных моментов действия и взаимосоответствия изобразительных приемов). Понятие
темы Мукаржовский анализирует таким образом: он рассматривает низшую единицу
значения — слово, в котором он видит что-то вроде атома значения; низшее
семантическое образование, так называемая синтагма, — содержательная молекула,
состоящая из определяющего и определяемого слова (например, «девочка читает»).
Связь определенных синтагм создает мотивы, из которых складывается тема. Слова,
синтагмы, мотивы — это эстетические элементы, нейтральные с точки зрения
содержания.
В таком
анализе терминов Мукаржовский лишает тематические элементы всякой материальной
основы, изолируя и атомизируя их. Синтагма, лишенная связи с мотивом,
становится безответственным высказыванием
318
так же как мотивы, логически не связанные с темой, становятся
просто строительным материалом, по отношению к которому форма оказывается единственным
творческим принципом, способным объединить бессодержательные синтагмы и
осиротевшие мотивы в художественное произведение. Путем постепенного разложения
понятий новые формалисты лишают мотивы их реальных связей, их отношений, основывающихся
на реальной действительности: именно в этом и заключается атомизация. Так же
как на основании знакомства с электронами, составляющими атом, нельзя ничего
сказать о материальных свойствах железа, так как они являются функцией его
молекулярной структуры, так и атомизированные синтагмы и несвязанные мотивы
ничего не говорят о теме, о содержании художественного произведения в целом.
Только их логическое соединение и реальная взаимозависимость создают тему.
Шкловский, например, исходит из того, что поэт якобы складывает мотивы в
художественное целое совершенно произвольно в том, что касается их материального
содержания, а его преднамеренность проявляется только в отношении к форме
произведения. А из этого он делает вывод, что решающим компонентом является
заранее избранная форма. Но содержание является высшей реальностью, не
случайной, а закономерной, типической, и ему подчиняются все мотивы. Содержание
— это не «совокупность мотивов» (Мукаржовский), оно воплощает реальную
действительность. И если поэт может произвольно обращаться со случайными
мотивами, он не имеет права деформировать высшую реальность содержания.
Только
если мы противопоставим диалектическое понимание действительности поверхностной
эмпирии, которую имеют в виду новые формалисты, мы найдем способ раскрыть
реальность в теме художественного произведения. Такое, более глубокое понимание
действительности чрезвычайно важно для творческого метода социалистического
реализма, потому что именно это отличает его от старого реализма Золя и
Флобера. Для старого реализма святыней был каждый факт, он обращал внимание на
действительность, как она представала нашим пяти чувствам: явление выступало на
место сущности, поэтому один из путей от реализма той поры привел к совершенно
поверхностному
319
импрессионизму. Социалистический реализм, напротив, видит в
отдельно взятом эмпирическом факте случайный образ действительности, глубинные
законы которой надо открыть и воплотить. Старый реализм был рабом эмпирического
материала, социалистический реализм становится его господином.
Тут мы
подходим к связи поэтической деформации действительности (к тому, что Шкловский
называет «остранением», а Мукаржовский — «актуализацией») И поэтической свободы
при такой деформации. Социалистический реализм предоставляет художнику свободу
в выборе и замене эмпирических элементов, случайных явлений действительности,
для того чтобы он поднялся до создания типа, являющегося более глубоким, более
верным и полным воплощением действительности. Ведь поэтому и Энгельс в своем
письме о Бальзаке придает такое значение «типическим характерам в типических
обстоятельствах». Но как только поэтическая деформация затрагивает самую
сущность действительности, писатель отрывается от нее и оказывается в
безвоздушном пространстве[184].
Поэтому тема не является простой аккумуляцией мотивов; мотивы — это только
материал темы, которая возникает в связи с логическим упорядочением мотивов,
раскрытием их взаимоотношений, соответствующих жизни и почерпнутых из нее. При
формалистическом разложении темы исчезает эта реальная зависимость, эта
интеграция целого, а изолированные кирпичи не могут, конечно, раскрыть тайну
архитектурного замысла постройки. Однако этот трюк лишает мотив эстетического и
содержательного значения, что и соответствует проповедям новых формалистов.
Путем к
принижению содержательной, тематической стороны произведения, — принижению,
цель которого доказать, что вся суть произведения в его форме, становится для
новых формалистов целая серия еще менее убедительных рассуждений.
3
Мы
стремились дать позитивную критику новой школы формалистов. Вопрос о том, может
ли диалектический материализм перенимать определенные науч-
320
ные результаты этой школы, имеет не только теоретическое
значение: тут речь идет о воспитании писателя и не только в новом социалистическом
обществе — писателя-бойца, для которого эстетика перестает быть чистым
анализом, служащим для раскрытия некой абстрактной «правды», а становится
наукой, помогающей совершенствовать орудия изменения мира, создавать искусство,
общественно активное, ведущее вперед.
1934
ЕЩЕ РАЗ О ДИАЛЕКТИКЕ СОДЕРЖАНИЯ И
ФОРМЫ[185]
Уже в то
время, когда мы отдали в печать статью, в которой содержатся размышления
марксиста о новом формализме, наша аргументация оказалась недостаточной: Ян Мукаржовский опубликовал «опыт разбора и
анализа развития поэтической структуры» на материале «Возвышенности природы»
Полака, а другой приверженец структурализма — Роман Якобсон — напечатал свою
лекцию под названием «Что такое поэзия».
Несомненно,
разбор Мукаржовским «Возвышенности природы» Полака представляет для структурализма
шаг вперед на пути к диалектически-материалистическому изучению литературы.
Мукаржовский отвергает тот метод, который «принимает во внимание только связь
литературных произведений с внелитературными рядами и интерпретирует эту связь
лишь как одностороннюю зависимость литературы от них» (то есть
вульгарно-механистический материализм), так же как и «рассмотрение поэтической
структуры изолированно от всех внешних зависимостей» (идеалистический
формализм). Он определенно считает (и в этом прогресс по сравнению с его
прежними работами) литературу социальным явлением не только потому, что «она
существует в сознании определенных коллективов», но и в силу того, что «поэтическое
произведение имеет характер знака, посредника между двумя сторонами —
субъектом, подающим знак, и объектом, знак принимающим, как членами опреде-
322
ленного коллектива» (социальное
воздействие художественного произведения).
Но тот
способ, которым Мукаржовский аргументирует подобное социальное понимание литературы,
показывает, что он до сих пор в плену гносеологического идеализма. Мы снова
встретимся тут с релятивистским пониманием общественного целого, являющегося
структурой автономных, но в целом взаимовлияющих рядов; хотя отдельные ряды и
составляют иерархическую структуру, но доминанты этой иерархии меняются, не
являются постоянными и предстают как равноценные силы. Мукаржовский и здесь,
как и в прежних работах, признает только связи между отдельными рядами и не
видит в экономике закономерную необходимость, которая и определяет все
остальное. О том, что эта «ложная тотальность» не остается в рамках
релятивизма, а клонится в сторону идеализма, свидетельствует то, что
Мукаржовский считает меньшим злом идеалистический формализм, чем
механистический материализм; в то время как последний совершенно упускает из
виду имманентное развитие литературы, при изолированном изучении поэтической
структуры «раскрывается хотя бы единая линия развития самой литературы, пусть и
оторванная от ее связей с действительностью». Здесь мы находим в еще более
чистом виде, чем в предыдущих работах, изоляцию имманентного развития
поэтического ряда от его общественной почвы. Идеалистическое понимание общественного
целого мешает и попыткам Мукаржовского диалектически подойти к этому вопросу:
его разбор отношения внутренних мотивировок в литературном произведении (с
точки зрения развития поэтической структуры) к внешним импульсам, идущим со
стороны общества, не диалектичен, а, скорее, механистичен: «Поэтическая
структура, которую мы имеем перед собой, с одной стороны, зависит от
имманентного развития национальной литературы, а с другой — находится под
влиянием тенденций общественного развития». Мукаржовский и в этой работе еще не
преодолел понятия «внешнего вмешательства» общества в имманентное развитие
литературного ряда. Он не может допустить мысли, что концепция отношения
экономики и идеологии, которая считает экономику доминантной, вовсе не снижает
поэтическое произведение и не сводит его к роли копии и пассивного отражения
действительности;
323
он представляет себе это отношение только как механическую
причинную подчиненность в понимании Тэна[186],
которую он совершенно справедливо отвергает; ему неведомо диалектическое
соотношение экономики и идеологии, которое одно только и может быть надежным
путеводителем в области истории литературы.
Мукаржовский
сводит социологическое понимание литературы, как оно существовало до структурализма,
к механистическому материализму, а тогда опровергнуть его уже не представляет
труда; диалектический материализм остался ему недоступным.
Мы уже
говорили о том, что «ложная тотальность» проистекает из отрыва определенной
социальной области от ее подлинного творца, общественного индивидуума. В новой
работе Мукаржовского эта сторона выступает еще более ощутимо и даже проявляется
совершенно фетишистское обожествление «связной линии развития », слепого закона
эволюции, беспомощным и полностью детерминированным орудием которого является
поэтический индивидуум. Подлинный общественный человек, который сам творит свою
историю и именно таким образом становится сам элементом исторической
необходимости, — этот активный человек, активный поэт уступает в таком случае
место слепой «логике развития», не говоря уже о том, что Мукаржовский ищет эту
логику не там, где она диалектически осуществляется, то есть в экономике, а
там, где она отражается, — в идеологии. Творчество Полака определяется, по его
мнению тем что «развитие чешского стиха в данный момент требовало ритмической
дифференциации», а также «стремлением привлечь к национальной идее высшие
классы с помощью эксклюзивной поэзии». Диалектический материализм отвергает
«имманентное развитие» любого идеологического ряда и его мистическую «логику
развития» и находит закономерности литературного развития в его глубоких
корнях, в том, как творческий индивидуум реагирует на данное состояние в
литературе согласно условиям, определенным в конечном счете со-
324
стоянием производительных сил и классовой позицией самого
индивидуума.
Однако
если мы все же можем, несмотря на пережитки идеализма, оценивать последнюю
работу Мукаржовского как шаг на пути к диалектическому материализму, то этого
никак нельзя сказать о лекции Якобсона, идеалистические парадоксы которой сходны
с мыслями Шкловского, выраженными в «Теории прозы» «Ни Тынянов, ни Шкловский,
ни Мукаржовский, ни я не провозглашаем замкнутость искусства, а показываем, что
искусство является частью социального здания, элементом, связанным с другими
элементами, элементом изменчивым, потому что мы постоянно наблюдаем диалектику
в отношении искусства к остальным участкам социальной структуры. То, что мы
подчеркиваем, — это не сепаратизм искусства, а автономность эстетической
функции». Мы уже приводили аргументы для опровержения этой «ложной
тотальности». Здесь достаточно подчеркнуть то, что в лекции Якобсона
идеалистическая позиция автора выражается в категорическом отделении
поэтического слова от действительности: «В чем же проявляется поэтичность? В
том, что слово ощущается как слово, а не только как представитель обозначенного
предмета или как взрыв эмоций. В том, что слова и их строение, их значение, их
внешняя и внутренняя форма не являются только безразличной ссылкой на
действительность, а приобретают собственный вес и значение». Мы уже говорили о
том, почему мы считаем отрыв значения слова от обозначенного предмета столь же
явной идеалистической ошибкой, как и отрыв определенной сферы общественной
деятельности от общественного «деятеля». И лекцию Якобсона мы, несомненно, не
можем расценивать как шаг по пути к материалистической диалектике.
1934
ОТ ОБОБЩЕНИЯ К ДЕГУМАНИЗАЦИИ
ЭСТЕТИКИ[187]
Проблема
роли личности в художественном произведении, которой отдали дань натуралисты, по существу, тесно связана со взглядами «новой
критики» в США. Трактовка
этой теории, разработанной Пражской структурной школой в 1940 году, также нашла свое отражение в работах бывших
членов Пражской школы структуралистов Р. Якобсона и Р. Уэллека.
Понимание
структуралистами взаимоотношения личности и художественного произведения сформулировал
кратко и в общих чертах Ян Мукаржовский в статье «Традиция формы», написанной в
1940 году для сборника, посвященного памяти Арне Новака. Эту статью я уже
рассматривал с точки зрения ее методологических посылок. Говоря о том, что
структуралист понимает под словом «форма», Мукаржовский отверг это понимание,
назвав его «наследием романтического индивидуализма». Это толкование, по
его словам, «усматривает в форме единственно возможную организацию всех
элементов и частей художественного произведения: данное содержание требует именно
этой, а не другой формы, и оба — содержание и форма — являются единственно
возможным выражением личности автора». Структуралист это понимание отвергает
потому, что он хотя и «постигает изменяемость формы, но постичь
закономерность развития этой изменяемости не может, так как взаимосвязь
развития отдельных индивидуумов можно устано-
326
вить только в материальной и духовной сферах, оказывающих
влияние на становление индивидуума. а не в самой форме».
Из
цитированных отрывков видно, что структуралист включил сферу материальных и
духовных влияний, оказывающих воздействие через творческий субъект и на форму
художественного произведения, в категорию незакономерной изменяемости;
закономерная изменяемость, как мы уже видели, существовала для него лишь внутри
имманентного ряда самодвижении структуры.
В этой
связи возникает вопрос, как, собственно, структурализм представляет себе
творческую индивидуальность художника. Характерно, что в принципиальных
формулировках он избегает понятия «творческая индивидуальность», «творческая
личность» (хотя он этими понятиями обычно пользуется). Это звучит для него
романтически: в такой формулировке индивидуальности автора структурализм усматривает
«индивидуализм»; впрочем, это вытекает из его понимания сверхличной
эстетической структуры, в которой историческая роль личности, по существу,
игнорируется. Эти размышления, субъективно касающиеся творческих моментов
зарождения художественного произведения, вскрывают принципы количественного
анализа литературоведческого метода структурализма. На это явление, вызванное
стремлением сделать литературоведение точной наукой, обратил внимание Завиш
Каландра в уже цитированной рецензии на статью о М. Зд. Полаке. И хотя я не
согласен с некоторыми формулировками статьи, в особенности с характеристикой
социальной личности, я все же считаю, что Завишу Каландре удалось постичь одну
из самых типичных черт структурного подхода к материалу.
«Индивидуум,
— говорит Каландра, — который реагирует на отношения, существующие среди людей,
живущих в классовом обществе. по методу д-ра Мукаржовского — совершенно
исключен и устранен из поля зрения литературной критики. Действительно, в этой
концепции, которая в мельчайших деталях своего анализа стремится быть
математически точной и в каждом своем синтезе кристально однозначной, в этой концепции,
направленной на more geometrico, u чувствуется страх перед индивидуумом, перед творческой личностью:
перед этим
327
непостижимым зверем с его тысячью прихотей, страхов, достоинств
и недостатков — с легионом совершенно специфических свойств, которые никак не
удается поместить в рамки точных образцов «автономного» литературного развития
и которые можно изучать только в конкретных рамках определенного общества, его
экономической структуры и классовой борьбы. Можно испытывать страх перед
индивидуумом, разрушающим круги, — но кто ему поддастся, тот окажется
заколдованным неоправданными абстракциями и будет вынужден обратиться к
мистическим гипотезам. Только тот, в ком живет совершенно иной страх, horor
vacui, страх перед пустыми воздушными замками неоправданных абстракций,
беспредельно соблазнительными для человеческого интеллекта, — только тот сумеет
найти и успешно использовать надежные методы и в истории литературы. Однако ему
придется отвергнуть идеалистическое «имманентное развитие, любые идеологические
ряды и их мистическую ”логику развития“, и он станет искать закономерности
развития литературы в ее социальных предпосылках, когда индивидуум оценивает
литературный процесс, исходя из условий, определяемых в конечном итоге существующим
состоянием производительных сил и его классовой позицией.
Такой
метод, который будет не чем иным, как распространением принципов исторического
материализма на литературное творчество, даст в большинстве конкретных случаев
иные результаты, чем метод д-ра Мукаржовского»[188].
Вследствие
такого абстрактного подхода, на который обратил внимание Каландра, Ян
Мукаржовский во второй половине 30-х годов пришел к следующему утверждению:
«даже «Я», субъект, который хотя и различными способами, но в каждом произведении
как-то проявляется, тождествен с какой-то конкретной психофизической
индивидуальностью и даже не с авторской. Это точка, к которой стремятся и в
расчете на которую строится все художественное произведение. Но на эту точку
может быть спроецирована и любая личность, как восприни-
328
мающего, так и автора (сопереживание произведения воспринимающим).
Этим для
структурной эстетики намечен путь к решению проблемы индивидуальности в искусстве: проблемой генезиса личности автора эстетика
занимается меньше, чем проблемой
индивидуальности в художественном творчестве, в развитии структуры художественного произведения.
Однако
структурная эстетика не только освобождает художественное произведение от этой зависимости, само искусство, по словам
структуралистов, находясь под властью
эстетической функции, «в значительной степени изолировано от действительности и избавлено от прямого активного отношения к формам и
тенденциям общественного сосуществования»
в смысле знаменитой формулы
Канта «das interesselose Wohlgefallen»[189].
Из такой
концепции логически вытекает требование пересмотра взаимоотношений не только между авторской индивидуальностью и искусством,
но и между обществом и
искусством; отсюда вытекает и как бы программное пренебрежение к идеологической и социологической стороне художественного
произведения. Поэтому при
конкретно-критической оценке отдельных личностей (ибо такой оценки в конце концов нельзя избежать даже там, где идет простой
перечень имен) структуралист ставит
в один ряд такие фигуры, как Дурих и Ванчура, ни словом не обмолвившись об их
идеологической позиции
в общественной жизни и классовой борьбе, которая, вполне понятно, не может не отражаться и на эстетической оценке.
И точно
так же, как структуралист не представляет исторически-конкретно творческую личность художника, так он и не представляет себе — а
это логически вытекает — конкретное историческое общество. Если он утверждает, что его не интересует генезис
личности автора, то
он тем самым одновременно говорит о том, что его не интересует и генезис социальных условий, которые легли в основу предмета его
исследования. И
если творческий субъект, индивидуальное сознание структуралист рассматривает как простую точку, то нечто аналогичное он допускает и
с коллективным
329
сознанием. «Коллективное сознание, — писал Мукаржовский в статье «Эстетическая функция и
эстетическая норма
как социальный факт», — мы не выводим из психологической реальности… и даже не понимаем
под этим словом
простое обозначение суммы элементов, общих для отдельных состояний индивидуального сознания. Коллективное сознание является
фактом социальным, его
можно определить как место существования (подчеркнуто мною. — Л. Ш.) отдельных систем, явлений культуры, [190]какими
являются язык, религия, наука, политика
и т.д.»1.
Следовательно,
речь идет о сознании не как об осознанном бытии, но как о месте, в котором
находятся взаимосвязанные
развивающиеся ряды структур, где существует культура как «структура структур». Вполне понятно, что, как только у
структуралиста созревает такое внеисторическое,
абстрактное представление о литературе и культуре вообще, он начинает рассматривать как величайшее
завоевание своей теоретической концепции понятие «художественного
произведения как знака».
«Понятие
художественного про изведения как знака, — писал Мукаржовский в 1940 году, —
именно благодаря тому, что произведение утрачивает свою однозначную зависимость
от личности автора, открывает эстетике широкую перспективу для решения проблемы
индивидуальности в искусстве».
На самом
же деле вследствие такого понимания художественного произведения структурная
эстетика оказалась в безвыходном тупике.
Способ
мышления структуралистов, использующих количественный и математический анализ,
превратил исторически-конкретную авторскую личность в проблему, а
конкретно-исторические общественные отношения — в сумму сверхличных функций,
показателей индивидуальности. Этот метафизический способ мышления оказался
неспособным диалектически рассмотреть подлинную действительность, то есть человека
в обществе и общество в человеке, в конкретной исторической обстановке. Без
познания и понимания этого факта какие-либо усилия в создании науки об
искусстве, новой эстетики невозможны.
330
Уже одно
понимание личности как ключа познания «изменчивости формы», называемое
структуралистами «индивидуалистическим», показывает всю глубину их непонимания
сущности данного вопроса.
Такой
способ понимания и критики «индивидуализма», а аналогично и «субъективизма» в
литературоведении характерен для формалистических литературно-теоретических
тенденций на Западе, и особенно для представителей неокритической американской
школы, борющейся якобы за то, чтобы исследования литературы были лишены оков
«индивидуализма» и «субъективизма». Интересно, что этими же вопросами занимается
и Роберт Вейман в книге «”Новая критика“ и развитие буржуазного
литературоведения», где рассказывается о том, как уже в начале двадцатых годов,
например, Т. С. Элиот выступал против «индивидуалистических» методов
интерпретации, подчеркивая, что точная оценка художественного произведения возможна
только тогда, когда мы смотрим на него как на безличный предмет. По словам
Элиота, «не поэт, не его психология или жизненный путь, а само произведение
стоит на первом плане. Внимание критика соответственно должно быть направлено
не на субъективные предпосылки творческого процесса, а на его поэтико-языковой
результат»[191].
«Этот
новый взгляд, — говорит Вейман, — на творческую роль поэта Элиот обозначает как
«теорию безличности в поэзии». Как теоретический постулат она, несомненно,
означает решительный и оправданный обход литературоведческого течения, ориентирующегося
на биографию и психологию автора. Однако в литературно-критической практике эта
теория у Элиота и его учеников привела к результатам, не столь уж определенным».
Даже если в этой связи мы мысленно отрешимся от критики гносеологических
предпосылок рассматриваемой теории, практические литературно-критические выводы
все равно нам покажутся «в высшей степени проблематичными»[192].
Вейман
критикует, далее, теорию деперсонализации Элиота, которая «сводит поэта до «автомата»,
бессознательно и по-глупому зашифровывающего свою поэму»,
331
и указывает, что критика Элиотом художественного «субъективизма»
переходит в наступление против творческого субъекта и это наступление ведется
под таким антигуманистическим лозунгом, какой характерен для одного из
основателей неокритической школы Хьюма, выступившего с полемикой, направленной
против «этого бастарда — личности»[193].
Я не
касался бы этой проблемы, если она все еще не была бы актуальной и
теоретическая неясность в этих вопросах не мешала бы правдивому, прежде всего
историко-биографическому раскрытию сущности нашего современного искусства.
Программно-боевое
отрицание необходимости изучения роли личности, социально-идеологических и
эстетических условий возникновения художественного произведения —все это еще
свойственно некоторым молодым историкам литературы.
Характерно,
что иные воспитанники структурной школы, в особенности самые молодые, просто не
умеют подняться над искусственной сферой сложных логических построений
структурализма и пытаются в новых выражениях защищать старые позиции.
Примечательна, например, такая формулировка: «Все еще забывают, что при разборе
произведения (имеется в виду литературно-теоретический разбор. — Л. Ш.),
точно так же как при обычном читательском восприятии, имеют дело с фактором,
существующим объективно, вне зависимости от автора и психологического процесса,
который привел к его «неожиданному» возникновению, следовательно, не с
дуализмом субъективного представления и его словесной формы. Подход к этому
вопросу лингвистов для нас поучителен именно потому, что в случае необходимости
можно не прибегать к разбору внутреннего субъективно-психологического генезиса
произведения, то есть области весьма трудноконтролируемой (естественно, иначе
обстоит дело с объективными социальными предпосылками возникновения
произведения»)[194].
Как
расценивать утверждение, что художественное произведение существует объективно,
отделенное от автора и психологического процесса, который вел к его
332
«неожиданному» возникновению, а не «в дуализме субъективного представления и его словесной
формы»? Это значит,
что литературное произведение, существующее вне зависимости от автора и психологического процесса, по своей форме относится к
категории явлений «объективного существования», в то время как «психологический процесс» возникновения
произведения, «внутренний субъективно-психологический,
с трудом контролируемый генезис
произведения», к этой категории не относится. Однако эти выводы ошибочны. Уязвимость их эстетических посылок заключается
в непонимании того, что
для марксиста-теоретика и исследователя литературы даже сам процесс «внутреннего
субъективно-психологического генезиса
произведения» существует объективно, так же как «словесная форма произведения» или объективные социальные предпосылки
его возникновения[195].
При
изучении вопросов искусства объективной действительностью являются не только материал или
лишь одни
социологическо-экономические показатели, обусловливающие появление художественного произведения; объективное существование по
отношению к исследователю мы
признаем и за психическим состоянием художника, создающего произведение, или за психическим состоянием того, кто воспринимает
искусство (зритель, читатель,
слушатель). Художник-создатель, точно так же как и воспринимающий художественное произведение,
представляет собой единство естественно-биологических и социально-исторических
факторов, причем решающей является социальная сущность человека. Такой подход к
литературоведческому исследованию не имеет ничего общего ни с индивидуализмом,
ни с субъективизмом. Речь идет не об исследовании структуры художественного
произведения, так называемых «объек-
333
тивно» данных эстетических ценностей, независимых от
социально-исторических процессов; речь идет об исследовании формы и содержания
в их единстве, об исследовании процессов, способствовавших возникновению
художественного произведения, благодаря которым это произведение оказывает в
свою очередь влияние на эти процессы; речь идет, далее, об изучении способов и
средств, при помощи которых художественные произведения отражают окружающий мир
и оказывают на него влияние. Именно это является главным в марксистском искусствоведении.
Марксисты принципиально расходятся со структуралистами в понимании
«объективности» предмета литературоведческого исследования.
Понятие
объективности существования у структуралистов означает независимость
исследуемого предмета от субъекта, от социально-исторического процесса;
означает исследование художественного произведения как естественного продукта.
Субъект
для них становится простым показателем популярности художественного
произведения. Поэтому внимание к социально-психологическим процессам, к
субъективным условиям возникновения художественного произведения, обращение к
творческой личности структуралист считает «субъективизмом» и «индивидуализмом».
В этом
смысле понятие «объективности» предмета литературоведения ведет к игнорированию
структуралистами значения творческого процесса у художника и роли общества в
художественном произведении; к отрицанию того факта, что научное исследование
художественного произведения выражается в комплексном подходе как к творческому
процессу, этой составной части общественного развития, так и к самому художественному
произведению как продукту творческой деятельности художника, от него в какой-то
мере не зависящего. В художественном произведении мы встречаемся с предметом
эстетического исследования как исследования социологического и психологического.
И если это исследование предпринимает марксист, он приступает к делу с
сознанием существующих взаимосвязей; он не монополизирует, не устанавливает произвольных
иерархических аспектов, действует не как сектант, придерживающийся своих
узкопрофессиональных взглядов, а как коллективист.
334
Идеалистическая
философия, которая, как мы уже видели на примере ее неокантианской ветви, подошла
к концепции бессубъектного сознания, как правило, проецирует понятие личности
на понятие сознания, отторгнутого от бытия, и не понимает, что сознание не
может быть ничем иным, кроме как осознанным бытием. Это отторжение духа
от конкретно-исторического индивидуума ведет к отрыву социального сознания от
конкретной социальной истории и приводит к объективистскому абсолютизированию
сознания как закрытой, имманентно развивающейся сферы.
Кажущейся
противоположностью этого объективистского направления выступает в буржуазном искусствоведении
другое субъективистское направление, для которого характерно интроспективное
психологизирование (сюда относятся и различные неофрейдистские школы).
Однако
исторический опыт показывает, что оба эти направления идеологически смыкаются.
Таким образом, хотя они и взаимно противоположны, их объединяет и общая черта —
отрыв сознания от социально-исторического процесса: в одном направлении это
проявляется в поисках биологического я, в другом — в поисках предмета
абстрагированного сознания. Поэтому марксистская наука об искусстве отвергает
не только эту — антипсихологическую, но и другую — психологическую
абсолютизирующую концепцию […]
Человек
как сознательный субъект, являющийся продуктом общества, его материальной и
духовной культуры, передающейся из поколения в поколение, является основным
фактором социально-исторического процесса. В этом смысле каждый сознательный
субъект является личностью, участником, «пайщиком» исторического процесса, хотя
не о каждом можно говорить как об исторической личности. Все зависит от
силы влияния личности на социально-исторический процесс.
Тут
возникает вопрос об отношении личности к ее произведению и произведения к
личности его создателя.
Понимание
этого отношения в теории и истории искусства во многом отличается от понимания
его в истории естественных наук. Теоретик и историк искусства при изучении
художественного произведения большее внимание уделяет изучению индивидуальности
авто-
335
ра, его биографии, психологии и идеологии, чем, например,
историк естественных или технических наук. Историка физики, например, жизнь
Ньютона интересует лишь отчасти, для него важнее по казать, какие объективные
законы он открыл. Последователи объективистских научно-литературных
направлений, каким является, например, структурализм, идут еще дальше. Они,
придерживаясь приведенного выше сравнения, не историки, но они хотят быть
естествоведами, они видят в художественном произведении и вообще в искусстве,
как и в естественных науках, искусственный вымысел как какой-то естественный
продукт, и художественное произведение они хотят изучать только как
естественный продукт. Поэтому они отрицают, как мы уже видели, значение
личности и открыто провозглашают свои методы родственными методам естественных
наук.
Пока
последователи формализма, подобно О. М. Брику, отвергали понимание поэтического
произведения как человеческого документа, представляющего интерес для автора,
его жены, родственников, знакомых и маньяков, страстно ищущих ответ на вопрос:
«Курил ли Пушкин?»[196],
пока они отказывались рассматривать поэтическое произведение только как частный
человеческий документ, они были правы, так как справедливо видели, что
социальную роль поэта нельзя понять, исходя из анализа только его индивидуальных
качеств и привычек. Как только они отказались видеть в поэте
социально-историческую личность, проявляющуюся в индивидуальности
художественного творения, и обратили свое внимание исключительно на
исследование процессов художественного ремесла, они подошли к логике, приведшей
того же Брика к абсурдному утверждению: «Если не было бы Пушкина, ”Евгений
Онегин“ все равно был бы написан. Америка была бы открыта и без Колумба»[197].
Ошибка
формалистов заключается в том, что они не сознают или не хотят осознавать, что
материал, который исследует ученый-естественник, существенно отличается от
материала, исследуемого литературоведом или искусствоведом. Предмет
исследования ученых-естественни-
330
ков относится, по существу, к сфере знаний ученого об
объективном мире, в то время как материал литературоведов — произведение художника
— уходит своими корнями не только в его представление о мире, но и в его
осознание самого себя, то есть зависит прежде всего от отношения собственного я
художника к жизни, миру и обществу и поэтому отмечено его глубокой
субъективностью. Поэтому творческий вклад художника в отличие от результатов
творческого вклада ученого неповторим.
Если бы
рано умерли Пушкин, Толстой и Бальзак, не было бы ни «Евгения Онегина», ни
«Войны и мира», ни «Человеческой комедии». Но если рано скончались бы Колумб,
Ньютон и Менделеев, — американский континент, бесконечно малые величины и
периодическая система элементов все равно нашли бы своих первооткрывателей.
Следовательно,
для полного понимания бесконечно малых величин или периодической системы
элементов не нужно знать или изучать биографию, психологию, идеологию,
самосознание их создателей, в то время как исследователь истории искусства не
может полностью понять характер, внутренние закономерности, содержание и форму
художественного произведения, используя деперсонализированный аналитический
подход. Нельзя себе также представить, что можно полностью понять смысл,
значение, содержание и форму произведений Франца Кафки без научного знания его
биографии. При этом, конечно, нельзя отрицать, что литературовед может открыть
много нового на основе изучения самого произведения. Но такое изучение дает
только частичный ответ на вопросы, которые ставит перед нами литературное
произведение как социальный факт.
Выступление
против биографического метода, если оно направлено против механического
собирания биографических фактов, без учета их важности, борьба против
стремления придать каждой биографической детали теоретика познавательное
значение… — все это, безусловно, не лишено оснований. Более или менее хаотичное
нагромождение фактов, которых у позитивистов было более чем достаточно, явилось
для современного научного литературоведения серьезной преградой на
337
пути к правдивому познанию сущности литературного явления.
Причина
дискредитации биографического метода не в обращении к фактам, не в самих
фактах, а в неспособности их правильной оценки. Несомненно, что крушение
биографизма явилось в первую очередь следствием ложной философской и
методологической концепции. Если литературовед не исходит из правильных идейных
предпосылок, то даже самое тщательное рассмотрение фактов не может его ни на
шаг приблизить к правдивому познанию жизни. Именно поэтому позитивистская
методология как методология буржуазная не была способна что-либо дать исследователю
общества. И·здесь можно только идеологическими интересами объяснить тот факт,
почему позитивизм в своей высшей, неметафизической, стадии в первую очередь
отказывается от своего прежнего позитивистского уважения к фактам, затем от
идеалистической метафизической сущности своей методологии.
Марксистское
понимание социально-психологического исследования, под которым я подразумеваю
исследование психологии личности как продукта общества, предполагает бережное
отношение ко всем фактам, в том числе и биографическим, обусловливающим
рождение личности, которая является посредником между художественным произведением
и социально-историческими процессами. Выпустить из поля зрения исследования
творческую личность и ео ipso[198]
социальную историю — значит выпустить цепь, реально связывающую художественное
произведение с историко-общественным деянием , сделать шаг, который, если
логически продолжить, приведет к дегуманизации теории и эстетики литературы.
Н. И.
Балашов в статье о «Лорелее» Брентано[199]
правильно утверждает, что так называемый структурный анализ все более и более открыто
выступает против историко-литературного изучения произведений, все явственнее
стремится лишить литературоведение его гуманного характера. Эту тенденцию Н. И.
Балашов де-
338
монстрирует на опубликованной в болгарском журнале «Язык и
литература» (1961, № 2) статье Р. Якобсона. Статью Р. Якобсона Н. И. Балашов
рассматривает как пример типичного формального анализа, за которым скрывается
стремление лишить филологию характера гуманитарной науки и в определенной
степени дегуманизировать самое поэзию. Анализу Якобсоном стихов Ботева он
противопоставляет свой анализ стихотворений Элюара, демонстрируя тем самым
диаметральное расхождение обеих интерпретаций. Балашов приходит к выводу, что к
изучению структуры поэтического произведения необходимо подходить с исторических
позиций. Я касаюсь этих вопросов потому, что в Чехословакии мы иногда еще и
теперь слышим высказывания, в которых, хотя и с определенными оговорками,
защищаются «антипсихологические», «антиидеологические» структуралистские
позиции и отрицается роль изучения биографии […]. В этих высказываниях не делается
различия между марксистским пониманием биографии как генезиса творческой
личности и произведения и биографией, понимаемой позитивистски, биографией как
набором некритически собранных фактов, часто анекдотического характера, над
которыми работал мелкобуржуазный идеолог, занимающийся биологизацией и
морализацией фактов и не имеющий даже представления о действительных скрытых мотивах
человеческих поступков, творческой деятельности, о соотношении социологии,
психологии и идеологии, о формах индивидуального и общественного сознания.
В
мировой науке типичным представителем такого вульгарного биографизма является
так называемый «новый психографический метод», распространенный в
литературоведении США, представителем которого стал профессор Бостонского
университета Эдвард Вагенкнехт […].
Если
каждое значительное художественное произведение может быть крайне субъективным
по содержанию, то этого нельзя сказать о естественнонаучном открытии, даже если
оно и явилось бы делом крупной человеческой личности. Поэтому искусствовед
видит в исследовании генезиса творческой субъективности одну из возможностей
понять и объяснить произведение искусства. Тот факт, что нам неизвестна
биография
339
Шекспира[200],
нужно расценивать как препятствие на пути более глубокого познания, как одно из
белых пятен на карте литературоведческого исследования, а не как боевой
аргумент формалистической концепции, помогающий абсолютизировать пусть даже
самый обоснованный научный факт.
С другим
в определенном смысле аналогичным вопросом мы встречаемся в работе Феликса
Водички, посвященной пособию Б. Вацлавека по литературному воспитанию.
«Вся
книга, — говорит Водичка, — построена на предположении, что знание личности
автора определяет наше отношение к произведению. Возникает вопрос, пригодна ли
для литературного воспитания эта точка зрения, не уводим ли мы читателей
возвеличиванием личности автора от автономных и общественных ценностей литературных
произведений, абстрагированных от авторов»[201].
Я не отрицаю относительную правоту точки зрения Водички. Но речь идет о том,
что Водичка не придал достаточного значения тому факту, что обращение к
личности создателя художественного произведения может помочь правильно понять
литературу и искусство. Если такое понимание возьмет верх над отношением к
самому произведению, то это, естественно, нанесет вред воспитательной функции
искусства. Обе эти стороны взаимно объясняют друг друга, причем «художественное
произведение, — как постоянно подчеркивал Неедлы, — является решающим фактором
оценки качества. Однако это не артефакт, независимый от личности, это
продукт индивидуальности как основы всего искусства»[202].
Приводя
рядом с биографией Шекспира и высказываниями Водички эту аргументацию, я
сознаю, что они имеют мало общего. Предметом нашего интереса является именно
это «мало общее», которое развивала в
340
прошлом Пражская школа структуралистов и теперь доводится до абсурдности в «новых»
формалистических теориях
западного буржуазного искусствоведения […].
На
московском симпозиуме литературоведов в 1962 году (московские и чехословацкие литературоведы занимались там вопросом художественного
метода и творческой
индивидуальности писателя) выступала И. Г. Неупокоева, критически вскрывшая смысл этих тенденций, в особенности на
работах американских теоретиков литературы Н. Фрая и Р. Уэллека. С нашей точки зрения, интересна та часть
ее выступления, в которой она
характеризовала современную методологическую позицию одного из бывших структуралистов-литературоведов. Я позволю себе процитировать из
ее высказываний несколько
самых интересных абзацев.
«…стремление
разъять в литературоведческом анализе рассмотрение самого художественного произведения и творческой индивидуальности
художника находим мы
и у таких авторов, как Уэллек, которые, настойчиво говоря о кризисе современного
литературоведения, видят выход из этого кризиса в
обращении литературоведения к
принципам исследования структурной лингвистики.
Связанный
в прошлом с Пражским лингвистическим кружком, Уэллек утверждает, что «структурализм оказался весьма плодотворным и влиятельным
и в сфере литературоведения».
Главное значение метода структурного анализа Уэллек видит в том, что, опираясь на достижения русского формализма,
он сумел противопоставить себя
неудовлетворительному состоянию современного литературоведения, которое имеет чрезмерное пристрастие к фактам и делает
чрезмерный упор на идеологию».
Задача этого метода в изучении литературы состоит, по мнению Уэллека, в том, чтобы «сосредоточить внимание на анализе произведения
искусства, как такового,
как особой формальной структуры». Заслугу критиков этого направления Уэллек видит в том, что они «свели до минимума
биографию, психологию и исследование
внешних источников и влияний, они погрузились в изучение произведения искусства как цельной системы связанных друг с другом
знаков, в которой старое
различие между содержанием и формой оказывается полностью преодоленным».
Проводя
параллель между методом Пражского лингвистического кружка и «новой критикой» в США,
341
Уэллек видит их заслугу в «одинаково пристальном внимании к самому тексту и скрупулезном
его анализе, в одинаково
скептическом отношении к биографическому или психологическому подходу к литературе, в одинаковом стремлении связать теорию
литературы с семантикой»[203].
В
полемике с Уэллском и другими современными представителями американского формализма Неупокоева в другом месте утверждает, что
буржуазные теоретики, отрицающие
признание социальной сущности искусства, упорно стремятся уйти от «идеологического», как они его
называют, подхода к изучению литературы[204].
Критические выступления Неупокоевой, как и других советских литературоведов (М.
Б. Храпченко, Р. М. Самарина, Н. И. Балашова), занимающихся изучением новейших
тенденций американского «неокритическо-структурного» направления (в котором
значительную роль играют два бывших члена Пражской школы структурализма),
убеждают нас в том, что это новое направление в американской науке, по
существу, не поднялось выше уровня теоретической вооруженности пражского структурализма
тридцатых годов, точно так же как пражский структурализм не возвысился над
русским формализмом двадцатых годов.
Традиции
неокритического направления если и оказали влияние на последователей Пражской
школы структуралистов, то, скорее всего, в смысле вульгаризации ее основных
положений.
Формалистические
теории, естественно, постоянно меняются, но они не меняются лишь в одном — в
игнорировании жизненной и идейной позиции автора художественного произведения,
а, как известно, именно правдивое понимание этой социально-исторической позиции
является всегда необходимой предпосылкой правильного использования современных
методов познания. Поэтому на симпозиуме в Москве в 1962 году принципиальное
значение имело выступление Яна Мукаржовского, который занимался также вопросом
своеобразия художественного метода и в этой связи при-
342
шел к утверждению, что «необходимо, чтобы литературоведение
вернулось к проблеме личности в искусстве во всем ее объеме, во всех ее
аспектах, как исследовавшихся, так и вновь возникающих»[205].
Эта
точка зрения показывает, как далеко разошлись представители Пражской школы
структуралистов. М. Б. Храпченко в статье «О разработке проблем поэтики и
стилистики»[206] подверг критике
выступления Якобсона в начале 60-х годов. Сравнивая эти работы с прежними, он
приходит к выводу, что резкое разграничение разговорного языка и языка
поэтического, которое прежде провозглашали последователи формального метода,
теперь сменяется новым взглядом, усматривающим в художественном творчестве один
из видов речевой информации.
Но и это
понимание речевой информации, как указывает Храпченко на примере Якобсона,
исключает из области
литературоведения исследование жизненной, идейной позиции автора, создателя
художественного произведения, его мировоззрения и идейные принципы литературы
вообще. Осуществление поэтической функции языка рассматривается вне социальной
борьбы, вне реального развития социальной жизни человека. «Хорошо известные
черты старых формалистических теорий выступают здесь опять в новом виде»[207].
Стремление
отрицать литературоведческий подход к проблеме личности, в особенности к социально-психологическим
вопросам, является в теории литературы характерной чертой большинства, если не
всех, формалистических направлений, несмотря на их внешние отличия друг от
друга. Это касается как теории, основанных на объективно-идеалистической
поэтике (например, структурализма), так и на субъективно-идеалистическом
психологизировании фрейдистского типа, а также и механистическо-материалистической
интерпретации авангардистской эстетики, не признающей определяющей роли
общественных отношении в формировании
34З
личности и ставящей в прямую взаимосвязь процессы
технологического, естественного развития с развитием художественной формы.
Именно в
этой связи марксисты уже не раз подчеркивали, что эта механистическая
методология исключает из игры исторических сил основное звено, определяющее
психологию и идеологию художественного творчества, то есть общественные
отношения, социально-классовую борьбу, и тем самым вместо исторически
конкретного, общественными отношениями определяемого человека создается абстрактное,
внеисторическое, нереальное человеческое существо, в котором теоретик
литературы для объяснения художественного произведения (любой его стороны)
вообще может и не нуждаться.
В
дискуссиях по этим вопросам сыграло положительную роль объяснение Плехановым
зависимости психологии и идеологии человека от социально-политического строя.
Луначарский назвал это «монистическо-материалистической формулировкой, которая
достаточно широка, чтобы предоставить надлежащее место всем формам
исторического развития» (подчеркнуто мною — Л. Ш.).
Одностороннее,
преувеличенное или, наконец, абсолютизированное пренебрежение
социально-психологической стороной комплексной проблематики художественного
произведения приводит, как вытекает из предыдущих утверждений, либо к
формализму, либо к вульгарному социологизму, или к тому и другому, вместе
взятым.
В
чехословацком литературоведении речь идет, по существу, о тенденции возвращения
на старые позиции, из которых когда-то вышел структурализм, о стремлении
механически распространить некоторые способы лингвистического подхода к
материалу на теорию литературы. Однако ясно, что каждая попытка в
литературоведении примирить эту старую структуралистскую теорию с марксистским
подходом к изучению художественного произведения неизбежно приводит к двойному
- социологическому и эстетическому — шаблону.
Обратим
внимание на то, к чему в этом устремлении пришел Ян Мукаржовский в 1949 году.
Тогда в своей лекции «Партийность в науке и искусстве» он в основном правильно
и философски убедительно расквитался
344
с объективистским оппортунизмом структуралистов.
Однако
там, где он пытался примирить свои старые методологические принципы с марксистской
социологией, он пришел к поразительным выводам. Согласно его прежним
утверждениям, вопросами психологии искусства начали интересоваться в последней
четверти прошлого и начале нынешнего столетия, в эпоху, когда свободное
предпринимательство в развитом капиталистическом обществе вызвало большой интерес
к личности. Однако положение изменилось перед первой мировой войной, когда
капитализм стал организовывать картели и тресты и когда якобы
предпринимательство стало обезличиваться. В это время, по Мукаржовскому,
проблемы, связанные с психологией художника, уступают место проблематике
художественного произведения и его композиции, то есть внеличной проблематике[208].
Сразу
обнаруживается, что такое объяснение причин роста и утраты интереса к
психологии художественного творчества не что иное, как социологическое
упрощение, устанавливающее некоторые связи между экономическими процессами и
эстетической проблематикой, которая объективно должна оправдать перемены
литературного учения структуралистов, как закономерного результата
исторического развития нации […].
1966
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И СТРУКТУРАЛИЗМА[209]
[…]
Большое значение для литературоведов-структуралистов приобрела аналогия
литературы с языком. Что такое язык? Приведем известный пример: отец Гамлета
подал знак своему сыну. Этим знаком он ему говорит, передает ему сообщение.
Следовательно, язык — знак. Он говорит нам что-то, но, в отличие от жеста,
делает это, когда звучит или когда в письменной форме скрыто сохраняет все свои
звуковые свойства. Такова его особенность. Важно, однако, то, что видна связь
между знаком и языком. Все в языке, который информирует,значимо, все в нем
имеет смысл и значение сигнала. Когда обращаются от языка к художественному
творчеству, созданному посредством его, важным становится опять тот язык,
который является знаком и информацией через знак. Художественная литература
разлагается на приемы, на значащие величины, на ряд элементов, использованных
при структурировании целого. Или, иначе говоря, литературная теория обращается
к своей семиологии, к серии значащих приемов; «литература как прием», как
выразился еще В. Шкловский в период своих формалистических увлечений,
направленных главным образом на изучение композиционной структуры; или «поэзия
как грамматика», как выразился Р. Якобсон — неустанный исследователь
грамматических структур в художественных произведениях. Все осталь-
346
ное в литературе, кроме указанного, не имеет значения, оно —
идеология, мораль, философия или психология, но оно несущественно.
В
исследовании структурных единиц — композиционных, метрических или фонетико-синтаксических
— есть нечто положительное, но вопрос в том, к чему ведет такое исследование,
когда становится самоцелью. Потому что только так изучать литературу — значит
создавать лингвистику приемов (иногда и удивительнейшую и неожиданнейшую) или
же изучать отдельные поэтические «приемы» в отрыве от целого и ими исчерпывать
задачу поэтики. Вот сегодняшний пример. Жан-Мари Озиа в своей книге «Clefs
pour le structuralisme» («Ключи к структурализму», 1967)
изгоняет из литературы эстетический идеал, разумно-эмоциональное начало и ищет
только схему впечатления и восприятия. Он вводит понятия «вертикаль» и
«горизонталь» в лирическое представление. Он цитирует стихи Ламартина и толкует
их:
«Там
неподвижное озеро распростерло свои спящие воды» — это горизонталь, и озеро
можно представить горизонтальной чертой.
Следует
другой стих:
«Где
вечерняя звезда поднимается в своей небесной синеве» — это вертикаль, и
вечерняя звезда обозначается вертикальной линией. Создается графика лирического
представления, которая замещает само лирическое представление, — графика уже
как второе, как новое значение. Таким же образом говорится и об архитектуре
стиха, вводятся в его теорию понятия плоскостных величин и т.п., причем эмоциональное
и смысловое содержание не принимаются во внимание или приглушаются.
Но,
оставив в стороне курьезы, следует отметить характерные положительные и
отрицательные стороны структурного литературоведения — его стремление идти
самым прямым путем к элементарной структуре. Говорю положительные и
отрицательные потому, что здесь имеется тенденция не только к исследованию
формы, но и к извращению ее, которая ведет к уничтожению и обезличиванию,
унифицированию ее материальной сущности.
Согласно
структуралистскому тезису, художественное произведение создано из выражений,
выражения —
347
из слов, слова — из слогов, а эти последние — из звуков, из
фонем. Это означает, что ищутся, как в атомной физике, наиболее элементарные
составные частицы. При этом анализ совершается при помощи разрыва. Наступает
разрыв между произведением и отдельным выражением, разрыв между выражением и
словом, между словом и фонемой. Приобретает значение как объект исследования
статичное поле, мертвая картина, а не динамическое целое. По теории, структура
— динамична, она связывает и разъединяет, но на практике доминируют разделение,
разрыв, часть, а не связка, не органичное целое. И в этом — большой недостаток
по крайней мере прежних структурных исследований. Они замыкаются в природе
отдельного. Начинается работа статистических методов самих по себе. Создается
коллекция из частностей, извлеченных из единого состава материи атомов, —
некоторые называют их «семы» (от «семантика» — значение), другие «морфемы» (от
«морфе» (греч.) — форма), — важно, что они исследуются так, что
отбрасывается «старое», «традиционное», якобы ненаучное рассмотрение
художественной литературы как сложного целостного единства элементов, связанных
органически и имеющих — уже как произведение определенное значение для
духовной, идейной и эстетической жизни общества. Спрашивается, какова ценность
таких исследований, если они не возвращают к целому, если за ними не стоит
реальный эквивалент художественной литературы, если они не охватывают ее живой
полноты, бегут от идеала и общественной функции?
Но все
это характерно для одного типа «материализующих» литературу структуралистов.
Для тех, кто идет преимущественно от языкознания, ратует за метод, не зависящий
от «субъективности сознания», объективный, как методы химии, физики,
математики. Они знают одну форму научности — статистику и пользуются такими,
например, трудами, как книга П. Рокицкого «Основы вариационной статистики. Для
биологов» (Минск, 1961).
Есть и
другой тип — это структуралисты, рассматривающие литературу уже как
совокупность приемов, которые следует «означить». Они создают иную дефиницию
художественного творчества, оставляя фабулы и композиции. Да, начало здесь не
столько в Р. Якобсоне и в грамматике, сколько в В. Шкловском. Сейчас струк-
348
турная теория «смогла» показать нам организацию про·изведения в
связи с приемами, с пространством и временем как нечто отличное уже от чисто
фонемической и грамматической его целостности. Здесь появляется целый ряд
наблюдений, которые были бы сами по себе интересны, если бы не тенденция
исключить сюжет, то есть содержательность, ради фабулы, то есть ради
формального приема.
Как бы
то ни было, существенно, что и в том и в другом случае ограниченный подход — по
вине не самих методов, а их абсолютизации — и полное игнорирование всякой
другой методологии мешают исследованию литературы как идеологии и явления эпохи
(В. Жирмунский), как психологии (Л. Выготский), как человековедения (М.
Горький), полностью замыкая ее только одной сферой. Эта тенденция особенно заметна
в западном структурном литературоведении. В этой связи позволю себе небольшое
отступление о различных общественных законах, управляющих научной мыслью у нас
и на Западе…
[…] При
близкой встрече с духовным климатом, созданным на Западе, вас неизбежно охватывает
чувство глубокого внутреннего удовлетворения тем, что существует и другая
культура, которая, стараясь в последнее время не пренебрегать детальной
сложностью духовного, его «структурными» проявлениями, развивается в других
направлениях — психологическом, философском и т.д. Она с самого начала исходит
из других принципов И из более глубоких гуманных целей. Именно она несет в
самой себе великое движение нашего века вперед — к новым и высшим формам
духовной жизни. Я назвал бы ее героико-утверждающей, так как, гуманная и
молодая, она внутренне устремлена к положительной и движущей вперед цели. Это
зримо выделяется на фоне отрицающей значимость человеческого современной
философской мысли на Западе.
[…]
Структурализму, например, во Франции, как школе достаточно формального
мышления, опирающегося на нормативы языкознания и стремящегося к единственно
структурным задачам в литературоведении и философии, соответствует обращение
некоторых современных французских писателей к «новому роману». Он создается
349
не как чтение для публики, не как художественное познание
общества, не как сопереживание человеческих состояний и страстей, а лишь как
показ того, как конструируется такой вид литературного произведения. То
есть структурной теории в литературоведении отвечают и чисто структурные цели в
искусстве и литературе. Формальное экспериментаторство заменяет познание бурной
жизни эпохи, освещение ее глубин. В то время как философ и толкователь
структурализма Жан-Мари Озиа говорит вам, что идеологическое нужно устранить
из анализа литературных произведений, чтобы исследовать «чистые» структуры, —
«новый», «конкретно конструированный» роман призван направить взгляд не к
жизненному содержанию, а к тому только, как формально вырастает, как делается
роман. Ведь все — структура, функциональность и духовная объемность
искусства
— не имеет значения. Но если Озиа нападает на «идеологическое», так как ощущает
его связь с массами, то он не забывает о «воображаемом образе смерти», как он
выражается, «об этом потерянном значении», которое имеет «небытие» И которое,
по его мнению, следовало бы «обрести снова»[210],
то есть для экзистенциалистских ценностей. Так оказывается неизбежной
внутренняя духовная связь между принципами, отрицающими преобразовательное
начало литературы.
В наших
социалистических странах интерес к специальным исследованиям усилился особенно
в связи с развитием языкознания и теории информации. Открывается новый мир
законов, которые до этого времени лишь предугадывались, а сейчас наступило
время и для их уточнения. Знание, которое охватывает общее, но пренебрегает
частным, — недостаточное знание, это неполное знание. Такая позиция объясняет сегодняшнее
обостренное внимание к микроявлению, к структуре, к частности и детальной
стороне изучаемого явления. Современные статистические методы чрезвычайно много
вносят в исследование частного, составной части, бесконечно малых величин,
функционально связанных с целым. Интерес к ним стал как бы знаком времени —
если отсутствует знание их, явление считается неизученным,
I
350
неохваченным и неоцененным. Идея о всеобщности отступает перед
детальным анализом, который открывает новые конкретные отношения и дает
представление, совсем отличное от традиционного. Это можно было бы сказать и об
изучении композиционных форм и структур с их относительной самобытностью. Здесь
имеется огромный простор и для прямых наблюдений, и для теоретических
размышлений. Встает, однако, вопрос о единстве между чисто духовным,
«идеальным» в литературе и материальным в ней. И это не только в стихотворной
речи, где материальное, звук и ритм, подчеркивает свою функцию, но и при
изучении всякого художественного творчества. Усиленный интерес к значению
«конструирования», к организованности не сможет устранить проблемы своеобразия
художественного мышления, целесообразности эстетической стороны, красоты
и действенности формы. Возрожденное внимание к таким школам, как русский ОПОЯЗ,
не может означать реабилитации их чисто формальных принципов. Следует искать в
форме живую содержательность, органично связанную с ней (школа Ю. Лотмана в
Тарту, некоторые исследования Д. Лихачева). Вхождение в микромир структуры
явления очерчивает и водораздел между западным и нашим литературоведением. У
нас, например, при таких специфических поисках не теряется нить, ведущая к
выявлению духовной значимости художественного произведения. Текст ведет к
сложному комплексу жизненных проблем, а не изолирует их. Не тонет и не исчезает
в статистических цифрах и формулах гуманное начало, всегда заложенное в большой
художественной литературе, которое нужно глубоко исследовать и объяснять.
Говорю об этой сущности литературы назло тем, кто идеей о деидеологизации
искусства стремится открыть путь формализму, направить литературоведение к
бесплодным поискам. В сущности, наши аргументы противопоставляются именно этим
озиа, которые, гоня «идеологическое» из литературной теории в дверь, втаскивают
его в окно с признанием экзистенциалистских «ценностей» и «социологических»
толкований психоанализа.
[…]
Взять хотя бы вопрос об отношении между народом и литературой. Он почти не
ставится современным западным «структурным» литературоведением. Оно избегает
этого вопроса старательнее, чем бежал не·когда, в представлении верующих,
дьявол от ладана.
351
[…]
Представители западного литературоведения любят подробно говорить о
«коммуникации», об искусстве как средстве общения, об «объединяющем» знаковом
характере систем, которыми реализуются духовные явления. Но они не
останавливаются на вопросе об искусстве и литературе как «языке — средстве»
духовной связи в обществе, средстве мыслительной, эмоциональной и эстетической
информации, направленной преимущественно к широкой аудитории и к народу. И
особенно не воспринимают искусство и литературу как «эстетическую информацию» о
действительности. Потому что все это, дескать, — «Аристотелево небо»
подражания, царство «мимесиса», все это предполагает тезис Гегеля о человеке и
идеале, а ведь, с их точки зрения, литература «только текст». Легче
воспринимается ими литература, которая стоит на грани кошмара, чем литература,
которая пересекается с реальностью и в которой действует силовое поле ищущей и
прогрессивной мысли. Упомянутый уже Жан-Мари Озиа пишет: литературоведение
«начинается с отвержения господства историчности, истории идей и истории
произведения, источников, влияний…»[211].
То есть оно начинается с отказа от всего того, что связывает искусство с
жизнью. Стремление к открытию внутреннего, структурно-специфического достигает
здесь крайней абсолютизации, приводит к отграничению всяких объективных
зависимостей литературного творчества от того, что находится вне его.
Художественные письменные документы перестают иметь значение даже для понимания
личности творца, потому что и она — «мост к реальности». Озиа резюмирует:
«Есть, впрочем, литература, которая может быть названа структурной»[212],
то есть которая предлагается исключительно как текстовое явление и ничего
более. Но скажем в ответ на это, что в нашу эпоху, насыщенную напряжением
социальных войн и социалистическими преобразованиями, игнорирование зависимости
литературы от воздействия коллектива, боязнь проблемы «я и другие», отрицание
воздействия народа на творца — совершенно идеологическое явление, однако уже с
явной реакционной подкладкой. Здесь находит почву индивидуализм. Здесь
возводится преграда и для научного
352
объяснения явления. Аксиоматична
истина, что от воздействия общества рождалось «семантическое богатство»
художественного творчества с античности до наших дней. Ведь и в прошлые эпохи живая деятельность народных масс переселялась в
«тихие кабинеты» художников и
непосредственно диктовала им активное отношение к современности, влияя таким образом и на развитие художественных систем,
на «оппозиции» стилей и
границ искусства. И сегодня жанры и стили подлинного искусства развиваются, не
убегая в царство смерти и отвлеченных мифов, а приобретая размах, силу и
крепость под воздействием контакта с народной аудиторией.
Разумеется,
на Западе это оценивают иначе. Там не признают таких, используя их любимое
выражение, «иерархий», как общественные факторы в развитии искусства. Там
смотрят на художника как на совершенно имманентную величину — духовно абсолютно
независимую от реальности; то, что художник создает, — только «текст», предмет
для лингвистически-структурного, а не социологически-эстетического или морально-познавательного
исследования. Для них не существует читатель как «второй творец» — и в прошлом
и в современном искусстве. Для толкования произведения оказывается достаточной
языково-текстовая интерпретация, а отсюда враждебность к той «истории
произведения», «источникам», «влияниям», от которых так заботливо отдаляет нас
Озиа. Отсюда и усилие ограничить исследование исключительно текстом, навязать
«закрытое прочтение» произведения. Отсюда и пренебрежение к «иерархиям», в
которых сконцентрирована духовная жизнь общества, стремление отрицать
воздействие всего того, что Озиа высокомерно отвергнул как «господство историчности».
Можем ли мы воспринять такой тезис и так развивать структурализм у нас?
В
сущности, с философской точки зрения, современный структурализм на Западе
немногим отличается от «прежнего» философского индивидуализма — он стремится
главным образом разрушить традиционную, органичную связь литературы с
обществом. Стремится отринуть возможность развития искусства, вызванного
нуждами общества или направляемого основными силами в нем. Поэтому и
отрицается, что созданное артистом или писателем имеет значение как дело,
обращенное
353
к языковой структуре, независимо от всякого другого
психологически-этического познавательного интереса. Но если у некоторых экзистенциалистов
имеется элемент бунта против социальных условий в капиталистическом обществе,
то структуралисты определенно направляют острие всецело против всякой
постановки вопроса о социальном — как идеологии, как этики, как борьбы за
общественный идеал. Пусть литература будет объектом только
структурно-формальных исследований и количественного и текстового анализов —
все другое является тяготением к социальности, то есть, по их мнению, к
«ненаучности».
[…]
Принимая необходимость изучать глубже всесторонние структурные связи в
художественном произведении так как и они являются специфическим объектом
знания, наш долг разрабатывать полнее и научно убедительнее теоретические
вопросы, которыми пренебрегают на Западе, или выносят их за пределы
исследования. Большинство структуралистов обычно не говорят открыто о
дегуманизации искусства, они только отводят в сторону проблему гуманного
начала, человечески-значимого содержания — таковое, по их мнению, не является
объектом исследования, оно — нечто внелитературное. Их размышления о языке, тексте,
«закрытом прочтении» и пр. только ограничивают исследовательскую задачу —
сводят к формальной, доязыковой коммуникации, при которой теряются духовно
познавательные и гуманные ценности. Если они интересуются тем, как из чувства
возникает язык, то не касаются самого чувства в его эстетической и социальной
сущности. Если интересуются структурным художественным единством, то не
затрагивают область конкретных человеческих истин и откровений, которые не
нейтральны по отношению к этому единству. Они говорят о смене периодов в
литературе, но как о чисто языковых и формальных проявлениях. Так, литературное
творчество интерпретируется на первый взгляд с помощью богатого арсенала
средств, грамматических и стилистических, «широкой» системы, но по существу оно
обедняется, так как все иное кроме этой систематики остается за бортом.
И далее.
В структурализме, как совершенно самостоятельной теории и методологии, все
яснее подчеркивается тенденция отрицать искусство как объект
355
эстетического наслаждения, который через литературный анализ может быть восстановлен,
осмысленный и даже обогащенный. Оно, искусство, становится только материалом
для систематизации знаков, совокупностью математически выведенных величин,
которые приобретают ценность сами по себе. Приходят к анатомии мертвого, а не
живого. Эти величины, вопреки идее о структуре, то есть идее о целостности,
выходят за пределы целого, выдвигаются как самоизмеримые и независимые элементы
функции целого. Эстетическое наслаждение выводится только из нарушения ожидаемого
— неожиданным, из последовательности структуры и нарушения ее, а не из других
психологических компонентов. Эта тенденция существовала еще у русских
формалистов, о которых шла речь и к которым нужно вернуться. В. Жирмунский
пишет о тогдашнем В. Шкловском, что он пренебрегал «телеологическим
понятием стиля, как единства приемов»[213],
то есть стилем как способом достижения определенной цели. Время формального
метода создало эту тенденцию замкнутости, и она всецело унаследована
современными структуралистами, избегающими целостного познания за счет фабулы.
Нынешним
структуралистам свойственна и тенденция к атомизации, к погружению в микромир отдельных
атомов без идеи о непрерывном единстве живого бытия, каковым является
искусство. Поэтому и стало возможным исследование художественной литературы людьми,
у которых — в отличие от В. Шкловского — отсутствует вкус, отсутствуют идеи
художественности и богатый эстетический опыт. Ведь ищутся элементы, а не целое,
ведь всеобщность воспринимается не как единое звучание художественного произведения,
а как прерванный текст, как головным путем установленная структурная цепь или
серия приемов. Для такого «анализа» совершенно достаточно лишь статистических
формальных методов.
Этим
явно ограниченным, ошибочным или открыто реакционным позициям, шумно
пропагандируемым на Западе, кружащим головы и некоторым незрело мыслящим людям
и в нашем мире, противостоит марксистское литературоведение. Оно, преодолевая
ограниченность
356
социологизма или психологизма, взятых отдельно, используя
возможности, открытые и современной методикой конкретных анализов, ища
богатство фабульных приемов, подчиняет частное общему, то есть исследует формы
как объединение живого социально-эстетического явления. И стремится видеть его
с оригинальной стороны не только через язык, через приемы, через фабулу и
композицию, но и через целостную его духовную сущность. Поэтому оно,
воспринимая структурный метод в целостном единстве методов — и социологического,
и психологического, и эстетического, — воюет, а не сотрудничает с указанными
выше позициями. Восприятие и развитие новых методов, которые возникают с
развитием языкознания, теории информации, кибернетики и математической логики,
не находятся в согласии с теми, кто хочет вытеснить все гуманное богатство
литературы за сферу литературоведения, стремится замкнуть анализ в тексте, в
языковой форме и, ограничивая его таким образом, ограничить и толкование
общественно-моральной и гуманной функции искусства, затушевать роль того литературоведения,
которое исследует тематику, духовные и эстетические ценности и. переживания и
объясняет их. Да, здесь водораздел между двумя подходами в литературоведении.
Впрочем,
разница датируется не сегодняшним днем. Достаточно вспомнить, что в течение
всего XIX века велась борьба между «восточным» и «западным» литературоведением.
Это была борьба между социально-активной эстетикой русских революционных
демократов и социально-безразличной, пассивной «немецкой» эстетикой Канта и
неокантианства. Эта борьба имела свое отражение и у нас. Разумеется, сейчас
обстановка другая и проблемы иные. Эволюция знания, его общетеоретической и
практически-конкретной сторон, несомненна и значительна. Но именно о
неокантианстве напоминают нам в наши дни попытки феноменологизма и особенно
структурализма на Западе устраниться от анализа социального и психологического
содержания. Так делать структурные анализы, как делает их часто поминаемый Ален
Роб-Грийе с его мелочной, позитивистской манерой, который рисует все то, что
случайно встретится в действительности, чтобы избежать обобщения, — значит
вести к деградации искусства, я сказал бы даже,
357
ставить его на низшую ступень духовной и общественной жизни.
Итак,
обобщим: речь идет не только о том, чтобы воевать за гуманную литературу, но и
о другом — о гуманном литературоведении. И на Западе науку об искусстве,
включая и литературоведение, причисляют к «гуманитарным наукам». Однако
стремление к чисто филологической, текстуальной интерпретации весьма опасно
сужает круг гуманитарного — не говоря уже о сознательных стремлениях вообще
устранить его. Этой тенденции способствуют там и философские системы типа
упомянутых.
В
отличие от старых чародеев, таких, как Аристотель, который положил начало
ясному литературоведению, исследовавшему в свое время трагедию в зависимости от
того, как именно представлено человеческое — трагичное и катарсис; в отличие от
таких глубоких мыслителей, как Гегель, который исследовал вопрос о человеческих
стремлениях, о гуманности и идеале и об исторических ценностях, сегодня западное
литературоведение не обращает на социально-человеческое, на
«идеально-человеческое» никакого внимания. Оно избегает их. Или, точнее, оно
стремится представить их в определенном свете. Оно проявляет интерес только к
«поэтическо-языковому», взятому само по себе, как «самоудовлетворяющаяся
языковая структура» (В. Кайзер), к тому, что «поэт создает исключительно как
поэт» (Р. Крейн), или, как говорит Р. Якобсон, «предметом литературоведения
становится уже ”не литература“, а ”специфически свойственное литературе“».
Здесь литературоведение явно бежит не только от «исторического пространства»,
но и от гуманитарной своей сущности или сужает, а в иных случаях и прямо
проклинает ее, даже тогда, когда в некоторых талантливых анализах имеется доля
истины. И это происходит именно сегодня, в эпоху, когда современные научные
разработки, созданные методы анализа, включая и методы языкознания и
математики, позволяют глубоко через текст проникнуть в специфическую
человеческую сущность художественного творчества. Однако цель этих отступлений
от гуманитарного характера прозрачно ясна даже тогда, когда она прикрывается
многоцветными словесными занавесами структурного теоретизирования: это направ-
358
лено к тому, чтобы избежать в конечном счете вопросов о
воздействии литературы на общество, о ее огромной прогрессивной роли в духовном
и социальном человеческом бытии […]
Основная
разница между нами и представителями критикуемой тенденции заключается в том,
что для нас искусство и литература теряют свое значение, когда служат только
самим себе, когда перестают служить «специфически» человеческому — личному и
общественному. Для них же — наоборот. И вот литературоведение, которое они
создают, занимается изгнанием из сферы своих исследований связей «специфически»
человеческого со всей сущностью художественной литературы. Они ограничивают
самих себя, приходят к формализму и служат не только своим «научно-текущим», но
и другим, отдаленным целям.
Итак:
исследование языковых, текстовых явлений, жанровых и стилевых структур — не
беда, а необходимость. Оно нужно при изучении словесной инструментовки —
поэтической фонетики или эвфонии, словоизменений и грамматического строя речи
как воплощения поэтической темы в тексте (отдельной словесной темы и общей темы
произведения), приемов для группировки словесных тем, приемов композиции и т.д.
и т.п. Беда начинается тогда, когда гуманитарное по сути своей
литературоведение тенденциозно ограничивается только той или иной сферой, когда
искусство подменяется только формальной и статистической интерпретацией и сухой
цифрой, когда сознательно отторгается гуманное — идеологическое и человеческое
— содержание от объекта литературоведения и даже литературно-критического исследования
[…].
Итак, мы
не отрицаем структурализм как возможность познания и как метод в одной
целостной методологической систематике с социологическими и психологическими
аспектами, но не принимаем его западный вариант или формалистическую его
тенденцию.
В
последние годы классовые критерии порой изгонялись из литературоведческих
оценок из боязни, как бы они не замкнули нас в рамках и догмах социологизма. Но
эти критерии помогут нам многое понять в глубоком органическом кризисе
западного литературоведения. Отсутствие идеалов у буржуазных литературоведов
оставляет без идеалов и без гуманных ценностей и их
359
литературоведение, усиленно использующее методологию формального
количественного и качественного анализа, ищущее детальные сложности
литературного произведения, текстовое явление и забывающее о привилегированной
области литературы — «коммуникации» ее с человеком, а в более широком смысле —
с народом и обществом. Оно — как уже упоминалось — и при оригинальных отдельных
находках отступает от гуманитарных ценностей литературоведения как
«специфического» знания и об определенной стороне человеческого. А в этом — наша
сила и наше превосходство.
1969
СТРУКТУРАЛИЗМ И ИСТОРИЯ[214]
[…]
Структуралисты далеко не едины в своем отношении к истории. Так, Жан Пуйон,
справедливо считающийся видным теоретиком и популяризатором структурализма, решительно
выступает против упреков структурализму в том, что он, интересуясь лишь одним аспектом,
игнорирует историю, видя в ней только иллюзию1.
Однако его отповедь оппонентам принадлежит, скорее всего, к сфере абстрактных
рассуждений. Жан Пуйон определяет структуру как способ представления различных
комплексов в качестве вариантов единого целого; в тех же случаях, когда речь
идет о последовательных состояниях одного и того же комплекса, структура выступает
в роли нормы его исторически реальных трансформаций и в качестве объяснения его
функционирования и становления.
Гораздо
более решительно и вместе с тем конкретно выступает К. Леви-Стросс, который
утверждает, что структурная диалектика не только не противоречит историческому детерминизму, но,
напротив, обращаясь к
нему, дает новые возможности исследования2.
При случае
(например, когда он выступает против функционалистов школы Б. Малиновского) К.
Леви-Стросс даже становится
поборником истории в самых традиционных выражениях: «Тот, кто ограничивается лишь настоящим моментом жизни общества, сразу же
оказывается в плену у
иллюзий, поскольку все — история. То, что было
361
сказано вчера, — история, то, что было сказано минуту назад, —
уже история. Но прежде всего он осуждает себя на непонимание самого́ этого
настоящего, так как только учет исторического развития позволяет взвесить и
оценить в их взаимоотношениях элементы настоящего»3.
К чему
же привело столь многообещающее начало, каким образом реализовалась апология
истории? Возникает необходимость со всей тщательностью рассмотреть эти вопросы
на примере монументальной по своему размаху и воздействию концепции Клода
Леви-Стросса, концепции, значение которой определено также масштабной и одновременно
боевой и потаенной личностью ее автора.
* * *
[…] в
1955 году Мердок предложил отказаться от стерильного понятия структуры для
того, чтобы обратиться к изучению процесса (process), которое только и способно
определить место человека в органической и биологической эволюции, место
общества в культуре, культуры в истории и истории в индивиде. В 1960 году Ивон З.
Boгт подчеркивал, что американская антропология совершила ошибку, низведя
изменение к уровню гетерогенного принципа или внутреннего феномена неизменно патологического
свойства. Ему представлялось, что наступило время постулировать примат
изменения, поскольку сама природа дана нам только в изменениях, и,
соответственно, рассматривать структуру в качестве способа, используемого наблюдателем
для моментального и искусственного запечатления развивающейся действительности.
Реакция
К. Леви-Стросса на провозглашение примата изменения, очевидного для любого
марксиста, нелегко поддается описанию, настолько его неоднократные высказывания
по этому вопросу полны тончайших нюансов и едва уловимых переходов.
В 1956
году ему пришлось отвечать на критические замечания, изложенные А. Одрикуром и
М. Гране в 19-м номере журнала «Cahiers internationaux de Sociologie»4. Авторы статьи утверждали, что структурный
анализ приковывает
этнолога, как, впрочем, и лингвиста, к синхронии и неизбежно приводит к «построению
для каждого рассматриваемого состояния системы, несводимой
362
к иным», а следовательно, «к отрицанию истории и развития в
языке». В своих возражениях К. Леви-Стросс опирался на известную статью Р.
Якобсона, переведенную на французский язык в 1949 году, в которой этот лингвист
показывал неправомерность приравнивания статики к синхронии на том основании,
что статический срез представляет собой лишь фикцию, а элементы развития ощутимы
и в плане синхронии. Оппозиция синхронии и диахронии носит, таким образом,
иллюзорный характер и пригодна лишь для предварительных этапов исследования.
Все это
совершенно верно. Однако возникает вопрос: действительно ли и каким образом
структурный анализ может отразить восприятие динамических элементов?
В 1959
году, в связи с обсуждением теоретических позиций американских антропологов
Мердока и Вогта, К. Леви-Стросс обнаруживает уже некоторую нерешительность относительно
существования такой возможности: «Я не собираюсь оспаривать понятие процесса или
сомневаться в важности динамических интерпретаций. Однако мне представляется,
что стремление осуществлять нераздельное изучение процессов и структур свидетельствует,
по меньшей мере в антропологии, о наивной философии, не берущей в расчет особых
условий нашей науки». И далее Леви-Стросс особо подчеркивает, что, хотя для
обнаружения структурного характера социальных феноменов науке пришлось
дожидаться прихода антропологов, в конечном итоге осознавших, что структуры
доступны лишь наблюдению извне, последние все же не в состоянии содействовать
изучению процессов, представляющих собой «специфический способ проживания субъектом
определенного временного отрезка». Не существует иного процесса, кроме того,
что претерпевает субъект, включенный в историческое становление группы, членом
которой он является: в любой данной группе процессы столь многочисленны и
разнообразны, что их потребовалось бы рассматривать если не применительно к отдельному
индивиду, то по меньшей мере в зависимости от его социальной и политической
принадлежности. Одно лишь последующее историческое осмысление способно,
опираясь на составленные свидетелями документы, свести в единую сумму
несводимые личные опыты, составляющие содержание этих процессов. Впрочем, и
здесь не следует забывать, что сам историк также
363
принадлежит к определенной группе, обладающей ей лишь
свойственной перспективой […].
В
конечном итоге в книге Леви-Стросса «Природное мышление» (1962) внимание к
истории выглядит скорее как уступка, нежели свидетельствует о серьезности
авторских убеждений. Так, автор делает упрек Ж.-П. Сартру особо в том, что он в
ущерб другим гуманитарным наукам выделяет историю, «как будто бы диахрония была
способна обеспечить более высокий по своим специфически гуманным качествам
уровень понимания, нежели тот, что несет с собой синхрония». В этой связи и как
бы против своей воли Леви-Стросс выступает с развернутой критикой истории,
отказывая ей даже в возможности быть объективной.
Организация
и отбор исторических фактов, согласно Леви-Строссу, являются результатом
абстрагирования, совершаемого историком или непосредственно участником исторического
становления под угрозой запутаться в бесконечности событий: они вынуждены кроить
и перекраивать историю, способную в своей целостности привести их к полнейшему
хаосу. Вследствие этого история всегда с неизбежностью будет неполной и
фрагментарной, вся она заведомо предвзята. «История, следовательно, никогда не
бывает просто историей, но бывает историей-целью» (l'histoire-pour). В конечном итоге история принижается и низводится
Леви-Строссом до уровня
простого метода инвентаризации всей суммы элементов какой-либо (человеческой или
нечеловеческой) структуры:
«Отнюдь не поиски понимания приводят, как к конечной точке, к истории, а, напротив, история служит отправным пунктом для поисков
понимания». История — служанка структурного анализа: здесь мы
уже очень далеки от
примата изменения и от вопроса о восприятии динамических элементов в синхронном описании.
Это
весьма разрушительная позиция, способная ввести в соблазн лишь тех, кто согласился бы принять ее в целом вследствие некоторых
не лишенных основания оценок,
относящихся к известному числу историков. Однако во впечатляющем по своим масштабам концептуальном строении, созданном
Леви-Строссом, она отнюдь
не единичный парадокс, а следствие или оправдание ведущей мысли автора, всего лишь одна из многих
тщательно пригнанных друг к другу деталей.
364
Взгляды
Леви-Стросса на «природное мышление» известны достаточно хорошо. Для него
мышление так называемых примитивных народов — мифическое, магическое мышление,
именуемое природным мышлением, а также мышление, лежащее в основе
современной науки, называемое не без предубеждения прирученным мышлением,
никоим образом не представляют собой в чем-либо неравных стадий развития человеческого
разума. Он отказывается называть последнее рациональным: и первое, и второе
якобы являются различными, не совпадающими между собой типами научного
мышления, функциями «двух стратегических уровней», на которых возможно
вхождение природы в область научного познания. Мышление природного человека»
атакует физический мир со стороны его конкретности, прирученное мышление
подходит к нему со стороны его абстрактного начала. Преимуществом природного
мышления является его стремление к всеобщности. Оно стремится постичь мир разом
как синхронную и диахронную целостность: именно поэтому ему присущ вневременной
характер. Этим оно отличается от прирученного мышления, в виде одного из аспектов
которого выступает историческое познание.
Уже с
1952 года, возвращаясь в процессе дискуссии к проблеме взаимоотношений истории
и этнологии, Леви-Стросс в самой категорической манере противопоставил эти две
социальные дисциплины по их методам. Причем противопоставление это было
двояким. На исходном этапе история отправляется от эмпирического наблюдения, этнология
— от построения моделей. На завершающем этапе обе они приходят к построению
моделей, но моделями этнологии являются механические модели с составляющими
элементами феноменального уровня, а моделями истории — статистические модели,
включающие в себя элементы иного масштаба. Этнология обращается к использованию
«механического», то есть обратимого и некумулятивного времени, противостоящего
«статистическому» времени истории — необратимому и заключающему в себе
определенную ориентацию5.
Таким
образом, как этнолог Лени-Стросс полагает, что не имеет ничего общего с той
самой историей, которую он определяет в качестве социальной науки, признавая за
ней на этот раз более высокий статус, нежели положение простого метода,
необходимого для
365
инвентаризации всей совокупности элементов определенной системы.
Из простой служанки он превращает историю в автономную научную дисциплину, способную
возвыситься до построения собственных моделей.
Все наше
предшествующее рассуждение дает нам, пожалуй, возможность увидеть в этом
признании истории как науки с одновременным утверждением полнейшей независимости
от нее этнологии (специфическим методом которой должен якобы являться
структурный анализ) — ключевую позицию Клода Леви-Стросса.
Между
тем, обладая широчайшей общей эрудицией, Леви-Стросс практически не мог
оставаться в рамках этнологии, «раскрывая веер человеческих коллективов в
пространстве», — веер, в котором соседствуют общества с природным и прирученным
мышлением. В этих последних становление прирученного мышления хронологически следовало
за длительной стадией мышления природного. Разумеется, концепции Леви-Стросса
не могли опираться исключительно на наблюдение и изучение современных
«примитивных обществ»: он создал целую объяснительную философию западной
истории, анализ которой проливает свет на сущность его теории, позволяет
отчетливее осознать ее истоки, значение и ограниченность.
* * *
[…]
Следствием или причиной подобной концепции истории является то, что и все иные
важнейшие вехи развития человечества, выделяемые марксистами, сводятся К. Леви-Строссом
к уровню малозначащих эпизодов.
Решительный
переход от праистории к истории или, более конкретно, к «созданию городов и империй»,
к возникновению государства (в марксистском значении этого термина),
сопровождавшемуся резким обострением ранних форм классовой борьбы, связывается
большинством историков с появлением письменности: с этого момента история
приобретает кумулятивный характер, сам темп ее значительно ускоряется.
Оспаривая важность этого фактора, Леви-Стросс отмечает, что в неолите человечество
совершило гигантский рывок вперед без помощи письма, в то время как овладение
письменностью не спасло исторические цивилизации Запада от длительного застоя.
Он подкрепляет этот тезис односторонним, хотя, к его чести, достаточно хорошо
выявляю-
366
щим его личную гуманистическую позицию суждением о том, что
первичной функцией письменной коммуникации было содействие эксплуатации
человека, его порабощению. Долгий застой, последовавший за появлением письменности,
по мысли Леви-Стросса, показывает, что использование письма в незаинтересованных
— интеллектуальных или эстетических — целях вторично, причем даже и здесь роль
его чаще всего сводится к тому, чтобы усилить, оправдать или скрыть его
истинное предназначение. Подобным же образом в XIX веке борьба с неграмотностью
тесно переплеталась с усилением контроля власти над народом.
Любой
протест против социальной несправедливости заслуживает всяческого уважения и
нуждается в поддержке. Однако как здесь не подчеркнуть, что трудные пути
развития цивилизации неизбежно проходят через эксплуатацию одного класса
другим?
Еще одна
важная для нас веха: зарождение науки в Греции. Для Леви-Стросса ее появление
отнюдь не было продиктовано необходимостью, оно явилось следствием исторической
случайности, роль которой, без всякого сомнения, излишне преувеличивается в
западном обществе: «Цивилизации, которые принято называть примитивными, не отличаются
от всех прочих по своему умственному оснащению; суть состоит в том, что ни в
одном из типов умственного оснащения, каким бы он ни был, нет ничего, что
предписывало бы ему раскрыть все свои ресурсы в определенный момент и
использовать их в заданном направлении. То обстоятельство, что однажды и всего
лишь в одном месте возникла та схема развития, к которой мы с известной долей
произвола привязываем все последующие линии развития — делая это не всегда
уверенно, ибо нам недостает и всегда будет недоставать многих членов сравнения,
— не дает нам права превращать историческую случайность, не имеющую большего
значения, чем то, какое она имела в данной точке и в данный момент, в
незыблемое доказательство некой наблюдаемой всюду и во все времена эволюции».
Этот тезис излагается со всей строгостью научного доказательства, основанного
на определенных и как бы заранее установленных принципах. Однако автор
чувствует необходимость подкрепить его рассуждением морального свойства. При
этом возникает ощущение, что уже само это рассуждение, проникнутое духом
367
человеческого братства, нуждается в поддержке наукообразного доказательства:
«Так как в этом случае будет слишком легко делать умозаключения о
неполноценности или недостаточности обществ или индивидов, оказавшихся в
стороне от подобной эволюции».
Противоречия,
в которых можно было бы упрекнуть Леви-Стросса, имеют своим источником его известную
внутреннюю раздвоенность. Он глубоко убежден, что человечество во все времена
преследовало одну общую цель — стремилось построить пригодное для жизни общество.
В ходе исторического становления менялись лишь средства достижения этой цели.
Пригодное для жизни общество — это основанное на справедливости и братстве
истинно гуманное общество.
В этой
связи как не упрекнуть тех, кто не отрывает взора от «узкой борозды» западной
цивилизации, в пренебрежении неисчислимыми богатствами, накопленными человеком
по обе стороны этой борозды? Непрекращающиеся усилия, которые ему довелось
наблюдать у людей различных эпох и народов, вызывают у Леви-Стросса чувство,
что долг каждого — неустанное стремление к заветной цели: «Ничто не кончено, мы
можем все начать сначала. То, что было сделано неудачно, может быть исправлено
… Твердо зная, что на протяжении тысячелетий человеку приходилось без конца
повторяться, мы достигнем того благородства мысли, которое способно — без
боязни повториться — сделать отправной точкой наших размышлений невыразимое
величие начинаний».
Но это
еще не все: добрая воля оказывается слабее подтачивающего ее разочарования.
Если даже согласиться, что природное и прирученное мышление в равной степени
логичны и что оба они независимо друг от друга во времени и в пространстве
привели к возникновению двух равноценных, хотя и различных типов позитивного знания,
все же следует признать их качественное различие в плане морали: дикарское
общество обладает несравненно более высоким уровнем гуманности, нежели общества
с прирученным мышлением.
И
действительно, все современные общества признаются Клодом Леви-Строссом
фальшивыми, неизлечимо фальшивыми: в то время как примитивные коллективы строятся
на основе личностных отношений, на конкретных связях между индивидами, наши общества
368
в значительной мере являются результатом косвенных с оглядкой на
письменные документы, реконструкций: в которых наши отношения с ближним лишь
случайно и крайне нерегулярно основываются на глобальном опыте, на конкретном
восприятии одного субъекта другим. Известные уровни неподдельности, где
этнолог еще чувствует себя в родной стихии, можно обнаружить лишь в сельской
местности, на предприятиях или в зонах, «соседствующих» с большими городами.
Кто же
станет выступать против такого анализа, предъявляющего обвинение западному
обществу? Гораздо естественнее будет желание углубить эту критику, добавив, что
и сама деревня утрачивает часть своей неподдельности, попадая в орбиту большого
города со сложившимися в ней и неотъемлемо присущими капиталистическому обществу
отношениями. Именно капиталистическому, а не, как его сдержанно именует Леви-Стросс,
«обществу современного человека». Только в капиталистическом обществе фальшь
становится специфической характеристикой его как переходной формы общества,
исторически находящейся на отправной, но не на завершающей точке так называемого
индустриального общества. Будучи общественной формой, склонной к
преобразованиям, капиталистическое общество приводит каждого человека, искренне
следующего идеалам гуманизма, к необходимости бороться за его преобразование.
Но Леви-Стросс отгорожен от всего этого теоретической конструкцией некоего
современного общества с «прирученным мышлением». Он обрек себя на пожизненное заключение
в стенах этой схемы: этим объясняются нотки его откровенного пессимизма.
Критика
современного общества, которое К. Леви-Стросс называет также механическим,
нередко приводит его к возмущению, которое даже вызывает симпатию. Он начинает
с того, что ни одно из обществ не может быть абсолютно совершенным или абсолютно
плохим, и замечает, что все они дают определенные преимущества своим членам,
исходя из того относительно постоянного процента несправедливости, который
соответствует, очевидно, в плане социальной жизни специфической инерции,
противодействующей реализации организационных усилий коллектива, — вот вам еще
один намек, если не утверждение того, что зло внутренне присуще социальной
жизни. Но здесь же он обвиняет нашу
369
цивилизацию не только в том, что она несет с собой
несправедливость, но и в том, что несправедливость в ней переходит всякие
границы, — тяжкая расплата за первородный грех без надежды на иное
искупление кроме того иллюзорного выкупа, который вносится за нее этнологией. Западное
общество и вправду является единственным, породившим этнографов, существование
которых имеет всего лишь одно оправдание и лишь один символический смысл:
получение искупления. Подобно своему учителю, брату и в наибольшей степени
этнологу из всех философов Ж.-Ж. Руссо, Клод Леви-Стросс склонен думать, что
для нашего же собственного блага было бы лучше, если бы человечество заняло
«золотую середину между безразличием примитивного состояния и кипучей
деятельностью нашего честолюбия», то есть некое промежуточное состояние,
предполагающее и допускающее определенную толику прогресса.
Ускользающий
образ этого потерянного рая, обреченного на полнейшее исчезновение под
давлением цивилизации, предстал перед Леви-Строссом в наиболее обездоленных
кочевых индейских племенах Южной Америки. Рай уже почти окончательно и
бесповоротно потерян ими, и ничего не предвещает его возможности в будущем […].
* * *
В леви-строссовских
анализах идеи прогресса более абстрактно по форме, но вместе с тем и более
тщательно, с большей проработкой деталей прорисовывается (или конденсируется)
скорее идеологическая, нежели собственно научная позиция по отношению к
истории. Леви-Стросс, бесспорно, не стремится разрушить саму идею прогресса и
хочет лишь перевести ее из ранга универсальной категории человеческого развития
в ранг особого способа существования, свойственного нашему обществу (а может
быть, еще и некоторым другим, предусмотрительно добавляет ученый)6. Иными словами, вслед за американским антропологом
Ф. Боасом он решительно отметает то, что называется им эволюционистской (но, по
сути, механистической) интерпретацией истории, согласно которой западная цивилизация
предстает как наиболее развитая форма эволюции человеческих обществ, а
примитивные коллективы выступают в качестве «пережитков» предшествующих стадий,
логи-
370
ческая классификация которых дала бы сразу возможность восстановить
порядок их возникновения во времени7. По этому
поводу можно было бы возразить, что нельзя произвольно объединять под вывеской
эволюционизма гипотезу о том, что ход исторических изменений в культурной жизни
человечества подчиняется четко определенным законам универсального порядка, с
гипотезой, согласно которой конкретное развитие приобретает в целом идентичные
формы у всех народов8. Но одного этого
возражения будет недостаточно для того, чтобы поколебать позиции Леви-Стросса.
Он же
тем временем приходит к полному отрицанию существования каких-либо законов,
определяющих универсальный ход истории. Основной аргумент Леви-Стросса сводится
к тому, что эволюционная гипотеза не дает какого-нибудь точного критерия: так,
например, эскимосы, весьма изобретательные в технической сфере, чрезвычайно
беспомощны в области социальных институтов; в Австралии все обстоит наоборот.
«Неограниченный выбор критериев позволил бы построить неограниченное количество
самых различных типологий». Таким образом, все народы, в том числе и
примитивные, должны обладать равными способностями, которые развиваются аналогично
тому, как это происходит с индивидами в пределах каждого общества. Но в то
время как способности индивидов, кстати далеко не равные по уровню, заложены в
них природой, у народов избранное направление приложения способностей целиком
зависит от осуществленного выбора: «Следует допустить, что в диапазоне
возможностей, открытых перед человеческими обществами, каждое общество делает
определенный выбор и что эти выборы несопоставимы между собой, но равноценны
друг другу»9.
Безусловно,
среди возможных для общества ориентаций мы обнаружим и особую склонность к заимствованиям,
усовершенствованию уже существующих технических изобретений, равно как и к
открытию новых средств, и Леви-Стросс не упускает возможности провозгласить, что
социальная антропология не обретается на задворках этнологии и не раздваивается
между материальной и духовной культурой. и вновь на первое место выступает
проблема выбора между различными возможностями: «Те или иные способы производства,
взятые в отдельности, могут показаться сырым материалом,
371
историческим наследием или результатом компромисса между
потребностями человека и требованиями среды. Но при перенесении их в тот
каталог обществ, над составлением которого бьется антропология, они предстают в
новом свете, поскольку превращаются для нас в эквивалент того или иного выбора,
совершаемого каждым обществом (удобное выражение, если лишить его определенного
антропоморфизма), среди тех возможных путей, которые еще предстоит
классифицировать».
Таким
образом, не остается сомнений, что мы совершенно не можем оценить в абсолютных
величинах статический или динамический характер общества, существенно отличного
от нашего собственного, поскольку сами структуры, определяющие различные типы
цивилизации в зависимости от их качественной природы, несоизмеримы между собой10.
[…]
Однако для того, чтобы действительно разделаться с эволюционизмом в концепции
всеобщей истории человечества, Леви-Строссу понадобилось бы выступить с
критикой того, что представляет собой наиболее высокую и наиболее
последовательно разработанную форму научной мысли — марксистского тезиса о том,
что структура идеологической надстройки определяется в конечном счете структурой
базиса, в котором важнейшую роль играет развитие производительных сил, а еще более
точно, уровень производительности труда. Как известно, уровень развития
производительных сил и производительность труда относятся к числу реальных и легко
измеримых показателей, способных характеризовать любое общество, не делая
исключения и для примитивных. Помимо этого, учитывая роль войн в развитии истории,
следовало бы внести в число основных характеристик уровня общественного
развития и показатель эффективности вооружения.
Неужели
же признание того, что на всем протяжении истории (одним из этапов которой
является праистория) прослеживается основная линия развития человечества, проходящая
через тщательно готовившиеся революции, непредвиденные скачки и невиданные
человеческие трагедии, заставляет нас пренебречь почти безграничным разнообразием
конкретных форм, в которых проходило это развитие, вынуждает недооценивать возможности
и свершения многочисленных человеческих коллективов, которые на какой-то период
оказались или находятся
372
ныне вне этой основной линии, отказать им в равном достоинстве, в
равных правах, в равных задатках? Число народов, избранных вечностью для
осуществления основной линии развития, так ничтожно, что, пользуясь банальной метафорой,
можно сказать, что факел прогресса, факел цивилизации на протяжении долгих
веков не переставал переходить из рук в руки: крайне схематично — от Египта к
Греции, от Греции к Риму, от Рима к варварским племенам, ранее находившимся под
его господством или сумевшим избежать этой участи, и т.д.
«Нужно
обладать большим эгоцентризмом и наивностью, — с глубокой убежденностью писал
К. Леви-Стросс, — чтобы поверить, что человек целиком умещается в одном из
исторических или географических типов бытия, в то время как правда о человеке
заключена во всей системе их различий и их совпадений»11.
Трудно не поверить в справедливость этих слов, предварительно подвергнув
очищению выступающее здесь понимание структуры от всего излишне систематизирующего
догматичного и непригодного к пониманию идеи развития.
Не
только народы, стоящие на низких стадиях развития, но также и развитые, хотя и
несколько сбавившие темп прогресса, нации способны сохранить самобытность своей
культуры, обусловленную географическими и историческими условиями, лишь в той
степени, в какой они располагают возможностью, способностью и желанием ценой
необходимых социальных преобразований создать наиболее развитые производительные
силы, усвоить и применить на практике новейшие достижения науки. Многие из
наиболее примитивных и чрезвычайно ограниченных по своей численности
человеческих коллективов, оказавшись полностью отрезанными от материального
прогресса и общей линии развития, либо оказались не в состоянии противостоять
различным формам истребления, либо при более благоприятном исходе были обречены
на ассимилирование с более развитыми народами, несмотря на то, что они обладали
собственными возможностями самобытного развития. Это могло произойти лишь
потому, что идея прогресса принадлежит к рангу универсальных категорий
человеческой истории.
Доведенные
до уровня крайней абстракции, систематизации, предлагаемые Леви-Строссом,
несмотря на оби-
373
лие весьма глубоких и весьма оригинальных наблюдений над
важнейшими аспектами социальной действительности, оказываются в конечном итоге
пригодными лишь к тому, чтобы привести к построению блестящих, но нереальных по
отношению как к прошлому, так и к настоящему теоретических моделей. Не менее
серьезные опасения вызывают и его прогнозы на будущее.
Конечно,
К. Леви-Стросс вправе привести в свою защиту следующее: «Утверждение, что
концепция прогресса как внутреннего и лишенного трансцендентности достояния
каждого общества грозит внушить человечеству отчаяние, представляется мне
эквивалентом — на языке истории и в плане социальной жизни — метафизического убеждения
в том, что основы человеческой морали были бы окончательно подорваны, как
только индивид перестал бы верить в „бессмертие души“»12. Однако он
вправе сделать это только в том случае, если индивиды или народы,
преисполненные жизненной энергии, столь свойственной человеческому роду, будут
убеждены (хотя им достаточно и надежды), что впереди их ожидают определенные
материальные и духовные свершения, какими бы незначительными они ни казались.
Что же касается прогресса, ограниченного рамками одного единственного общества,
то не ведет ли он неизбежно к стене, замыкающей тупик?
Впрочем,
как знать, не могло ли получиться еще хуже, если бы в игру вступило то, что К.
Леви-Стросс называет антиномией прогресса?13
Он мыслит себе культурный прогресс как функцию некоей «коалиции» культур, —
коалиции, позволяющей объединение возможностей, реализованных каждой культурой
в ходе ее исторического развития. Действенность такой коалиции будет тем более
высокой, чем более разнообразные культуры ей удастся объединить. Однако
подобная совместная игра» приводит к уравниванию возможностей и ресурсов каждого
из «игроков». Истории известны только два способа противостоять такого рода нивелированию:
с одной стороны, это возникновение социальных классов, сопровождавшее уже
неолитическую революцию а позднее — формирование пролетариата, явившееся условием
и следствием промышленной революции; с другой стороны, это колониализм и
империализм, позволившие увеличить число «игроков» насильным введением новых
партнеров.
374
Однако
такова, согласно Леви-Строссу, неизбежная участь человечества; в обоих случаях
средства оказываются недостаточно эффективными: партнеры, даже будучи
принуждаемы и эксплуатируемы, становятся со всей неизбежностью пайщиками общего
дела, и «истинная социологическая энтропия постоянно подталкивает систему к
приобретению ею инерции». И вновь перед нами откровенный пессимизм, уже звучавший
в размышлениях о фальши современных буржуазных обществ и о прирученном
мышлении.
* * *
[…]К.
Леви-Стросс справедливо замечает, что историк: должен вооружиться методологией
исследования бессознательного, проникнуться духом этнологии. Но соответственно
и этнолог должен впитать в себя дух историзма"не ища более разобщения
структуры и процесса, синхронный анализ может быть отделен от диахронии (или наоборот)
лишь на очень непродолжительное время, предваряющее истинно научный анализ; в
противном случае исследователю синхронного среза придется заниматься препарированием
трупа. Сказать, что структура не принадлежит диахронии или что она не
принадлежит синхронии, будучи в известном смысле ахронной14,
еще не значит найти решение вопроса или — разве что на словах.
Ключ к
пониманию всех этих довольно рискованных разграничений, проводимых
Леви-Строссом со свойственным ему блеском, следует в конечном счете искать в
возводимом им в незыблемый принцип противопоставлении базисных и надстроечных
структур: «Мы стремимся содействовать разработке теории надстроечных структур,
в нескольких штрихах намеченной Марксом, предоставляя истории, действующей совокупно
с демографией, технологией, исторической географией и этнографией, заботу о
расширении изучения собственно инфраструктур, которое не может стать нашей
основной задачей потому, что этнология — прежде всего особого рода психология»15.
И вновь
цели и методы истории расходятся с целями и методами структурной этнологии.
1967
375
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА
1 «Temps
Modernes», nov. 1966, «Problèmes du structuralisme».
2 «Anthropologie
structurale», р.
266.
4 «Anthropologie
structurale», р.
101, s. q.
8 Именно так
поступает Франц Боас (The Methods of Ethnology», 1920). Однако дискуссия об
азиатском способе производства показывает,
что открытый эволюционизм до сих пор сохраняет свои позиции. Не следует поэтому
слишком удивляться, что Леви-Стросс часто ссылается на тексты Маркса,
относящиеся к этой проблеме, но делает при этом весьма спорные выводы («Anthropologie
structurale», р.
369).
9 «Tristes
Tropiques», стр.
416. Ср. также «Anthropologie structurale», стр. 147—148: «Структурное подобие обществ, осуществивших
близкие выборы в ряду институционных возможностей, диапазон которых, бесспорно,
не является беспредельным». Объяснение социального многообразия, отмечаемого
при переходе от народа к народу, при помощи ссылок на более или менее произвольный
(и бессознательный) выбор повторяет в более модернизированном, благодаря
обращению к понятию структуры, виде тезис об «укладе жизни», на котором в течение
многих десятилетии французская географическая школа строила изучение географии.
10 «Race
et Histoire», по
аннотации, сделанной самим К. Леви-Строссом (журнал «Temps
Modernes», март
1955, стр. 1190—1201) и озаглавленной «Diogene couché, en réponse à
des attaques de R. Caillois».
12 «Anthropologie
structurale», р.
368.
14 J. Роuillon, «Temps
Modernes», nov. 1966, р. 784, d’après J.-A. Greimas.
КРИТИКА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ
РОЛАНА БАРТА[215]
Ролан
Барт является самым известным представителем структурализма в литературоведении
во Франции. Можно сказать, что это направление оформилось в значительной мере
именно под влиянием его книг. Структурализм Барта представляет собой один из
самых последовательных вариантов структурализма в литературоведении. Вот почему
у Барта ясно видны основные методологические слабости этого направления.
Во
взглядах Барта кроется кричащее противоречие: он пытается создать
надыдеологическую литературную науку, покоящуюся на строго научных принципах и
не зависящую от личных вкусов и мировоззрения ученого. На самом деле, однако,
толкование литературы у Барта подчинено определенной, хотя и не названной
идеологической программе: надыдеологическое литературоведение Барта оказывается
идеологически детерминированным […].
1. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СЕМИОЛОГИИ (СЕМИОТИКИ)
1. Что
такое семиология (по Барту). Швейцарский языковед Ф. де Соссюр
разграничивает две стороны в языковом знаке: одна материальная (означающее, signifiant), а другая идеальная
(означаемое, signifie).
377
Например,
в слове «конь» означающим является его фонетический образ (то есть имеются
звуки к-о-нь), а означаемым — понятие о коне. Процесс, при котором данному
означаемому приписывается соответствующее означаемое, называется
«сигнификацией» (signification). Связь
между данным означающим и соответствующим означаемым является, по существу,
конвенциональной, немотивированной (так как нельзя утверждать, например, что
звуковой образ слова «конь» определяется сущностью понятия «конь»). Но все же
конвенция, лежащая в основе сигнификации, прочна (ни один член общества не
может по своей воле ее изменить): эта конвенция «натурализовалась».
Рассматривая
язык как совершенную знаковую систему, Соссюр допускает, что язык не
единственная знаковая система, что существуют и другие более элементарные системы
такого рода (или «языки»). Например, дорожные указатели и сигналы также являются
знаковой системой: они представляют собой вид «языка». Означающему «зеленый
свет» соответствует означаемое «путь свободен»; связь между ними конвенциональная,
немотивированная, так же как в языковом знаке. Отсюда Соссюр заключает, что
существует необходимость в общетеоретической дисциплине, которая изучала бы
знаковые системы вообще: эту науку он называет семиологией (семиотикой). По его
мнению, языкознание является только частью этой гипотетической науки.
Барт
исходит из этой идеи Соссюра и хочет описать другие знаковые системы. Например,
в одежде Барт видит кроме утилитарной стороны еще и знаковую систему, «язык»
(одежда означает что-то, например темный цвет и соответствующий покрой
представляют означающее, которому принято приписывать означаемое «серьезность»,
«официальность»). […] Барт причисляет пищу и легковую машину к знаковым системам
(«Основы семиологии»). Впрочем, Барт рассматривает и многие
другие житейские факты, которые приобретают какое-либо человеческое значение,
например «велосипедную поездку по Франции», «хорошее вино» и др. («Мифологичные»). Во всех этих фактах
Барт открывает означающее и означаемое, связанные конвенциональной, немотивированной
связью.
Эти
вторичные «вещественные» знаковые системы могут быть переведены на естественный
язык: например,
378
моду можно описать словами. Все они (одежда, пища и т.п.) существуют
реально и являются частью повседневного быта человека. Ну, а разве поведение
героев в данном романе не образует также фиктивную вещественную знаковую
систему, описанную словами и имеющую свои специфические закономерности? Барт
считает, что дело обстоит именно так, то есть что фиктивный мир в произведениях
данного писателя мифологизирован (мир, по мнению Барта, есть «язык», то есть
вторичная знаковая система). Таким образом, поведение, описываемое в произведении,
если бы оно было действительным, а не фиктивным, образовало бы нечто вроде
вещественного языка, каким является, например, язык моды. Рассматривая творчество
Сада, Барт приходит к выводу, что этот писатель создал типичный «язык»
эротического удовольствия. Этот язык состоит из экстравагантных эротических
ритуалов, которые герои Сада соблюдают в своем поведении. В вышеупомянутых ритуалах
Барт открывает некую системность, то есть «семантику» (набор значащих жестов,
положений, поз) и «грамматику» (набор правил для комбинирования элементов
«семантики»). Таким же способом Фурье создает «язык» общественного счастья: у
фалангистов все подчинено определенному внутреннему порядку и системности.
Лойола же создает «язык» веры: у него общение с божеством осуществляется не непосредственно,
а только благодаря соблюдению определенного церемониала. Именно внутренняя системность
(наличие функциональных связей между элементами) описываемого воображаемого
мира (эротические оргии, социальная утопия, мистический экстаз) образует его
«язык».
А не
могут ли существовать вторичные знаковые системы (производные «языки») на базе
самого естественного языка? Следуя за датским языковедом Л. Ельмслевом, Барт
дает положительный ответ на этот вопрос («Мифологичные», «Основы
семиологии»). Возможны два случая: а) знаки естественного языка образуют означаемое
производного «языка»; б) знаки естественного языка образуют означающее производного
«языка» […].
Явление,
соответствующее первому случаю, Ельмслев называет «денотацией»: вторичный язык,
который возникает в результате денотации, представляет собой некий
искусственный метаязык. У литературоведа, однако, больший интерес должен
вызвать второй случай,
379
который Ельмслев называет «коннотацией». В этом случае весь
текст, состоящий из множества знаков естественного языка, приобретает новое,
вторичное значение, которое «диффузно» и не совпадает с каким-либо из значений
отдельных слов в тексте. Иначе говоря, текст как целое становится новым знаком,
в котором означающим являются знаки естественного языка (то есть слова), а
означаемое — это нечто новое (то есть его нельзя представить как сумму значений
отдельных слов в тексте). Возьмем для иллюстрации следующий пример, который
Барт приводит в предисловии к «Критическим очеркам». Выражение «искренние
соболезнования» по отношению к близким умершего коннотирует вторичный смысл («протокольную
учтивость»), которого нет ни в одном из двух слов, но которое есть в выражении как
целом:
искренние
соболезнования = коннотированное означающее
протокольная
учтивость = коннотированное означаемое
Но если
такое обыкновенное выражение из двух слов может приобрести вторичный смысл, то
почему же тогда весь текст не может рассматриваться как целостное означающее,
которому будет соответствовать какое-нибудь коннотированное означаемое?
Например, данный текст мог бы коннотировать какую-нибудь эмоциональную «атмосферу».
Скажем, если я хочу засвидетельствовать близким умершего настоящее искреннее
соболезнование, необходимо сочинить текст, который как целое должен быть
пропитан грустью, непосредственностью, сочувствием (но эти слова могут и не
фигурировать в нем). Однако такой текст был бы не чем иным как литературным
текстом. По мнению Барта, сущность литературы состоит именно в коннотации:
«литературностью» в литературе является именно вторичная знаковая система,
развивающаяся на базе естественного языка и стоящая «под ним». И, проводя
аналогию с модой, дорожными указателями и естественным языком, Барт приходит к
утверждению, что и коннотированный смысл в литературе не мотивирован, то есть
он является результатом «натурализованной» конвенции. Литературная наука, по
мнению Барта, должна быть в таком случае частью общей науки о вторичных
знаковых системах — семиологии (семиотики).
380
2. Критика
семиологической гипотезы. Утверждение Барта глубоко ошибочно. В сущности,
ошибка в данном случае идет не от Барта, а от структурного языкознания, которое
в лице наиболее видных своих представителей (Соссюра и Ельмслева) аккредитовало
ошибочное позитивистское представление о языке. Структурализм в языкознании
придает исключительную важность тому, что можно непосредственно наблюдать, то
есть означающему. Не случайно структурализм завоевал свой единственный бесспорный
успех в области фонологии; что же касается смысла, то последовательные
структуралисты вообще не считают, что он может являться объектом языковедческого
исследования. Те же, кто полагает, что языкознание должно заниматься и
означаемым, наивно считают, что «структурная» семантика должна быть калькой фонологии,
то есть что структура означаемого будет той же, что и структура означающего
(дискретные оппозиции, прерывность).
Одним
словом, структурное языкознание находится в плену позитивизма: для него самой
существенной характеристикой языка является его знаковость, которая в конечном
счете сводится только к внешнему в знаке, то есть к означающему. Поэтому
представление структуралистов о языке не может быть правильным. Настоящая, существенная
языковая проблематика не в означающем, а в означаемом, в смысле. Означающее (материальный
медиатор) является второстепенным, внешним, несущественным фактом, а настоящий
языковой факт заключен в означаемом (в «ментальности» языка). Такое определение
языка заставляет видеть в нем прежде всего способ «восприятия мыслимого».
С
отказом от позитивистского представления о языке как знаковой системе отпадает
и посылка, что существуют «вторичные языки», отличные от естественного языка.
«Коннотированный» (или, точнее, глобальный) смысл текста является результатом
только отношения между означаемыми (то есть между значением отдельных слов в
тексте).
Отдельные
означающие в тексте не образуют глобального означающего: текст является
целостным на уровне означаемых, но не на уровне означающих (например, «он
играет во дворе» есть смысловая единица, но «ониграетводворе» есть
бессмыслица). Иначе говоря, в целостности текста действительно получается
381
новый (глобальный) смысл, но отсутствует новый глобальный знак[216].
А это говорит о том, что с возникновением глобального значения текста мы не
выходим за рамки естественного языка. Но если существование связного текста не
предполагает выхода за рамки естественного языка, то и предположение, что
имеются «вторичные языки», отпадает, а с этим и вся семиологическая гипотеза.
Глобальный смысл текста возникает в силу языковой механики,
в силу известных внутриязыковых закономерностей, которые все еще не изучены, но все же существуют. Но коль это так, глобальный смысл
речевой целостности никогда не бывает случайным, то есть определенной, чисто
внешней социальной конвенцией, а всегда мотивирован языковыми отношениями. Это
утверждение может быть проиллюстрировано, если рассматривать несколько иначе
приведенный пример («искренние соболезнования»). Вторичный смысл в этом выражении
является результатом имплицитной модальности, которая выражает отношение
говорящего (субъекта выражения) к тому, что говорит объект выражения. При
высокой экспрессивности упомянутой формы такая модальность всегда возможна,
хотя и необязательна. Иными словами, формула «искренние соболезнования» может в
известных случаях прозвучать как «я должен высказать вам свои искренние
соболезнования», откуда и коннотированный смысл, «протокольная учтивость». Но
отношение субъект — объект, на котором строится мотивация глобального смысла
выражения, является основным и универсальным языковым отношением, в нем нет
никакой конвенции.
Естественно,
что способ получения сверхфразового значения неодинаков в различных случаях.
Ясно, однако, что во всех случаях этот смысл обусловлен подфразовыми значениями;
следовательно, сверхфразовый смысл не является ни случайным, ни произвольным: в
его получении нет никакой специальной договоренности между людьми, он
обязателен и не может быть ничем иным, кроме того, чем он является. Аналогия между
светофорами, языком и литературным текстом неуместна. В заключение можно
сказать, что разграничение между означаемым и означающим (то есть между смыслом
и фактическим образом) уместно только в рамках
382
слова, но его обобщение и перенесение на текст совершенно неправильно.
Такое обобщение недопустимо прежде всего потому, что упомянутое разграничение
вносит не ясность, а путаницу. Так как язык является чем-то, что составлено из
означающего и означаемого, то совершенно нелепо утверждение, что на уровне
текста он будет «вторичным» означающим: грубо говоря, это так же абсурдно, как
и полагать, что целое может быть одновременно равно только части самого себя.
Из этой двойственности «вторичного» означающего вытекают странные недоразумения,
которые встречаются у Барта на каждом шагу. Таким образом, аналитическая
ценность оппозиции означающее — означаемое теряется, если будет распространена
там, где она уже не компетентна то есть по ту сторону слова, на текст.
Второй
недостаток аналогии между словом и текстом состоит в том, что через нее
протаскивается необоснованное утверждение, что смысл текста конвенционален, немотивирован,
произволен (так же как в слове значение немотивировано по отношению к фонетическому
образу). В сущности, при этой аналогии забывается весьма существенное различие
между словом и текстом. В слове означающее и означаемое неоднородны по природе:
первое материально, а второе идеально. Между тем и другим не может существовать
причинной связи, вот почему в рамках слова связь между означающим и означаемым
не может быть иной, кроме как произвольной. В тексте, однако, совсем не то же
самое: здесь сверхфразовый смысл (то есть смысл текста) мотивирован подфразовым
смыслом (смыслом отдельных слов) смысл слов порождает смысл текста, не вызывая
потребности в новой, дополнительной конвенции между людьми. Вот почему можно
утверждать, что смысл' текста мотивирован языком: между подфразовым и сверхфразовым
смыслом может существовать причинно-следственная связь, тогда как между
означающим означаемым такой связи нет. По каким точно закономерностям осуществляется
языковая мотивированность смысла в тексте, это вопрос языкознания, который,
бесспорно, интересует и литературоведов, но для правильной его постановки и
разрешения структурная лингвистика средств не имеет. Не улавливая этой разницы
между текстом и словом, семиологическая гипотеза Барта неминуемо ведет к идее о
конвенциональности
383
литературного текста, а тем самым и к субъективистскому произволу
в толковании литературных произведений[217].
Обратное утверждение о языковой мотивированности контекста учитывает
общеобязательность содержательности литературы, то есть ее объективности.
Итак,
сверхфразовый смысл не произволен, он является производным подфразовых
значений, из которых он возникает по какой-то внутриязыковой логике. А раз это так,
то гипотеза о «вторичных» знаковых системах отпадает, она не выдержана именно с
языковедческой точки зрения.
Попытаемся
забыть на миг, что Барт строит свои взгляды на этом в значительной степени
неверном допущении; предположим, что семиологическая гипотеза верна, и забудем
то, что только что было сказано. Каковы литературоведческие утверждения,
которые Барт строит на принципах структурной лингвистики?
II. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ
ГИПОТЕЗЫ О «ВТОРИЧНЫХ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМАХ»
1. Сигнификация,
исключая проблему литературной науки (по Барту). Итак, Барт
разграничивает два вида значения в литературном тексте: денотированное и
коннотированное. Первое значение — это непосредственный смысл, идущий от
естественного языка: фабула, социально-познавательное значение. Денотированный
смысл, по Барту, — это элементарный, неспецифический для литературного произведения
смысл, и, следовательно, он не представляет интереса для литературоведа.
Наоборот, коннотированный смысл присущ произведению, рассматриваемому как целостное
означающее: именно он является специфически литературным смыслом.
Но он
как коннотированный смысл произволен (не вытекает из природы текста) и,
следовательно, приписывается тексту читателем.
Вопрос о
привнесении смысла в текст, то есть вопрос о сигнификации (о связи между
означающим и означаемым), представляет собой, по мнению Барта, основной вопрос
литературной науки. Как осуществляется сигнификация?
384
а)
Одна из основных идей Барта — его утверждение, что литературный текст по
существу многозначен, то есть что он может иметь самые различные интерпретации.
Это Барт объясняет тем, что собственный смысл текста «пуст»: «Я бы сказал, мода
и литература являются гомеостатичными системами, то есть такими системами, функции
которых существуют не для сообщения какого-нибудь объективного смысла, имеющегося
вне и· перед самой системой, а только для создания функционального равновесия,
подвижного значения. Вследствие того что мода является не чем иным, как тем,
что говорится о ней, вторичный смысл литературы также не устойчив, «пуст»
независимо от того, что текст функционирует как означающее этого «пустого» смысла.
Сущность моды и литературы… в сигнификации, а не в их значении». Эта идея о
многозначности наиболее четко сформулирована в определении Бартом литературы
как знаковой системы, которая обладает «одновременно и положительным и
отрицательным» смыслом.
Барт
считает, что эта характеристика применима для каждого литературного
произведения, но что она особенно ясно подчеркнута в современном романе.
Рассматривая романы Роб-Грийе, Барт с восхищением отмечает, что эти
произведения лучше всего раскрывают сущность литературы вообще, так как смысл в
них чисто формальный.
Многозначность
литературы требует разграничения литературной науки от литературной критики и
последней от чтения. По мнению Барта, литературоведение не имеет целью…
«поучать нас, какой смысл нам надо приписывать произведению; литературная наука
не будет ни приписывать, ни открывать какой бы то ни было смысл, а будет
описывать, по какой логике порождаются значения». Иначе говоря, литературоведение
исследует условия, в которых порождается смысл вообще, а не конкретную
интерпретацию данного произведения. Последним занимается литературная критика, которая
является не наукой, а практикой: Но литературная критика всегда одностороння,
так как из множества возможных значений произведения она выбирает только одно.
Восприятие многозначности конкретного произведения отводится не критике, а читателю,
оно реализуется в чтении.
385
Если
смысл каждого произведения всегда «пуст», то ясно, что читатель дает
произведению свое толкование, применяя к нему определенную систему понятий,
которые в их целостности образуют какой-то код. Например, данный текст можно
истолковать в культурно-историческом плане, то есть отнеся его к произведению
предшествующих эпох: в этом случае применяется один из возможных «культурных»
кодов. Но к этому же тексту можно подойти и иначе, например применив к нему психоаналитический
код. А можно применить и многие другие коды, и получатся самые различные
толкования.
Но какое
из них самое правильное? По мнению Барта, этот вопрос бессмыслен, так как
текст, который является многозначным, по дефиниции может одинаково хорошо
принять их все. «Итак, во всех отношениях объективные намерения критики, ищущей
отдельное значение, отметены эссенциально-произвольным статутом каждой языковой
системы». Интерпретации не имеют ни объективности, ни универсальности: они
целиком являются продуктом интерпретирующего субъекта[218],
чье сознание в свою очередь оформлено и подчеркнуто бесчисленными предшествующими
ему социальными конвенциями. «Я не есть невинный субъект, который
существует до текста и относится к нему как к предмету, который надо разобрать,
или как к пустому месту, которое надо заполнить. Это я, которое
приступает к тексту, само представляет собой множество других текстов из
бесконечных кодов… чье начало теряется».
б)
Вопреки тому, что, по мнению Барта, все интерпретации произведения правильны,
он все же отдает явное предпочтение психоаналитическому толкованию литературы:
именно такова его трактовка Мишле и Расина. Такое предпочтение он объясняет
следующим образом: хотя все интерпретации одинаково допустимы, не все они
одинаково хороши. В данном случае ценностью отдельных интерпретаций является не
Их правильность (такой вопрос для Барта был бы бессмысленным), а их всеобъемлемость.
«Значение критики… зависит не от ее способности раскрывать рассматриваемые
произведения, а от ее способности охватить его по возможности наиболее полно
через его собственный язык».
«Необходимо
всегда выбирать самую полную критику, ту, которая в состоянии охватить большую
часть своего объекта».
386
Далее
Барт поясняет, что психоаналитический подход к Мишле может включить и объяснить
идеологические элементы его творчества, в то время как идеологическая критика
совершенно не может объяснить миру хотя бы частично опыты Мишле. Иными словами,
самая хорошая критика та, которая является всеобъемлющей.
Рассмотрим
особенности психоаналитического метода Барта. В этом отношении наиболее характерной
является его интерпретация творчества Расина. Обычно сторонники
психоаналитического метода в литературной критике, анализируя произведения,
стремятся сказать нечто существенное о личности писателя: текст является при
этом исходным пунктом, а конечной целью — сведения об авторе. В противоположность
этому виду критики психоаналитический подход Барта структуралистичен: при таком
подходе сохраняется определенная связь с текстом и отсутствует интерес к
личности писателя.
В
творчестве Расина Барт стремится открыть нечто вроде «Расиновской
антропологии». «Анализ, который здесь предлагается, вовсе не относится к
Расину, а только к его героям: он не устанавливает прочной связи между автором
и произведением или наоборот; здесь речь идет об умышленно закрытом анализе; я
поставил себя внутрь трагического мира Расина и попытался описать людей,
которые его населяют». Основа трагического мира, по мнению Барта, вообще
состоит в разделении. «Разделение является здесь чистой формой: важна двойственность
функции, а не ее термины. Человек у Расина не раздваивается между добром и
злом, он относительно раздвоен; его проблемы располагаются на уровне структуры,
а не на уровне человеческих ценностей». Разумеется, чисто формальная двойная
функция немыслима: Барт все же говорит и о содержании терминов. По мнению
Барта, конфликт в пьесах Расина возникает между Отцом и Сыном, а не между
добром и злом или страстью и долгом, как это утверждается в традиционной
буржуазной критике. Так что интерпретация Барта, которая строится на этом
противопоставлении, является не абстрактно моральной, а психоаналитической.
Для
Барта трагедия Расина предстает в одном и том же варианте: бунт Сына против
Отца. […] Эквивалентным Отцу являются еще кровное родство и бог (по
387
мнению Барта, бог Расина… и ветхозаветный бог — злой и
мстительный).
Примечание.
Психоаналитическая литературная критика
независимо от того, структур на она или нет имеет один общий недостаток: она
видит в человеке исключительно иррациональное и биологическое, но не социальное
и разумное. Вот почему всякого рода психоаналитическая литературная критика враждебна
марксистской литературной науке.
Хочу
специально остановиться на другом вопросе, который затрагивает, в частности,
психоаналитический подход Барта. По его мнению, ценным в этом подходе является
то, что он представляет «самую полную критику», то есть что психоаналитическая
интерпретация может охватить все другие интерпретации — моральные, социологические
и другие. Такое утверждение совершенно ошибочно. Барт приходит к такому выводу,
так как считает, что понятия психоанализа формальны, то есть что в них можно
вложить самые различные конкретные содержания. Иначе говоря, когда
психоаналитик говорит об Отце, он не вкладывает в это слово содержание, которое
вкладывают в него все люди, а сохраняет за собой право называть им всевозможные
другие вещи, которые могут иметь по какому-то иному признаку, чаще всего случайному,
известную аналогию с понятием «Отец». Так что для Барта Отец означает «отец»,
«родство», «власть», «бог», «прошлое» и т.д., В зависимости от контекста. Такими
же расплывчатыми являются и другие понятия в психоанализе: эти понятия
представляют собой произвольные метафоры, а не строго научные категории. Благодаря
их эластичности становятся возможными любые конструкции. Вот почему психоаналитическая
критика кажется Барту «самой полной критикой»: она самая произвольная критика.
Но это вовсе не преимущества, а большой ее недостаток[219].
г) Идея
об эссенциальной многозначности текста предполагает и особое понимание
творческого процесса. По мнению Барта, ошибочно считать, что писатель
отправляется от какой-нибудь моральной, политической, социальной или
философской идеи, которую он посредством художественных средств воплощает в
произведении. Если бы писатель отталкивался от какой-то предварительной идеи,
то произведение не было бы много-
388
значным. Принимая, что оно многозначно. Барт вынужден в силу
своей собственной логики допустить, что писатель творит слепо, без предварительного
замысла.
Творческий
процесс, по мнению Барта, состоит из двух основных действий: расчленения мира
на элементы (découpage) и соединения этих элементов (аgеnсеmеnt). Эти действия, характеризующие творческий процесс вообще, наиболее ярко выражены у
писателей-структуралистов (например,
у Мишеля Бютора), которых Барт считает
эталоном и нормой в литературе […].
Но если
механизм писания именно таков, то одна из основных задач литературоведа — анализировать рассматриваемое произведение по его составным
элементам и
интерпретировать полученные варианты. Именно такую цель ставит перед собой Барт при
анализе новеллы Бальзака
«Саразин». «У меня нет намерения давать критическую интерпретацию текста или анализировать этот текст; моя цель — изложить
семантическую материю (расчлененную
и приведенную в порядок) множества критиков: психологическую, психоаналитическую, тематическую, историческую,
структурную. После этого каждый
критик, если хочет, пусть выскажет свое мнение, которое явится результатом вслушивания в одну из интерпретаций текста. Моя цель
— сделать набросок стереографического
пространства почерка».
[…]
Итак, Барт не предлагает какую-нибудь определенную интерпретацию «Саразина», а
ограничивается показом
сырого материала, из которого можно вывести самые различные интерпретации этого произведения, то есть он хочет показать, из какого
множества значений составлен
текст.
Примечание. Очень сомнительна правомерность механизма «расчленение
+составление»[220]:
это объяснение творческого процесса предполагает, что смысл проясняется после
констатирования означающего. Истина заключается как раз в обратном: и
расчленение и составление происходят на основе уже предварительно оформленной
через язык идеи. В сущности, это не две различные операции, а одна и та же
операция, которая главным образом предполагает наличие осмысленного текста.
Если бы расчленялись пустые элементы, то они остались бы пустыми и при
составлении. Откуда же возникнет после этого смысл? Дело в том, что еще до
расчленения и составления чего бы то ни было упомянутые
389
фрагменты уже были наполнены смыслом. Иначе говоря, писатель не
комбинирует ничего не значащие лексемы: он отправляется от определенной идеи,
которую реализует в произведении, а не наоборот, как это утверждает Барт[221].
Впрочем,
если бы Барт оказался прав, то расчленение и соединение были бы совершенно произвольными
операциями: Барт считает именно так, однако предпочитает не углубляться в
вопрос о законности этих операций.
В основе
этой постановки вопроса лежит ошибочная переоценка означающего и игнорирование
смысла: истина как раз в том, что в языке значение является первичным, а
материальный медиатор — вторичным.
д) По мнению
Барта, в многозначности не только основная сущность литературы, но и
единственный критерий ее эстетической ценности. Чем яснее декларирует текст
свою многозначность, тем сильнее будет у читателя смутное чувство, что перед
ним подлинное произведение искусства. «Очевидно, что сегодня мы отдаем наполовину
эстетическое, наполовину этическое предпочтение откровенно многозначным
системам, причем настолько, насколько литературные поиски приближаются в них к
границе осмысленности: в конечном счете именно откровенность литературного
статута становится критерием ценности: «плохая» литература — это та, которая культивирует
иллюзию о законченном смысле, а «хорошая» литература, наоборот, та, которая
открыто борется с искушением однозначности».
С другой
стороны, если текст многозначен, то читатель, выбирая одно из многих возможных
значений произведения, становится сотворцом текста, то есть он участвует в
завершении того, что писатель по дефиниции оставил незавершенным, «открытым»,
многозначным.
Следовательно,
чем нагляднее многозначность произведения, тем успешнее читатель сможет творчески
домыслить произведение. Такое соучастие читателя в творческой работе заставляет
его испытывать то чувство, которое называется «эстетическим наслаждением». Или:
многозначность доставляет удовольствие читателю и, наоборот, ограничение
многозначности является ограничением именно этого удовольствия. Вот к чему стремится
литература… сделать из читателя не потребителя, а творца текста.
390
е)
Признание литературного текста многозначным по природе влечет за собой важное
следствие; текст не может иметь структуру, он не может быть иным, кроме как
аморфным с точки зрения композиции[222].
«Для многозначного текста не может быть повествовательной структуры, грамматики
или логики рассказа». «Каждый элемент приобретает значение непрерывного и
многократного, не отсылая нас к какой-либо структуре в последней инстанции». И
действительно, при анализе новеллы «Саразин» Барт «декомпозирует» текст, сводя
его к аморфному конгломерату малых текстовых единиц,процесс, при котором
стремятся «не давать внутренний образ текста расчленять действия, из коих
состоит чтение».
Такой
подход, по мнению Барта, является правомерным, так как рассматриваемый рассказ
является «галактикой из означающих». Итак, если текст обладает бесчисленным
множеством значений, он будет иметь и бесчисленное множество структур.
Поскольку смысл порождается структурой (и структура в свою очередь смыслом), то
читатель не только придает ему смысл по своему усмотрению, но и структурирует
так, как он хочет.
Тезис об
отсутствии у литературного текста имманентной структуры ясно сформулирован в
более поздних работах Барта, например в «S/Z» и отчасти в
«Критических очерках», но он не является неожиданностью в литературоведческих работах
Барта. Его корни следует искать в идее, что всякий смысл немотивирован,
конвенционален и не может иметь никакой «почвы» в языке и литературе. Эта мысль
является одной из основных идей Барта, она проводится уже в его первых работах.
Тезис Барта об аморфности литературного текста является позднейшим следствием
возникшей еще с самого начала идеи о конвенциональности литературы.
Барт
заводит этим формализм в тупик, приводит его к абсурду. Сам Барт занимает
весьма уязвимую позицию […].
Однако в
своих прежних работах («О Расине», программная статья «Введение в структурный
анализ рассказа»[223])
Барт предполагает, что литературный текст структурен. Во «Введении в структурный
анализ рассказа» Барт подчеркивает в качестве одной из задач литературоведения
изучение правил «повествовательной
391
грамматики» и даже предлагает свое решение этой проблемы, что в
сущности представляет собой формализацию достижений В. Проппа[224].
По мнению Барта, эта «повествовательная грамматика» является не лингвистической,
а логической. Иными словами, Барт в своих более ранних работах допускает, что
денотированный смысл текста (то есть фабула) структурен и, следовательно, однозначен;
многозначность может быть присуща только коннотированному смыслу. Но, как уже
было сказано, в более поздних своих работах Барт расстается с этой половинчатой
точкой зрения и приходит к вы: воду об абсолютной многозначности и бесструктурности
текста.
2. Критика
понимания Бартом конвенциональности литературного текста. В примечаниях к отдельным
параграфам предшествующего раздела уже были сделаны некоторые критические
возражения Барту по частным вопросам. В. дальнейшем мы попытаемся вскрыть
наиболее уязвимые моменты в его мировоззрении.
а) Идея
о конвенциональности литературного текста — идеалистический и агностический
постулат. Уже было сказано, что идея о многозначности литературного текста
является следствием допущения, что смысл литературы конвенционален. Это
допущение в свою очередь скрывает очень важное, хотя и не совсем ясно
выраженное утверждение, а именно что содержание литературного произведения
является не отражением объективной действительности, а умственной надстройкой
субъекта-читателя. Действительно, если данному тексту можно приписать с одинаковым
основанием какой угодно смысл, то это означает, что либо текст не имеет объективного
смысла (то есть не отражает объективный мир), либо что я не в состоянии
высказаться об истинности этого отражения (если допустить, что оно существует).
В первом случае идея о конвенциональности исходит из
субъективно-идеалистического постулата, а во втором случае она строится на агностическом
допущении. И в обоих случаях идея о конвенциональности литературного текста
отрицает, что текст по своей сущности является художественным познанием
действитель-
392
ности. Если на какой-то момент согласиться с этим утверждением,
то придешь к выводу, что основным в литературном произведении является вовсе не
его социально-познавательное значение, основной целью литературы будет тогда
познание своей собственной знаковой сущности, то есть отражение самой себя. Это
становится особенно ясным в отношении Барта к понятию «реализм». «Доказав», что
реализм в литературе — это иллюзия, Барт заключает: «В отношении самих
предметов литература нереалистична по своей глубокой сущности; литература — это
именно ирреальность, или, точнее, она нисколько не является аналогичной копией
действительности, а как раз наоборот — сознанием нереальности языка[225].
Следовательно, самой «действительной» литературой является как раз та, которая
сознает, что является прежде всего языком… Реализмом в таком случае следует
назвать не копирование действительности, а познание языка: наиболее «реалистическим»
будет не то произведение, которое «отражает» действительность, а то, которое,
имея содержанием мир (это содержание чуждо его структуре, то есть его сущности),
изучит, возможно, более глубоко ирреальную сущность языка».
Но если
такова сущность литературы, то задачей критика являются не поиски в тексте
отражения объективной действительности и относительной истинности этого
отражения; критика, по мнению Барта, должна быть формальной (в логическом
смысле слова) деятельностью, то есть она должна исследовать знаковый характер
литературы […].
Итак,
идея о многозначности и конвенциональности смысла двусмысленна: она заключает в
своей основе определенное представление о сущности литературы, представление,
которое является подчеркнуто идеалистическим. Несмотря на открытую полемику
преимущественно с традиционным академизмом в литературоведении[226],
Барт на деле выступает против марксистского понимания литературы (которое
является единственной научной альтернативой по отношению к буржуазной литературной
науке[227]).
393
б)
Предприняв попытку следовать логике мысли Барта, в начале этой статьи я раскрыл
лингвистические основы его теории. Однако уже из вышесказанного становится ясно,
что отправной точкой во взглядах Барта является не наука о языке, а
предварительное идеологическое понимание литературы, которое он обосновывает a
posteriori
посредством некоторых утверждений структурализма в языкознании, в свою очередь
весьма спорных. Структурализм Барта — это не языковедческий структурализм, он
скорее всего антиязыковедческий, так как, исходя из вульгарно-упрощенческого
представления о языке, он ставит знак равенства между языком, литературой, модой
и дорожными указателями. После разрушения иллюзий, что Барт строит свои теории
на достижениях современной лингвистической науки, становится ясным, что
структурализм Барта представляет собой одно из многочисленных перевоплощений
современной буржуазной идеологии. Но на этом основном аспекте структурализма я
вообще не буду здесь останавливаться, так как он хорошо освещен другими
авторами.
1973
БОДЛЕР В СВЕТЕ КРИТИКИ СТРУКТУРАЛИСТОВ[228]
Речь
пойдет о структурной критике Романа Якобсона. Критика эта заявила о себе на
теоретической конференции «Linguistics and poetics»[229]
в 1958 году. Самое исчерпывающее применение она получила при анализе текста «Кошек»
Шарля Бодлера[230].
Эту
теорию можно суммировать следующим образом: предметом поэтики является ответ на
вопрос: что делает из словесного высказывания произведение искусства? Якобсон
отвечает, что «направленность (Einstellung) на сообщение,
как таковое, сосредоточение внимания на сообщении ради него самого — это поэтическая функция языка» (наст.
изд., стр. 202). Якобсон понимает под этим то, что поэтическое высказывание в отличие от обычного языкового контакта
сконцентрировано на выработке и
использовании собственной языковой формы, являющейся не средством, а целью. Это
распространенная теория поэзии, часто выражавшаяся и до, и после Валери
формулой «Суть поэзии в ее форме». Самостоятельность Якобсона состоит в
способах, при помощи которых он пытается обосновать эту концепцию.
2
В чем же
заключается его метод структурного анализа? Как он способствует выявлению
структур, свойственных поэтическому языку, структур, определяю-
395
щих только поэтическую форму, то есть поэзию как таковую и поэтическое наслаждение, доставляемое
текстом?
В
«Кошках» Р. Якобсон исследует традиционные структуры сонета в их соотношении с грамматическими категориями, особенно — структуру
рифм и строф. Например, он
отмечает, что все существительные, создающие рифмы, принадлежат к категории женского рода (saison, maisan, fierté, volupté, etc.), что все женские рифмы выступают во множественном
числе (austères, sédentaires, ténèbres,
funèbres, etc.)
и что все мужские рифмы — в единственном числе (saison, maison,
etc.). Он отмечает также, что в четверостишиях
мужские рифмы являются
существительными (saison, maison, fierté, volupté), а женские — прилагательными (austères, sédentaires,
funèbres),
кроме слова ténèbres, которое надо
считать «ключевым». В первом трехстишии все три рифмы — существительные, во втором — прилагательные. Он хочет этим обратить внимание
на то, что в структуре
сонета существует «тесная связь между классификацией рифм и выбором грамматических
форм» (наст.
изд., стр. 234), а также на то, что важную роль в структуре сонета играет грамматика
(наст. изд., стр. 234).
3
Далее он
исследует синтаксические структуры в их соотношении со строфической структурой сонета. Например, он подчеркивает, что этот сонет
содержит три предложения:
первое четверостишие, второе и третье в двух трехстишиях, вместе взятых. Он также отмечает в «Кошках» арифметическую
прогрессию количества глаголов
в главных предложениях: один в первом (aiment),
два во втором (cherchent, eût pris), три в третьем (prennent, sont, étoilent) , тогда как придаточные предложения текста имеют по
одному глаголу каждое.
Основываясь
на этом, он делает вывод об антиномии между трехчленным синтаксическим делением сонета и его «дихотомическим» делением,
при котором противопоставлены два
четверостишия двум трехстишиям. По его мнению, «этот бинарный принцип подкрепляет и грамматическая организация
текста». Четверостишия, в которых
мы имеем четыре рифмы, находятся в оппози-
396
ции к трехстишию, где мы имеем три рифмы (наст. изд., стр. 235); именно эта антиномия
первой и второй частей сонета, полагает Якобсон, симметрия и асимметрия составляющих
их элементов, лежит в основе композиции всего произведения (наст. изд., стр. 235).
Что это
за симметричные и несимметричные элементы? Вот несколько примеров. Прежде всего
синтаксический параллелизм между первым четверостишием — первым трехстишием, с
одной стороны (два предложения, одно из которых — придаточное — введено с помощью
qui), и вторым
четверостишием — вторым трехстишием — с другой (два сходных предложения, из которых
второе предложение сложное, соединенное с придаточным с помощью союза): это
создает новую дихотомию. Далее, внутри этой дихотомии выступают другие параллелизмы:
грамматические подлежащие в первом четверостишии и в первом трехстишии — имена существительные
одушевленные (amoureux, savants, qui-chats)
, тогда как подлежащие двух других строф — имена существительные неодушевленные
(Erèbe, reins, parcelles) , кроме ils (стих 6). Но в первой дихотомии, которая
противопоставляет два четверостишия двум трехстишиям, есть также пар аллелизм:
например, все прямые дополнения трехстиший выражены неодушевленными именами
существительными, в четверостишиях только три — неодушевленными и два — одушевленными;
chats, les-chats. Якобсон усматривает еще и третью дихотомию, противопоставляющую
внешние строфы — первое четверостишие и последнее трехстишие — внутренним —
второму четверостишию и первому трехстишию: во внешних строфах наблюдается
«несколько ярких соответствий в грамматической структуре» (например, первое и
последнее сказуемое в сонете — единственные, при которых имеются наречия: également, vaguement) (наст. изд.,
стр. 237).
И
наконец, он производит самое значительное, по его мнению, на этот раз
трехчленное, деление текста, при котором первые шесть строк противопоставлены
последним шести строкам, деление сонета осуществлено в середине между 7 и 8
строкой, характер которых разительно отличается от всех остальных строк сонета
(это единственные строки, где глаголы не в настоящем времени, единственные, где
встречается имя собственное Erèbe, и т.д.).
397
4
Якобсон
использует также анализ фонических структур, представленных в сонете; как ему
кажется, некоторые фонические параллелизмы усиливают проведенный грамматический
анализ текста. Например, рифмы 7 и 8 строк аллитерируют вначале: funèbres, fierté. Внутренние рифмы, содержащие
носовое «а» /ã/ (fervents, savants,
également, puissants), поддерживают грамматические структуры первого четверостишия,
а также и второго четверостишия (science, silence). Впрочем,
особую роль в сонете играют носовые звуки: 9, 3, 13 и 9 — их последовательное
число в строках. С этой точки зрения второе четверостишие отклоняется от общей
нормы, зато в нем больше плавных звуков: 23. Одна только седьмая строка имеет
их 7: 5 /r/ и 2 /l/. Кроме названия стихотворения, звук /š/ в слове chats появляется
только один раз потом в слове cherchent, где он подкрепляет «основное действие кошек»: в дальнейшем
[этот звук] тщательно избегается.
5
Наконец,
в этом инвентарии «Кошек» появляется несколько собственно стилистических
структур. Например, в первых шести строках обозначается четкое
противопоставление, которое основывается не на словах, а на грамматических
структурах: за бинаризмом определяемых слов (amoureux et savants) , из которых каждое имеет по
своему определению, следует сдвоенная двучленность определений (puissants et doux,
frileux et sédentaires), каждое из которых относится к одному из определяемых слов, затем
структура меняется, то есть за бинаризмом определений science et volupté, относящихся к одному
определяемому слову, следует бинаризм определяемых слов (science et horreur), имеющих по одному определению.
Якобсон обнаруживает здесь, что семантический повтор: amoureux, aiment, amis — способствует объединению так же,
как «аллюзионные оксюмороны» puissants, pouvaient, с одной стороны, и pris, prennent — с другой, способствуют «объединению
строф» начальной, шестистрочной квазистрофы, от которых они зависят (наст. сборн., стр. 245).
398
6
Такова
техника анализа, используемая Якобсоном для обнаружения сущности формы или
поэтической структуры текста. В деталях анализ текста «Кошек» еще богаче, но
то, что было сказано, ни в коей мере не упускает главного, и этого достаточно,
чтобы обнажить его принципы. Кроме того, новая классификация различных манипуляций,
произведенных с текстом, и выделение лишь нескольких самых типичных примеров
помогает сделать более очевидным характер метода, который «утопал» в богатстве
текста.
7
Хотя
речь идет о структурной критике, весьма известной сегодня, из которой многие
черпают (правда, весьма беспорядочно) подкрепление своих теорий, и хотя Якобсон
— один из самых известных из ныне живущих лингвистов, этот метод встречает
много возражений. Первое заключается в том, что у Якобсона есть склонность
фальсифицировать материальные основания применяемой им техники анализа,
особенно анализа структур, необходимых для раскрытия симметрии. Например, чтобы
утверждать, что женские и мужские рифмы чередуются в конце смежных строф, он
рассматривает два трехстишия как секстину (опираясь на наблюдения Граммона) , а
это позволяет убрать последнюю рифму трехстишия (fin) и дает возможность получить нужное
чередование: sédentaires, fierté,
mystiques. Далее,
он выбирает факты, которые служат в его пользу, и забывает о тех, которые ему
противоречат, то есть он произвольно отбирает нужные ему структуры сонета, тогда
как, чтобы быть объективным, он должен был бы рассмотреть их все целиком. Все
существительные в рифмах стоят в женском роде, что создает симметрию. Но зачем
рассматривать только эти существительные? Их всего восемь. Остальные рифмы
сонета образованы прилагательными, стоящими в мужском роде (4) и в женском роде
(2). Но об этом он умалчивает.
В других
случаях Якобсон избирает другие способы облегчения своего доказательства. Если
перед нами полный параллелизм, тем лучше: так, в первом
399
четверостишии женские рифмы выражены прилагательными, мужские —
существительными. Но во втором четверостишии симметрия «хромает»: ténèbres — женская рифма,
существительное. Якобсон подтверждает эту асимметрию, объясняя ее тем, что это,
по его словам, ключевое слово. Таким же образом он поступает, чтобы выделить
слово Erèbe (единственное имя собственное сонета, единственное подлежащее,
стоящее в единственном числе, которое, кроме того, нарушает порядок
«одушевленное — неодушевленное»), извлечь выгоду из того факта, что лишь оно не
имеет определяющего слова. Но слова or (строка 13) и fin (строка 11) тоже не имеют определения,
и тогда он сводит эту асимметрию к тому, что or и fin — «адноминальные дополнения,
единственные в сонете не имеющие определяющего слова». Или еще один пример: для
построения симметрии между второй фразой второго четверостишия и второй фразой второго
трехстишия он вынужден установить ложный параллелизм между настоящим условным
придаточным предложением (s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté) и эллиптическим ложным
«вставным» предложением, которое с натяжкой можно назвать «сравнительным» (ainsi
qu'un sable fin).
И наконец, то, что важнее всего для лингвиста: он утверждает аномалию второго четверостишия
(которое бедно носовыми звуками, но богато плавными); считать французское /r/ за плавный звук — фонетическая
ересь. Строго говоря, ассимиляция возможна в русском или английском языках, все
/r/
которых — апикальные вибранты, но она невозможна, когда речь идет о французском
/r/,
увулярной вибранте, тем более мощной, чем более фрикативным задненёбным будет
звук, во всяком случае, это /r/ резко отличается от латерального, апикального /l/.
8
Но надо
перейти к основным возражениям. Предположить, что в поэтическом высказывании
могут существовать корреляции (симметрии или асимметрии; параллелизмы, а также
грамматические, синтаксические, фонические и собственно стилистические
соответствия), способные сами по себе дать представление о специфике стихотворения,
и законно, и возможно. Но такой способ
400
исследования, кажется, забывает об одном из центральных положений современной структурной
лингвистики, которой
сам Якобсон посвятил сорок лет своей жизни: структура существует потому, что существует функция, структуры обнажают функции. Этот
тезис объясняет, почему
со времени рождения фонологии эту науку чаще определяли как функциональную фонологию.
Какие
поэтические функции в «Кошках» делают явными изобретенные Якобсоном структуры? В большинстве случаев автор не отвечает на этот
вопрос читателя, а в
тех случаях, когда отвечает, его ответ традиционен, приближаясь
к экспрессивной фонетике Граммона,
а потому мало убедителен; например, когда звук /š/ вызывает в памяти как будто бы типичное движение кошек.
Якобсон,
как мы видели, полагает, что композиция сюжета основывается на напряжении, возникающем при взаимодействии синтаксиса и
строфических структур сонета. Но
каково, собственно, поэтическое значение этой композиции? Внешние строфы богаче прилагательными (7 и 5), чем внутренние (2 и 2),
но как эта симметрия влияет
на наше поэтическое переживание? Еще, например, отступление /r/ под натиском /l/ красноречиво, как говорит Якобсон, сопровождает переход кошек к их сказочному превращению (по этому случаю французское /r/ принимает акустические свойства
«отрывистых» звуков, которые
противопоставляют его /l/). В чем же эта акустика так уж красноречива? И наконец, еще один пример: «В звуковом строении сонета
особую роль играют
носовые гласные». Однако каким образом? А как повышение частоты носовых звуков в трехстишиях усиливает метаморфозу кошек? В чем состоит
их участие в создании
красоты сонета, если вообще мы имеем дело с «прекрасным»? Ни на один из этих вопросов Якобсон не отвечает.
В тексте
статьи можно обнаружить резкую грань, разделяющую ее на две части, а именно там, где Якобсон уступает перо Леви-Строссу,
Последний ищет собственно поэтическое значение сонета.
Структурный анализ,
который он использовал при анализе мифов, позволяет ему осуществить метаморфозу кошек
(«лошади», потом
«сфинксы»). Эта метаморфоза сама по себе эволюционирует, сфинксы дематериализуются
и заменяются анафорами (ils) , потом синекдохами, все менее и менее
101
материальными (reins, prunelles). Затем происходит растворение внеосязаемом
(parcelles, ог, etincelles), в
это время декорум превращается из наиболее закрытой системы («дом») В наиболее
открытую систему, в пустыню (сфинксы, одиночество, песок), а потом в
бесконечность космоса: «грезя, они принимают благородные позы /огромных
сфинксов, простертых в глубине одиночества, /которые кажутся зась пающими в сне
без конца». Леви-Стросс подвергает затем этих мифологизированных кошек и их
вселенную психоаналитической интерпретации: кошки у Бодлера — это его извечная фантазия
о женщинах. И смысл сонета в том, что в четырнадцати строках Бодлер
освобождается от «сковывающих» уз женской любви, чтобы раствориться и
затеряться в безграничной вселенной, примиряющей науку и сладострастие.
Что
поражает во втором толковании, так это то, что не было никакой надобности
прибегать к корреляциям Якобсона. Когда это толкование вдруг случайно на них опирается,
помощь оказывается бесполезной и ненужной: структурные особенности 7 и 8 строк
сопровождают, может быть, но не подчеркивают и поэтически не обогащают
преображенных метаморфозой кошек в «траурных лошадей».
Якобсоном
и Леви-Строссом была предпринята вполне законная попытка анализа, который надо
было бы довести до, к сожалению, разочаровывающего конца. Но нужно ли при этом
разочаровываться в структурной лингвистике? Очевидно, нет[231].
Теория Якобсона, примененная к «Кошкам», собственно говоря, нелингвистическая: она
только кажется таковой, потому что оперирует грамматическими категориями, стремясь
их сгруппировать в структуры или .симметрии, Но в действительности Роман
Якобсон до того, как начал заниматься лингвистикой и стал великим лингвистом,
был одним из самых блестящих представителей русской школы формалистов, занимавшихся
литературой (1919—1927 гг.).
402
Из-за особых условий развития русской культуры этот формализм
утверждал в качестве доктрины, принявшей впоследствии экстремистский характер,
положение, что главное в литературе — форма. Якобсон тогда поддерживал идею,
что прием (понятия «структура» тогда еще не существовало) — «единственный герой
литературы». Таким образом, произведение искусства становилось суммой
формальных структур и ничем более. В 1958 году Якобсон использует свой дар
лингвиста для доказательства старого постулата формалистов: это прекрасно
потому, что структурно организовано. И таким образом все, что имеет структуру,
— прекрасно. В «Сонете к Урании» или в словах: Nicole,
apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit[232], можно найти ничуть не меньше
красноречивых корреляций, чем в самых изысканных шедеврах, более того, можно
изобрести сколько угодно структур; и в этом случае формальный анализ обернется
обычной риторикой. Нас не убедили, что поэтическое высказывание существует
только благодаря его лингвистической форме, никак не связанной с его значением,
и нет также уверенности в том, что выявляемые Якобсоном самостоятельно
функционирующие структуры — единственные показатели красоты текста, придающие
ему «характер абсолютного предмета» (по словам Леви-Стросса). При этом анализе,
как при вычислении размеров Большой Египетской пирамиды, не избежать вопроса:
как иначе можно доказать, что столько совпадений (специально отобранных) суть неслучайные
корреляции (особенно корреляции плана содержания), если не предположить
заранее, как это сделал Якобсон, что структуры сами по себе являются исполнителями
поэтической функции?
1967
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И CТРУКТУРАЛИЗМ[233]
ЗАМЕТКИ О
«СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОМ» МЕТОДЕ
Споры о
методе в литературоведении сильно оживились за последние десять лет стараниями структуралистов. Этот странный факт заслуживает
внимания и изучения,
поскольку основная линия развития структурализма до сих пор определял ась отрицательным отношением к историческому рассмотрению языковых,
литературных и
социальных явлений. Структуралисты интересовались главным образом не историей развития литературы, а ее языковым статусом, например
системными характеристиками
значений языковых знаков в поэзии, семиологическим противоречием между коммуникативными и поэтическими элементами
знаковых систем и т.
д. Исследования такого типа представляли собой, подобно информационно-теоретической
эстетике, основоположником которой
является Макс Бензе, «описание ”эстетических состояний“ реализующихся в виде художественных объектов»1, то есть изучение конкретных языковых состояний и поэтических
знаковых систем количественными или семиологическими методами, с точки зрения означающего и означаемого,
словом, как угодно, но
только не с точки зрения исторической.
Неисторичный,
а иногда и антиисторичный подход структуралистов к изучаемым явлениям сегодня уже не подлежит сомнению и не нуждается
в примерах и доказательствах. Этот
подход не случаен и не является следствием недостаточно развитого исторического мышления;
404
он связан с принципиальными основами, с самим происхождением этого
направления в науке. Когда Фердинанд де Соссюр положил начало синхроническому
изучению языка наряду с историческим его рассмотрением, господствовавшим до
этого в лингвистике, трудно было предположить, что это послужит отправным
пунктом для пересмотра исторической ориентации филологических наук, как они
сложились в XIX веке, и начнется реакция против историзма в науке, имевшая. Серьезнейшие
последствия. При критическом пересмотре научных традиций XIX века, сложившихся
главным образом в период расцвета буржуазного общества, обнаружилось, что филологические
науки эпохи романтизма и позитивизма исходили в ряде случаев из сомнительных и
противоречивых предпосылок. (Так, например, соотнесенность понятий речевая
деятельность индивида, речь и язык как система языковых
знаков, носителем которой является коллектив, стала интерпретироваться иначе, с
акцентом на понятии язык; эмпиризм младограмматиков был преодолен посредством
идеи системности, развитие которой способствовало выработке абстрактных,
дифференцирующих научных понятий, на основе которых стало возможно различать
психический, физиологический и физический аспекты языка.) Мы, разумеется, не
собираемся отстаивать ни научные позиции филологов эпохи романтизма с их
теориями исторического развития языка, ни позитивизм младограмматической школы
изучавшей фонетические закономерности в историческом аспекте, укажем лишь на
дальнейший ход событий — на усиление в лингвистике со времен Ф. де Соссюра
абстрагирования от внеязыковой действительности. Это абстрагирование имело
троякий характер: изучение языка абстрагировалось от говорящих и от речевых
ситуаций, от предмета речи, то есть объекта языка, и вследствие этого от
истории языка2.
На почве
абстрагирования от реального контекста, в котором существует язык, от
социально-исторических характеристик этого контекста и возникли идеологические импульсы,
вполне соответствующие потребностям буржуазного общества, переживающего кризис
духовных и научных традиций. Как ни плодотворны оказались отдельные
теоретические соображения Соссюра какой бы ценной ни представлялась его
основная мысль о системном характере связей, характеризующих язык
405
как структуру, как ни велико значение тезиса, согласно которому
языкознание может стать наукой, определяющей дальнейшее развитие семиологии3, как ни важно, наконец, предложенное им
различение синтагматических и ассоциативных (то есть парадигматических) отношений4, в конечном счете этот круг идей возник в
связи с глубоким кризисом во взаимоотношении науки и действительности, в
особенности исторической науки и исторического мировоззрения […].
Однако
дискуссия о методе в литературоведении не продвинулась бы ни на шаг, если бы мы
ограничились указанием на то, что структурализм по происхождению и функции
противоречит историзму и во многих отношениях отражает в «рационализированном»
виде кризис взаимоотношений между исторической действительностью и историческим
сознанием в современном буржуазном обществе. И в самом деле, принципиальная
критика (которая должна учитывать и структурализм советских ученых как явление
совершенно исключительное, и многие другие разновидности марксистского
литературоведческого анализа), показывая антиисторичность теоретических основ
структурализма, должна сосредоточить все свое внимание не на слабых, а как раз
на самых сильных сторонах структурализма. Его отношение к литературоведению будет
при этом освещаться не только с учетом свойственного ему антиисторизма и
догматизма: принципиально правильная критика структурализма должна исследовать
как раз те стороны этого учения, которые сами структуралисты именуют
«генетическими», пытаясь привлечь к рассмотрению исторические факторы, точнее
историко-социальные; структурализм надо изучать именно в тех аспектах, которые
связаны с его попытками раствориться в литературоведении или, напротив, преобразовать
литературоведческую науку. Попытки такого рода имеются, например, у Ролана
Барта, который критикует лансонизм, то есть традиционное академическое
литературоведение, и, подобно Люсьену Гольдману, старается создать «структурно-генетический
метод в литературоведении»5 на
социологической основе.
[…]
Самую широкую дискуссию вызвали литературоведческие труды Барта и Гольдмана,
считающиеся наиболее значительными попытками применения нового метода, то есть
синтезирующего изучения структуры
406
литературного произведения и его истории в целом. Являясь
«самыми крупными, принципиально важными работами по теории и истории литературы
в духе структурализма »6, эти труды
могут служить хорошим примером структуралистского подхода к литературоведению и
в этом своем качестве дают нам возможность поставить и обсудить некоторые
вопросы […].
МЕЖДУ СОЦИОЛОГИЕЙ И ФОРМАЛИЗМОМ (РОЛАН
БАРТ)
Мы не
намереваемся подробно излагать здесь весь ход борьбы Ролана Барта с
академическим традиционным литературоведением и освещать роль Раймона Пикара в
этом споре; для нас важен и интересен лишь один этап этой дискуссии. Крупный
представитель «новой критики» выступил против традиционного литературоведения, которое
давно уже занимает прочные позиции во французской буржуазной науке; он сделал
попытку пересмотреть соотношение литературы и истории, считавшееся
непоколебимым вот уже сто лет, и показать внутреннюю противоречивость этого
соотношения.
Ролан
Барт исходит из посылки, согласно которой должна существовать не только история
искусства, но и некоторая соотнесенность между историей и искусством. Этой
мысли придается резко полемическая форма, направленная против традиционного
литературоведения, которое, претендуя на объективность, на самом деле
безоговорочно принимает идеи позитивизма и, самокритично признавая свое «анархическое
состояние»7, не устраняет тем самым
застой в литературоведческой науке […]. Барт заканчивает свое резюме
уничтожающей критикой традиционного литературоведения:
«И вот
вам история литературы (любая, мы не раздаем наград, мы просто описываем
состояние литературоведения); это история лишь по названию; на самом деле это
серия монографий, каждая из которых касается почти исключительно одного автора
и изучает его самого по себе; таким образом, история есть серия отдельных личностей.
Короче говоря, это не история, а хроника»8
[…]. Вместо истории литературы, излагающей в хронологическом порядке биографии
писателей и
407
данные о возникновении их произведений, Барт предлагает создать
«функциональную историю литературы»9.
Изучать надо, по его мнению, не произведение в его соотнесенности с автором, а
«соотнесенность между автором как целостным феноменом и его творчеством в целом
то есть соотнесенность соотнесенностей, гомологические, а не аналогические
корреляты»10. Методика
исследования демонстрируется на материале классического французского театра;
Барт анализирует состав публики XVII века с социологических позиций и ставит вопрос о функциях
театра с точки зрения этой публики: чего она искала в театре? «Развлечения?
Возможности помечтать? Идентифицировать себя с героем? Дистанцироваться от
него? Удовлетворения снобистских претензий? И каково было количественное
соотношение всех этих элементов?»11
Таким путем Барт пытается раскрыть систему эмоций целой эпохи, то есть то, что «есть
и в писателе, но не есть он сам»12.
Исследователь отказывается от изучения классического французского театра на
основе биографий драматургов и обращается к анализу «техники театрального действа,
правил его построения, ритуала, коллективного сознания публики»13, то есть к функциональному рассмотрению
предмета исследования. Итак, литературоведение, по Барту, «может существовать
лишь на функциональном уровне (продукция, коммуникация, потребление), а не на уровне
индивида, осуществляющего эту функцию. Иными словами, предметом литературоведения
являются коллективные возможности индивидов и социальных институтов, но не сами
индивиды»14.
Это
требование не ново (вспомним хотя бы Л. Л. Шюкинга, М. К. Брэдбрука и других
исследователей драмы в эпоху постпозитивизма); и все-таки социологическая проповедь
в устах структуралиста представляется несколько неожиданной. Согласно Барту, историю
драмы как литературного феномена следует понимать только как историю социальной
функции драматургии, а функцию литературы как сугубо социальную. Но как же быть
если этот исторический подход к предмету следует понимать в духе
структурализма. И если такое понимание функции окажется противопоставленным структуралистскому
понятию функции как имманентного свойства системы? Как совместить эти понятия,
не разрушив ни одного из них, — ни понятия
408
функции в истории, ни понятия функции в системе? На это Барт не
дает ответа.
Однако
совместить эти понятия чрезвычайно трудно; история как процесс и структура как
целостный феномен глубоко различны, чего структуралистское мышление, видимо,
вовсе не осознает. Барт, настаивая на социологическом понимании функции, в то
же время требует «имманентного анализа»15,
то есть анализа эстетических свойств, внутренне присущих произведению,
«содержащихся в нем самом»16;
произведение при этом рассматривается вне внешних соотнесенностей. Преимущества
структурного анализа (по Барту) в том и состоят, что «анализ не выходит за
пределы самого произведения, рассматриваемого как система функций»17.
Совершенно
ясно, что здесь вводится структуралистское понятие функции, находящееся в
вопиющем противоречии с историческим мышлением, подобно тому как структуралистское
«парадигматическое мышление» противоречит «символическому мышлению». Символическое
мышление в искусстве выделяет соотнесенность между означающим и означаемым в
эстетическом знаке, тогда как парадигматическая (и синтагматическая) соотнесенность
понимается как имманентное свойство системы само по себе, как соотнесенность
между каждым данным эстетическим знаком и некоторым множеством существующих или
существовавших ранее знаков такого типа. На парадигматическом уровне «для
каждого знака имплицируется наличие упорядоченного запаса форм, «формальной
памяти»; каждый данный знак отличается от всех остальных в силу той минимальной
дифференциации, которая необходима, чтобы вызвать изменение в значении». Мы
увидим в дальнейшем, что понятие такой системной соотнесенности может оказаться
весьма плодотворным для интерпретации художественного отображения
действительности в литературных произведениях как набора моделей; важно лишь, чтобы
это понятие не отрывалось от жизненного опыта автора и читателя, то есть от
литературного процесса как явления социально-исторического, со всеми его объективными
и субъективными характеристиками. С точки зрения Барта, системность находится в
известном формальном отношении к истории; она имеет своей основой не социальный
аспект, общий для всех систем мышления, не исторически изменчивую
соотнесенность
409
означающего и означаемого, а понимается как имманентное свойство
знака. Акцент при этом делается не на отношении означаемого (содержания,
значения) к означающему (обозначению, образу), а исключительно на последнем
компоненте: на извлечении знака (как означающего) из существующей знаковой
системы. Именно в этом смысле Ролан Барт совершенно справедливо называет парадигматическое
мышление формальным: «Парадигматическое мышление… есть формальное осознание
феноменов»18. Благодаря ему
внимание концентрируется на вариативной последовательности обозначающих элементов.
Поэтому парадигматическое мышление раскрывает лишь формальный аспект
означаемого, только его «демонстративную роль», а следовательно, выражение, а
не содержание, образ, а не отражаемое; естественно, что парадигматическое мышление
стремится «опустошить означаемое, а следовательно, и содержание, выделяя его
формальный аспект19. Опустошить
означаемое и значит лишить его исторического содержания и исторической функции20.
Возможно,
что в некоторой мере понятия парадигматического и синтагматического аспектов
могут быть полезны в литературоведении; тем не менее Барт, предлагая новое, по
сути дела семиологическое, понимание литературоведения, впадает в неразрешенное
и, вероятно, неразрешимое противоречие: в противоречие между идеей социальной
функции и понятием функции, имманентной литературному произведению. Это
противоречие останется неразрешенным, пока понятие имманентной функции будет интерпретироваться
как разрушение семантического мышления, пока оно будет означать изгнание из
сферы мышления означаемого или обозначаемого, недооценку соотнесенности между
знаком и отражением, непонимание возможной соотнесенности со сферой реальных объектов
и субъектов и эстетической продуктивности этого соотношения.
Ролан
Барт понимает структурализм в литературоведении как «переход от символического
мышления к мышлению парадигматическому»; тем самым он лишает литературу
отражающей и социально-конституирующей функции, то есть функции реалистической,
не достигая при этом более строгой и более общей формулировки каких-либо литературоведческих
категорий.
410
Напротив,·
понятие функции литературы, выработка которого стоила такого труда, оказалось
весьма неудачным смешением исторических и структуралистских понятии.
Функциональное литературоведение лишено продуктивности; оно имеет боевой вид,
но на самом деле страдает бессилием, которое пытается скрыть, нападая на позитивизм.
Предметом нападок служит детерминизм; но искать его у последователей Гюстава
Лансона по меньшей мере странно.
Новое
литературоведение видит свою задачу в том чтобы «перейти от рассмотрения
детерминантов к рассмотрению функций и обозначений»21. Но разве исторически понимаемая функция
литературы не есть сама по себе существенный структурный и сигнификативный
детерминант?
Структурализм
возрождает на новом уровне старую антиномию: система как данность — история как
процесс. Знак не сводится к обозначаемым; лингвистически этот тезис совершенно
справедлив и может служить плодотворным творческим импульсом. Но структурализм отрицает
на этом основании всякую активную соотнесенность между знаком и отражением (или,
соответственно, объектом); отвергает представление о произведении «как о
продукте некоторой деятельности» и заявляет, что произведение следует рассматривать
«не как следствие известной причины, а как обозначающее по отношению к
обозначаемому»22. Тогда такие
понятия как источники, генезис, отражение и т.д., становятся беспредметными но
категорически отвергаются, объявляются устаревшей принадлежностью
детерминистской критики.
Представление
о произведении как продукте деятельности заменяется в функциональном литературоведении
пониманием произведения как знака. Так возникает безотносительное ложное
противопоставление литературы как продукта творческой деятельности и литературы
как знака (или гештальта), то есть старая антиномия: история как процесс —
система как данность. С этой точки зрения произведение есть не система эстетико-лингвистических
компонентов, взаимодействующая в процессе возникновения и воздействия, не
продукт деятельности и деятель[234]
во взаимодействии, не отражающая и созидающая модель исторической действительности;
произведение есть «означающее по отношению к означаемому». Однако структура означающего
такова, что
411
функция его компонентов может быть раскрыта не только на основе
обозначения, то есть образа, оформления и т.д., но и на основе соотнесенности
со значением, с изображенной ценностью, с оформленным содержанием с
обозначаемым. Таким образом, имманентная функциональность знака оказывается под
непосредственным влиянием исторических факторов. Исторические факторы в
литературе (иначе чем в языке) предшествуют установлению соотнесенности между
означающим и означаемым и определяют изменчивую корреляцию образа и значимости,
выражения и содержания, означающего и означаемого. Изучению подлежит динамика исторических
факторов внутри этой корреляции и за ее пределами, начиная с возникновения произведения
и до его воздействия на читателя; вместо этого структурализм ведет ложно
направленное наступление на мнимый детерминизм. Двойственное понятие функции в
результате такой ложной позиции становится совершенно сомнительным: на словах
это понятие определяется в социологическом плане, на деле социальная функция
произведения в полной мере не исследуется, поскольку оно не рассматривается во
взаимодействии продукта творчества и творца, то есть в процессе исторического
развития функции.
Результатом
такого направления мысли является не интеграция эстетического и исторического моментов,
а двусмысленная альтернатива: литература или история; именно так Ролан Бapт и назвал
свою основополагающую статью («La littérature ou l’histoire»). «Если мы решимся, — говорится в этой
статье, — рассматривать литературное
произведение как документ эпохи», то тем самым будет искажена его особая эстетическая функция, а следовательно, и функция
литературно-историческая.
Это
высказывание имеет социологическую основу: предполагается, что литературу можно рассматривать
«как социальный институт, имеющий известные пределы». Барт создал новый метод в
литературоведении, но дорого заплатил за него: пришлось отказаться от подхода к
эстетическим феноменам как явлениям историческим, то есть в конечном счете от
истории литературы. Исследователь поспешил заверить читателей, «что история литературы,
сведенная в силу необходимости к тем пределам которые ей положены как
социальному институту, превращается просто в историю»23.
412
Ограничение
понятия «литература» рамками Социального института лишает это понятие
конкретно-чувственного содержания, разрывает его связи с творцом произведения как
деятелем; возможно, что тем самым облегчается задача «имманентного анализа»,
рассмотрение произведения на основе понятий системы и структуры с учетом
соотнесенностей чисто внутреннего порядка. Но эта сомнительная процедура
требует механического использования лингвистических критериев для литературного
феномена. При этом недооценивается связь между означаемым и означающим в
истории литературы на том основании, что они действительно не совпадают в истории
языка; не учитывается функциональный характер этой связи, который, несомненно,
отсутствует в обычном языковом знаке. Значимое представление, например такое языковое
означаемое, как «цветок цветет», находит самые различные обозначения в разных языках:
существуют чисто условные связи между общепонятным обозначаемым и каждым данным
специфическим обозначением; в разных национальных Языках существуют разные звуковые
комплексы, коррелированные с этим значением. Иное дело в искусстве: общее
значимое представление находит в художественном выражении такое означающее,
которое не носит столь случайного и условного характера, как в языке, ибо его
живописное, мимическое или музыкальное оформление допускает более доступное
раскрытие соответствующего значимого содержания. Это раскрытие в
изобразительных искусствах не ограничено спецификой национального языка; оно происходит
в процессе общественной практики посредством деятельности творческого субъекта,
создающего эстетические ценности и воспроизводящего их.
Если эти
моменты игнорируются, то парадигматическое мышление действительно остается
чисто «формальным воображением», которое неспособно осознать эстетические процессы
ни в историческом аспекте ни в аспекте общественной практики. Таким образом, процесс
творчества онтологически вообще перестает существовать как предмет
литературоведения. Произведение не рассматривается ни с точки зрения биографии
его создателя как феномен индивидуальный, ни с точки зрения общественной
практики как феномен социальный; момент его порождения вообще не принимается во
внимание.
Литературное
произведение понимается как знак
413
коррелированный с теми или иными аналогиями и соответствиями, но
не как процесс, стимулирующий общественную практику и в свою очередь
стимулируемый ею. Этот знак лишен прагматического аспекта. Как предмет «имманентного
анализа» он не соотносится ни с объектами, ни с субъектами в историческом
плане, являясь лишь элементом изолированной самопорождающейся и саморегулирующейся
системы-структуры.
Ролан
Барт многого не додумывает до конца, торопясь обосновать свой новый метод; а
между тем методологические выводы его построений отразились в работах Клода
Леви-Стросса, отчасти у Люсьена Себага и даже у Луи Альтюссера. А эти выводы
весьма сомнительны в идеологическом отношении и не случайно сближают Барта как
представителя французской новой критики с ее англосаксонским вариантом. Как во
Франции, так и в Англии новая критика декларирует «метод исследования, не
выходящий за пределы самого произведения», И категорически отказывается
«установить какие-либо внешние по отношению к произведению соотнесенности». И
там, и тут проявляется отрицательная реакция на индивидуализм и субъективизм,
которая, однако, ведет не к рассмотрению произведения как исторического объективно
существующего феномена, а к формализации имманентных знаковых структур.
Структуралисты не могут постигнуть того, что творчески и субъект участвует в
порождении объективного содержания исторического процесса развития общества и
литературы. Они считают, что в литературоведении существует лишь то, «что есть
в писателе, но не есть сам писатель»; творчество — не историческая категория.
Деятельность писателя, создание произведения — не историческая деятельность. Предмет
искусства, специфика искусства не связаны с общественной практикой как деятельностью
людей ни в смысле возникновения произведения, ни в смысле дальнейшего его воздействия.
Структурный
метод в литературоведении игнорирует означаемое, а тем самым содержательную функцию
и воздействие означающего, и более того: он игнорирует деятеля и его
субъективную деятельность, приобретающую исторически объективный характер в ряду
диалектических соотнесенностей выражения и содержания, образа и значимости,
означающего и означаемого. Все это весьма напоминает антигуманистическую
постлибе-
414
ралистскую концепцию Ортеги-и-Гассета (дегуманизация искусства),
Т. Э. Хьюма (возрождение антигуманизма), а также и Т. С. Элиота (теория
безличной поэзии). Структуралисты пытаются «устранить самую идею человека из
мышления и из научного исследования. Тягчайшее наследие, доставшееся нам от XIX
века, есть гуманизм, и давно пора от него избавиться…»24. Эти слова Мишеля Фуко резко выражают
тенденцию, свойственную всему структурализму, от Альтюссера до Лакана и
Леви-Стросса. Именно поэтому отношение структуралистов к литературе и к истории
(в особенности к литературе как историческому процессу) носит столь сомнительный
характер. Это относится и к Ролану Барту, не придерживающемуся таких крайних
взглядов, как Мишель Фуко. Именно поэтому не могут иметь успеха отчаянные старания
Ролана Барта сохранить объективность в литературоведении ценой уничтожения
творческой личности писателя. Его требование «отрезать личность от литературы»25 — всего лишь напрасная попытка систематизировать
историю за счет изъятия ее творца, ибо история, как и искусство, создается
человеком.
ПОНЯТИЯ СТРУКТУРЫ В ЛИТЕРАТУРЕ И
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. ЯЗЫК ИСКУССТВА
Структурализм
отчетливо выявил слабые стороны позитивистского литературоведения, но сам их не
преодолел. Критика лансонизма, академического литературоведения, у
структуралистов отличается меткостью и справедливостью; однако им не удалось
осознать литературу как исторический процесс и уловить эстетическую специфику
этого процесса. В общем, выводы неутешительные; однако это не значит, что литературоведение
не может использовать те или иные импульсы, исходящие от языкознания,
семиотики, теории информации и кибернетики. Марксистское литературоведение,
разумеется, должно использовать новейшие научные достижения, если они, по
зрелом размышлении, того заслуживают. Литературоведение должно «обогащаться за
счет методов, заимствованных из других наук»26,
как и марксистская историческая наука, представители которой внимательно
изучают современные научные методы и относятся к ним положительно. Однако «разумное
415
применение новых структурных методов исследований не означает, что традиционные методы становятся ненужными; напротив, они дополняют друг друга»27. Марксистское литературоведение, как и марксистская теория познания, должно испытать и при необходимости использовать потенциальные возможности лингвистики и семиотики. При этом не следует затушевывать различия между историческими и структурными методами, их «несовпадение»; это привело бы к «смещению уровней исследования», от которого предостерегают философы самых различных направлений, например Люсьен Себаг и Георг Клаус28. Стирание границ между структурализмом и историческим материализмом привело бы лишь к оппортунизму и эклектизму. Проверка и пересмотр достижений того или иного научного метода обязательно должны носить критический характер, поскольку они непременно должны быть связаны с укреплением и углублением марксистской методологии.
Посмотрим, существует ли в рамках литературоведения возможность плодотворно использовать новейшие методы лингвистики, и в особенности семиологии. В ответ на этот вопрос мы предлагаем читателю некоторые предварительные соображения; речь пойдет о необходимости сознательного отграничения литературоведения от структурализма с его антиисторической концепцией. Как показывает новейшая марксистская теория литературы, понятие «структура», то есть «специфически ”опредмеченная“ функция», вполне может быть использовано для анализа реалистического искусства. Хорст Редекер, например, вводит понятие функции отражения в анализ реалистических произведений: по его мнению, этой функцией обладает структура художественного произведения, то есть система всех его взаимодействующих элементов (образы, мотивы, фабула, детали). Отсюда следует, что образ, мотив или «деталь в реалистическом искусстве, несмотря на свою «образность», не обладают самостоятельной способностью отражения»29 то есть не являются адекватным воспроизведением действительности. Отношение литературы к действительности поддается более точному определению на основе понятия модели, предложенного кибернетикой: «Для моделирующего отражения некоторого процесса характерно, что речь идет при этом не о сходстве или совпадении каких-либо конкретно-чувственных элементов; отдельные
416
элементы модели
значительно отличаются от элементов оригинала,
но структура процесса в модели ”повторяет“ соответствующие процессы,
происходящие в оригинале»30. В
исследовании Риты Шобер делается попытка рассмотреть реалистическое
произведение искусства как модель и отграничить функцию модели от функции
символа31. Итак, принципиальная необходимость
отграничения от структурализма не означает, что понятие структуры не может быть
плодотворно использовано в литературоведении; при этом вовсе нет необходимости прибегать
к «термину ”структура“ в ином значении, нежели это принято в языкознании», как
ошибочно полагает Гуго Фридрих. Однако термин «структура» не должен «вызывать
ложного представления, что языкознание и литературоведение развиваются на одной
и той же почве и движутся в одном направлении»32.
Лишь с учетом социальной функции исследуемого предмета можно ответить на
вопрос, могут ли закономерности кибернетического или теоретико-информационного порядка
способствовать «конкретизации и систематизации существенных характеристик
искусства»33. При ответе на этот
вопрос необходимо учитывать новейшие данные лингвистических наук, а для этого
нужно сотрудничество языковедов и литературоведов. Литература нашей эпохи
развивается во взаимодействии с другими искусствами, осваивая новые художественные
средства, новые материалы и новую технику34;
современное литературоведческое исследование предполагает осознание этих
взаимосвязей, выходящих за пределы литературы как таковой. В современном
обществе сотрудничество между различными видами искусств и разными художниками является
насущной потребностью; осознание взаимосвязей между разными видами искусства
способствует выработке общих критериев оценки и сходной методики исследования.
Таким образом, и литературоведение не может ограничиваться чисто филологическими
штудиями при определении эстетической сущности своего предмета; оно должно
изучать «язык» литературы в рамках более общего понятия языка искусства.
Понятие «язык искусства» в отличие от естественного (словесного) языка
находится в связи с проблемой коммуникативности эстетических структур, мало
исследованной в области литературоведения и искусствоведения; особый интерес
при этом представляют эстетические
417
средства, используемые в процессе
возникновения литературного произведения и обеспечивающие в дальнейшем его
воздействие на читателя.
В данной
работе литература и рассматривается как особый язык искусства, а не как
лингвистический феномен, то есть не так, как ее рассматривали Роман Якобсон и
вслед за ним Жан Коэн («Structure du langage poétique», Paris, 1966), а также многие
представители лингвистической
школы в литературоведении. Сами по себе исследования лингвистического типа вовсе не бесполезны: различия между поэтическими и
прозаическими текстами
могут быть выявлены на основе анализа специфической соотнесенности означающего и означаемого в этих текстах; не менее важен
анализ процесса разложения и
воссоздания структуры фонетических, семантических и синтаксических единиц; представляет интерес также процесс коннотации, построение
высказываний второго
порядка на основе первичной системы знаков прозаического языка и т.д. С этой точки зрения язык литературы (в сравнительно узком
смысле слова) определяется в
основных своих параметрах спецификой полисемантических структур второго порядка, а также
ритмом, рифмой, разным
качеством звучания, метафоричностью; эти характеристики языка литературы создают эффект повтора, вариации,
переноса, отчуждения; они-то и
доступны изучению лингво-структуральным и даже математическим методами, имеющими своей основой понятие системы35. Исследования такого типа могут оказаться весьма полезными при
изучении языковой структуры
поэтических текстов, если только их авторы не стоят на позициях неопозитивизма; однако они никогда не приведут к историческому
пониманию художественного творчества
в процессе его развития.
Если
литературовед изучает литературу как процесс коммуникации в историческом плане и пытается определить ее эстетические цели и средства,
то он должен найти
соответствие понятию языкового знака на уровне эстетическом, а не просто в области литературного языка. Следовательно, различие
между структурами естественного
языка и структурами в искусстве (рассматриваемыми как «язык», как социально значимое высказывание) надо не затушевывать, а выявлять. Собственно эстетическим эквивалентом
структур естественного языка
является не языковой материал, используе-
418
мый литературой, а система взаимодействия специфических для искусства структурных
элементов. Однако изучение
этих специфических для искусства структур будет плодотворно лишь при том непременном условии, что исследователь откажется от
чисто абстрактного рассмотрения языка искусства вне реального, социального и исторического контекста, то
есть станет изучать функцию литературы
с учетом семантических факторов и исторических характеристик. Это значит прежде всего, что эстетическая структура должна
рассматриваться не как
«вещь в себе», как нечто имманентно, внутренне присущее произведению, а как специфическое опредмечивание функции, действие которой не
ограничено рамками данного
произведения искусства. Возникновение и воздействие произведения как системы
специфических для искусства
структурных элементов может быть правильно понято лишь в совокупности его функций, реализующихся в общественной практике его
создателя и реципиентов этого
произведения.
Структурные
элементы произведения не рассматриваются при этом как имманентные, чисто формальные. Исследователя интересует не
элемент художественной формы,
как таковой, независимо от содержания, но лишь в соотнесенности с художественно оформленным содержанием, функциональное отношение этой
соотнесенности к
социальному сознанию и бытию. «Специфика структур литературного произведения состоит не в том, что они представляют собой конструкцию из
формальных элементов, а
в том, что они обладают функциями, конституирующими смысловое содержание, которое и
является средством реализации
социальной функции литературы»36.
Структуралисты впадают в старое противоречие между формальным и содержательным анализом произведения; однако
оно исчезнет, как только имманентное определение структуры и прямые (часто
вульгарные) экономические аналогии будут заменены строго диалектичным анализом
социальных и эстетических соотношений.
Таким
образом, язык искусства, в общем, не может быть определен как речь, как
индивидуальное высказывание в художественной форме, хотя отдельное произведение
всегда рассматривается в литературоведении как семантически и прагматически
определенное единство формы и содержания. Расположение элементов некоторого конкретного
произведения с точки зрения литерату-
419
роведения не идентично системным отношениям в языке, как их
наблюдает языкознание. И тем не менее существует некоторая взаимосвязь между
тем, как художник использует языковые средства искусства в ситуации данного произведения
(эстетический эквивалент речи), и набором знаков языка и искусства, образующих
систему, язык, которым располагает художник. Эта взаимосвязь определяется
историческими факторами; она-то и составляет основной предмет
литературоведческого исследования. Если историк литературы будет рассматривать отдельное
произведение само по себе, как речь, анализировать то, что в нем сказано, и
особенно те художественные средства, которые при этом использованы, независимо от
существующего знакового фонда языка и искусства, то нельзя будет сделать
никаких исторических обобщений, никакой систематизации, а все социальные аспекты
понятия «литературный жанр» станут недоступны исследованию. Если же он будет
рассматривать только эстетический эквивалент понятия «язык», то есть лишь систему
языковых средств искусства, то за пределами исследования останется
художественное произведение как таковое, его возникновение, ценность,
воздействие на читателей, в силу чего оно и занимает определенное место в истории
литературы37.
Следовательно,
лишь изучение взаимосвязи между речью художника, как она реализуется в его произведении,
и языком искусства дает возможность выявить диалектический характер
литературоведения как исторической системы и систематизации истории38. Ведь суждения о системе (жанров,
стилей и т.д.) возможны лишь с учетом динамической, изменчивой соотнесенности между
отдельными произведениями литературы. И наоборот, суждения об отдельном
произведении возможны лишь с учетом всех (предшествующих и последующих) художественных
достижении в этом жанре в данной национальной литературе, у данного
общественного класса, в рамках какой-либо эпохи. Итак, если лингвистические категории
и применимы в литературоведении, то лишь с большими ограничениями.
Диалектический
подход к предмету состоит в установлении неразрывной связи между отдельным произведением
и исторически сложившейся эстетической системой. Подход этот реализуется при
анализе формы любого стихотворения, романа и драмы, так как эта форма
420
поддается интерпретации лишь с учетом специфически оформленного
содержания. Форма как гештальт есть в то же время содержательная
форма, а в качестве таковой она всегда связана с конкретной, исторически обусловленной
ситуацией возникновения и воздействия эстетического феномена. Эта форма
является не только частью эстетической системы, но и моментом эстетической деятельности;
не только структурой (подобно фонеме), но и событием (подобно предложению).
Функция ее двойственна: она входит в систему знаков и является средством
коммуникации. Эта форма есть единство языка и речевой деятельности,
поэтому она должна быть интерпретирована относительно общей системы формальных средств
данного языка и относительно деятельности, воли, эмоций коммуникатора и
реципиента и того смысла, который они придают данной художественной форме.
Форма небезразлично соотносится с мышлением коммуникатора и реципиента;
небезразлична она и по отношению к содержанию, конкретно-чувственной
реализацией которого она является. Следовательно, художественная форма
отдельного произведения образует не формально-структурную систему, не «совокупность
соотнесенностей …которые сохраняются и изменяются независимо от содержаний»
(Мишель Фуко)39. Напротив, художественная
форма может быть понята лишь функционально, на основе семантических и
прагматических (а следовательно, исторических) характеристик произведения в
целом.
Художественная
форма есть практически-чувственное явление, в котором историческая определенность
произведения преломляется определенным образом в силу некоторой условности
содержания. Условность оформленного содержания есть совокупность наполненной содержанием
формы, и эта неповторимая, единственная в своем роде форма данного произведения
находится в определенной соотнесенности и одновременно вступает в противоречие
с системой эстетических знаков, присущих изобразительным средствам, то есть с
тем языком, из которого при создании отдельного произведения извлекается необходимый
в данном случае набор знаков. Однако язык искусства, система изобразительных
средств, организуемых определенным образом в зависимости от рода и жанра
произведения, не есть система отношений, «существующих и изменяющихся…
независимо от содержания».
421
Возможность их использования, степень пригодности исторически
обусловлены и коррелированы с определенным этапом экономического,
интеллектуального и эстетического развития общества. Изобразительные средства, как
и произведения, в которых они использованы, не исчезают и не уничтожаются в
ходе развития литературы. Их возникновение исторически обусловлено, но возможность
использования не ограничена временем их возникновения. Художественные средства
драмы (диалог, монолог, конфликт, эпилог), лирики (ритм, метр, стих) или
повествовательной прозы (повествование от первого лица, в третьем лице, смена
точки зрения на событие) сходны с языковыми знаками в том смысле, что они
исторически обусловлены, но допускают возможность абстрагирования от процесса
их возникновения. Возникнув однажды, в какой-то момент исторического развития,
эстетический знак существует в дальнейшем уже не как самобытный феномен, а как
феномен условный. Монолог в драме, аллитерация в стихах, повествование от
первого лица в романе и поныне выполняют функцию, уже не определяемую более
условиями их возникновения. Эта функция определяется между прочим и их
соотнесенностью с другими художественными средствами, а их специфическая
значимость полностью раскрывается лишь в силу системных отношений в языке искусства:
необходимо установить, как соотносится данное художественное средство с
диалогом, как оно реализуется в прозе, в повествовании от первого лица и т.д. Если
абстрагироваться от конкретного произведения, то окажется, что художественные
средства утратили свое значение и превратились в знаки, обретающие
семантические функции лишь относительно некоторой формы, единой с некоторым
содержанием, а прагматические функции — лишь относительно человека, его
творческого и рецептивного исторического опыта.
Эта
двойная соотнесенность и есть та обязательная предпосылка, при наличии которой
лишь возможно и имеет смысл историческое рассмотрение языковых средств
искусства. Литературоведение не существует вне семантического и прагматического
аспектов; структурная соотнесенность знаков искусства с формой и содержанием приобретает
исторический смысл лишь в связи с семантикой и прагматикой. Это структурное единство
не должно рассматриваться социологической
422
«критикой значения», с одной стороны, и теорией «имманентного формального
анализа» — с другой; метод анализа должен быть диалектичным в том смысле, чтобы
установить взаимодействие всех элементов в их отношении к целому, изучая
исторические и типологические системы средств как неразрывное единство, то есть
понимая язык искусства как речевую деятельность (в конкретной ситуации коммуникатор
— реципиент) и одновременно как язык. Эстетическая структура языка искусства (как
системы взаимодействующих средств) может быть интерпретирована только на основе
диалектического и исторического подхода к конкретному произведению как
реализации некоторого общего типа, при понимании формы и содержания как неразрывного
единства и с учетом их семантической и прагматической значимости.
Только
таким путем может быть обосновано понятие языка искусства как
абстрактной системы художественных знаков, рассматриваемой в типологическом
аспекте. Понятие «знак» при этом рассматривается в вышеуказанном смысле, то
есть как «особый художественный знак», представляющий собой средство эстетической
коммуникации, соотнесенное с содержанием художественного произведения и
допускающее множество интерпретаций. Всякая интерпретация эстетического знака непременно
учитывает его социальную и историческую функции. В предлагаемом определении
художественного знака акцент делается не на статичности, не на некотором состоянии
знака, а на диалектике соотнесенности состояния и развития. Таким образом,
художественный знак понимается как отношение или соотнесенность: он соотносится
с людьми, которые его создают и воспринимают; он соотнесен со смыслом
высказывания, отражающего объективную действительность, конституируя
художественное значение этого высказывания. Наконец, он находится в известном
отношении с другими знаками и их значимостью, причем это последнее отношение
реализуется как в синтагматическом плане, то есть в структуре конкретного
произведения искусства, так и в плане парадигматическом, то есть в общей исторически
сложившейся системе языковых средств искусства. Последние находятся в системе
соотнесенностей на трех уровнях: синтаксическом, семантическом и прагматическом.
Предлагаемое понимание знака шире того, которое
423
признано классическим со времен появления работы Огдена и
Ричардса «Значение значения», где знак (symbol) исследуется в соотнесенности с мыслью, смыслом, отражением
(reference) и — опосредованно — с объектом или ситуацией (referente)40, Как видно из работ Георга Клауса и других
марксистских философов, семиотическая триада, то есть дифференцированное рассмотрение объекта (о), отражения (о1)
и знака (з), может быть соответствующим образом использована и в
марксистской теории познания.
Однако эти соотнесенности, выявленные философией и
семиотикой, равно как и лингвистикой, не могут быть механически перенесены на
эстетические знаковые структуры. Правда,
принципиальное различие между отражением (смысл) и знаком (средство), сформулированное
на семантическом уровне, остается существенным и на уровне искусства, однако
эстетический знак как система соотнесенностей обладает спецификой, которую не
отражают понятия означающего и означаемого. В искусстве отражение объекта в сознании
(то есть высказывание, смысловое содержание) также не идентично знаковой структуре,
художественному или техническому средству. И здесь отражение и знак по-разному
соотнесены с объектом реальной действительности; они соотнесены и друг с другом,
но не идентичны друг другу. Однако именно в искусстве отношение отражения к
объекту есть отношение значимое: оно всегда носит оценивающий, преобразующий, преувеличенный
характер, но никогда не является непосредственным отражением. Отражение объективной
действительности средствами языка и искусства означает больше, чем можно
непосредственно извлечь из объекта отражения. В известном смысле объективная,
прямая соотнесенность отражения с объектом этого отражения, присущая обычному
языку, носит в искусстве иной характер; в искусстве эта соотнесенность смещается
в силу оценочного содержания прагматических функций эстетического знака, а
также в силу условности и даже фиктивности обозначения объекта на эстетическом
уровне; таким образом, семантические соотнесенности знака представляют здесь весьма
сложный комплекс связей, и эта сложность эстетических знаковых соотнесенностей
в литературоведении еще более возрастает. Лингвистическое различие между означающим
и означаемым — или, соответственно, семиотическое разли-
424
чие между знаком и отражением —
имеют в литературоведении два соответствия, требующие дальнейшего изучения.
Означаемое (или отражение), вероятно, соответствует семантическому аспекту
художественной структуры. Однако в процессе исторического развития литературы
семантический аспект произведения оказывается изменчивым: он постоянно
претерпевает изменения в силу совпадения или несовпадения прежней и новой значимостей41. Означающее, обозначение, образ,
вероятно, соответствуют техническому и типологическому аспекту художественной
структуры, условная и фиктивная природа которой способствует, однако,
возникновению оценивающего выражения для того, что содержится в отражении.
Первый аспект связан с понятием значения, второй — изображения.
Эти идеи
можно проиллюстрировать. Если понимать перспективу повествования в современном
романе как совокупность и взаимодействие художественно отображенных в
произведении мировоззренческих и формально-эстетических установок на предмет
или сюжет, то в этих установках можно и нужно различать семантический и историко-типологический
аспекты. Перспективу повествования (например, в «Робинзоне Крузо» Дефо или в
«Актовом зале» Германа Канта) следует рассматривать, с одной стороны, в семантическом,
значимом аспекте: какова точка зрения действительного автора-рассказчика на
предмет повествования и как эта точка зрения исторически сложил ась, как
мировоззрение автора коррелировано с его субъективными интенциями,
реализованными в произведении, и, что гораздо важнее, как мировоззренческая
позиция автора соотносится с объективным содержанием произведения, с
категориями эстетического познания и истины. С другой стороны, перспективу повествования
следует рассматривать в историко-типологическом аспекте: какова точка зрения на
предмет повествования фиктивного, воображаемого рассказчика то есть Робинзона
Крузо или Роберта Исвалла. Перспектива повествования в целом конституируется на
основе единства (или противоречивого единства) реальных и фиктивных установок,
отразившихся в произведении, причем противоречие между различными установками может
разрешаться различными средствами: в плане сатирическом, ироническом, наивном и
т.д. При этом оба аспекта, точка зрения автора и позиция действующего
425
лица, от имени которого ведется повествование, соотносятся как
значение и изображение. Специфические характеристики точки зрения фиктивных
рассказчиков, Робинзона или Исвалла, являются обозначающим образным средством —
означающим; они составляют типологический аспект перспективы повествования. Действительное
мировоззрение автора, Дефо или Канта, — если только оно представлено художественным,
а не дидактическим путем, — коррелировано со смыслом, отражением, означаемым.
Это является семантическим аспектом перспективы повествования. Однако разделить
эти два аспекта можно лишь на уровне абстракции, они получают историческую и
типологическую значимость по мере того, как из взаимосвязей вырастает вся
структура повествования как единство содержания и формы. Структурную значимость
оба аспекта художественного произведения обретают лишь в совокупности
взаимосвязей, получивших художественное отображение; повествование в целом
объединяет типологические и исторические характеристики, фикцию и реальность,
художественную технику и мировоззренческую установку42.
Наш
пример сильно упрощает сложное явление, изображая его схематически; однако и здесь можно проследить неразрывную связь между
художественным отражением (reference) и эстетическим знаком
(symbol) в литературоведении. Оба эти аспекта
выступают как единое
целое в прагматическом плане, где все соотнесенности, и семантические, и
типологические, оказываются коррелированными
не только между собою, не только с объектом художественного изображения (referent), но прежде всего с основными онтогенетическими
и действенными, актуальными
факторами литературного процесса в целом. Здесь-то и выясняется (хотя бы и приблизительно), какая глубокая пропасть отделяет
историко-материалистический и структуралистский методы, какие принципиальные методологические
противоречия существуют между
ними.
Отграничение
от структуралистского и структурно-генетического методов
предполагает и установление специфических различий между лингвистическим и философским определением знака. При этом необходимо
самым энергичным
образом подчеркнуть категориальные различия между языком искусства и неискусства, между художественным и нехудожественным
познанием дей-
426
ствительности. Функции художественных знаков не исчерпываются ни
«симптомностью» (по Георгу Клаусу), ни так называемыми «заразительными» формами
эмоциональной коммуникации (по Адаму Шаффу). Как показывает анализ
специфических функций искусства на каждом этапе его исторического развития,
разница между специфичной структурой знаков искусства и системой нехудожественных
знаков значительно глубже, чем это может показаться на первый взгляд. Специфика
искусства выясняется при рассмотрении всей совокупности его социальных
соотнесенностей: его предмет, способ познания, оценка, воздействие искусства —
все эти характеристики имеют особую природу. В связи с этим и язык искусства,
посредством которого осуществляются процессы познания, оценки, воздействия,
обладает особенностями, возникшими в силу специфической природы искусства.
Соотношение между искусством и языком искусства носит диалектический характер:
структура языка искусства отражает различные функции искусства, но в то же
время вызывает их становление и реализует их. В этом смысле язык искусства есть
отражение и проявление познавательной и оценочной функций искусства, причем
невозможно ни познание без оценки, ни оценка вне познания. Таким образом,
структура языка искусства связана с отражающей и отображающей потенцией искусства
и может рассматриваться в связи с исторической содержательной проблемой
реализма.
Даже это
сильно упрощенное определение специфики знаковых структур искусства показывает,
что соотнесенность между объектом и отражением носит здесь иной характер, чем в
семиотической триаде объект — отражение — знак, предложенной Огденом и
Ричардсом. Отражение (мысль, смысл) и знак (образ, средство) в процессе
развития воздействия искусства испытывают сильное влияние творческой личности
художника и потребителя эстетических ценностей. Только с учетом этого обстоятельства
соотнесенность образа и отражения, технического средства и мыслимого значения
может быть диалектически интерпретирована на основе понятий изображения
(уровень языка искусства) и значения (уровень художественной речи).
Итак, мы
отвергаем «имманентный» формальный анализ и «критику значения» в духе
Структурно-генетического метода, предлагая вместо этого иной, целостный
427
метод, основанный на принципах исторического материализма и
направленный на истолкование произведения в целом; при этом взаимосвязь
структуры и функции понимается, исходя из противоречивого единства процессов возникновения
и воздействия эстетического феномена. Имманентный структурный анализ имеет
целью рассмотрение «чистых» структур; генетическая критика значения учитывает и
онтогенетическую функцию; рецептивно-эстетический метод направлен только на
изучение аспекта эстетического воздействия, то есть релятивированного функционального
процесса; во всех этих случаях имеет место отрыв функции от структуры, что и приводит
к тому, что все перечисленные методы анализа оказываются несостоятельными. С
точки зрения исторического материализма следует тщательно избегать как неисторического
отрыва структуры от прагматики, так и релятивацию структуры под влиянием
суждений реципиента, отражающих лишь его личные вкусы. Понятие структуры
литературного произведения должно включать в себя и момент отражения
объективной исторической данности, и переосмысление этого отражения в последующие
эпохи существования литературного произведения. Такой подход способствует
преодолению колебаний между историей возникновения эстетического феномена и
историей его воздействия, между генетической критикой значения и рецептивной
эстетикой; ни структурный, ни функциональный аспект не возводятся в абсолют; предлагается
третья возможность: единство интерпретации и оценки на основе принципов
исторического материализма, диалектическое понимание прошлой значимости и
современного значения.
Диалектическая
соотнесенность структуры и функции может быть интерпретирована при таком подходе
к проблеме следующим образом: художественная структура есть объективный
результат творческого акта, понимаемого онтогенетически. Знаки искусства, составляющие
эту структуру (например, драматический диалог, главные образы художественного
произведения, действие в такой трагедии, как «Гамлет»), являются объективной данностью,
раз и навсегда закрепленной в каноническом тексте художественного произведения.
Изменчивостью обладает не исторически сложившийся знак (означающее), а значение,
то есть непрерывно обновляющееся отношение между знаком и тем объектом,
428
с которым он соотнесен; изменение этой соотнесенности и
составляет историю воздействия эстетического феномена на реципиента. Уже в
момент возникновения эстетического феномена (скажем, на премьере «Гамлета») реципиент
решает задачу, с которой начинается история воздействия: он находит значение
художественного произведения, «создает» это значение. Художественная знаковая структура
коррелирована с некоторым объектом, эта соотнесенность обладает известной
поэтической значимостью и становится источником значений, реализующихся по-разному
на социальном и индивидуальном уровне. Зритель или критик последующих столетий
осуществляет тот же акт, конституирующий значение и продолжающий историю воздействия
эстетического феномена: новый реципиент извлекает свое новое значение из новой
соотнесенности между означающим, более или менее закрепленным в тексте, и
означаемым, содержание которого имеет различные источники: онтогенетический слой
значения («Гамлет» есть отражение объективной исторической данности Англии
времен королевы Елизаветы), прошлую значимость и современное значение, извлекаемое
из соотнесенности между знаком и его изменившимся современным коррелятом
(объектом). При таком понимании вопроса историко-литературный процесс
оказывается системой взаимодействия различных историко-эстетических структур,
истории возникновения и истории воздействия эстетического феномена. Если
понимать оба эти фактора как диалектическое единство исторической динамики и
эстетической ценности, то окажется возможным познание знаковой структуры произведения
литературы. При этом необходимо рассматривать эту структуру как функцию
исторически реального субъекта, а не субъект как функцию структуры. Литературное
произведение как знаковая структура, будучи единством формы и содержания,
представляет собой субъективно и объективно определенный феномен, создание и
восприятие которого есть акт реализации исторически сложившейся эстетической
потенции, в котором участвуют как художник-творец, так и каждый реципиент.
Такой
целостный подход к предмету, не страдающий узостью и односторонностью
структурного и функционального литературоведения, дает возможность плодотворно исследовать
литературные произведения как
429
специфические эстетические знаковые структуры. Особого внимания
при этом заслуживают синтагматический и парадигматический аспекты, то есть
соотнесенность знака с его непосредственным знаковым окружением в составе некоторой
системы и со всей системой в целом. Синтаксический строй языка искусства
значительно отличается от синтаксиса обычного естественного языка, обладая
оценочными и семантическими функциями. Соотнесенность знака с его системным
окружением сообщает знаку специфическую значимость на уровне выражения и на
уровне содержания. Более того, отдельный знак, так же как и деталь, обладая
потенциальной образностью, не имеет, как мы уже видели, «самостоятельной значимости
в качестве отражения». Каждое данное значение раскрывается не просто на основе соотнесенности
между знаком и тем, что он обозначает, а на основе соотнесенности знака с
элементами некоторого синтагматического целого, в составе которого каждый данный
знак имеет известные соответствия и оппозиции и располагается на определенном
иерархическом уровне. Художественное освоение и художественная интерпретация действительности
представляют собой не подражательное воспроизведение, а также коррелирование двух
или более взаимопересекающихся синтаксических систем.
Однако
специфические синтаксические структуры не являются автономными (в
формально-эстетическом смысле); их место на иерархической лестнице историко-литературной
системы оценок соопределяется исторически сложившимися семантическими функциями
знаковых структур искусства. Широкий и полный контекст создается совокупностью
исторически обусловленных факторов, соопределяющих систему означающих и означаемых,
систему изображений и значений; в рамках этого контекста обретает значимость
синтаксический строй языка литературы как искусства. Воздействующие силы не
являются (как полагают крайние структуралисты) продуктом взаимодействия
структур, а напротив, эти-то силы и продуцируют эстетические структуры.
Система, то есть совокупность соотнесенностей в пределах языка искусства, развивается
вовсе не «независимо от содержаний, которые сочетают, сохраняют и изменяют ее
элементы». Эта система развивается в зависимости от деятельности индивидов и
классов.
430
Действующий,
изменяющий природу и общество субъект, участник классовой борьбы, живет и движется
в рамках некоторых исторически определившихся структур; он-то и является в
конечном счете творцом этих структур, а не их порождением. Субъективный фактор предшествует
системе, в которую он включен в настоящий момент, и выходит за рамки этой
системы, обладая способностью разрушать саму систему. Примат всегда остается за
общественной практикой человека: именно она определяет структуры социальных и
художественных систем, в которые включен человек, а не наоборот. Человек как
общественный субъект движется и живет в процессе общественной практики и в силу
этой практики; деятельность индивида является движущим моментом исторического
развития, в ходе которого возникают, достигают апогея и разрушаются
художественные системы.
1971
ПРИМЕЧАНИЯ
АВТОРА
1 Мах Веnsе, Einführung
in die informationstheoretische Ästhetik, Hamburg, 1969, S. 7.
2 Первоначально
Ф. де Соссюр подчеркивал единство системного (синхронического) и исторического
(диахронического) аспектов и рассматривал язык как систему, лежащую в
современности, а также как продукт предшествующих эпох одновременно: «В каждый данный
момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему, и эволюцию;
в любую минуту язык есть живая деятельность и продукт прошлого» (Ф.
де Соссюр, Курс общей лингвистики,
М., 1933, стр. 34). Итак, понимая социально-историческую природу языка, который
«находится одновременно и в социальной массе, и во времени» (там же, стр. 85), Соссюр
тем не менее рассматривает соотношение системы и ее исторического развития
недиалектически: «внутренний организм языка» следует изучать сам по себе, без
учета экстралингвистических факторов (там же, стр. 44). Исторические параметры
языка понимаются как «внешние» по отношению к его «внутреннему организму», так
что исторические изменения, которые «никогда не происходят во всей системе в
целом, но лишь в отношении одного или другого из ее элементов, могут изучаться
только вне ее» (там же,
стр. 93). В этом высказывании как раз и содержится в зародыше та идея, из которой
впоследствии развилась абсолютизация системы синхронических структур.
3 «В
этом смысле лингвистика может служить прототипом вообще всей семиологии, хотя язык — это
только одна из семиологических систем»
(там же, стр. 79).
4 Там же, гл. V,
«Синтагматические отношения и отношения ассоциативные», стр. 121—124.
431
5
Luсiеn Goldmаnn, La
Méthode structuraliste génétique en histoire de la littérature.
V. «Pour une sociologie du roman», Paris, 1964, p. 221.
6 Аннотация
на обложке книги Ролана Барта (Roland Barthes,
«Literatur oder Geschichte», übers. von Н. Scheffel, Frankfurt а. М., 1969.
7 «Мы
окружены изобилием и анархией, почти как сама Франция, но только в международном
масштабе» (Claude Pichois,
«L'histoire littéraire traditionnel». V. «Cahiers de l’Association internationale des
études françaises», № 16, Paris, 1964, р. 114).
8 Roland Barthes,Littérature
ou histoire. V. «Sur Racine», Paris, 1963, р. 148.
10 Roland Barthes, Essais
critiques, Paris, 1964, р.
250.
11 Roland Barthes,Littérature
ou histoire. V. «Sur Racine», Paris, 1963, р. 152
15 Roland Barthes, Essais
critiques, Paris, 1964, р.
251.
20 И
синтагматический, и парадигматический планы остаются «формальным воображением»,
хотя Барт в других местах своей работы различает (по Ельмслеву) форму и
содержание как у означающего, так и у означаемого, внося тем самым момент
относительности в свое понимание означающего как относящегося к формальному
плану (плану выражения). См. об этом: Roland Barthes, Le
degré zéro de l’écriture suivi des éléments
de sémiologie, Paris, 1953, p. 111 и сл.: «План означающих конституирует план выражения, а
план означаемых — план содержания… причем в каждом из них имеется два
субстрата: форма и содержание; эти термины должны быть заново определены, поскольку
оба они, сопровождаются многочисленными лексическими оттенками и ассоциациями.
Форма есть то что может быть определено чисто лингвистически, строго, просто и
последовательно (на основании критериев теории познания), без привлечения
экстралингвистических соображений; содержание есть совокупность тех аспектов
лингвистических феноменов, которые не могут быть описаны без привлечения
экстралингвистических соображений ». Это различение используется и в дальнейшем
(ср., например, Roland Barthes, Système
de la mode, Paris, 1967, p. 79),
однако означаемое понимается при этом как феномен, лишенный значимости и в этом
смысле опустошенный (о чем говорит и сам Р. Барт).
22 Roland Barthes,
Sur Racine, p. 158. (V. «Littérature ou histoire», Paris, 1963).
24 Мишель
Фуко, интервью из журнала «La Quinzaine littéraire», 5, 1966. Сходные высказывания
Ортеги-и-Гассета, Т. Э. Хьюма и Т. С. Элиота см. у Р. Веймана ««Новая критика»
и развитие буржуазного литературоведения», М., 1965, стр. 71, 73, 81—99, 105,
107, 108, 115, 279, 369.
25 Roland Barthes,
Sur Racine, op. cit., p.
156.
432
26 И. Кахк, Новая историческая
наука? — в: «La Nouvelle Critique », N2 35 (1970), р. 50.
В этой
статье советского ученого говорится об «обогащении исторической науки
посредством методов других научных дисциплин». Сторонником структурализма в
СССР является, например, Ю. М. Лотман (Тарту); однако у многих ученых
структурализм вызывает резко отрицательное отношение, особенно у тех, кто,
подобно П. В. Палиевскому («О структурализме в литературоведении», «Знамя»,
1963, № 12), делает акцент на органической природе искусства. С другой стороны,
несмотря на всю принципиальную критику, встречаются утверждения, «что
применение теории информации… имеет методологическое значение» (Л. Переверзев, Информационная эстетика и
связанная с нею проблематика) . Эта точка зрения наличествует также в сборнике
«Содружество наук и тайны творчества» под ред. Б. С. Мейлаха, М., 1968;
особенно в статье М. Сапарова «Художественное произведение как структура»
(указ. соч., стр. 152—173). Ср. также работы М. С. Кагана, который
рассматривает искусство как структурную, функциональную и морфологическую
систему. Важный вклад в рассмотрение принципиальных вопросов литературоведения
сделал М. Б. Храпченко, который, при полном понимании необходимости типологических
исследовании, отстаивает ту точку зрения, согласно которой исторически
обусловленную основу литературного процесса составляет творческая
индивидуальность писателя, его мировоззрение; при этом автор отмежевывается как
от формалистических и антигуманистических, так и от вульгарно-социологических
методов в литературоведении (М. Б. Храпченко, Творческая индивидуальность
писателя и развитие литературы, М., 1970).
27 R. Sсhоbеr, Im Ваnnе der Sprache, Halle, 1968.
28 Luсiеn Sеbаg, Marxisme et structuralisme, Paris, 1964, р. 142; Gеоrg К1аus, Kybernetik und ideologischer Klassenкampf.
In: «Einheit», Bd. 25 (1970), S. 1180—1189.
29 Ноrst Rеdеkеr, Abbildung und Aktion.
Versuch über die Dialektik des Realismus, Halle, 1966, S. 15.
31 R. Sсhоbеr, Das
Kunstwerk — Symbol oder Modell? — «Weimаrеr Beitrage», N. 11,1971.
32 Нugо Friеdriсh, Strukturalismus und Struktur in
literaturwissenschaftlicher Hinsicht. In: «Europäische Aufklärung.
Herbert Dieckmann zum 60. Geburtstag», München, 1967, S. 77.
33 Ноrst
Rеdеkеr, ор. cit.,
S. 18.
34 См. Б. С. Мейлах, указ. соч., см. также «Sinn und
Form», Bd. 22 (1970), S. 801—814.
35 Маnfrеd Вiеrwisсh, Poetik und Linguistik. In.: «Mathematik und Dichtung.
Versuche zur Frage einer exakten Literaturwissenschaft», München, 1965, S.
49—67; «Strukturalismus…», S.
141 и сл. (ор. cit.).
36 Маnfrеd Nаumаnn,
Strukturalismus — bürgerliche Моdephilosophie». In: «Forum», 16 (1969), S. 19.
37 Эти понятия в рецептивной
эстетике не различаются: литературное произведение и его восприятие
соотносятся, по мнению некоторых авторов, как речь и язык (G. Gеnеttе, Structuralisme et critique littéraire,
W.: «Figures», Paris, 1966. р.
167; Н. R. Jаuß, Geschichte der Kunst und Historie. In:
«Literaturgeschichte als Provokation»,
Frankfurt а. М.,
1970. S.
245). Нельзя не согласиться с
433
точкой зрения Э. Д. Хирша (Е.
О. Нirsсh, Jr.,
Objective Interpretation. In:
PMLA, vol., 75, 1960, р. 473—475), который утверждает, что стихотворение или прозаический
художественный текст не
может представлять собой «сегмент языка», такой текст все! Да имеет характер речи, то есть
является «частным случаем, избирательной актуализацией языковой системы». См.
об этом подробнее. Е. О. Нirsсh, Jr., Validity in Interpretation,
New Haven,
1967.
38 Диалектика
литературоведения как исторической системы и систематической истории предмета изучения не
рассматривается структурализмом предлагающим ряд синхронных срезов, охватывающих глобальный литературный процесс,
причем развитие (как процесс) и структура (как данность) координированы. См. об этом: Н.
R. Jаuß, Literaturgeschichte als Provokation, S. 244; автор цитирует (прим. 70) перевод книги Ф. Водички (F.
Vоdičkа, Struktura vy voje), где структура произведения рассматривается как составная часть «более высокой структуры
литературного процесса, который возникает в силу динамического напряжения, существующего между данным конкретным произведением и
системой как нормой» (стр. 247). Однако Х. Р. Яуссу не удалось развить свою интересную идею: поскольку для этого требовалось
выйти за пределы рецептивной эстетики
(см. об этом стр. 31 и сл. данной работы). В своей попытке «преодолеть разрыв между
структурным методом и исторической интерпретацией текста» Яусс, к сожалению, не учитывает работ Юлии Кристевой, которая, ссылаясь
на труды советских ученых, устанавливает
соотнесенности между структурой труда и структурой искусства и рассматривает «текст
как социальную активность». Ср.,
например: «Le Mot, lе
dialogue et le roman»,
в.: «Recherches pour une sémanalyse», Paris, 1969, р. 164—168.
39 Мiсhеl Fоuсаult, Absage an
Sartre, W.: «La Quinzaine littéraire», vol. 5 (1966).
40 С. К. Оgden, I. A. Richards, The Meaning of Meaning,
41 R. Wеimаnn, Erzühlerstandpunkt und «point
of view». Zur Geschichte und Ästhetik der Perspective im
englischen Roman. In: «Zeltschrift für Anglistik und Amerikanistik», Bd.
10, 1962, S. 369—416; относительно координации точки
зрения рассказчика и его героя у
Д. Дефо см.: R. Wеimаnn, Phantasie
und Nachahmung. Drei Stufen zum Verhältnis von Dichtung, Utopie und
Mythos, Halle, 1970, S. 50—57.
42 R. Wеimаnn, Literaturgeschichte und Mythologie, Berlin und Wеimar, Aufbau-Verlag, S. 445. Справедливая и меткая критика функциональных и структурных антиномий современного буржуазного литературоведения содержится в книге о теории художественного восприятия литературных произведений, в которой разрабатываются основные проблемы рецептивной эстетики как эстетики воздействия с марксистских позиций (отв. ред. М. Науман, коллектив авторов: Д. Шлейнштедт, К. Х. Барк и др., в печати).
К РАБОТАМ ЯНА МУКАРЖОВСКОГО
Ян
Мукаржовский
(1891—1975) — чешский литературовед, эстетик и философ, академик, профессор
эстетики Карлова университета в Праге. Мукаржовский в течение долгого времени был
одним из основных и наиболее авторитетных представителей чешской школы структурализма
в литературоведении. В «структуралистском» периоде его творчества — со второй
половины 20-х годов до конца 40-х — можно выделигь три этапа, приблизительно
соответствующих общему процессу развития чешского структурализма: 1) до 1934
года, 2) 1934-1945 годы, 3) 1945-1948 годы. Рубеж, отделяющий зрелый период от
раннего, в течение которого происходило собственно становление структурализма
как новой методологии, когда было осознано его отличие от русского формализма,
приходится на 1934—1935 годы. Именно к этому времени относится «Предисловие к
чешскому переводу «Теории прозы» Шкловского», зафиксировавшее эти отличия.
Деятельность
Мукаржовского нельзя рассматривать изолированно от общей направленности исследований
Пражского лингвистического кружка, активным членом которого он был.
Организованный в 1926 году по инициативе В. Матезиуса (1882-1945), помимо
чешских исследователей (Я. Мукаржовский, Б. Трнка, Я. Рипка, Б. Гавранек, Й;
Вахек), он объединял также русских ученых (Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон, С.
О. Карцевскнй, П. Г. Богатырев). С Пражским кружком были связаны своей
деятельностью Г. О. Винокур, Е. д. Поливанов, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов.
Значительную роль в формировании чисто литературоведческих концепций
структурализма сыграли работы Р. Якобсона, которого вместе с Мукаржовским можно
назвать «отцом» чешского структурализма.
Т.
Виннер определяет четыре концепции, специфичные для раннего периода развития
теории пражских структуралистов: Winnеr T.
G., The aesthetics and роеtiсs of the Prague linguistic circle
«Poetics», The Hague — Paris, 1973, № 8, р. 77—96. См. также реферат Е. А. Цургановой,
РЖ 3.7. 74.03.008 («Общественные науки за рубежом», серия «Литературоведение»).
1.
Представление о художественном произведении как о структуре и само понятие
структуры, заимствованное у Соссюра и переработанное на основе фоне мики
Трубецкого и Якобсона.
2.
Представление о поэтическом языке как о функции, ориен-
435
тированной на определенную цель. Эта концепция, идущая от
русских формалистов, была пересмотрена с точки зрения «полифункциональности»
всей человеческой деятельности иI ее производных, в том числе н художественного
творчества. В реэультате этого любой вид деятельности воспринимался как
обусловленный многими функциями одновременно, хотя в каждом отдельном случае
какая-либо специфическая функция доминировала и становилась стимулом
организации и упорядочения иерархии компонентов человеческой деятельности и ее
объектов. Эстетическая функция, как доминирующая в искусстве, таким образом рассматривалась
как специфическая характеристика литературного языка в противоположность другим
формам словесного выражения, в которых эстетическая функция могла
присутсгвовать, но не быть доминирующей.
Эстетическая
функция — центральная тема исследовании Мукаржовского — определялась самонаправленностью
(samoučelnost) деятельности, то есть в случае с поэтическим языком
ориентацией на само высказывание. Поэтический язык, следовательно, использует
свой материал в основном с целью привлечь к себе внимание, а не для того, чтобы
передать определенную реферативную информацию. Однако за языком отрицалось наличие
какой-либо внутренне присущей ему формальной характеристики, выделявшеи в нем
эстетическую функцию в противоположность другим его функциям. В дополнение к
эстетической функции, являющейся необходимым условием произведения искусства,
лю~ое литера:урное произведение обладает множеством других функции (Мukаřоvskу J., О součаsné
роеtiсе. «Рlàn», 1: 7; Cestami poetiky аestetiky, Praha, 1971, str.
99—115, а также Поляков М. Я., Цена
пророчества и бунта, М., 1975. стр. 73—88). Поэтичность языка, таким образом,
воспринималась не как характеристика самого языкового высказывания, но скорее
как аспект отношения к высказыванию как со стороны говорящего (писателя), так и
слушателя (читателя). Впоследствии этот подход был развит Якобсоном в его теории
«6 факторов и их функций в процессе высказывания», понимаемого как акт
коммуникации (см. наст. сборник и в словаре термин «функция»).
3.
Третьей чертой, характерной для складываюшегося структурализма, была попытка,
хотя и не получившая последовательного осуществления, преодолеть принцип
имманентности художественного проиаведения, выдвинутын русским формализмом (см.
полемику Мукаржовского со Шкловским в «Предисловии К чешскому переводу «Теории
прозы» Шкловского»). Надо сказать, что уже в рамках формализма функциональныи
подход, идущии от Ю. Тынянова, привел к мысли, что внешние «влияния» на
литературу подвергаются в ней трансформации и абсорбируются (см. критику теории
«внешних влияний» в статьях К. Конрада в наст. сборнике). Точка зрения
функциональной корреляции системы литературы со смежными внелитературными
системами («другими рядами» — по обычной терминологии формалистов) была
отчетливо выражена в тезисах Тынянова и Якобсона «Проблемы изучения литературы
и языка» (<<Новый Леф», 12, 1928) В частности, 8-й тезис гласит, что
чистая имманентность обозначает только возможность дальнейшего развития литературы,
однако темп развития и его конкретное направление могут быть определены только
через анализ взаимосвяэи литературной системы со смежными системами.
В статье
1935 года (Мukаřоvskу J.,
Poznámky k sociologii básnického jazyka, «Slovo а
slovesnost», Ргаhа, № 1, 1935) Мукар-
436
жовский более четко, чем в «Предисловии», изложил свою позицию в
вопросе отношения литературы к «внелитерагурным структурам». Он наметил три
подхода к этой проблеме. Первый — при помощи понятия «темы» или содержания
литературного проиэведения, поскольку содержание для Мукаржовского отражает
социальную ценность и возникает вне пределов пронаведения. Сам он предпочитает
решать эту проблему, обращаясь к концепции эстетической функции, доминирующей в
искусстве, но присутствующей во всей человеческой деятельности. Проблема
взаимоотношения литературы, общества и культуры рассматривалась Мукаржовским
также с точки зрения языка литературного произведения, поскольку он считал, что
любой уровень языка имеет определенные, прямые или косвенные, социальные смысловые
оттенки. Однако так как эстетическая функция посредством «художественной
деформации», по его мнению, изменяет прямое отношение языка к обществу, он
приходит к выводу, что языковые уровни в литературе не могут быть прямо сведены
к уровням социальной дифференциации.
4.
Четвертой чертой, характерной как для чешского, так и польского структурализма
в противоположность французскому и русскому, является сближение синхронического
и диахронического планов анализа, ярко выраженный акцент на единстве структуры
и процесса. Этим объясняется внимание Мукаржовского к истории литературы и
проблемам литературной эволюции, всегда бывших в центре его исследований. Наиболее
отчетливо этот подход был им продемонстрированв «Предисловии».
В 1936
году вышла работа Мукаржовского «Искусство как семиологический факт»
(«Uměni jako sémiologický fakt», «Studie z estetiky», Praha,
1966), ознаменовавшая новый этап в развитии его взглядов. Основываясь на идеях
Ф. де Соссюра и Э. Гуссерля (в 1936 году Э. Гуссерль прочел в Пражском лингвистическом
кружке лекцию «Феноменология яаыка»), Мукаржовский первым в истории
литературоведения изложил систематические предпосылки семиотического подхода к
анализу художественного произвсдения. Он предл.ожил рассматривать литературное
произведение как знак, являющиися посредником между писателем и его читателем,
а литературу как процесс коммуникации, как непрерывный диалог между автором и
публикой. Мукаржовский считал, что произведение искусства не находится в
однозначной каузальной связи ни со своим творцом, поскольку не является прямым
выражением души своего автора, ни с воспринимающим его читателем, так как его
нельзя идентифицировать с психическим состоянием (аффектом), вызываемым им в
последнем. На этом основании чешский исследователь смоделировал структуру
художественного знака и его трех компонентов:
1)
«произведение как вещь» (dílo·— věс), или артефакт (соссюровское
«означающее»), 2) эстетический объект («означаемое») и 3) возникающее в данном
случае отношение к обозначенному предмету, который, если мы имеем дело с
художественным, автономным знаком, направлен на «тотальный контекст», то есть
на все социальные феномены, окружающие знак в качестве контекста. При этом
Мукаржовский оговаривается, что произведение искусства нельзя считать
идентичным контексту, поскольку в его интерпретации искусство не является ни
свидетельством специфических
437
особенностей какой-либо эпохи, ни ее отражением, оно просто
выражает «контекст», хотя и крайне диффузным способом.
Следовательно,
Мукаржовский различал в художественном произведении артефакт — материально
данный смысловой символ («форма», «вещественность», материальный объект), и
эстетический объект — нематериальное значение произведения-знака, значимый
коррелят артефакта в коллективном сознании читателей, обусловленный уровнем
исторического развития этого коллективного сознания. Закреплением знака в
коллективном сознании Мукаржовский пытался связать литературный процесс с
социальным.
Как
пишет Ганс Гюнтер (Günthег, Hans, Die Коnzерtiоп der litеrаrisсhеn
Еvоlutiоn im tsсhесhisсhеn Structuralismus, «Alternative», Вегlin, 1971, N2
80), неизменный в своем строении артефакт, хотя и является источником смысла,
конституируемого совместно с читателем, отправной точкой для всех конкретизации
художественного произведения через восприятие реципиентов, он в «своей
тотальности» не редуцируется до артефакта, под воздействием постоянно
изменяющихся систем эстетических норм меняется и конкретизируется также и
спектр эстетического объекта. В «тематических искусствах», связанных своей
темой с определенным предметом действительности, Мукаржовский наметил
дополнительную «антиномию» между коммуникативной функцией темы и эстетической
функцией (см. его работу «Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве» в
наст. сборнике).
В своем
большом исследовании «Эстетическая функция, норма и эстетическая ценность как
социальные факты» (Мukаřоvskу J.,
Estetická funkce, nоrma а hodnota jako sociálni fakty, Рrаhа,
1936) и в последующих работах 40-х годов чешский ученый окончательно сформулировал
свою доктрину, основные положения которой заключаются в следующем.
Искусство
— область доминирования эстетической функции, именно она своим воздействием поддерживает
и обеспечивает в процессе исторического развития восприятие художественного
характера предмета искусства, испытывающего постоянное давление внеэстетических
функций и их норм, «стремящихся лишить его этого качества.
Эстетическая
норма — мера измерения внутреннего процесса развития искусства, требующая одновременно
как признания своей абсолютной законности, так и своего разрушения и
постоянного создания новых норм.
Эстетическая
ценность — способность какого-либо предмета (например, литературного произведения)
вызыватъ в воспринимающем «эстетический жест» (gesto). Удастся ли данному
предмету это сделать и таким образом стать носителем доминирующей эстетической
функции, не зависит от произвола воспринимающего субъекта, поскольку между ним
и воспринимаемым объектом имеется находящееся в процессе постоянного развития
актуальное состояние коллективной системы эстетических норм, которые и
определяют область носителя эстетической функции.
Со своей
стороны эстетическая функция превращает каждый предмет, который ее в себе
несет, в некоторое единство материального носителя и нематериального значения.
Историческая изменчивость эстетической ценности, следовательно, определяется
актуальными эстетическими суждениями, которые относятся к эстетическому
объекту. В то же время независимая объективная ценность обуслов-
438
ливается способностью неизменного артефакта постоянно
становиться носителем эстетического объекта. Таким образом, артефакт может быть
носителем лишь потенциальной ценности, которая становится актуальной только в
определенных условиях, зависящих от общественного коллектива.
Отождествляя
эстетический объект художественного произведения с нематериальным значением знака,
Мукаржовский в то же время придавал значению, следуя за Гуссерлем, автономное
существование в коллективном сознании (см. критику теории «коллективного сознания»
Штоллом в его статье в наст. сборнике).
Нельзя
не отметить, какое важное значение имел для концепций Мукаржовского
феноменологический метод Гуссерля. Именно этим можно объяснить типично
гуссерленский разрыв между артефактом как «сущностью» И эстетическим объектом
как его «существованием », в условиях которого артефакт не имеет подлинного
существования вне направленного на него интенционального акта мысли, конституирующего
его сущность. Да и само понятие «преднамеренности» (см. статью Мукаржовского в
наст. сборнике), вносимой в произведение его автором или читателем, явно несет
на себе следы влияния теории интенциональности Гуссерля.
К ПРЕДИСЛОВИЮ К ЧЕШСКОМУ
ПЕРЕВОДУ«ТЕОРИИ ПРОЗЫ» ШКЛОВСКОГО
Потебня
А. А.
(1835—1891) — украинский и русский лингвист. На основе идей В. Гумбольдта выдвинул
теорию «внутренней формы слова» как образного его понятия. Потебня считал, что
в слове содержится противоречие между чувственным образом и абстрактным значением.
Из полисемантичности языка вывел «формулу поэтичности»: А (образ) < Х
(значения); из этой многозначности, по его мнению, возникла символичность,
специфичная для искусства: «символизм языка, по-видимому, может быть назван
поэтичностью» (Потебня А. А., Из
записок по теории словесности, Харьков, 1905, стр. 314). Его концепции оказали
сильное влияние на теории русских символистов.
Гербарховский
формализм —
действительно не являлся для русских формалистов такой злободневной реальностью
как для самого Мукаржовского. Пражская школа эстетики, опирающаяся на
эстетические теории немецкого философа Иоганна Фридриха Гербарта (1776—1841),
сложилась под влиянием О. Гостинского (1847—1910) и включала в себя З. Неедлы,
О. Зиха и Мукаржовского. Чешский исследователь Олег Сус вообще считает, что
влияние русского формализма на чешский структурализм сильно преувеличивается в
противовес воздействию Пражской школы эстетики (Sus О., К předpokladu vzniku české
strukturalisticke sémantiky а sémiologie, «Estetika », 1: 2,
Praha, 1964; «Typologie tzv. slovanského formalismu а problem
рřесhоdu od formalnich škol k strukturalismu,
«Československé рřеdnàsky рго VI. mezinárodni
sjezd slavistu», Praha, 1968) .
439
К СТАТЬЕ ЦВЕТАНА ТОДОРОВА
«ПОЭТИКА»
Цветан
Тодоров (род. в
1939 г. в Болгарии) — представитель младшего поколения французской школы
структурализма, примыкает к группе «Тель кель», хотя занимает в ней несколько
обособленное положение. Тодоров является активным пропагандистом на Западе теоретического
наследия русских формалистов, в 1965 году он выступил редактором издания
отдельных их работ на французском языке (е'Птёопе de 1а litterature: Textes des
Formalistes russes», Paris, 1965). Главная сфера его интересов лежит в области
структурной поэтики, и публикуемая в настоящем сборнике работа характерна как
для деятельности самого Тодорова, так и для новейших тенденций структур
но-семиотических исследований. Основные усилия критика концентрируются на
попытках выйти в своем анализе на сверхфразовый уровень, и здесь как признак
новых веяний в развитии французского структурализма стоит отметить активное
обращение ученого к опыту «новой критики» В широком смысле слова, и прежде
всего к опыту американской «новой критики».
Это в
первую очередь касается таких понятий, как регистры, модусы, время, точка
зрения, залог, временная и логическая организация и пространственная
организация текста, которые давно разрабатываются различными направлениями
критики ХХ века и вне пределов собственно «лингвистического литературовецения».
Сама множественность приемов, не связанных единой системой, свидетельствует об
известной эклектичности подхода Тодорова, что, впрочем, вполне объяснимо: ни
единой теории литературного текста, ни литературного дискурса на данном этапе
развития структурной поэтики пока еще не существует, хотя и ведется активная
работа в этом направлении.
Основные
единицы повествовательной модели Тодорова: повествовательные предложения,
эпизоды и текст, последовательно трансформирующиеся друг в друга. Следует
отметить, что неоднократно высказывавшиеся мысли о многоуровневом характере
структуры организации текста еще не получили своего адекватного воплощения в
структурной поэтике, как в этом можно убедиться на примере данной работы. Иерархическая
соотнесенность различных по величине и организованности единиц членения текста,
ясная в теоретическом плане, нуждается в дальнейшем конкретном угочнении.
Очевидно, это в значительной степени обусловлено тем, что, с одной стороны,
характер преобразования единиц одного уровня в единицы другого не одинаков на
всех уровнях, а с другой — сам механизм этого преобразования во многом еще остается
непонятным и не может быть полностью объяснен имеющимися в наличии законами
структурирования, что, в общем, свидетельствует о неадекватности этих законов
стоящим перед ними задачам. В рецензии на «Поэтику прозы» Тодорова Т. Г. Павел
пишет: «Я склонен думать, что анализ Тодоровым эпизодов непосредственно
по предложениям может быть эффективным только для очень простых
повествовательных структур. Мне кажется, что предикаты (или функции, в терминах
Проппа) организованы иерархично. В таком случае эпизоды (из предикатов) не
образуют единого уровня, но, скорее, конституируют многоуровневую организацию
таким же образом, как это делают непосредственные конституенты лиигвисгического
предложения» («Poetics», 11, 1974, р. 128). С еще большим основанием эти претензии
можно отнести к проблеме трансформации эпизодов
440
в текст — вопрос, менее всего
теоретически обоснованны Тодоровым, так как само понятие целостного текста
отдельного художественного произведения объявляется в принципе несущественным
для структурной поэтики.
Смысл
деятельности Тодорова и направленность его поисков становятся ясными, если
учесть, что собственно литературный текст лежит вне круга его интересов.
Предмет его исследования — дискурс: дискурс относится к акту высказывания, а
текст к высказыванию, то есть текст — это материализованный (вербализованный)
дискурс. Следовательно, Тодоров анализирует не материальные тексты, а зафиксированные
в них ментальвые структуры — «литературный дискурс», который с известной
приближенностью можно назвать «литературным способом мышления». Сама по себе
задача очень интересная, но решаемая пока крайне абстрактно.
Степень
этой абстракции отчетливо осознается самим исследователем, призыввющим в конце
своей работы перейти от изучения «литературного дискурса» к изучению природы
дискурса вообще.
К
стр. 104
Необоснованно
заниженная оценка Цв. Тодоровым художественных достоинств произведений Н. Г.
Чернышевского отражает давно устаревшую в науке точку зрения.
Основные работы Тодорова: Littérature et Slgnifiсаtion, Paris, 1967; «Formalistes
et futuristes», .«Теl Quel», .3?, 1968; Introduction а 1а littérature
fantastique, Раris, 1970; Pooétique de lа prose, Paris, 1971; Ducrot O. et Todorov Tz., Dictionnaire Еncycloреdiquе des scicnces du langage,
Рапs, 1972.
К СТАТЬЕ РОЛАНА БАРТА «ОСНОВЫ
СЕМИОЛОГИИ»
Ролан Барт
(род. в 1915 г.) — наиболее крупный представитель современного французского
структурализма, особенно велика была его популярность в 60-е годы у
литературоведов, занимавшихся структурно-семиотическими исследованиями. В
эначительнои степени на концепции Барта опирается в своих исследованиях группа
«Тель кель» (Ф. Соллерс, Ю. Кристева, Цв. Топоров, Ж. Рикарду, Ж. Женетт и
др.), хотя сам Барт с этой группой органнзационно не связан.
Собственно,
основные интересы Барта лежат не столько и не только в области литературы и
литературоведения, сколько в разработке теории общей семиологии как науки,
изучающей принципы функционирования знаковых или кодовых систем, включающих в
себя и ненаправленные коммуникативные процессы (проблема передачи значения в
системах архитектуры, дизайна, моды и т.д.). (Более подробно о французской
семиологической школе и ее отличии от семиотики Пирса — Морриса см. Левин А. Е., Принципы семиологического
анализа, «Вопросы философии», № 9, 1974.)
«Основы семиологии»
Барта, опубликованные в журнале «Коммюникасьон» в 1964 году («Communications»,
IV, 1964), можно одновременно считать работой, полводящей итоги первого периода
развития французского структурализма в начале 60-х годов, и вве-
441
дением в курс современного структурно-семиотического анализа,
так как она дает возможность познакомиться с терминологическим инструментарием,
необходимым для овладения техникой стилистического структуралистского анализа.
Одной из особенностей этой работы Барта следует назвать его стремление строго
придерживаться соссюровской терминологии, что на много лет вперед определило
своеобразие французского структурализма.
Характеристику
взглядов Барта можно найти в статьях Р. Веймана и Х. Тодорова, помещенных в настоящем
сборнике, а также в работе Н. Ржевской «Неоформалистические тенденции в
современной французской критике» (сб. «Неоавангардистские течения в зарубежной
литературе 1950—1960 гг.», М., 1972, стр. 190—238).
Основные
работы Барта: Le Degré zéro de l’écriture, Paris, 1953;
Michelet раr lui-même , Paris, 1954; Mythologies, Paris, 1957; Sur
Racine, Paris, 1960; Essais critiques, Paris, 1964; Critique et
Vérité, Paris, 1966; Le Systeme de 1а Mode, Рапв, 1967; «S/Z»,
Paris, 1970.
…раствориться
в транслингвистике…
Исследование Барта было написано до появления особого направления в лингвистике
— лингвистики текста, сконцентрировавшей свои усилия на создании теории текста
и грамматик текста. В течение долгого времени, да и сейчас, многие ученые
придерживаются той же точки зрения; в языкознании преобладала концепция,
согласно которой лингвистика кончается за пределами фразы (а позднее —
высказывания), хотя метод актуального членения текста был уже давно разработан
Пражским лингвистическнм кружком. Любопытно, что новая дисциплина в поисках
новой методологии обратилась к опыту литературоведения, к идеям Проппа,
Шкловского и Якобсона. (См. Drеsslеr W.,
Einführung in die Textlinguistik, Tübingen, 1972; а также реферат В.
Ф. Конрадовой на эту книгу в РЖ 2.6.74.02.014 — «Общественные науки за рубежом»,
серия «Языкознание».)
Фанатизм
— понятие психоанализа, обозначающее «образ», «клише», «ви́дение» как
прямой результат влияния модальностей бессознательного и, следовательно,
лежащее вне пределов критического сознания. Чаще всего интерпретируется как
продукция воображения, посредством которого я стремится избежать воздействия
реальности.
К стр.
119
Magnanimus
(лат.) (Magnus +animus) — благородный, великодушный.
Произвольный — о произвольном характере знака см. в словаре статью «знак».
К стр.
121
Дюркгейм и Тард — французские социологи. Э. Дюркгейм (1858-1917) считал,
что «социальные факты» (общественные учреждения, законы, установления) надо
трактовать как вещи, являющиеся надындивидуальным продуктом общества, как
порождение коллективного сознания, имеющего характер целостной системы. В
противоположность Дюркгейму Г. Тард (1843—1904) полагал,
442
что основным принципом существования общества является
психология индивида, обладающего способностью к подражанию, что и обеспечивает
его приспособление в обществе, порождает общественные нормы и ценности.
К
стр. 121
Мерло-Понтu М. (1908—1961) — французский философ-экзистенциалист,
разрабатывавший в плане «экзистенциальной коммуникации» понятие «дискурса» (см.
в словаре термин «дискурс»). От Мерло-Понти идет строгое разграничение между
говорящим субъектом и языком, понимаемое как различие между существованием в
смысле дискурса, с одной стороны, и объективированными словами как единицами
физического мира или чувственных данных — с другой. Иными словами, существует
типичная экзистенциалистская антиномия между субъективным высказыванием и тем
его объективным характером, который оно автоматически приобретает. Как только
оно уже высказано (Merleau-Ponty M.,
Phénoménologie de lа perception, Paris, 1945).
Для
Мерло-Понти здесь было важно подчеркнуть невозможность передачи в акте
коммуникации того, что является собственно экзистенциальным. Хотя эта задача и
не являлась столь актуальной для неопозитивистски настроенных лингвистов, тем
не менее постановка этой проблемы помогла им разграничить «акт высказывания»
(énonciation) и «высказывание» (énoncé), более адекватным
переводом которых было бы «высказывание» и «высказанное» (см. в словаре)
Впоследствии чисто экзистенциальный аспект осмысления этих понятий стал ослабевать,
однако сила его воздействия еще продолжает ощущаться.
К
стр. 122
fаshiоn-grouр (англ.) — коллектив, создающий новые фасоны одежды,
например fashion-group Зайцева при Московском доме моделей.
К
стр. 138
mutton/sheep (англ.) — «баранина» и «баран».
К
стр. 139
articuli
(лат.) — здесь раздельные единицы, дифференцированные по отношению друг
к другу.
К
стр. 152
bush-telegraph (англ.) — система передачи сообщений при помощи дымовых
сигналов или барабанного боя (talking drum «говорящий барабан») у
некоторых первобытных народов.
К
стр. 153
К
стр. 156
Félibres/febriles — febrile — лихорадочный. Felibres
— фелибры, поэты и писатели, создававшие свои произведения на Лангедоке и
принадлежавшие к школе «Фелибрижа», основанной в Провансе в 1854 году.
443
К СТАТЬЯМ РОМАНА ЯКОБСОНА И КЛОДА
ЛЕВИ-СТРОССА
Р. О. Якобсон (род. 1896 г.) — крупный лингвист, литературовед, выпускник
1914 года Лазаревского института восточных языков в Москве, активный член
ОПОЯЗа и Пражского лингвистического кружка, в настоящее время профессор
славянских языков и литературы в Гарвардском университете и Массачусетском
технологическом институте в США. Публикуемая в настоящем сборнике работа, в
основе которой лежит его выступление на конференции «Стиль в языке»,
организованной в 1958 году в США Комитетом по лингвистике и психологии при
Совете социальных научных исследований, по общему признанию, послужила одним из
основных импульсов к развитию структурализма 60-х годов и является в данное
время хрестоматийным источником ссылок и цитат для структуралистов. Особое
влияние имела сформулированная здесь Якобсоном теория акта коммуникации. Другой
такой же хрестоматийной работой —
практическим образцом применения методологии, разработанной Якобсоном,
служит анализ «Кошек» Бодлера, осуществленный в сотрудничестве с одним из
крупнейших современных этнологов К. Леви-Строссом (род. 1902 г.). (См. подробный
разбор методологии Якобсона Мунэном и антропологических взглядов Леdи-Стросса
Парэном в настоящем сборнике.)
Избранные
труды Якобсона издаются в 7 томах с 1962 года (Jаkоbsоn R., Selected writings, Gravenhague, 1962).
Основной
фундаментальный труд Леви-Стресса — четырехтомник «Мифологичные» (Lеvi—Strauss C., Mythologiques, vo1. 1— 4.
1964— 1971). Подробный реферат Е. М. Мелетинского 4-го тома «L’homme nu»
(Paris, 1971) см. в реферативном сборнике «Направления и тенденции в
современном зарубежном литературоведении и литературной критике», выпуск 1,
«Панорама современного буржуазного литературоведения и литературной критики»,
М., 1974, стр. 81— 97. О других работах Леви-Стросса см. в статье Парэна в
настояшем сборнике. См. также Мелетинский Е.
М., Клод Леви-Стросс и структурная типологии мифа. — «Вопросы
философии», 1970, № 7; его же, Мифологические теории ХХ века на Западе, там же,
1971, № 7.
К СТАТЬЕ СЛАВИНЬСКОГО «К ТЕОРИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА»
Януш
Славиньский —
польский литературовед, теоретик литературы, критик, в настоящее время активно
занимается вопросами семиотики литературы, главный редактор серии «Из истории художественных
форм в польской литературе», издаваемой ПАН.
Основные работы Славиньского: Glоwiński М., Okopień
Аl., Slawiński J., Zarys teorii literatury. PIW. 1961; Slawiński J. Koncepcja języka poetyckego аwаngаrdу krakowskiej, Wroctaw. 1965; О kategorii
podmiotu lirусznеgо. Tezy referata, [w:] Wiersz i poezja red. J. Trzynadlowski, Wroclaw, 1966; Problemy
sociologii literatury (red).
444
К СТАТЬЕ ИРЖИ ЛЕВОГО «ТЕОРИЯ
ИНФОРМАЦИИ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС»
Иржи
Левый
(1926—1967) — чешский литературовед, теоретик перевода и стиха, на русском
языке публиковался в сборниках «Мастерство перевода» за 1966, 1968 и 1969 годы.
В сборнике «Семиотика и искусствометрия»,
М., 1972, помещена его статья
«Значения формы и формы значений» (стр. 88—107). См. также Левый И., Искусство перевода, М., 1974.
Статья
«Теория информации и литературный процесс» представляет собой обзорную работу о
возможности применения модели акта коммуникации к литературному процессу
главным образом на основе концепций французского ученого А. Моля (Моль А., Теория информации и эстетическое восприятие, М., 1966, вышла в
Париже в 1958 г.) Примечательна чрезвычайная осторожность Левого, постоянно
подчеркивающего ограничительный характер применения этой модели. Следует
учесть, что эта работа была одной из первых на фоне повышенного интереса к
структурно-семиотическим исследованиям в начале 60-х годов и поэтому,
интересная постановкой проблемы, она страдает известной терминологической
некорректностью.
К
стр. 278
Математика и лингвистика… дисциплины низшего порядка. Утверждение, что математика
и лингвистика — дисциплины низшего порядка по сравнению с литературоведением, в
условиях все усаливающегося процесса математизации самых различных научных
дисциплин выглядит забавным рецидивом «спора о физиках и лириках» и довольно
парадоксально в устах поборника новых методов. Математика (прежде всего как
математическая логика) выступает все чаще в качестве формализованного языка
описания (метаязыка) для языков других наук, и в том числе гуманитарных.
Разумеется, абстрактный. умозрительный характер математики обусловлен тем
фактом, что она является наукой о формах и отношениях, абстрагированных от
действительности, то есть о формах, отвлеченных от содержания, и о самых общих
системах отношений, что в свою очередь вызывает необходимость в науках о
конкретном содержании и свойствах тех или иных предметов (явлений)
действительности. Поэтому математика не может подменить ни литературоведения,
ни какой-либо другой научной дисциплины, каждая из которых принадлежит «высшему
порядку» там, где имеется специфический предмет ее исследования.
К
стр. 283
…к понятию масштаба избыточности, что является параметром,
характеризующим код (или субкод) , а вовсе не канал. — Левый пытается здесь
следовать за Молем, различавшим «избыточность сообщения», которая служит
статистической мерой того, что в сообщении передано лишнего, то есть
«сверхнеобходимого», и «пропускную способность канала»: «Максимальная
информационная емкость (или максимальная пропускная способность) канала может
быть полностью использована только приемщиком, ровно ничего не знающим о том,
что может быть ему передано» (Моль А., Теория информации и эстетическое
восприятие, стр. 114).
445
К
стр. 283
…отсутствует особая интонация, ударение, тон голоса (ирония и
т.д.). Данный
круг проблем, не очерченный, впрочем, автором достаточно четко, является,
собственно, предметом исследования паралингвистики — науки, образовавшейся под
воздействием семиотики лингвистики, психологии, этнографии, культурной
антропологии и медицины и изучающей знаковые высказывания, сопровождающие языковое
общение людей (интонация, жестикуляция, манера говорить, тембр). (См. Хаймз Д. Х., Общение как этнолингвистическая
проблема, «Вопросы языкознания», 1965, .№ 2, а также Степанов Ю. С.,
Семиотика, М., 1971, раздел «Этносемиотика» и библиография к нему.)
К
стр. 285
…аксиоматический подход современной математики… с помощью
алгоритмов. Как
раз на основе уточнения понятия алгоритма и его строгого определения в 30-х
годах ХХ века, освободившего его от расплывчатости и субъективизма, возникло конструктивное
направление в математике, не сводимое к аксиоматическому методу построения
теории.
…впечатления, которые автор воспринял по каналам своих чувств,
закодированы в языковые сигналы. Как и в предыдущем случае (стр. 279 и сл.), в объяснении
«литературного процесса» как акта коммуникации автор сводит творческий процесс
к пассивному отражению «элементов объективной реальности и субъективного опыта»
в сознании писателя, явно недооценивая целенаправленный и преобразующий
характер творческой деятельности.
К
стр. 286.
«Появление изохронности (случайной предсказуемости. — И. И.),
какой бы приближенной она ни была, вызывает, как только она становится
воспринимаемой, ожидание — главное условие предсказуемости… Понятие
ритма связано с понятием ожидания: после какого-то события ожидают следующего,
и это является критерием ритма» (Моль А.,
стр. 121). (ср. также понятие «рифменного ожидания» в книге: Тынянов Ю., Проблема стихотворного языка,
М., 1965, стр. 58—60.)
Стохастический — случайный, или вероятностный.
К
стр. 292
Интерференция — понятие, заимствованное из физики, где оно означает взаимное
усиление или ослабление волн (световых, звуковых, радиоволн) при наложении их
друг на друга.
К
стр. 295
…к антиномиям Зиха. Вряд ли можно согласиться со столь категорично выраженными
утверждениями. В их основе лежит упрощенно понятая драматичность в смысле
внешней театральности; самым драматичным в таком случае оказывается пантомима —
«сцена драки, а не монолог ”Быть или не быть“». Примеры Шекспира, Расина,
Брехта и «Норма» Беллини служат убедительным опровержением этих антиномий,
равно как и балетная музыка Чайковского и Прокофьева. Неубедительность
аргументации Зиха очевидна и для Левого, указавшего на формалистическое
понимание «поэтичности» Зихом.
446
К
стр. 302
Оригинальность. Понятие «оригинальности» Моля вытекает из его понятия
«информации», лишенной смыслового значения и являющейся лишь мерой сложности
сообщения. Чем больше «избыточность», определяемая внутренней организацией
сообщения, то есть чем оно понятней, тем меньше его «оригинальность» И,
следовательно, количество информации. «Мера информации есть, таким образом,
мера непредвиденности сообщения, мера неопределенности некоторой ситуацию>.
(Вступительная статья Б. В. Бирюкова и С. Н. Плотникова к «Теории информации и
эстетическому восприятию» А. Моля, стр. 15.)
Советский
математик Ю. А. Шрейдер (сб. «Проблемы кибернетики», вып. 13, М., 1965) подошел
к этой проблеме с другой стороны на основе предположения, что полное незнание
предмета не позволит познавательно интерпретировать поступающую о нем информацию,
в частности сообщение на каком-либо языке для лиц, этим языком не владеющих, будет
бессмысленным. Для этого нужен определенный запас знаний, который может быть
представлен как тезаурус — словарь с заданными связями. Таким образом, чем
богаче, сложнее тезаурус, тем содержательнее воспринимается информация, то есть
чем больше наши знания, тем больше извлекаемая информация, пока она не перестанет
обогащать тезаурус новыми связями.
На
основе исследований в области теории стиха и стиховедения А. Н. Колмогоров
выдвинул формулу энтропии языка: Н = h1 + h2, где h1
— информационная емкость языка, то есть его способность передавать определенное
количество различных идей в данном языковом сообщении, и h2 —
показатель гибкости языка, его способность излагать одно и то же содержание
несколькими равноценными способами. Если формальные ограничения, налагаемые
стихотворной формой (выраженные через коэффициент β), больше или равны
гибкости языка (β ≥ h2) , то поэтическое
творчество на данном языке невозможно. Ю. М. Лотман с точки зрения
«писательского» и «читательского» взгляда на литературный текст уточнил формулу
Колмогорова. «Читательскую» точку зрения он обозначает как Н = h1
+ h'1.
Поскольку «для читателя в тексте, воспринимаемом как художественно совершенный,
случайного нет» и он видит в поэзии «не средство сказать в стихах то, о чем
можно сообщить и прозой, а способ изложения особой истины, не конструируемой
вне поэтического текста», то энтропия h2 воспринимается как h1,
т. е. гибкость языка превращается в добавочную однозначную информацию (Лотман Ю. М., Структура художественного текста, М., 1970, стр. 40).
Читатель может встать и на «авторскую» точку зрения (Н = h2 +
h'2),
когда «начинает ценить виртуозность и склонен к h1 → h'2 (воспринимать и общеязыковое
содержание текста лишь как предлог преодоления поэтических трудностей)» (там
же, стр. 41). В конечном виде формула энтропии художественного текста получает
у Лотмана следующее выражение: Н = h1 + h2,
где H1 = h1 + h'1, а H2 = h2 + h'2.
Курт
Конрад (род.
1908 г., в 1941 г. погиб в фашистских застенках) — чешский теоретик литературы,
журналист, историк, член КПЧ с 1928 года. К. Конрад был человеком самого
разнообразного
447
и яркого дарования. Его с полным правом можно назвать одним из основателей чешской марксистской историографии. Помимо современных ему событий гражданской войны в Испании, он занимался историей гуситских войн, событиями 1848 года в Богемии, английским чартизмом. Он был также одним из первых в Чехословакии теоретиков социалистического реализма, и именно ему принадлежит заслуга определить отношение формирующейся в его стране марксистской эстетики к структурализму. Считается, что на основании критики Конрада чешский структурализм, и Мукаржовский прежде всего, в своем дальнейшем развитии пытался учитывать принцип историзма. Перепечатываемые статьи взяты из журнала «Středisko». Основные работы были собраны в сборнике: Коnrad К, Ztvártnětе skutčnost, Praha, 1963.
К СТАТЬЕ ЛАДИСЛАВА ШТОЛЛА «ОТ ОБОБЩЕНИЯ К ДЕГУМАНИЗАЦИИ ИСКУССТВА»
Ладислав
Штолл (род. 1902
г.) — чешский критик-марксист, член ЦК КПЧ, директор Института чешской и
мировой литературы ЧСАН. Еще в начале своей деятельности в 30-е годы выступил
теоретиком искусства социалистического реализма. Основная сфера научной
активности Штолла — актуальные вопросы социалистической культуры и идеологии,
марксистская наука о литературе, чешская прогрессивная литература ХХ века.
Основные работы Штолла: Stоll L.,
Třiсеt let bojù za českou socia1istickou poesii, Ргаhа, 1950; О tvar
а strukturu v slovesnem
uměni, Ргаhа, 1966; Z. bojù nа levé frontě, Praha, 1964; Uměni а
ideologický boj, Dil 1—2.
К СТАТЬЕ ПАНТЕЛЕЯ ЗАРЕВА «ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И
СТРУКТУРАЛИЗМА»
Пантелей
Зарев (род. 1911
г.) — болгарский
литературовед и критик,
член ЦК БКП, вице-президент БАН и председатель Союза писателей Болгарии,
профессор Софийского университета, с 1957 года — главный редактор журнала «Литературна
мисъл». Большое
место в исследованиях Зарева занимают вопросы истории литературы, творчество
болгарских писателей XIX—XX веков и теоретические проблемы. Его книга «Проблемы
развития болгарской литературы» (1949) была удостоена Димитровской премии
(1950) .
Основные сочинения: Зарев П., Българска
литература, София, 1950; Иван Вазов — народен писател, София, 1950; Стил и
художественност, София, 1958: Богатството на литературният процес и
социалистическият реализъм, София, 1960; Класика и съвременост, София, 196];
Христо Ботев. Литературно критически очерк, София, 1963; Панорама на болгарока
литература, т. I-IV, 19661974.
448
К СТАТЬЕ ЖОРЖА МУНЭНА «БОДЛЕР В СВЕТЕ КРИТИКИ СТРУКТУРАЛИСТОВ
Жорж
Мунэн —
французский лингвист, профессор общего языкознания факультета литературы и общественных
наук университета города Экс-ан-Прованс, член ФКП. Мунэн занимается проблемами
истории и теории лингвистики, вопросами взаимоотношения структурной лингвистики
И исторического и диалектического материализма
Основные работы Мунэна: Mounin G., Les
problèmes théoretiques de la traduction, Paris, 1963; La machine
à traduire, La Haуe, 1964; Histoire de la linguistique, Paris, 1967;
Poésie et société, dex. ed., Paris, 1968; La linguistique
du ХХ-e siecle, Paris, 1972; Clefs pour la sémantique, Paris, 1972.
К СТАТЬЕ РОБЕРТА ВЕЙМАНА «ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И СТРУКТУРАЛИЗМ»
Роберт
Вейман —
немецкий (ГДР) литературовед, историк и теоретик западной критики ХХ века. Его
перу принадлежит самое фундаментальное марксистское исследование современного
буржуазного литературоведения, посвященное анализу методологии англо-американской «новой критики» (Вейман Р., «Новая критика» и развитие буржуазного
литературоведения. История и критика методов интерпретации, М., 1965).
Помещенная в настоящем сборнике работа является разделом из подготавливаемой
публикации на русском языке его книги «История литературы и мифология».
Основные работы Веймана: Wеimаnn R., Drama und Wirklichkeit in der Sheakespearezeit,
Halle, 1958; Die Literatur der «Angry Young Меn». Ein
Beitrag zur Deutung englischer Gegenwartsliteratur », in ZAA, Jg. 7 (1959), S.
117-]89; „New Criticism“ und die Entwicklung bürgerlicher
Literaturwissenschaft, Halle, [962; Literaturgeschichte und Mythologie, Berlin
— Weimar, 1971.
И. Ильин
© Издательство «Прогресс», 1975, комментарии
СЛОВАРЬ
ТЕРМИНОВ ФРАНЦУЗСКОГО СТРУКТУРАЛИЗМА
В
словаре представлены, насколько это было возможно при его объеме, наиболее
часто встречающиеся и характерные для литературоведческих работ
структурно-семиотического плана термины. Преимущественно французская ориентация
словаря объясняется тем, что именно во Франции были предприняты самые
энергичные усилия по систематизации интересующей нас терминологии, — работа, не
проведенная пока еще в подобных масштабах в англоязычных странах и ФРГ.
Трудность
понимания структурно-семиотических исследований в области литературоведения
связана прежде всего со сложностью их понятийного аппарата, со специфической,
лингвистической по своему происхождению, терминологией. Дополнительные
препятствия в восприятии этих терминов возникают в силу того, что многие
традиционные понятия, такие как «метафора» и «метонимия», «идеология» и «риторика»,
«парадигма» и «синтагма», либо подверглись значительному переосмыслению, либо
получили добавочные значения, хотя и сохранили свой первоначальный смысл.
Отсюда и постоянная двойственность их употребления.
К тому
же многие понятия структурно-семиотической школы не обрели еще терминологической
устойчивости в связи с их недостаточной теоретической обоснованностью. Поэтому
основное внимание было обращено на лингвистические коннотации терминов, которые
потом получили специфическое значение в трудах различных структуралистов-литературоведов.
Для структурно-семиотических исследований обращение к базовой лингвистической
терминологии является насущной необходимостью, поскольку как раз на ее основе, как
на самой отстоявшейся и общепринятой, происходит постоянная коррекция
терминологических разночтений.
В основу
словаря были положены «Словарь средств коммуникации (Fаgеs J.-B., Раgаnо С.,
Corneille Р., Fery В.,
Dictionnaire des media, Paris, 1971), «Энциклопедический словарь наук о языке» (Duсrоt О. et Тodorov
Tz., Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, 1972) и Бенвенист Э., Общая лингвистика, М., 1974, как наиболее часто
цитируемый французскими структуралистами лингвист.
АКТАНТ (actant) — класс понятий, объединяющий
различные роли в одной большой функции, например союзник, противник.
А.-Ж.
Греймас сократил 31 функцию Проппа (Пропп В.
Я., Морфология сказки, М., 1928) и предложил применительно к мифу, эпосу
и волшебно.; сказке следующую схему распределения актантов (больших функций):

(Greimаs A.-J., Sémantique
structurale, Paris,
1966).
Совокупность
манифестаций актанта называется «действием». От актанта иногда отличают агента как более ограниченную
функцию, обозначающую
протагониста, играющего активную роль в действии.
СУБЪЕКТ (sujet) — функция рассказа,
объединяющая все атрибуты и
действия главного героя, стремящегося получить желаемый объект или достичь желаемой цели.
ОБЪЕКТ (objet) — функция рассказа, означающая
все то, что является
предметом желания главного субъекта, то есть понятие «цели» включено в один большой класс
«объекта».
ПОМОЩНИК (adjuvant) — класс персонажей или
персонифицированных сил
приходящих на помощь главному субъекту рассказа или вступаюoим с ним в союз. Синоним «союзника» (allié).
БЕНЕФИЦИАРИЙ (bénéficiaire) — актант, испытывающий на себе улучшение. Тот, кто
извлекает выгоду из результатов деятельности главного субъекта рассказа или вмешательства донатора (дарителя благ). Например,
сверхъестественное, чудесное вмешательство донатора в жанре волшебной сказки.
Часто
главный субъект рассказа оказывается в роли бенефициария, однако при анализе эти две функции
различаются для удобства описания
тех случаев, когда бенефициарий противопоставлен главному субъекту. Например, когда актант (бенефициарий)
оказывается в
выигрыше (что-либо приобретает) в результате жертвы или уступки со стороны главного
субъекта. Иногда бенефициария называют
получателем (destinataire). (Не следует смешивать с получателем акта коммуникации, на которого
ориентирована конативная функция
языка.)
ДОНАТОР, или ДАРИТЕЛЬ (donateur). В схеме Греймаса применительно
к мифу, эпосу и волшебной сказке «сверхъестественный» актант, стоящий над
действием и вмешивающийся в него, чтобы прийти на помощь главному субъекту или
бенефициарию. Иногда донатора называют отправителем (dessinateur).
АНТАГОНИСТ (opposant) — один из больших классов или
функций рассказа, объединяющий всех персонажей или персонифицированные силы,
которые противостоят главному субъекту рассказа. Синоним «противника».
К.
Бремов на основе анализа логики повествования как такового уточнил некоторые
понятия Греймаса. В частности, он различает три типа союзников: соратника,
кредитора и должника: «либо помощь получена бенефициарием взамен той, которую
он сам оказал союзнику при обмене одновременными услугами; два партнера, таким
образом, солидарны в выполнении общей задачи;
451
либо
помощь оказана в благодарность за прошлую услугу; союзник в таком случае
оказывается должником бенефициария;
либо
помощь оказана в надежде на будущее вознаграждение; союзник тогда оказывается кредитором
бенефициария».
(Бремон К., Логика повествовательных возможностей. В сб. «Семиотика и
искусствометрия», М., 1972, стр. 108[235].)
Таким
образом, любой персонаж может быть определен как пучок дифференциальных функций
и в зависимости от своего положения может объединять разные функции: «когда
несчастный герой пытается улучшить свою судьбу, «помогая сам себе», он
распадается на два dramatis personae и становится своим собственным союзником» (там же, стр., 118). По Коке (Coquet J., C. Sémiotique littéraire,
Paris, 1973), отправитель
и получатель находятся на оси коммуникации (модальность «знать»), субъект и
объект — на оси «желания» (модальность «хотеть»), помощник и антагонист — на оси
участия (модальность «мочь»). (См. также Grеimаs A.-J., Du
sens. Paris, 1971; Вrеmоnd Сl.,
Logique du récit, Paris,
1973.)
БИНАРИЗМ (binarisme) — теория, согласно которой все отношения между знаками сводимы к бинарным
структурам, то есть к модели,
в основе которой лежит наличие или отсутствие признака. Этот тип структуры,
открытый в фонологии, стал постепенно применяться в самых различных науках,
имеющих дело с языком. Хотя Барт и оговаривается, что «универсальность
бинаризма до сих пор еще не обоснована» (стр. 153 наст. сборника),
тем не менее в своих работах он его последовательно применяет. И. И. Ревзин
утверждает: «Огромные успехи, достигнутые применением метода бинаризма, по-видимому,
подкрепляют тот факт, что данная концептуальная схема соответствует особенностям
человеческой психики. Существенно, однако, что большего сказать, по-видимому,
нельзя: бинаризм можно связать лишь с определенной глубинной психологической установкой
воспринимающего, а не с самим объектом, как таковым» (Ревзин И. И., Субъективная позиция исследователя в семиотике,
«Труды по знаковым системам», № 5, Тарту, 1971, стр. 334).
ВЫСКАЗЫВАНИЕ (énoncé), АКТ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (énonciation).
Высказывание — сегмент дискурса, связывающий
актанта (существительное) и
предикат (прилагательное, глагол) посредством утверждения, например: «Сократ
смертен».
В
противоположность акту высказывания высказывание является результатом
речевой деятельности говорящего. Например: «Я видел из окна (акт высказывания),
как Пьер играл с мячом (высказывание)». Считается, что процесс высказывания
обозначает в языке все то, что отсылает к личности говорящего: я видел, я
слышал… На этом основании Э. Бенвенист вывел свою теорию субъективности в
языке: «Язык возможен только потому, что каждый говорящий представляет себя в
качестве субъекта, указывающего на самого себя как на я в своей речи. В
силу этого я конституирует другое лицо, которое, будучи абсолютно внешним по отношению
к моему я, становится моим эхо, которому я говорю Ты и которое мне говорит ты».
«Язык устроен таким образом, что позволяет каждому говорящему, когда тот
обозначает себя как я, как бы присваивать себе язык целикома (Бенвенист
Э., Общая лингвистика, М., 1974,
стр. 294).
452
Исходя
из положении Бенвениста. Цв. Тодоров в своей работе в настоящем сборнике
проводит разграничение между «субъектом высказывания» и «субъектом акта
высказывания» (см. стр. 75—76 наст. сборника).
ДЕНОТАЦИЯ (denotation), КОННОТАЦИЯ (connotation).
Дословно:
«означение» И «соозначение» (см. ЗНАЧЕНИЕ и ЗНАК).
Денотация — первичный язык чистой
информации: означающее находится со своими означаемыми в отношении системной
обусловленности, релевантности, без риторических и «идеологических» (см. ИДЕОЛОГИЯ)
наслоений.
Коннотация — одновременно риторический план
означающих и «идеологический» уровень означаемых. Например: «Волк пожирает ягненка»
отсылает к басне Лафонтена и понятию «жестокости».
Означающие (риторика) коннотации
называются коннотаторами. Риторика и идеология коннотации образуют вторичный
язык по отношению к первичному языку денотации. «Означающие В коннотативной семиотике,
которые мы будем называть коннотаторами, являются знаками (то
есть единством означающих и означаемых) в денотативной системе; нетрудно
понять, что несколько знаков денотативной системы могут в совокупности
образовывать один коннотатор в случае, если они отсылают к одному и тому же коннотативному
означаемому» (Р. Барт, стр. 158).
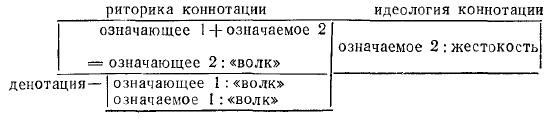
ДИСКУРС (discours). На русский язык переводилось как дискурс (В. А.
Звегинцев), речь, тип речи, текст, тип текста. Одно из наиболее сложных, по
признанию Цветана Тодорова, и менее всего поддающихся четкому определению
понятий современных структурно-семиотических исследований литературы. На многозначности
этого термина неизбежно сказался принципиально различный предмет исследования
лингвистики и литературоведения, объективно обусловивший и различное толкование
этого термина. Не существует и единой точки зрения среди лингвистов; Эмиль
Бенвенист, например, практически не пользуется термином parole, предпочитая ему
discours.
Речь (parоlе) как индивидуальный вариант
применения речевой деятельности
(langage), по
мнению многих исследователей, недоступна анализу из-за экзистенциального статуса говорящих субъектов.
Одним из
первых ввел в обиход специфическое понятие дискурса бельгийский лингвист Э. Бюиссанс
(Buyssens E., Les langages et le discours, Bruxelles, 1943), включивший в
соссюровское противопоставление
языка и речи (langue —
parole) новый
член: langue —
discours — parole, «где parole — система, некая отвлеченная умственная конструкция. discours
— комбинации,
посредством реализации которых
говорящий использует код языка (то есть сема), и parole — механизм, позволяющий
осуществлять эти комбинации
453
(то есть семический акт). Единственным актуальным предметом исследования языка в
семиологическом аспекте автор считает discours (абстрактное понятие речи)» (Цивьян
Т. В., в сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962, стр.
240).
При
переходе от чисто лингвистического к литературоведческому анализу
зафиксированного в письменном тексте дискурса художественного произведения стал
выявляться его более формальный по сравнению с речью характер. Сейчас дискурсом
называют все те уровни, которые накладываются (дополняют, перекрывают) нить
повествования в строгом смысле слова. Таким образом, текст можно разделить на
историю (или интригу) и дискурс. Например, в детективном рассказе распределение
и комбинация признаков, указывающих на виновного в преступлении, относятся к
плану интриги, в то время как нагнетаемая атмосфера страха относится к плану
дискурса, то есть не к фабульной, а к сюжетной организации текста.
Проблема
дискурса в данное время привлекает особое внимание в связи с трудностями, испытываемыми
лингвистически ориентированными исследователями при переходе к анализу единиц текста, более крупных, чем
предложение. Дело в том, что сам дискурс носит многоуровневый характер и у различных исследователей он относится к разным уровням
структурной интерпретации: от более глубинной структуры (Textprogramm) до, условно говоря, самых верхних слоев поверхностной структуры литературного дискурса,
реализующегося в грамматической и логической оформленности минимальных по длине
связных отрезков текста, называемых в лингвистике «развертыванием структуры
непосредственно составляющих» (phrase structure). Таким образом, возникает
потребность в теории, порождающей семантики, которая бы обеспечивала
функционирование языка как средства концептуального общения. Следует также
учесть, что современные лингвистические грамматики текста большей частью описывают
правила горизонтального порождения текста, то есть его линейного развертывания
слева направо, относя вертикальный тип порождения (сверху вниз, например, по
модели: «введение + главная часть + заключение») к области поэтики и риторики.
За последние годы все больше ощущается необходимость науки, объединяющей оба
эти типа порождения в теории повествовательных структур («нарратологии»).
понимаемой как грамматика, описывающая правила функционирования
«повествовательной способности» (narrative competence). В плане литературных текстов это принадлежит сфере действия литературного дискурса.
Одной из последних работ в этой области является книга Ж.-К, Коке «Литературная семиотика» (Соquеt С., Sémiotique littéraire, Contribution à
l'analyse sémantique du discours, Paris, 1973). Опираясь на концепции Якобсона, Бенвениста, Леви-Стросса и
Греймаса, автор считает необходимым заменить таксономическую точку зрения языка как системы знаков «синтаксической точкой
зрения дискурса, понимаемого как сцепление (enchaînement) структур значения, обладающих
собственными правилами
комбинации и трансформации» (стр. 27—28).
ДОМИНАНТНОСТЬ (dominance). Концепция доминантности была
переосмыслена Р. Якобсоном в 1935 году на основе понимания структуры как
многоуровневой иерархической организации. В художественном произведении
доминантный компонент организует и трансформирует остальные его компоненты, обеспечивая
цельность структуры произведения. Так, доминирование поэтической функции
454
(см. в словаре) в художественном произведении, по мнению
Якобсона, над другими функциями акта коммуникации обеспечивает сам художественный
характер произведения по сравнению с текстами, где доминируют другие функции.
(См. также статью Я. Славиньского в наст. сборнике, стр. 266).
ЕДИНИЦЫ (unités) — элементы различной величины,
получаемые в результате
сегментации языковой цепи в соответствии с их существенными признаками (основа структурного анализа):
Единицы
различительных признаков внутри
фонемы (меризмы, по
определению Бенвениста) , например (d’) обладает четырьмя различительными признаками:
смычностью, дентальностью, звонкостью и придыхательностью.
Единицы
фонематического уровня
— фонемы.
Значимые
единицы — слова,
или скорее монемы,
Синтаксические
единицы —
предложения.
Повествовательные
единицы —
эпизоды.
Мифические (мифологические) единицы
— пучки отношений.
ЗНАК (signe). Для современных французских
литературоведов, применяющих в своих исследованиях структурно-семиотическую методологию,
как правило, характерна упрощенная трактовка знаковой ситуации. Речь идет не о
понимании природы этого феномена, а о тенденции к употреблению ради
операционной простоты анализа упрощенной модели знака. Практически они остались
в пределах соссюровского определения знака, это относится в первую очередь к
Барту, как «целого, являющегося результатом ассоциации означающего (акустического
образа) и означаемого (понятия)» (Sаussurе F. de,
Cours de linguistique générale, Lausanne — Paris, 1916, р. 102).
Был
воспринят и другой постулат швейцарского ученого о произвольном характере знака, его конвенциональной,
договорной основе. Знак
— «немотивирован, то есть произволен по отношению к означаемому, с которым не имеет
никакой естественной связи в реальном
мире» (там же, стр. 103). (О критике этой точки зрения см.: Э. Бенвенист, Общая лингвистика, М., 1974,
стр. 90—96 и комментарии к нему Ю. С. Степанова.)
Собственно
референт (révérend) как обозначение внеязыкового явления или предмета действительности
часто не играет особой роли при анализе произведения, поскольку ограничиваются
ссылками на референтивную функцию контекста. Очевидно, это является результатом
стремления описывать художественный текст, не рассматривая его соотнесенность с
действительностью, как замкнутую на себе структуру, где доминирует поэтическая
функция, направленная на формальную организацию «мира» сообщения, так называемый
«имманентный анализ», по выражению Барта.
Сравните
4-членную знаковую ситуацию Л. А. Абрамяна и 10-членную И. С. Нарского в
сборнике «Проблема знака и значения», М., 1969, стр. 21 и 46.
ЗНАЧЕНИЕ (signification), ОЗНАЧАЮЩЕЕ
(signifiant), ОЗНАЧАЕМОЕ
(signifié).
Означающее/означаемое — по определению Соссюра, две
стороны знака как лицевая и оборотная стороны бумажного листа.
Означающее — то, что в знаке доступно
восприятию (зрению или слуху), например звуковая комбинация из четырех фонем: г-л-а-с
(глаз).
455
Означаемое
— смысловое содержание в знаке, переданное означающим как посредником.
Например, смысл термина «глаз»: орган зрения. По определению Бенвениста,
«означающее — это звуковой перевод идеи, означаемое — это мыслительный
эквивалент означающего» («Общая лингвистика», стр. 93).
Значение — отношение между означающим и
означаемым, которое можно представить в виде схемы ![]() (см. работу Барта в наст. сборнике стр. 135),
где наиболее последовательно представлена эта операционная трактовка значения,
игнорирующая корректирующую роль практики в определении этого понятия как
содержательного отражения в представлении говорящих явлений и предметов
действительности.
(см. работу Барта в наст. сборнике стр. 135),
где наиболее последовательно представлена эта операционная трактовка значения,
игнорирующая корректирующую роль практики в определении этого понятия как
содержательного отражения в представлении говорящих явлений и предметов
действительности.
В
логической семантике иногда разделяют значение на два вида: на экстенсиональное
значение и интенсиональное (Карнап), соответствующих «означению» (денотации) и
«соозначению» (коннотации), или «объему» и «содержанию» в традиционной логике.
ЗНАЧИМОСТЬ (valeur) — элемент знака, его
функциональное отличие по отношению к другому знаку, имеет относительный характер.
«Значимость знака определяется только системой, в которую он включен.
Надсистемных знаков не бывает». «Относительность значимостей является лучшим
свидетельством того, что они находятся в тесной зависимости одна от другой в
синхронном состоянии системы, постоянно пребывающей под угрозой нарушения и
постоянно восстанавливаемой. Дело в том, что все значимости суть значимости в
силу противопоставления друг другу и определяются только на основе их различия.
Будучи противопоставлены, они удерживаются в отношении необходимой
обусловленности» (Э. Бенвенист, Общая лингвистика, стр. 78 и
95).
Иногда,
вслед за Ельмслевом, различают форму и содержание одновременно у означающего и
означаемого (форма выражения и форма содержания, субстанция выражения и
субстанция содержания). (См. статью
Барта в настоящем сборнике стр. 130
и комментарий Веймана к его главам из книги «История литературы и мифология»,
стр. 432.)
ИДЕОЛОГИЯ (idéologie) — совокупность означаемых коннотации
(см. в словаре) или вторичных означаемых (по оппозиции к риторике (см. в
словаре): системе вторичных означающих).
Идеология
проявляется (манифестируется) как нечто подразумевающееся само собой. Ее
«авторитет» обосновывается на том, что она является отношением между «данным»
нам дискурсом и топикой (общей или частной). Топика бывает частной, если она
имеет дело с понятиям и, принятыми только в данном конкретном обществе, и общей
— с понятиями предположительно общечеловеческими.
Так,
понятие «человек без родины»/«космополит» немыслимо вне контекста/общего места/«родина»/«патриотизм».
Это отношение идеологии называется «правдоподобным». Различаются:
Референциальное
правдоподобие —
отношение к реальностям мира «воспринимаемого» или «пережитого»
(предполагается, что каждый дискурс «заимствует», по принятой у структуралистов
терминологии, что-либо у реальности). Референциальное правдоподобие функционирует
как обширное и разностороннее взаимодействие оппозиций Так, например, в
туристическом справочнике-гиде пространство делится (членится) на «живописное»
и «неживописное».
456
В
свою очередь «живописное» может быть «доминирующим» и «доминируемым» (по принципу
доминантности, см. в словаре).
Логическое
правдоподобие
относится к изучению законов жанра, традиционно исследуемых в литературе.
Структурный анализ обнаруживает здесь, что правила дискурса и рассказа (см. в
словаре эти термины) функционируют в «глубинах» жанра.
Поэтическое
правдоподобие,
как правило, относится к фигурам риторики.
Топическое
правдоподобие —
те общие места, которые доминируют в дискурсе. Они могут быть эксплицитными,
например: цитируемые авторы, экзальтированные герои, пословицы и манера речи, а
также имплицитными: назвать противника (оппонента) «ретроградом », тем самым
ссылаясь на идеологию прогресса.
КОД (code) — совокупность правил или
ограничений, обеспечивающих функционирование речевой деятельности естественного
языка или какой-либо знаковой системы: иными словами, код обеспечивает
коммуникацию. Для этого он должен быть понятным для всех участников
коммуникативного процесса и поэтому согласно общепринятой точке зрения носит
конвенциональный характер. «Конвенциональная природа коммуникативных кодов отнюдь
не обязательно выражается эксплицитно: более того, конвенции, определяющие
функционирование естественных языков, всегда создаются имплицитно, «самоустанавливаясь»
в множествах коммуникативных актов, и лишь впоследствии эксплицируются на
метауровне лингвистического описания» (Левин
А. Е., Принципы семиологического анализа, «Вопросы философии», 1974, №
9, стр. 135).
МАНИФЕСТАЦИЯ (manifestation) — проявление семантических
структур через посредничество (посредством коммуникации) означающих.
МЕТАФОРА (métaphore) — троп (дословно «перенос»),
употребление слова или выражения в переносном смысле, означает все субститутивные
фигуры, которые при одном и том же означающем переводят означаемые из
практического плана (денотация) в мифический план (коннотация) при помощи
эксплицитного или имплицитного сравнения. Например, «ясно видеть» переносит из
плача визуального в план интеллектуальный.
МЕТОНИМИЯ (métonymie) — троп (дословно
«наименование»), замена одного слова другим на основании смежных понятий, любая
фигура синтагматического порядка, обыгрывающая развитие дискурса (отношения in
praesentia). Говорят о дискурсе метонимического типа в противоположность дискурсу метафорического типа.
В
риторике метонимией называют фигуру, в которой одно означающее охватывает два или
больше означающих и их означаемые, например «коньяк» — название города и
напитка.
ОППОЗИЦИЯ (opposition) — отношение, в
результате которого термин приобретает свою значимость и свое значение по отношению
к другому термину или серии терминов.
ПАРАДИГМА (paradigme), СИНТАГМА (syntаgmе).
Парадигма — (дословно «образец»),
отношение оппозиции между двумя элементами или рядом элементов, один из которых
отсутствует или, наоборот, наличествует при отсутствии других. Таким образом,
речь идет об отношении in absentia (в отсутствии) противопоставляемого члена
ассоциативного ряда. для структурного анализа отношения в плане парадигмы имеют
решающее значение для функционирования смысла.
457
Парадигма
противопоставляется синтагме: отношению in praesentia. Анализ парадигмы заключается в классификации, в
то время как синтагмы — в членении. Парадигматические отношения иначе
называются систематическими, а совокупность систематических отношений —
системой.
Синтагма — (дословно «нечто
соединенное»), в речевой цепи или линейной протяженности дискурса отношения
комбинации между двумя или несколькими элементами, то есть отношения in praesentia при наличии членов
синтагматического ряда.
Автономная
синтагма —
последовательный ряд элементов, функция которых не зависит от их места в данном
контексте; например, глядя на нас, он улыбался; он улыбался, глядя на нас. Предитивная,
или независимая синтагма — ядро высказывания (см. в словаре), вокруг
которого организуются другие элементы, например глагол.
Таким
образом, парадигма и синтагма служат целям анализа, для определения каждого
элемента «посредством двух отношении: отношениям к другим элементам, одновременно
представленным в том же отрезке высказывания (синтагматическое отношение), и
отношение элемента к другим, взаимоподставимым элементам (парадигматическое
отношение) ». (Бенвенист Э., Общая лингвистика, стр. 130; см.
статью Р. Барта в настоящем сборнике, раздел III.) Следовательно, парадигма
представляет логические отношения между элементами, а синтагма — звено их линейного
развертывания во времени в повествовании.
ПРАКТИКА (pratique) — уровень означаемых денотации,
находится в оппозиции к мифическому уровню. Например, «волк пожирает ягненка»
содержит практический уровень, очевидно, для тех немногих, кто часто является
свидетелем подобной сцены и у кого она не связывается с дополнительными ассоциациями
(если это в принциле возможно). в то же время для большинства эта фраза будет
иметь прежде всего мифическое значение (жестокость против невинности).
ПРОЦЕСС (рrocès).
1. В
широком смысле: любая манифестация реальности события, если процесс
находится в оппозиции к системе, как событие к структуре.
2. В
узком смысле: дискурс в действии.
Процесс акта
высказывания: акт, в результате которого возникает дискурс.
Процесс высказывания:
дискурс в той степени, в какой он эффективно осуществляется (см. в словаре ВЫСКАЗЫВАНИЕ
и АКТ ВЫСКАЗЫВАНИЯ).
РАССКАЗ (récit) , ОПИСАНИЕ
(description), ПОВЕСТВОВАНИЕ (narration), ДИЕГЕЗИС (diégèse), ДИСКУРС (discours), ИНТРИГА (intrigue), ИСТОРИЯ
(histoire).
Термины
— важные для структурного анализа текста, однако не всегда упогребляюшиеся
корректно.
ОПИСАНИЕ, В литературном произведении рассказ
(récit)
членится на повествование и описание. В то время как повествование
регистрирует ряд последовательных действий, описание имеет дело с персонажами
или объектами, рассматриваемыми симультанно, как принадлежащими к одной и той
же «точке-мгновению» на «шкале» повествовательного времени.
ДИЕГЕЗИС. По Платону — область того, что
называется «лек-
458
сис» (способ речи) в противоположность «логосу» (то, что
говорится), теоретически разделяется на собственно подражание чужой речи
(мимесис) и простой рассказ (пересказ, изложение сути дела) — ДИЕГЕЗИС.
ИНТРИГА — событийная основа рассказа,
сведенная к ряду основных элементов (фактов) информации, необходимых для
понимания рассказа.
ПОВЕСТВОВАНИЕ (narration) соотносится с диегезисом и
состоит из рассказа +
описание, синоним истории. Находится в оппозиции к ДИСКУРСУ,так как представляет зафиксированный в тексте дискурс и близко по значению
понятию «фабула».
РАССКАЗ (récit) — в широком смысле слова —
синоним диегезиса (повествование
+ описание).
В узком
смысле слова — синоним повествования, близко по значению понятию «сюжет».
Рассказ характеризуется
прежде всего трансформацией простого ряда элементов в последовательность, то есть ряд дискретных элементов (событий, фактов) может
быть превращен из последовательности временно́й (consécution) в каузальную, причинную
последовательность (conséquence) по принципу: «post hoc, ergo propter hoc» («после этого, — следовательно, по причине этого»). Это достигается
нарушением хронологии и логики (логики во временной последовательности). «Там,
где нет включения в единство действия, нет и рассказа, но есть хронология —
изложение последовательности несвязанных поступков». (Бремон К. Логика повествовательных возможностей. В сб.:
«Семиотика и искусствометрия», М., 1972, стр. 112.) (См.
также статью Цв. Тодорова в настоящем сборнике, стр. 80.)
РИТОРИКА (rhétorique) — помимо традиционного
значения, риторика определяется
как система вторичных означающих, то есть как искусство организаций коннотаций языка, как наука,
изучающая приемы
коннотации, тропы или фигуры речи, частную и общую топику.
СЕМА (sème). Согласно Бюиссансу и Прието,
сема — основная значащая
единица, содержащая два плана: означающее и означаемое. В структурной семантике
сема — минимальная единица означаемого; например, в «отце» принадлежность к
мужскому полу.
Семический
акт (в первом
смысле семы) — конкретное осуществление семы, результатом которого является
знак.
Семическая
артикуляция (членение)
(во втором смысле семы) — систематический ряд минимальных единиц означаемого.
СЕМЕМА (sémème) — употребление данного слова в
его контексте. Например,
«ключ» может иметь различные семемы, специфичные для слесаря, полководца, музыканта и читателя детективных
романов.
СИНХРОНИЯ (synchronie), ДИАХРОНИЯ (diachronie).
Выделение
Соссюром синхронического аспекта в изучении языка оказало сильное влияние на развитие лингвистики в ХХ веке, а затем и на дисциплины,
ориентировавшиеся на лингвистику: семиотику и литературоведение. Именно отказ от диахронии привел к изучению языка вне исторического
измерения, что в свою очередь способствовало выявлению представления о языке
как о структуре, рассматриваемой как синхронический срез диахронии. С другой
стороны, и диахрония стала рассматриваться как дискретный ряд последовательных
синхроний, утратив тем самым свой временной, эволюционный характер.
459
Решительное
предпочтение синхронического аспекта диахроническому можно отметить у большинства
современных французских структуралистов-литературоведов. Исследования в плане
синхронии предполагают анализ определения функционирования искомой системы, полученной
в результате схематического среза хронологического развития рассказа.
СМЫСЛ (sens). У многих исследователей
понятие «смысл» совпадает с понятием «значения» (signification) и предстает как
совокупность означаемых. Соссюр определил «смысля как операцию, характерную для
знака, который связывает означающее и означаемое. Р. Барт (см. его статью в
настоящем сборнике) придает «смыслу» характер процесса. (См. в словаре Знак
и Значение.)
СТРУКТУРА (structure). Согласно Ж. Вьету и Ж. Пиаже (Viеt J., Les méthodes structuralistes dans les sciences
sociales, Paris, Hague, 1971; Рiаgеt J.,
Le structuralisme, Paris, 1968)
структуру можно определить как модель, принятую в лингвистике, математике,
логике, физике, биологии и т.д. И отвечающую трем условиям:
а) целостности
(totalité):
подчинение элементов целому и независимость последнего;
б) трансформации:
упорядоченный переход одной подструктуры в другую на основе правил порождения;
в)
саморегулированию (autoréglage): внутреннее функционирование правил в пределах данной системы.
Бенвенист
дает следующее разграничение понятий «структуры» и «системы»: «Трактовать язык как систему — значит анализировать ее как структуру. Поскольку
каждая система состоит из единиц, взаимно обусловливающих друг друга, она отличается от других систем внутренними отношениями
между этими единицами, что и составляет
структуру» («Общая
лингвистика», стр. 64).
Л.
Ельмслев определял структуру как «автономное единство внутренних зависимостей».
(Цит. по: Бенвенист Э., Общая лингвистика, стр. 65.)
Основная
тенденция в пони мании структуры у современных структуралистски ориентированных
французских литературоведов заключается в том, что составляющие ее элементы
рассматриваются как функции.
ФИГУРЫ, или ТРОПЫ (figures ou tropes).
Формы
дискурса, нарушающие правила языка. Цветан Тодоров (Тоdогоv Tz., Littérature et signification, Paris, 1967) различает две группы, или, скорее, два
уровня «тропов»:
1) Фигуры
в подлинном смысле этого слова, которые являются принятыми и узаконенными
отклонениями от обычного словоупотребления и выходят лишь за рамки практически
необходимых норм.
2) Аномалии,
являющиеся преднамеренными отклонениями от правил языка. Хотя аномалии и аграмматикальны,
утверждает Тодоров, в то же время они являются приемлемыми благодаря своей эстетической
ценности. К аномалиям Тодоров относит аллитерацию, ассонанс, рифму,
парономасию, аллегорию, метафору, метонимию и т.д.[236]
ФУНКЦИЯ (fonction) — такая соотнесенность одного
элемента целостной структуры с другим, которая поддерживает существование самой
структуры. Введение понятия «функции» в качестве неразложимой единицы
повествования принадлежит В. Я. Проппу (Пропп В. Я.,
Морфология сказки, М., 1928). Первое определение
460
функции в литературоведении дал Ю. Н. Тынянов: «Соотнесенность каждого
элемента литературного произведения как системы с другими и, стало быть, со
всей системой я называю конструктивной функцией данного элемента. При ближайшем
рассмотрении оказывается, что такая функция — понятие сложное. Элемент
соотносится сразу: с одной стороны, по ряду подобных элементов других
произведений-систем, и даже других рядов, с другой стороны, с другими элементами
данной системы (автофункция и синфункция)» (Тынянов Ю., Архаисты и новаторы,
М., 1929, стр. 33). См. в словаре схему функций актантов, предложенную А.-Ж.
Греймасом и схему функций акта коммуникации Р. Якобсона:
|
|
КОНТЕКСТ (референтная
функция) |
|
|
ОТПРАВИТЕЛЬ |
СООБЩЕНИЕ |
ПОЛУЧАТЕЛЬ |
|
(экспрессивная
функция) |
(поэтическая
функция) |
(конативная
функция) |
|
|
КОНТАКТ (фатическая
функция) |
|
|
|
КОД (металингвистическая
функция) |
|
Экспрессивная
функция ориентирована на отправителя, конативная — на получателя, познавательная
(референтивная) — на контекст, металингвистическая — на код, фатическая — на
контакт. (См. статью Р. Якобсона в настоящем сборнике, стр. 198.)
ЯЗЫК (langue), РЕЧЬ (parole), РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (langage) — понятия, введенные Соссюром,
которые были положены в
основу различных направлений структурной лингвистики.
Речевая
деятельность —
совокупность знаков, включающая два аспекта:
—
кодифицированный язык (langue) как система правил,
— речь
(parole) —
индивидуальная вариация речевой деятельности как средство общения, реализуемая
на основе кода, «индивидуальный акт выбора и актуализации» (Р.
Барт, стр. 117 настоящего сборника). Более подробно см. работу
Р. Барта, опубликованную в настоящем сборнике.
460
Абернети 270, 282—283, 304
Абрамян
Л. А. 454
Авенариус
Рихард 9
Альтюссер
Луи 414-415
Аристотель
42, 49, 54, 94, 112, 358
Балашов Н. И. 338—339, 342
Балли
Шарль 60, 62
Бальзак
Оноре де 320, 337, 389
Барбе
д'Оревильи 96
Барт
Ролан 4, 6, 20—21, 42, 80—81, 89, 114, 377—381, 383—394, 406—410, 412, 414—415,
432, 441—442, 452, 454—455, 457—458, 460
Барк К.
Х. 434
Басин Е.
Я. 11, 21
Бахтин
М. М. 59, 100, 103—105, 111
Беллини
Винченцо 446
Бенвенист
Эмиль 43, 61, 136, 253, 452—455, 459
Бензе
Макс 23, 304, 404
Бердсли
Обри Винсент 214
Бирюков
Б. В. 447
Блауберг
И. В. 13—14
Блейк
Уильям 194
Блен Г.
254
Блум
Хэролд 59
Боас
Франц 370, 376
Богатырев
П. Г. 435
Бодлер
Шарль 5, 82, 231, 254—255, 285, 395,
402, 444, 449
Боккаччо
Джованни 72, 85, 87, 95
Ботев
Христо 339, 448
Бремон
Клод 86, 89, 451, 458
Брентано
Клеменс 338
Брехт
Бертольт 446
Брик О.
М. 336
Брэдбрук
Мюрел Клара 408
Бунюель
Луис 194
Бут Уэйн
70
Бэкон
Фрэнсис 340
Бэрдсли
Чарльз Варейнг 207
Бюлер
Карл 200, 259
Бюиссанс
Э. 453, 458
Бютор
Мишель 255, 389
Вагенкнехт Эдвард 339
Вазари
Джорджо 168
Валери
Поль 42, 216, 222, 395
Валлов
128-129
Ванчура
Владислав 329
Вахек И.
435
Вацлавек
Бедржих 340
Вегелин
197
Вейман
Роберт 6, 13, 21, 331—332, 404, 432, 442, 449, 455
Веселовский
А. Н. 85
Виликовский
Ян 186
Виннер
Т. 262, 435
Винокур
Г. О. 435
Витасек
Ст. 183
Вогт
Ивон З. 362—363
Водичка
Феликс 340, 434
Выготский
Л. С. 16, 349
Вьет Жан
458
462
Гавранек Богуслав 435
Гегель
Георг Вильгельм Фридрих 12, 101, 128—129, 317, 352, 358
Гербарт
Иоганн Фридрих 30, 439
Герцог
225
Гёте
Иоганн Вольфганг 107, 220
Гольдман
Люсьен 406
Гомер 60
Гомбрович
Витольд 82
Гоголь
Н. В. 96
Гопкинс
Джеральд Мэнли 195, 205—207, 214—218, 226—227
Горький
Максим 349
Граммон
М. 233, 241 399, 401
Гране М.
362.
Греймас
Альгирдас Жюльен 6, 450—451, 453, 459
Грецкий
М. Н. 11
Гринберг
Джозеф 208
Гриффит
Ричард 141
Гуго
Фридрих 417
Гумбольдт
В. 439
Гуссерль
Э. 11, 437, 439
Гюнтер
Ганс 438
Дефо Даниель 425—426
Деррида
Ж. 6
Джеймс
Генри 44—45, 50, 71, 73—75, 96, 102—103
Лжойс
Джеймс 80, 82
Джоос
Николас 197
Дидро
Дени 59
Диккинсон
Эмили 196
Донн
Джон 196
Достоевский
Ф. М. 96—97, 100, 103—105
Дюбуа
Жак 51, 154
Дурих
Ярослав 329
Дюран М.
241
Дюркгейм
Эмиль 121, 442
Ельмслев Луи 13, 20, 118—119, 121,
130, 135, 144, 146, 157—160, 379—381, 432, 455, 459
Женетт Жерар 63, 65, 70, 441
Жинкин
Н. И. 281, 283, 285—286
Жирмунский
В. М. 13, 349, 356
Зарев Пантелей 6, 346 448
Звегинцев
В. А. 452
Зих
Отакар 36, 172, 295, 439, 446
Золя
Эмиль 319
Зенкевич
М. 217, 222
Ильин И. П. 24, 449
Ингарден
Роман Станислав 63
Иоллес
Андре 98
Каган М. С. 433
Кайзер
В. 358
Каландра
Завиш 327
Камю
Альбер 354
Кант
Иммануил 316, 329, 357, 425—426
Кантино
Ж. П. 148, 152
Карневский
С. О. 435
Кассирер
Э. 11
Кафка
Франц 80, 82, 105, 337
Кахк И.
433
Квинтилиан
Марк Фабий 58
Китс
Джон 196
Клаус
Георг 416, 424, 427
Коке
Ж.-К. 453
Колумб
Христофор 336—337
Конрадова
В. Ф. 442
Конрад
Курт 4, 5, 23, 309, 322, 436, 447—448
Колмогоров
А. Н. 447
Косиков
Г. К. 233
Коэн Жан
58, 418
Крепе Ж.
254
Крейн
Стивен 358
Кристи
Агата 74
Кристева
Юлия 6, 434, 441
Лаббок Перси 69—70, 102—105
Лакан Ж.
415
Лакло
Пьер Амбруа Франсуа
Шодерло
де 68
Ламартин
Альфонс де 347
Ланге К.
182—183
Лансон
Гюсгав 411
Лафонтен
Жан де 452
Левин А.
Е. 441, 456
Леви-Стросс
Клод 4—6, 92, 121, 226, 231, 361—376, 401—403, 414—415, 444, 453
Левый
Иржи 6, 9, 23, 277, 289, 290, 444
463
Леммерт
99
Ленин В.
И. 4, 8—10, 12, 24, 317
Лессинг
Готфрид Эфраим 46
Лешьмян
258
Ли Ван
208
Лихачев
д. С. 112, 351
Лонгфелло
Генри Уодсворт 196
Лотман
Ю. М. 351, 433, 447
Лойола
379
Лотреамон
195
Луначарский
А. В. 344
Мак Хэммонд 227
Макаров
М. 21
Малиновский
Бронислав 201, 261, 361
Малларме
Стефан 46, 224
Манн
Томас 107
Марвелл
Эндрюс 196
Маркс
Карл 8, 316, 376
Мартине
А. 120, 150, 153, 161
Матезиус
В. 435
Мах
Эрнст 317
Марти А.
198
Маха
Карел Гинек 180, 309
Маяковский
В. В. 227
Мейлах
Б. С. 433
Мелетинский
Е. М. 444
Менделеев
д. И. 337
Мердок
Айрис 362—363
Мерло-Понти
М. 121,443
Мишле
Жюль 386—387
Моль
Абраам 23, 289—291, 301—304, 445—446
Морри
Чарльз 441
Мориак
Франсуа 104—105
Мукаржовский
Ян 4—5, 21—23, 27, 164, 309, 311—313, 315—316, 318—320, 322—328, 330, 342—345,
435—439, 448
Мунэн
Жорж 6, 395, 444, 449
Нарский И. С. 454
Наума н
М. 434
Неруда Ян
178—180
Неедлы
Зденек 340, 439
Неупокоева
И. Г. 341—342
Ницше
Фридрих 354
Нич К.
225
Новак
Арне 326
Норвид
Циприан Камиль 195, 272.
Ньютон
Исаак 336—337
Огден Уинстен Хью 424, 427
Одрикур
А. 362
Озиа
Жан-Мари 347, 350 352—354
О'Нил
Юджин 200
Ортега-и-Гассет
Хосе 415, 432
Павел Т. Г. 440
Палиевский
П. В. 433
Парэн
Шарль 6, 361
Паркер
Дороти 201
Пауис
Джон Каупер 73
Пастернак
Б. Л. 210
Переверзев
Л. Б. 433
Пиаже
Жан 458
Пикар
Раймон 407
Пирс
Чарлз Сэндерс 57, 128—129, 226, 441
Платон
64, 457
Плеханов
Г. В. 344
Плотников
С. Н. 447
По Эдгар
Аллен[237]
211, 216, 222
Полак
Матей Милоте Здирад 322, 324, 327—328
Полан
Богумил 182—184
Поливанов
Е. Д. 208, 435
Поляков
М. Я. 436
Поп
Александр 223
Потебня
А. А. 220, 439
Прието
Луи Жан 458
Принс
Джеральд 78. 89
Пропп В.
Я. 14—15, 81, 85, 91—92, 112, 226, 392, 440, 442, 451
Прокоп Ян
273
Прокофьев
С. С. 446
Пруст
Марсель 69, 71, 84
Пуйон
Жан 70, 103, 361
Пушкин
А. С. 336—337
Пшпбось
263, 272
Пэрри
Милман 60
Расин Жан 386—388, 446
Ревзин
И. И. 451
Редеккер
Хорст 416
Ржевская
Н. 442
Рикарду
Ж. 441
Рипка ЯН
165, 435
Ричардс
Айвор Армстронг 51, 68, 424, 427
Риффатерр
Мишель 60
Роб-Грийе
Ален 357, 385
Рокицкий
П. 348
464
Рош
Морис 75
Рубакин
Н. А. 4, 24
Руссо
Жан-Жак 370
Рэнсом
Джон Кроу 218, 228
Сад
Донасьен Альфонс Франсуа де 379
Самарин Р.
М. 342
Сапаров
М. 433
Сапорт
Сол 199
Сартр
Жан-Поль 104—105, 364
Себаг
Люсьен 414, 416
Сепир
Эдуард 87
Сибеок
Т. А. 218
Сетров
М. И. 21
Сиверс
Пер Сигфрид 216
Симмонс
Эрест 208
Славиньский
Януш 6, 17, 256, 444, 453
Смоллетт
Тобийас Джордж 68
Сократ
100, 451
Соллерс
Ф. 6, 441
Соссюр
Фердинанд де 13. 20, 114—117, 119—122 126—127, 129—130, 132, 135—140—142, 147—148,
152—153, 260,·377—378, 381, 405, 431, 435—437, 454, 458
Станиславский
К. С. 199—200
Стерн
Лоренс 59
Степанов
Ю. С. 446, 454
Стивес
Уоллес 227
Сус Олег
439
Сэв
Люсьен 6
Тарановский К. Ф. 209
Тард
Габриель 121, 442
Тодоров
Цветан 6, 17—18, 37, 440—441, 452, 459
Тодоров
Христо 6, 21, 377, 442
Толстой
Л. Н. 34, 66, 103, 312, 337
Томашевский
Б. В. 79, 86, 89, 112, 435
Томпсон
Джеймс 196
Трнка Б.
435
Трубецкой
Н. С. 13, 119, 123, 152, 435
Тынянов
Ю. Н. 13, 96—97, 325, 435—436, 446, 459
Тэн
Ипполит 324
Уайтхолл Гарольд 278—279
Уимзетт
Уильям К. 207, 214, 217, 219
Уитмен
Уолт 213
Успенский
Б. А. 70, 73
Уэллек
Рене 326, 341—342
Уэсли
Чарльз 221
Фант Гуннар 153
Флобер
Гюсгав 72, 82, 319
Фолкнер
Уильям 72, 74—75
Фонадь
И. 294, 300
Форстер
Георг 79
Фрай
Нортроп 341
Фреге
Готлоб 53
Фрейд
Зигмунд 44, 141
Фридрих
Гуго 417
Фролов
И. Т. 21
Фрост
Роберт 211
Фрей 130
Фуко
Мишель 415 421, 432
Фурье
Шарль 379 '
Храпченко М. Б. 342—343, 433
Хайдеггер
Мартин 354
Хаймз Д.
Х. 224, 446
Халле
Морис 153
Хилл
Хилстром Джозеф 214
Холлэндер
228
Хьюм Т.
Э. 332, 415, 432
Хирш Э.
Д. 434
Цурганова Е. Л. 435
Цивьян
Т. В. 453
Чайковский П. И. 446
Чаплин
Чарлз 141
Чатмен
Сеймур 199,213
Чернышевский
Н. Г. 18, 104
Черри
Колин 209
Чехов А.
П. 82
Шальда Франтишек Ксавер 36, 178—180
Шафф
Адам 427
Шекспир
Уильям 196, 201—202, 214, 340
Шелли
Перси Биши 210, 222
Шеннон
К. 296
465
Шиллер
Иоганн Фридрих 107, 316
Шкловский
В. Б. 4—5, 17, 23, 27—28, 29—35, 59, 90—91, 309—312, 315—316, 318—320, 325,
346, 348, 356, 435—436, 442
Шобер
Рита 417
Шлейнштедт
Д. 434
Шоурек
Оскар 187
Шрейдер
Ю. А. 447
Штолл
Ладислав 6, 326, 448
Шюкинг
Л. Л. 408
Элиот
Томас Стирнс 331—332, 415, 432
Элюар
Поль 339
Эмпсон
Уильям 51, 221
Энглиш
313
Энгельс
Фридрих 8—9, 320
Эйнштейн
Альберт 104
Эрнст
Макс 194
Юдин Э.
Г. 13—14
Юнг Карл
Густав 128—129
Якобсон
Роман 4—5, 13, 16—17, 42, 57, 83—84, 108, 110, 120, 140—141, 146, 153, 156, 193,
231, 259, 272, 309, 312, 322—328, 330, 339, 343, 346, 348, 358, 363, 395—403,
418, 435—436, 442, 444, 453, 459
Ясперс
Карл 354
Яусс Х. Р. 99, 434
[466]
В. П.
Крутоус. Дискуссионные проблемы структурно-семиотических исследований в
литературоведении и искусствознании 3
Проблемы и методы
Ян
Мукаржовский. К чешскому переводу «Теории прозы» Шкловского. Перевод с
чешского В. А. Каменской 27
Цветан
Тодоров. Поэтика. Перевод с французского А. К. Жолковекого 37
Ролан
Барт. Основы семиологии. Перевод с французского Г. К. Косикова 114
Ян
Мукаржовский. Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве. Перевод с
чешского В. А. Каменской 164
Роман
Якобсон. Лингвистика и поэтика. Перевод с английского И. А. Мельчука 193
Роман
Якобсон и Клод Леви-Стросс. «Кошки» Шарля Бодлера. Перевод с французского Г.
К. Косикова 231
Януш
Славиньский. К теории поэтического языка. Перевод с польского А. К. Жолковского 256
Иржи
Левый. Теория информации и литературный процесс. Перевод с чешского И. А.
Бернштейн 277
Споры вокруг структурализма
Курт
Конрад. Диалектика содержания и формы. Перевод с чешского И. А. Бернштейн 309
Курт
Конрад. Еще раз о диалектике содержания и формы. Перевод с чешского И. А.
Бернштейн 322
Ладислав
Шголл. От обобщения к дегуманизации искусства. Перевод с чешского П. А.
Клейнер 326
Пантелей
Зарев. Об актуальных вопросах литературоведения и структурализма. Перевод с
болгарского Н. А. Огневой 346
Шарль
Парэн. Структурализм и история. Перевод с французского А. К. Авеличева 361
Христо
Голоров. Критика литературоведческих взглядов Ролана Барта. Перевод с
болгарского Д. Д. Николаева 377
Жорж
Мунэн. Бодлер в свете критики структуралистов. Перевод с французского О. В.
Тимашевой 395
Роберт
Вейман Литературоведение и структурализм. Перевод с немецкого О. Н. Михеевой 404
Комментарии.
И. П. Ильин 435
Словарь
терминов французского структурализма. Составитель И. П. Ильин 450
Указатель
имен. Составитель Е. М. Брагина 462
Содержание 467
СТРУКТУРАЛИЗМ: «ЗА» И «ПРОТИВ»
Сборник статей
Редактор З.
Н. Петрова
Художник И.
Клейнард
Художественный
редактор В. А. Пузанков
Технический
редактор Т. Беляева
Корректор Р.
Прицкер
Сдано в
производство 3/1 1975 г. Подписано к печати
19/У 1975 г.
Бумага 84х 1081/32 тип. № 1. Бум. л. 73/8
Печ. л. 24,72
Уч.-из д. л. 25,5 Изд. Н, 19575 Цена 1 р. 82 к.
Заказ Н, 514.
Тир аж 10 000 экз.
Издательство
«Прогресс» Государственного комитета
Совета Министров
СССР по делам издательств,
полиграфии и
книжной торговли
Москва. Г-21.
Зубовский бульвар. 21
Ордена Трудового
Красного Знамени
Ленинградская
типография №2
имени Евгении
Соколовой Союзполиграфпрома
при
Государственном комитете Совета
Министров СССР
по делам издательств.
полиграфии и
книжной торговли
198152,
Ленинград, Л-52. Измайловский проспект, 29