
А. Шопенгауэр
Собрание сочинений
В ШЕСТИ ТОМАХ
Том 2
Мир как воля и представление
Том второй
Москва
ТЕРРА — Книжный клуб
Издательство «Республика» 2001
УДК1
ББК 87.3
Ш19
Перевод с немецкого
Подготовка текста А. К. Судакова, А. А. Чанышева
Общая редакция, составление, послесловие и примечания А. А. Чанышева
Шопенгауэр А.
Ш79 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2: Мир как воля и представление: Т. 2 / Пер. с нем.; Под ред. А. Чанышева. — М.: ТЕРА — Книжный клуб; Республика, 2001. — 560 с.
ISBN 5-300-02797-9 (т. 2)
ISBN 5-300-02646-8
ISBN 5-250-02692-3
В настоящий том Собрания
сочинений А. Шопенгауэра (1788—1860) вошел второй том главного произведения
немецкого философа «Мир как воля и представление», созданный им как дополнение
к четырем книгам первого тома.
УДК1
ББК 87.3
ISBN 5-300-02797-9 (т. 2)
ISBN 5-300-02646-8
ISBN 5-250-02692-3
© ТЕРРА-Книжный клуб, 2001
©
Издательство «Республика», 2001
Мир как воля
и представление
Том второй
содержащий дополнения к четырем книгам первого тома
Pauas natus est, qui populum aetatis suae cogitat.
Sen.
[Для немногих рожден тот, кто думает
лишь о поколении своих сверстников.
Сенека1]
«Зачем ты избегаешь нас,
Пренебрегаешь нашим мненьем?» —
Я не в угоду вам пишу,
А только ради поученья.
Гете2
Первая половина
Учение о наглядном
представлении
(к § 1—7 первого тома)
Глава
1
По
поводу основного идеалистического взгляда
В беспредельном пространстве бесчисленные светящиеся шары; вокруг каждого из них вращается около дюжины меньших, освещенных; горячие изнутри, они покрыты застывшей, холодной корой, на которой налет плесени породил живых и познающих существ, — вот эмпирическая истина, реальное, мир. Но не подобает мыслящему существу находиться на одном из этих бесчисленных шаров, свободно витающих в беспредельном пространстве, — не зная, откуда несешься, не зная, куда; не подобает ему быть только одним из бесчисленных похожих друг на друга существ, которые сталкиваются между собой, кружатся, беспрерывно и быстро возникая и погибая в безначальном и бесконечном времени: и нет при этом ничего устойчивого, кроме материи и круговорота все тех же разнообразных органических форм по известным, возникшим когда-то путям и каналам. Все, чему может научить эмпирическая наука, это лишь более точные свойства и законы таких процессов.
И вот, наконец, философия нового времени, в особенности благодаря Беркли и Канту, осознала, что тем не менее все это есть только феномен мозга и подчинено множеству таких значительных и разнообразных субъективных условий, что его кажущаяся абсолютная реальность исчезает и оставляет место для совершенно другого миропорядка, который лежит в основании этого феномена, т. е. относится к последнему, как сама вещь в себе к простому явлению.
«Мир — мое представление» —вот положение, которое, подобно аксиомам Евклида, всякий должен признать истинным, лишь только он его поймет, хотя и не всякий поймет это положение сразу же, как только его услышит. Наряду с проблемой нравственной свободы отличительным признаком новой философии является то, что она заставила нас осознать это положение и связала с ним проблему отношения идеального к реальному, т. е. мира в голове к миру вне головы. Ибо лишь после тысячелетних попыток чисто объективного философствования было открыто, что среди множества вещей, которые делают мир столь
4[1]
загадочным и таинственным, загадочнее всего то, что при всей его неизмеримости и массивности, его наличное бытие все же висит на единственном волоске и этот волосок то или иное сознание, в котором он, мир, наличествует. Это условие, которому безусловно подчиняется наличное бытие мира, налагает на него, несмотря на всю его эмпирическую реальность, печать идеальности и делает его, следовательно, простым явлением; поэтому мир, по крайней мере с одной стороны, надо признать родственным сновидению и даже принадлежащим к одному с ним классу вещей. Ибо та функция мозга, которая во время сна какими-то чарами порождает совершенно объективный, наглядный, даже осязаемый мир, должна принимать такое же точно участие и в созидании объективного мира бодрствования. Оба мира, хотя и различные по своей материи, явно отлиты по одной и той же форме. Эта форма — интеллект, функция мозга. Вероятно, Картезий впервые достиг той степени осмысления, какой требует указанная основная истина, и вследствие этого сделал последнюю исходным пунктом своей философии, — хотя сначала только в виде скептического сомнения. Действительно, благодаря тому, что он признал cogito ergo sum[2]*[3] единственно достоверным, а существование мира до поры до времени оставил под сомнением, — благодаря этому была найдена существенная и единственно правильная исходная точка, а вместе с нею — и истинное основание всякой философии. Ибо этим основанием существенно и неизбежно является субъективное, собственное сознание. Ведь только оно одно есть и остается чем-то непосредственным, — все же другое, чем бы оно ни было, есть лишь опосредованное и обусловленное им, и, следовательно, зависит от него. Поэтому справедливо полагают, что новая философия ведет свое происхождение от Картезия как от своего отца. Вскоре после него Беркли, продолжая идти по этому пути, пришел к идеализму в собственном смысле, т. е. к познанию того, что протяженное в пространстве, т. е. объективный, материальный мир вообще, как таковой, безусловно существует только в нашем представлении и что неправильно, даже нелепо приписывать ему как таковому[4] наличное бытие вне всякого представления и независимо от познающего субъекта, т. е. принимать непосредственно наличную и в себе сущую материю. Эта очень правильная и глубокая идея составляет, однако, всю философию Беркли: в ней он исчерпал себя.
Таким образом, истинная философия во всяком случае должна быть идеалистической, хотя бы уже для того, чтобы быть честной. Ибо нет ничего более достоверного, чем то, что никто не в состоянии когда-либо выйти из себя, чтобы непосредственно отождествиться с отличными от него вещами: все, о чем каждый из нас имеет достоверное, т. е. непосредственное, знание, лежит внутри нашего сознания. Поэтому за пределами его не может быть непосредственной достоверности: между тем такой достоверностью должны обладать первые основоположения всякой науки. Эмпирической точке зрения остальных наук вполне соответствует допущение безусловного существования объективного мира, — не так обстоит дело с философией, которая должна возвращаться к первому
5
и изначальному. Только сознание дано непосредственно, и потому основа философии ограничена фактами сознания, т. е. философия по существу идеалистична. Реализм, который потому кажется грубому рассудку единственно возможной точкой зрения, что придает себе видимость фактичности, на самом деле исходит как раз из произвольного допущения и есть, таким образом, парящая в воздухе конструкция, так как он оставляет без внимания или отрицает самый первый факт, — тот факт, что все, что мы знаем, находится внутри сознания. Ибо то, что объективное существование вещей обусловлено чем-то, их представляющим, и что, следовательно, объективный мир существует только как представление, — это не гипотеза и тем более не произвольное утверждение; это и не парадокс, выдвинутый ради спора: нет, это самая достоверная и простая истина, признание которой встречает препятствия только потому, что она даже слишком проста и не все столь рассудительны, чтобы быть способными вернуться к первым элементам своего осознания вещей. Никогда не может быть абсолютного и в самом себе объективного существования, мало того, оно даже немыслимо, ибо объективное, как таковое, всегда и по сути своей обладает существованием в сознании субъекта, т. е.[5] есть его представление, а следовательно, обусловлено субъектом, а кроме того, еще и формами представления, которые принадлежат субъекту, а не объекту.
То, что объективный мир существовал бы, даже если бы совсем не было познающих существ, — это, конечно, на первый взгляд кажется несомненным, потому что in abstracto это мыслимо и мы не видим заключающегося здесь внутреннего противоречия. Но когда мы хотим эту абстрактную мысль реализовать, т. е. свести ее к наглядным представлениям, от которых она (как и все абстрактное) только и может заимствовать свою силу и истинность, и когда мы пытаемся вообразить объективный мир без познающего субъекта, мы понимаем, что то, что мы здесь воображаем, на самом деле противоположно тому, чего мы добивались; а именно, оно является не чем иным, как процессом в интеллекте познающего, того, кто созерцает объективный мир, т. е. перед нами как раз то, что мы хотели исключить. Ибо этот наглядный и реальный мир явно есть феномен мозга; поэтому есть противоречие в допущении, что он, мир, может существовать как таковой и независимо от всякого мозга.
Главное возражение против необходимой и сущностной идеальности всякого объекта, возражение, которое отчетливо или смутно возникает у каждого, несомненно таково: и моя собственная личность — объект для другого, т. е. ее представление; между тем я достоверно знаю, что я существовал бы даже в том случае, если бы этот другой меня не представлял. Но в том же самом отношении, в каком я нахожусь к его интеллекту, находятся к нему и все другие объекты, следовательно, и они существовали бы, даже если бы этот другой не представлял их себе. На это должен быть дан следующий ответ: тот другой, в качестве объекта которого я рассматриваю теперь свою личность, есть не просто субъект вообще, но прежде всего познающий индивид. Поэтому, даже если бы он и не существовал, даже если бы вообще не было другого познающего существа, кроме меня самого, то это еще вовсе не устраняло бы субъект, в представлении которого только и существуют все объекты. Ибо этот
6
субъект это также и я сам, как и всякое познающее существо. Следовательно, если допустить указанный оппонентом случай, то моя личность конечно же продолжала бы существовать, но опять-таки в качестве представления, а именно в моем собственном познании. Ибо она даже мною самим познается всегда лишь опосредованно, а вовсе не непосредственно: ибо всякое представляемое бытие есть бытие опосредованное. Именно как объект, т. е. как протяженное, наполняющее пространство и действующее, познаю я свое тело только в созерцании своего мозга: последнее же опосредовано чувствами, данными которых пользуется созерцающий рассудок для исполнения своей функции — перехода от действия к причине; и благодаря тому, что глаз видит тело или руки его ощупывают, рассудок конструирует пространственную фигуру, которая представляется в пространстве как мое тело. Но непосредственно мне вовсе не даны — ни в общем чувстве тела, ни во внутреннем самосознании — какие-либо протяжение, форма или действенность: в противном случае они должны были бы совпадать с самим моим существом, и оно для своего существования не имело бы тогда нужды в другом существе, которое представляло бы его в своем познании. Скорее, это общее чувство, как и самосознание, непосредственно существует только по отношению к воле, т. е. как приятное или тягостное, или же как активное в волевых актах, которые внешнему созерцанию представляются в качестве действий тела. Отсюда следует, что существование моей личности или моего тела как чего-то протяженного и действующего непременно предполагает нечто познающее, отличное от него, так как это существование по своей сущности есть существование в схватывании, в представлении, т. е. существование для другого. В действительности оно есть феномен мозга, — все равно, принадлежит ли мозг, в котором оно представляется, собственной или чужой личности. В первом случае собственная личность распадается на познающее и познаваемое, на субъект и объект, которые здесь, как и всюду, противостоят друг другу как нераздельные и несоединимые. Если, таким образом, моя собственная личность, для того чтобы существовать в качестве таковой, постоянно нуждается в познающем, то это будет относиться по крайней мере в такой же степени и к прочим объектам, т. е. к тем объектам, которым в вышеприведенном возражении приписывалось существование независимое от познания и его субъекта.
При этом само собой разумеется, что существование, которое обусловлено познающим, является исключительно существованием в пространстве, т. е. существованием чего-то протяженного и действенного: оно всегда есть нечто познанное и, следовательно, есть существование для другого. Но все, что существует таким образом, может иметь еще и существование для себя самого, и для этого оно не нуждается ни в каком субъекте. Однако это существование для себя самого не может быть протяжением или действенностью (вместе составляющими наполнение пространства); оно по необходимости есть бытие другого рода, а именно бытие вещи в себе самой, которая, именно как таковая, никогда не может быть объектом.
Таким должен быть ответ на изложенное выше главное возражение, и оно, следовательно, не опровергает той основной истины, что объек-
7
тивно наличный мир может существовать только в представлении, т. е. только для субъекта.
Здесь следует еще заметить, что и Кант (по крайней мере до тех пор, пока он оставался последовательным[6]) не мог свои вещи в себе понимать как объекты. Это вытекает уже из того, что он доказал, что пространство, как и время, суть только формы нашего созерцания, которые, следовательно, не принадлежат вещам в себе. То, что не находится в пространстве и времени, не может быть и объектом; следовательно, бытие вещей в себе уже не может быть объективным, оно может быть только бытием совсем другого рода — метафизическим. Значит, в указанном кантовском тезисе заключается уже и то, что объективный мир существует только как представление[7].
Ничто не служит предметом такого упорного, не внемлющего никаким объяснениям и вечно повторяющегося недоразумения, как идеализм, ибо его истолковывают так, будто он отрицает эмпирическую реальность внешнего мира. На этом основана постоянная апелляция к здравому смыслу, которая выступает в различных видах и облачениях, например, как «основное убеждение» шотландской школы или как вера в реальность внешнего мира у Якоби. Внешний мир отнюдь не дается нам, как это представляет себе Якоби, просто в кредит и не принимается нами на веру: он предстает как то, что он есть, и непосредственно исполняет то, что обещает. Припомните, что Якоби, учредивший такую систему предоставления мира, в кредит и с успехом навязавший ее некоторым профессорам философии, которые в течение тридцати лет с комфортом и к собственной пользе философствовали вослед ему, — что это тот самый Якоби, который однажды написал донос о спинозизме Лессинга, а потом — об атеизме Шеллинга, за что и понес от руки последнего известную и вполне заслуженную кару. В таковом своем усердии, низводя внешний мир до вопроса веры, он хотел только открыть дверцу для веры вообще и вызвать доверие к тому, что впоследствии действительно стало приниматься людьми только в кредит; это подобно тому, как если бы для введения бумажных денег ссылались на то, что ценность звонкой монеты состоит исключительно в печати, которую ставит на нее государство. Якоби в своей философеме о принятой на веру реальности внешнего мира есть тот самый порицаемый Кантом («Критика чистого разума», перв. изд., с. 369) «трансцендентальный реалист, который разыгрывает из себя эмпирического идеалиста»4.
На самом же деле истинный идеализм — это идеализм не эмпирический, а трансцендентальный. Последний оставляет неприкосновенной эмпирическую реальность мира, но твердо придерживается того, что всякий объект (т. е. эмпирически реальное вообще) двояко обусловлен субъектом: во-первых, материально, или как объект вообще, потому что объективное существование мыслимо только в отношении к известному субъекту и в качестве его представления; во-вторых, формально, потому что сам способ существования объекта, т. е. представленности (пространство, время, причина), исходит из субъекта, предзадан в субъекте. Таким образом, к простому идеализму, или идеализму Беркли, который касается объекта вообще, непосредственно примыкает идеализм Канта, который касается особого способа бытия объекта. Кантовский идеализм
8
показывает, что весь материальный мир со всеми телами в пространстве, которые протяженны и, благодаря времени, находятся по отношению друг к другу в каузальных отношениях, вместе со всем сюда относящимся, — что все это не есть нечто, существующее независимо от нашей головы, но имеет свои основные предпосылки в функциях нашего мозга, посредством которых и в которых только и возможен такой объективный строй вещей; ибо время, пространство и причинность, на которых основаны все эти реальные и объективные процессы, сами суть не что иное, как функции мозга; что, следовательно, тот неизменный строй вещей, который служит мерилом и путеводной нитью их эмпирической реальности, сам исходит лишь из мозга и только от него получает свои полномочия; именно это обстоятельно и глубоко показал Кант, — он только не употребляет слова «мозг», а говорит «способность познания». Он пытался даже доказать, что тот объективный порядок во времени, пространстве, причинности, материи и т. д., на котором в конечном счете покоятся все процессы реального мира, даже невозможно помыслить как для себя существующий, т. е. как строй вещей самих по себе, или как нечто абсолютно объективное и безусловно существующее, потому что мысль о нем, если продумать ее до конца, ведет к противоречиям. Демонстрация этого была целью антиномий; но я в приложении к своему труду показал неудачность этой попытки. Во всяком случае учение Канта, и без антиномий, приводит к тому взгляду, что вещи и сам способ их существования нераздельно связаны с нашим их осознанием; поэтому тот, кто ясно понял это, скоро убеждается и в том, что допускать существование вещей, как таковых, еще и вне нашего сознания и независимо от него поистине нелепо. То, что мы так глубоко погружены во время, пространство, причинность и весь покоящийся на них закономерный ход опыта; то, что мы (и даже животные) чувствуем себя в них совершенно как у себя дома и с самого начала умеем ориентироваться в них, — это было бы невозможно, если бы наш интеллект был одним, а вещи — чем-то другим; нет, это объясняется только тем, что интеллект и вещи составляют одно целое, что интеллект сам творит этот строй и что он, интеллект, существует только для вещей, — но и эти вещи существуют только для него.
Но даже и независимо от тех глубоких взглядов, которые дает только кантовская философия, несостоятельность столь упрямо поддерживаемой гипотезы абсолютного реализма может быть доказана и непосредственно, или, по крайней мере, в ней можно убедить простым разъяснением ее смысла — например, следующими соображениями.
С точки зрения реализма мир, такой, как мы его познаем, должен существовать и независимо от этого познания. Попробуем тогда устранить из мира все познающие существа, т. е. оставим одну лишь неорганическую и растительную природу. Здесь есть скалы, деревья, ручьи и голубое небо; солнце, луна и звезды по-прежнему освещают этот мир, только, разумеется, понапрасну, так как нет глаза, который бы их видел. Но поселим здесь, дополнительно, существо познающее. Теперь в мозгу этого существа мир представляется еще раз и повторяется в нем точно таким же, каким он был раньше, вне его. К первому миру, таким образом, прибавился второй, который, хотя он и совершенно отделен от
9
первого, похож на него как две капли воды. Каков в объективном бесконечном пространстве объективный мир, таков же точно в субъективном, познанном пространстве субъективный мир этого созерцания. Но второй мир имеет сравнительно с первым еще и преимущество: знание того, что пространство бесконечно; и он даже может заранее правильно и до мельчайших подробностей предначертать совокупную закономерность всех возможных и еще не реализованных пространственных отношений, не нуждаясь в их ретроспективном обзоре; определяет он и течение времени, как и отношение причины к действию, которое управляет изменениями во внешнем мире. Я полагаю, что если вдуматься во все это, то мы увидим нелепость такой гипотезы и у нас созреет убеждение, что тот абсолютно объективный мир вне головы, независимый от нее и предшествующий всякому познанию, — что этот мир, который мы, как нам казалось, мыслили первоначально, на самом деле был уже вторым, субъективно познанным миром представления, единственным миром, который мы действительно в состоянии мыслить. Отсюда само собою напрашивается предположение, что мир, такой, как мы его познаем, и существует лишь для нашего познания, т. е. только в представлении, а не существует еще и вторично, вне последнего*. В соответствии с этим предположением следует принять и вещь в себе, т. е. нечто, существующее независимо от нашего и всякого другого познания как совершенно отличное от представления и всех его атрибутов, т. е. от объективности вообще: а то, что это такое, станет темой нашей второй книги.
Напротив, только что подвергнутое нами критике допущение двух миров — объективного и субъективного, каждый из которых находится в пространстве, — и возникающая при такой предпосылке невозможность перехода, моста между ними, лежат в основе рассмотренного в § 5 первого тома спора о реальности внешнего мира; по поводу этого я должен заметить еще следующее[8].
Субъективное и объективное не образуют собой континуума[9]: непосредственно сознаваемое ограничено пределами кожи, или, лучше сказать, самыми крайними окончаниями исходящих из мозговой системы нервов. За этими пределами лежит мир, о котором мы не имеем иных сведений кроме тех, которые мы получаем через посредство образов в нашей голове. Соответствует ли и в какой мере соответствует этим образам мир, существующий независимо от нас, — вот в чем вопрос. Отношение между обоими мирами могло бы существовать только через посредство закона причинности, ибо лишь этот закон ведет от чего-нибудь данного к другому, совершенно от него отличному. Но и сам этот закон должен сперва доказать свою значимость. Он должен иметь
10
или объективное, или субъективное происхождение, но и в том и в другом случае он лежит на одном из берегов и, следовательно, не может служить мостом. Если названный закон, как считали Локк и Юм, апостериорен[10], т. е. получен из опыта, то он имеет объективное происхождение, сам принадлежит тому внешнему миру, существование которого именно и подвергается сомнению, и не может поэтому служить порукой его реальности, ибо иначе, согласно методу Локка, закон причинности выводился бы из опыта, а реальность опыта выводилась бы из закона причинности. Если же последний[11], как правильно учил Кант, дан a priori, то он имеет субъективное происхождение, и тогда ясно, что мы никогда не выходим с· ним из пределов субъективного. Ибо единственное, что действительно эмпирически дано в созерцании, — это появление того или иного ощущения в органе чувства: предположение, что это ощущение, в принципе, должно иметь причину, основывается на коренящемся в форме нашего познавания, т. е. в функциях нашего мозга, законе, происхождение которого поэтому столь же субъективно, как и само это чувственное ощущение. Предполагаемая в силу этого закона причина данного ощущения тотчас же представляется в созерцании как объект, который имеет пространство и время как формы своего явления. Но и эти формы сами, в свою очередь, вполне субъективного происхождения, ибо они суть способ ‹работы› нашей способности созерцания. Этого перехода от чувственного ощущения к его причине, который, как я неоднократно разъяснял, лежит в основе всякого чувственного созерцания, достаточно, правда, для того, чтобы указать нам на эмпирическое присутствие, в пространстве и времени, какого-нибудь эмпирического объекта, т. е. его вполне достаточно для практической жизни; но он совершенно недостаточен для того, чтобы раскрыть нам существование и внутреннюю сущность возникающих для нас таким образом явлений, или, скорее, их умопостигаемого субстрата. Следовательно, то обстоятельство, что в связи с известными ощущениями, возникающими в органах моих чувств, в моей голове появляется созерцание протяженных в пространстве, пребывающих во времени и причинно действующих вещей, — это обстоятельство совсем не дает мне права предполагать, что подобные вещи с такими безусловно принадлежащими им свойствами существуют сами по себе, т. е. независимо от моей головы и вне ее.
Таков правильный вывод из философии Канта. Он примыкает к более раннему, столь же правильному, но более доступному выводу Локка. А именно: если, как это допускает учение Локка, причинами чувственных ощущений безусловно признаются внешние вещи, то все же между ощущением, в котором выражается действие, и объективными свойствами вызывающей его причины отнюдь не может быть никакого сходства, ибо ощущение как органическая функция прежде всего определено очень искусной и сложной структурой наших органов чувств, поэтому оно только вызывается внешней причиной, а затем протекает в полном соответствии со своими собственными законами, т. е. совершенно субъективно. Философия Локка была критикой функций чувств; Кант же дал критику функций мозга. А ко всему этому надо прибавить еще и вывод Беркли, к которому вновь пришел и я и согласно которому всякий объект, какого бы происхождения он ни был, уже как объект обусловлен
11
субъектом, т. е. по существу является только его представлением. Конечная цель реализма — это объект без субъекта: но такой объект нельзя даже ясно помыслить.
Все мое рассуждение достоверно и ясно показывает, что стремление постичь внутреннюю сущность вещей безусловно неосуществимо на пути простого познания и представления, так как последнее всегда подходит к вещам извне и поэтому должно вечно оставаться вовне. Это стремление могло бы быть осуществлено единственно в том случае, если бы мы сами находились внутри вещей и они, таким образом, были нам известны непосредственно[12]. Насколько это в действительности обстоит так, я рассматриваю в своей второй книге. Но пока мы в этой первой книге ограничиваемся объективным рассмотрением, т. е. познанием, мир остается для нас только представлением, ибо здесь невозможен такой путь, который вывел бы нас за его[13] пределы.
Но кроме того, неуклонно исповедуемая идеалистическая точка зрения — это необходимый противовес точке зрения материалистической[14]. Ведь, споры о реальном и идеальном можно рассматривать и как разногласие по вопросу о существовании материи. Ибо в конце концов ее идеальность или реальность — вот к чему сводится вопрос. Существует ли материя как таковая только в нашем представлении или же также независимо от него?[15] В последнем случае она была бы вещью в себе, а кто принимает в себе существующую материю, должен быть и материалистом, т. е. признавать материю объяснительным принципом всех вещей. А кто ее отрицает как вещь в себе, тот ео ipso* — идеалист. Среди новых философов прямо и без околичностей утверждал ее реальность только Локк; поэтому его учение, через посредство Кондильяка, привело к сенсуализму и материализму французов. Прямо и без модификаций отрицал материю только Беркли. Таким образом, действительная противоположность — это противоположность идеализма и материализма, в своих крайних обнаружениях представляемых Беркли и французскими материалистами (Гольбах). О Фихте не следует здесь упоминать: он не заслуживает места среди настоящих философов, среди этих избранников человечества, которые с полной серьезностью стремятся не к удовлетворению своих интересов, а к истине и которых поэтому нельзя смешивать с теми, кто под этим предлогом ищет личного успеха[16]. Фихте — отец лжефилософии, недобросовестного метода, который пытается обмануть двусмысленностью словоупотребления[17], туманными речами и софизмами, импонирует важностью тона и таким образом пускает пыль в глаза жаждущим знания; своей вершины эта философия, пройдя через руки Шеллинга, как известно, достигла у Гегеля5: здесь она обратилась в настоящее шарлатанство. И кто совершенно серьезно ставит имя этого Фихте рядом с именем Канта, тот доказывает, что он не имеет ни малейшего представления о том, что такое Кант.
Впрочем, и материализм имеет свое оправдание. Так же верно, что познающее есть продукт материи, как верно то, что материя есть только представление познающего, но зато это и так же односторонне. Ибо материализм — это философия субъекта, который в своих расчетах
12
забывает о самом себе. Поэтому утверждению, что я — только модификация материи, надо как равносильное противопоставить другое: то, что всякая материя существует только в моем представлении, — и это второе утверждение не менее правильно. Смутное понимание этого обстоятельства было, по-видимому, источником платоновского изречения: «materia mendacium verax»*.
Реализм, как уже говорилось, необходимо ведет к материализму. Ибо если эмпирическое созерцание показывает нам вещи в себе, как они существуют независимо от нашего познания, то, значит, опыт показывает и порядок вещей в себе, т. е. истинный и единый миропорядок. Но этот путь ведет к предположению, что существует только одна вещь в себе — материя, модификацией которой является все остальное, ибо естественное течение вещей является здесь абсолютным и всеединым миропорядком. Для того чтобы избежать таких выводов, реализму, пока он пользовался непререкаемым авторитетом, был противопоставлен спиритуализм, т. е. признание второй субстанции, вне и наряду с материей, субстанции имматериальной. Этот дуализм и спиритуализм, одинаково далекий как от опыта, так и от доказательности и понятности, был отвергнут Спинозой, а Кант доказал его ложность: он имел на это право, потому что одновременно утвердил в правах идеализм. Ибо вместе с реализмом сам собой отпадает и материализм, в противовес которому измыслили спиритуализм: ведь и материя, и весь порядок природы обращаются в простое явление, обусловленное интеллектом, потому что оно имеет бытие только в его представлении. Таким образом, мнимое и недействительное средство против материализма — это спиритуализм, действительное же и истинное — это идеализм: ставя объективный мир в зависимость от нас, он дает этим необходимый противовес той зависимости, в которую порядок природы ставит нас от объективного мира. Мир, с которым разлучит меня смерть, был, с другой стороны, только моим представлением. Центр тяжести существования вновь приходится на субъект. Доказывается не независимость познающего от материи, как в спиритуализме, а зависимость всякой материи от познающего[18].
Конечно, это не так легко понять и усвоить, как спиритуализм
с его двумя субстанциями, но — χαλεπὰ τ̀α καλά**.
Разумеется, до поры до времени субъективной исходной точке — «мир — мое представление» — с равным правом противопоставляется объективная — «мир — материя», или «безусловно существует только материя» (так как она одна не подчинена становлению и уничтожению), или «все существующее — материя». Это — исходный пункт Демокрита, Левкиппа и Эпикура. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что теория, исходящая из субъекта, имеет одно действительное преимущество: она делает вполне законный шаг вперед. В самом деле: непосредственно только сознание, между тем мы перепрыгиваем через него, если сразу идем к материи и делаем ее своим исходным пунктом. С другой стороны, должна была бы существовать возможность построить мир из материи и ее свойств, познанных правильно, полностью и исчерпываю-
13
щим образом (а до этого нам далеко). Ибо все возникшее стало реальным вследствие причин, которые смогли оказать свое действие и объединиться только благодаря основным силам материи, — а их мы должны были бы иметь возможность, по крайней мере objective, перечислить сполна, даже если subjective мы никогда не познаем их. Но в основе такого объяснения и построения мира всегда лежала бы не только гипотеза в себе бытия материи (между тем как в действительности оно обусловлено субъектом), но это объяснение должно было бы, кроме того, сохранить и признать за этой материей все ее первичные качества как безусловно необъяснимые, т. е. как qualitates occultas* (см. § 26, 27 первого тома). Ибо материя — только носитель этих сил, так же как закон причинности — только регулятор их проявлений. Тем самым такое объяснение мира всегда оставалось бы только относительным и условным, собственно говоря, оно было бы порождением такой физики, которая на каждом шагу стремилась бы к метафизике.
С другой стороны, и субъективная исходная точка, основное положение «мир — мое представление» тоже отличается некоторой неадекватностью: отчасти потому, что это положение односторонне, так как мир есть ведь еще очень многое сверх того (а именно вещь в себе, воля) и то, что он — представление, для него в известной степени случайно; отчасти же и потому, что оно выражает только обусловленность объекта субъектом, не указывая вместе с тем, что и субъект, как таковой, тоже обусловлен объектом. Ибо сколь неверно положение грубого рассудка «мир, объект, существовал бы, даже если бы не было субъекта», столь же неверно и положение «субъект все-таки был бы познающим, даже если бы он не имел объекта, т. е. никакого представления». Сознание без предмета не есть сознание. Мыслящий субъект имеет своим объектом понятия; чувственно созерцающий субъект имеет объекты с качествами, соответствующими его организации. Если мы отнимем у субъекта все ближайшие определения и формы его познания, то и в объекте исчезнут все его свойства, и ничего не останется, кроме материи без формы и качества, которая так же не может встречаться в опыте, как и субъект без форм своего познания, но все же продолжает противостоять чистому субъекту как таковому — в качестве его отражения, которое может исчезнуть только вместе с ним[19]. Хотя материализм и воображает, что он постулирует только эту материю, например атомы, но бессознательно он присоединяет сюда не только субъект, но и пространство, время и причинность, которые основываются на специфических определениях субъекта.
Мир как представление, мир объективный, имеет, таким образом, как бы два полюса: а именно — познающий субъект сам по себе, помимо форм своего познания, и грубая материя без форм и качеств. Оба полюса совершенно непознаваемы: субъект — потому, что он — познающее, материя — потому, что без форм и свойств ее нельзя созерцать. Тем не менее оба полюса являются основными условиями всякого эмпирического созерцания. Таким образом, грубой, бесформенной, совершенно мертвой (т. е. безвольной) материи, которая не дана ни в каком опыте,
14
но во всяком предполагается, противостоит как чистое отражение познающий субъект, просто как таковой, и он тоже составляет предпосылку всякого опыта. Этот субъект не находится во времени, ибо само время есть только ближайшая форма всей его представляющей деятельности; противостоящая ему материя, сообразно с этим, вечно непреходяща, пребывает во все времена, но, собственно, непротяженна (так как протяженность дает форму), следовательно — внепространственна. Все остальное погружено в постоянное возникновение и уничтожение, между тем как этот субъект и эта материя являются неподвижными полюсами мира как представления. В постоянстве материи можно поэтому видеть отражение безвременности чистого субъекта, взятого просто как условие всякого объекта. Оба (субъект и материя) относятся к явлению, а не к вещи в себе, — но они составляют основной каркас явления. Оба они могут быть открыты лишь через посредство абстракции и не даны в своей непосредственной чистоте и самостоятельности.
Основная ошибка всех систем — это непонимание той истины, что интеллект и материя суть корреляты, т. е. что одно существует только для другого, оба стоят и падают вместе, одно служит лишь рефлексом другого и даже, собственно говоря, представляют они собою одно и то же, но только рассматриваемое с двух противоположных сторон: и это единое, которое я здесь предвосхищаю, есть проявление воли, или вещи в себе; что, следовательно, оба они вторичны и поэтому нельзя искать начало мира ни в одном из них[20]. Между тем в результате этого непонимания все системы (за исключением, быть может, спинозизма) искали начало всех вещей в одном из них. Некоторые из этих систем постулируют некий интеллект, νους, как безусловно первое и δημιουργος*, и учат поэтому, что в нем представление вещей и мира предшествует действительному существованию последних[21]; в связи с этим они различают реальный мир и мир как представление, а это неверно. Поэтому в качестве того, чем оба мира различаются между собою, появляется теперь материя как вещь в себе. Отсюда и возникает затруднение, как ввести эту материю, ύλη, для того чтобы она, присоединенная к чистому представлению мира, сообщила последнему реальность. И тогда либо этот первосущий интеллект должен ее уже найти, и тогда она наравне с ним есть абсолютно первое и мы получаем таким образом два абсолютно первых ‹начала› — δημιουργος и ύλη. Либо он создает ее из ничего — допущение, которому противится наш рассудок, так как он способен понимать только изменения в материи, а не возникновение или уничтожение ее самой (это в сущности объясняется тем, что материя — естественный коррелят рассудка)[22]. Системы, противоположные этим, делающие абсолютно первым другой коррелят, т. е. материю, постулируют такую материю, которая могла бы существовать, даже и не будучи представляемой, а это, что вполне ясно из всего сказанного выше, есть прямое противоречие, ибо в качестве существования материи мы всегда мыслим только ее представляемость. Но затем для таких систем возникает затруднение: привнести в эту материю, которая одна является для них абсолютно первой, интеллект, который в конце концов должен
15
узнать о ней. Это изъян материализма я описал в § 7 первого тома. У меня же, наоборот, материя и интеллект — нераздельные корреляты, которые существуют только друг для друга и поэтому только относительно: материя — представление интеллекта; интеллект — то, в чьем представлении только и существует материя. Вместе они составляют мир как представление, который именно и есть кантовское явление, т. е. нечто вторичное. Первое — это являющееся, вещь в себе самой, в которой мы впоследствии узнаем волю. Последняя сама по себе[23] — ни представляющее, ни представляемое, но нечто совершенно отличное от способа своего проявления.
В заключение этого столь важного, сколько и трудного анализа я для большей определенности попробую персонифицировать обе указанные абстракции и заставлю их вступить в диалог, по образцу Прабоджа Чандро Дайа; можно также сравнить с этим сходный диалог материи с формой в сочинении «Duodeam principiis philosophiae»*, гл. 1 и 2, Раймунда Луллия.
Субъект
Я существую, и кроме меня нет ничего. Ибо мир мое представление.
Материя
Что за дерзкое самообольщение! Я существую, я, и кроме меня нет ничего. Ибо мир — моя преходящая форма. Ты не более чем результат части этой формы и совершенно случаен.
Субъект
Какое нелепое самомнение! Ни ты, ни твоя форма не существовали бы без меня: вы мною обусловлены. Кто устраняет меня из своей мысли и после этого полагает, что он еще может мыслить вас, тот впадает в грубое заблуждение, ибо ваше существование вне моего представления — это прямое противоречие, «деревянное железо». Вы существуете — это значит только то, что я вас себе представляю. Мое представление — вот место вашего существования; поэтому я — его первое условие.
Материя
К счастью, дерзость твоего утверждения скоро будет опровергнута реальным образом, а не только на словах. Еще несколько мгновений — и тебя не станет, и ты вместе со своим бахвальством погрузишься в ничто: ты пронесешься как тень и тебя постигнет участь всех моих преходящих форм. Я же — я останусь, невредимая и неуменьшенная, в течение бесконечного времени, из тысячелетия в тысячелетие, и невозмутимо буду созерцать игру моих сменяющихся форм.
Субъект
Это бесконечное время, которое ты хвалишься прожить, существует, как и бесконечное пространство, которое ты наполняешь, только в моем представлении; мало того, оно — простая форма моего представления, которую я ношу в себе готовой и в которой ты себя являешь, которая тебя принимает в себя, вследствие чего ты только и существуешь. А уничтожение, которым ты мне грозишь, постигает не меня, — иначе и ты вместе со мной исчезла бы: оно постигает только того индивида,
16
который короткое время служит моим носителем и который я представляю себе, как и все другое.
Материя
Но если даже я уступлю тебе в этом и соглашусь рассматривать твое существование, которое все-таки неразделимо связано с существованием этих преходящих индивидов, — если я соглашусь рассматривать его как нечто существующее для себя, то оно все же останется зависимым от моего существования. Ибо ты — субъект лишь постольку, поскольку имеешь объект, а этот объект — я. Я — его ядро и содержание, то постоянное, что есть в нем, чем он держится и без чего он был бы так же бессвязен и испарялся бы так же бесплотно, как сновидения и фантазии твоих индивидов, которые ‹фантазии› даже свое призрачное содержание заимствовали опять-таки у меня.
Субъект
Ты поступаешь правильно, не желая оспаривать моего существования только потому, что оно связано с индивидами: ибо столь же неразлучно, как я к ним, прикована и ты к своей сестре — форме, и ты еще никогда не появлялась без нее[24]. Тебя, как и меня, ничей глаз еще не видел нагой и одинокой, так как и ты, и я — только абстракции. Одно и то же существо, в конце концов, созерцает себя самого и самим собой созерцается; но его бытие само по себе не может состоять ни в созерцании, ни в том, чтобы служить объектом созерцания, так как и то и другое распределено между нами обоими.
Оба
Таким образом, мы нераздельно связаны, как необходимые части единого целого, которое объемлет нас обоих и через нас существует. Только недоразумение может противопоставлять нас друг другу как врагов и доводить до того, чтобы одно оспаривало существование другого, — на котором для каждого из нас держится и с которым падает собственное существование.
Это целое, охватывающее их, — мир как представление, или явление. Устраните его, и тогда останется только чисто метафизическое, вещь в себе, которая, как мы поймем из второй книги, есть воля.
Глава 2
По поводу учения о созерцающем или рассудочном
познании
При всей трансцендентальной идеальности объективный мир сохраняет эмпирическую реальность: хотя объект — и не вещь в себе, но как эмпирический объект он реален. Хотя пространство находится лишь в моей голове, но эмпирически моя голова находится в пространстве. Хотя закон причинности никогда не сможет послужить устранению идеализма, что было бы возможно, если бы он образовывал мост между вещами в себе и нашим знанием о них и, следовательно, обеспечивал
17
абсолютную реальность миру, который явлен нам в результате его применения, однако это вовсе не устраняет причинного отношения объектов друг к другу, а значит, не уничтожает и того отношения, которое бесспорно существует между собственным телом каждого познающего и прочими материальными объектами. Но причинный закон связывает только явления, а не выводит за их пределы. Мы существуем и остаемся с ним в мире объектов, т. е. явлений — т. е., собственно говоря, представлений. Но подобный мир опыта в целом обусловлен прежде всего познанием субъекта вообще, как своей необходимой предпосылкой, а затем — и специфическими формами нашего созерцания и восприятия, т. е. он с необходимостью принадлежит простому явлению и не имеет никаких притязаний считаться миром вещей в себе. Даже сам субъект (поскольку он — лишь познающее) относится к простому явлению, будучи его второй, дополняющей половиной.
Между тем без применения закона причинности никогда не могло бы осуществиться созерцание объективного мира, ибо это созерцание, как я уже часто объяснял, по существу своему интеллектуально, а не только чувственно. Чувства дают только ощущение, которое еще далеко не есть созерцание[25]. Долю чувственного ощущения в созерцании выделил Локк, под именем вторичных качеств[26], в которых он справедливо отказал вещам в себе. Кант же, развивая метод Локка, выделил, кроме того, и отнял у вещей в себе то, что относится[27] к переработке этого материала (чувственных ощущений) мозгом, — и при этом оказалось, что здесь содержится все то, что Локк оставил как первичные качества, на долю вещей в себе, а именно — протяжение, форма, плотность и т. д.; благодаря этому вещь в себе превратилась у Канта в нечто совершенно неизвестное = x. Таким образом, хотя у Локка вещь в себе есть, правда, нечто лишенное цвета, звука, запаха, вкуса, ни теплое, ни холодное, ни мягкое, ни твердое, ни гладкое, ни шероховатое, — однако она[28] остается еще чем-то протяженным, оформленным, непроницаемым, покоящимся или подвижным, обладающим мерой и числом. Кант же совлек с нее и все эти последние свойства, потому что они возможны только благодаря времени, пространству и причинности, — а время, пространство и причинность также возникают из нашего интеллекта (мозга), как цвета, звуки, запахи и т. д. — из нервов органов чувств. Вещь в себе превратилась у Канта в нечто внепространственное, непротяженное, бестелесное. Таким образом, то, что простые чувства дают созерцанию, в котором существует объективный мир, так относится к тому, что дает ему функция мозга (пространство, время, причинность), как масса нервов органов чувств относится к массе мозга, за вычетом той части последней, которая сверх того используется для мышления в собственном смысле слова, т. е. для абстрактных представлений, и потому отсутствует у животных. Ибо если нервы органов чувств придают являющимся объектам цвет, звук, вкус, запах, температуру и т. д., то мозг придает им протяженность, форму, непроницаемость, подвижность и т. д., — короче, все то, что представимо лишь благодаря времени, пространству и причинности. Как мала в созерцании доля чувств сравнительно с долей интеллекта, показывает, таким образом, уже сравнение между нервным аппаратом, ‹используемым› для получения впечатлений, с аппаратом, ‹используемым›для их переработки: масса
18
ощущающих нервов во всех органах чувств очень незначительна сравнительно с массой мозга, даже у животных, мозг которых, ввиду того, что они по-настоящему, т. е. абстрактно, не мыслят, служит только для осуществления созерцания, и все же там, где последнее становится совершенным, т. е. у млекопитающих, имеет значительную массу, — даже после устранения мозжечка, функцией которого является упорядоченное руководство движениями.
В недостаточности чувств для произведения объективного созерцания вещей, как и в неэмпирическом происхождении созерцания пространства и времени, очень основательно убеждает нас, подтверждая кантовские истины отрицательным путем, прекрасная книга Томаса Рида «Inquiry into the human mind», first edition 1764, 6-th edition 1810*. Автор опровергает учение Локка, согласно которому созерцание — продукт чувств, основательно и остроумно доказывая, что все чувственные ощущения не имеют ни малейшего сходства с созерцательно познаваемым миром и что в особенности пять первичных качеств Локка (протяженность, форма, плотность, движение, число) не могут быть нам даны никаким чувственным ощущением[29]. Он, таким образом, считает вопрос о способе возникновения и происхождении созерцания совершенно неразрешимым. И вот, хотя и совершенно не зная Канта, он как бы на основании regula falsi[30]**[31] дает убедительное доказательство интеллектуальности созерцания (собственно, впервые изложенной мною как вывод из кантовского учения) и открытого Кантом априорного происхождения главных элементов созерцания, т. е. пространства, времени и причинности, из которых возникают названные первичные качества Локка и посредством которых последние легко могут быть сконструированы. Книга Рида очень поучительна и достойна прочтения в десять раз больше, чем все, что написано по философии после Канта, вместе взятое[32]. Другое косвенное доказательство этого же самого учения дают, хотя и неверным путем, французские философы-сенсуалисты, которые, с тех пор как Кондильяк пошел по стопам Локка, стараются действительно показать, что все наши представления и все мышление сводятся к простым чувственным ощущениям (penser c’est sentir***), называемым ими, по примеру Локка, idées simples[33]****; одно только сочетание и сравнение этих ощущений, согласно их взгляду, создает в нашей голове весь объективный мир. У этих господ действительно idées bien simples[34]*****; забавно видеть, как они, не обладая ни глубиною немецких, ни честностью английских философов, вертят в разные стороны жалкий материал чувственного ощущения и стараются придать ему важный вид, для того чтобы построить из него столь значительный феномен мира представлений и мысли. Но сконструированный ими человек должен, выражаясь анатомически, быть каким-то anencephalus, tete de crapaud[35]******[36], с одними только
19
органами чувств, без мозга. Из бесчисленных попыток этого рода я в виде примера назову две лучшие: у Кондорсе в начале его книги: «Des progrès de l’esprit humain»* и у Туртюаля: «О зрении», во втором томе книги «Scriptores ophtalmologici minores»; edidit Justus Radius**.
Чувство недостаточности исключительно сенсуалистического объяснения созерцания обнаруживается и в высказанном незадолго до появления кантовской философии утверждении, что мы имеем не только возбуждаемые чувственным ощущением представления о вещах, но и непосредственно воспринимаем сами вещи, хотя они и лежат вне нас, — что, разумеется, непостижимо. И этому утверждению придавали не идеалистический смысл, оно было высказано с обычной реалистической точки зрения. Хорошо и сжато выражает эту мысль знаменитый Эйлер в своих «Письмах к немецкой принцессе», т. 2, с. 68: «Поэтому я думаю, что ощущения (чувств) заключают в себе нечто большее, чем воображают себе философы. Эти ощущения не только пустые восприятия известных впечатлений в нашем мозге: они дают душе не только идеи о вещах, но и действительно представляют ей предметы, которые существуют вне ее, — хотя и нельзя понять, как это собственно происходит». Это мнение можно объяснить следующим образом. Хотя, как я достаточно ясно показал, созерцание опосредуется применением осознаваемого нами a priori закона причинности, однако при зрении[37] акт рассудка, посредством которого мы переходим от действия к причине, никогда не проникает в сознание отчетливо: вот почему чувственное ощущение и неотделимо от представления, которое формируется из него как из грубого материала[38] только рассудком. Еще менее может осознаваться различие между предметом и представлением, которое вообще не имеет места: нет, мы непосредственно воспринимаем сами вещи, и притом как находящиеся вне нас, — хотя и несомненно, что непосредственным может быть только ощущение, а последнее ограничено областью под нашей кожей. Это объясняется тем, что вне нас — исключительно пространственное определение, само же пространство — форма нашей способности созерцания, т. е. функция нашего мозга: потому-то такое вне нас, куда мы, под воздействием зрительных ощущений, переносим предметы, само находится внутри нашей головы, ибо здесь-то и находится вся его арена. Это приблизительно то же, что бывает в театре[39]: мы видим горы, лес и море, но все это не выходит из стен здания. Отсюда становится понятным, отчего мы созерцаем вещи как внешние и все-таки совершенно непосредственно, — а не как свое внутреннее представление о вещах, отличное от самих вещей, находящихся вне нас. Ибо в пространстве и, следовательно, вне нас вещи существуют лишь постольку, поскольку мы их представляем; оттого эти вещи, которые мы, таким образом, созерцаем непосредственно (а не видим в них просто отражение), суть сами тоже лишь наши представления и как таковые[40] существуют только в нашей голове. Следовательно, мы не созерцаем, как говорит Эйлер, непосредственно сами вне нас лежащие вещи; скорее надо сказать
20
так: вещи, которые мы созерцаем как расположенные вне нас, — это только наши представления и потому нечто, непосредственно нами воспринятое. Таким образом, все приведенное выше и совершенно правильное замечание Эйлера служит новым подтверждением кантовской трансцендентальной эстетики и моей, на ней основанной теории созерцания, как и идеализма вообще. Упомянутая выше непосредственность и бессознательность, с которой мы в созерцании совершаем переход от ощущения к его причине, могут быть объяснены аналогичным процессом при абстрактном представлении, или мышлении. А именно: читая и слушая, мы воспринимаем только слова, но от них с такой непосредственностью переходим к обозначаемым ими понятиям, и что нам кажется, будто мы воспринимаем непосредственно понятия, ибо мы совершенно не осознаем перехода к ним. Вот почему мы иногда не знаем, на каком языке прочли вчера то, о чем вспоминаем. Но что такой переход все же имеет место, это мы замечаем в тех случаях, когда он запаздывает, т. е. когда мы в рассеянности читаем машинально, и потом оказывается, что хотя мы восприняли все слова, но не восприняли ни одного понятия. Лишь тогда, когда мы переходим от абстрактных понятий к образам фантазии, мы осознаем это превращение.
Впрочем, при эмпирическом восприятии бессознательность, с которой совершается переход от ощущения к причине, сопутствует, собственно, только созерцанию в самом узком смысле, т. е. зрению; при всех же остальных чувственных восприятиях он совершается с более или менее отчетливым сознанием, и поэтому при «схватывании» четырьмя более грубыми чувствами его реальность может быть констатирована непосредственно и фактически. В темноте мы до тех пор ощупываем предмет со всех сторон, пока не сможем из различных воздействий его на наши руки сконструировать их причины в виде определенного образа. Далее, если что-нибудь кажется нам на ощупь гладким, то нам иногда приходит в голову, не покрыты ли у нас руки жиром или маслом; или когда мы испытываем холодное прикосновение, мы спрашиваем себя, не очень ли теплы наши руки. Звук вызывает у нас иногда сомнение, был ли он только внутренним или же действительно пришедшим извне аффицированием слуха; мы не знаем также, раздался ли он вблизи и слабо, или издалека и сильно, с какой стороны он послышался, наконец, был ли это голос человека, животного или звук инструмента; мы, таким образом, по данному действию ищем его причину. При ощущениях запаха и вкуса неуверенность в характере объективной причины испытываемого нами действия составляет повседневное явление: так явно расходятся здесь причина и действие[41]. То, что в зрении переход от действия к причине совершается совершенно бессознательно и оттого возникает иллюзия, будто этот вид восприятия полностью непосредствен и состоит в одном только чувственном ощущении, без операции рассудка, — это объясняется отчасти высоким совершенством органа, отчасти исключительно прямолинейным действием света. Благодаря второму из этих обстоятельств впечатление уже само указывает на место своей причины, и так как глаз обладает способностью очень тонко и с первого взгляда ощущать все нюансы света, тени, красок и контуров, а также и те данные, по которым рассудок определяет расстояние, то при воздействиях на это
21
чувство операция рассудка происходит с такой быстротой и правильностью, что она столь же мало проникает в сознание, как и складывание букв при чтении: отсюда и возникает иллюзия, будто уже само ощущение непосредственно дает предметы. На самом же деле именно при видении операция рассудка, состоящая в познании причины из действия, играет наиболее важную роль: благодаря ей то, что ощущается вдвойне, двумя глазами, созерцается как единое; благодаря ей образ, который вследствие скрещения лучей в зрачке попадает на сетчатку перевернутым, верхом вниз, — при отыскании его причины, на обратном пути того же направления, опять восстанавливается, или, как обычно говорят, мы видим вещи прямыми, хотя их изображение в глазу перевернуто; наконец, благодаря этой операции рассудка мы на основании пяти различных данных, которые Рид описывает весьма отчетливо и хорошо, определяем в непосредственном созерцании величину и расстояние. Все это, как и доказательства, неопровержимо показывающие интеллектуальность созерцания, я изложил уже в 1816 году в своем трактате «О зрении и цвете» (2-е изд. 1854 г.); в значительно дополненном виде я сделал это в появившейся пятнадцать лет спустя и улучшенной переработке названного сочинения, на латинском языке, которая под заглавием «Theoria colorum physiologica eademque primaria»* напечатана в третьем томе изданной в 1830 г. Юстусом Радиусом книги «Scriptores ophthalmologici minores»; но подробнее и основательнее всего это сделано мною во втором издании моего трактата «О законе основания», § 21. К нему я и отсылаю по поводу этого важного вопроса, чтобы не расширять чрезмерно настоящее изложение.
Но одно замечание, примыкающее к эстетической области, я позволю себе сделать здесь. Вследствие доказанной интеллектуальности созерцания, вид прекрасных предметов, например вид прекрасного пейзажа, тоже представляет собой феномен мозга. Чистота и совершенство такого зрелища зависит поэтому не от одного только объекта, но и от свойств мозга, а именно от формы и величины последнего, от тонкости его тканей и от живости его деятельности, зависящей от энергии пульса в сосудах мозга. Вот почему образы одного и того же ландшафта в разных головах, даже при одинаковой остроте глаз, безусловно будут столь же различными, как, например, первый и последний оттиск много послужившей медной доски. На этом основаны значительные различия в способности наслаждаться красотою природы и, следовательно, в способности к ее воспроизведению, т. е. к созиданию подобного же мозгового феномена, но совершенно иными средствами, а именно с помощью красочных пятен на полотне.
Впрочем, основанная на полной интеллектуальности созерцания кажущаяся непосредственность его, в силу которой мы, как говорит Эйлер, схватываем сами вещи и притом как находящиеся вне нас, находит себе аналогию в том, как мы ощущаем члены нашего собственного тела, в особенности если они у нас болят (а большей частью только в этом случае мы их и ощущаем). А именно: подобно тому как мы воображаем себе, что воспринимаем вещи непосредственно там, где они находятся,
22
между тем как на самом деле это происходит в мозгу, — точно так же мы полагаем, что ощущаем боль какого-нибудь члена в нем самом, между тем как она тоже ощущается в мозгу, куда ее доводит нерв аффицированной части. Поэтому мы ощущаем только аффицирование тех частей, нервы которых идут к мозгу, а не тех, нервы которых относятся к системе ганглиев, — разве только необычайно сильное возбуждение их проникает окольными путями в мозг, где оно, впрочем, дает о себе знать обыкновенно только в виде смутного недомогания, не указывая точно его места. Поэтому боль в каком-нибудь члене, нервный ствол которого перерезан или перевязан, не ощущается. Поэтому, наконец, человек, лишившийся какого-нибудь члена, все-таки чувствует еще временами боли в нем, ибо нервы, идущие к мозгу, еще существуют.
Таким образом, в обоих феноменах, которые мы здесь сравнили, то, что происходит в мозгу, воспринимается как нечто вне его: при созерцании — через посредство рассудка, который простирает свои щупальца во внешний мир; при ощущении членов — через посредство нервов.
Глава
3
О чувствах
Повторять сказанное другими не является целью моих сочинений: поэтому я предлагаю здесь только отдельные, собственные наблюдения над чувствами.
Чувства — это лишь отростки мозга, через которые он получает извне материал (в виде ощущений), перерабатываемый далее в наглядное представление. Те ощущения, которые должны служить главным образом объективному схватыванию внешнего мира, не должны быть сами по себе ни приятными, ни неприятными: это означает, что они должны оставлять волю совершенно незатронутой. Иначе само ощущение приковывало бы к себе наше внимание и мы останавливались бы на действии, вместо того чтобы, как это требуется здесь, сейчас же переходить к причине; так это было бы потому, что воля всюду имеет для нашего внимания решительное преимущество перед простым представлением, к которому мы обращаемся лишь тогда, когда воля молчит. Вот почему цвета и звуки сами по себе, пока впечатление от них не переходит нормальной меры, не являются ни болезненными, ни приятными ощущениями, и выступают с тем безразличием, которое делает их пригодным материалом чисто объективных созерцаний. Конечно, так это бывает до тех пределов, до каких это вообще возможно для тела, которое само по себе есть полностью воля, — именно в данном отношении это и удивительно. Физиологически это объясняется тем, что в органах более благородных чувств, каковы зрение и слух, те нервы, которые должны воспринимать специфическое внешнее впечатление, неспособны ни к какому болезненному ощущению и не знают иного ощущения, кроме специфически свойственного им, служащего только для восприятия. Вот почему сетчатка, как и оптический нерв, нечувствительна ни к какому поражению; таков же и слуховой нерв: в обоих органах боль
23
ощущается только в их прочих частях, в области, окружающей их специфический чувствующий нерв, но никогда — не в самом нерве; в глазе она чувствуется преимущественно в conjuctiva**; в ухе — в meats auditorius**. Даже с мозгом дело обстоит так же: если надрезать его непосредственно, т. е. сверху, то он не ощутит этого. Следовательно, только благодаря этому, свойственному зрительным ощущениям, безразличию по отношению к воле они способны посылать рассудку столь разнообразные и столь богатые оттенками данные, из которых он, рассудок, посредством применения закона причинности и на основе чистых созерцаний пространства и времени строит в нашей голове изумительный объективный мир. Именно это отсутствие воздействия цветовых ощущений на волю делает их способными, когда их энергия усилена прозрачностью, как, например, при вечерней заре, в цветных стеклах, — делает их способными легко погружать нас в состояние чисто объективного, безвольного созерцания, которое, как я показал в третьей книге, составляет главный элемент эстетического впечатления. И это же безразличие по отношению к воле превращает звуки в пригодный материал для обозначения бесконечного разнообразия понятий разума.
Ввиду того что внешнее чувство, т. е. восприимчивость к внешним впечатлениям, как к чистым данным для рассудка, раскололось на пять чувств, последние распределились по четырем стихиям, т. е. по четырем агрегатным состояниям, наряду с состоянием невесомости. Так, чувство твердого (земля) — осязание, чувство жидкого (вода) — вкус, газообразного, т. е. летучего (испарения, запахи) — обоняние, устойчиво эластичного (воздух) — слух, невесомого (огонь, свет) — зрение. Второе невесомое, теплота, — это, собственно, предмет не одного из пяти чувств, а общего чувства, и потому она всегда и действует непосредственно на волю как нечто приятное или неприятное. Из этой классификации вытекает и сравнительное достоинство чувств. Зрение стоит на первом месте, так как его сфера самая широкая, а его восприимчивость — самая тонкая; объясняется это тем, что возбуждающий его момент есть невесомое, т. е. нечто почти уже нетелесное, quasi духовное[42]. Второе место занимает слух, соответствуя воздуху. Осязание похоже на основательного и многостороннего ученого. Ведь в то время как каждое из других чувств показывает нам только одно, совершенно одностороннее отношение объекта, например его гулкость или его отношение к свету, — осязание, тесно сплетенное с общим чувством и мускульной силой, сообщает рассудку данные одновременно о форме, величине, твердости, гладкости, ткани, прочности, температуре и тяжести тел — и все это с наименьшей возможностью иллюзии или обмана, которым все другие чувства подвержены в гораздо большей степени. Оба низших чувства, обоняние и вкус, уже не свободны от непосредственного возбуждения воли, т. е. они всегда вызывают приятное или неприятное впечатление и поэтому более субъективны, чем объективны.
Восприятия слуха совершаются исключительно во времени, поэтому вся сущность музыки состоит в мере времени, ибо на ней зиждется как
24
высота, или качество звуков, обусловленная вибрациями, так и количество, или их продолжительность, обусловленное тактом. Наоборот, восприятия зрения прежде всего и преимущественно совершаются в пространстве, а во вторую очередь, в силу их продолжительности, и во времени.
Зрение — это чувство рассудка, который созерцает; слух —· это чувство разума, который мыслит и внимает. Слова находят себе в видимых знаках только несовершенных представителей; поэтому я сомневаюсь, чтобы глухонемой, умеющий читать, но не имеющий никакого представления о звуке слов, так же быстро оперировал в своем мышлении простыми видимыми знаками понятий, как оперируем мы реальными, т. е. слышимыми, словами. Если он не умеет читать, то он, как известно, почти то же, что неразумное животное, между тем как слепорожденный с самого начала представляет собой вполне разумное существо.
Зрение — активное, слух — пассивное чувство.
Поэтому звуки действуют на наш дух беспокоящим и враждебным образом, и это
влияние тем сильнее, чем более он деятелен и развит: они разрывают все мысли, мгновенно
расстраивают способность мышления. Наоборот, со стороны глаза не возникает
аналогичных помех, и непосредственного воздействия видимого, как такового,
на мыслительную деятельность не происходит (разумеется, мы не говорим здесь о
влиянии увиденных предметов на волю): самое пестрое разнообразие вещей перед
нашими глазами оставляет для нас возможность совершенно беспрепятственного и
спокойного мышления. Вследствие этого мыслящий дух живет в вечном мире с
глазом, в вечной борьбе с ухом. Эта противоположность обоих чувств подтверждается
и тем, что глухонемые, исцеленные гальванизмом, при первом звуке, который они
слышат, мертвенно бледнеют от страха (Гильберт.
25
происходит там, где pons Varolii* обнимает medulla oblongata**, т. е. в том абсолютно смертельном месте, поражение которого мгновенно вызывает у каждого животного смерть и от которого слуховой нерв сразу же переходит к лабиринту, месту акустического сотрясения. Именно то, что слуховой нерв берет начало в том опасном месте, откуда исходит также всякое движение членов, служит причиной того, что мы при внезапном шуме вздрагиваем, чего при внезапном свете, например молнии, вовсе не случается. Зрительный нерв, напротив, выступает гораздо больше вперед из своих thalamis***[45] (хотя, быть может, его первоистоки лежат позади них), на своем дальнейшем пути всюду прикрыт передними мозговыми lobis****[46], хотя и всегда от них отделен, пока, наконец, совершенно не выходит из мозга и не расширяется в сетчатку, от которой только и возникает ощущение, вызываемое световым раздражением, и там действительно имеет свое место, как это показывает мой трактат «О зрении и цвете». Тем, что слуховой нерв начинается в указанном месте, объясняются и те большие помехи, которые испытывает мыслительная деятельность от звуков и в силу которой мыслящие люди и вообще все люди, богатые духом, решительно не могут переносить шума[47]. Он мешает постоянному течению их мыслей, прерывает и парализирует их мышление, так как сотрясение слухового нерва столь глубоко проникает в мозг, что вся его масса гудит и соощущает вызванные слуховым нервом колебания; кроме того, мозг таких людей гораздо легче приходит в движение, чем мозг обыкновенных голов. Этой же большой подвижностью и проводимостью их мозга объясняется то, что каждая мысль так легко вызывает у них все сходные или родственные мысли, благодаря чему подобия, аналогии и соотношения вещей так быстро и легко приходят им в голову, что тот самый повод, который миллионы обыкновенных умов имели до них, приводит их к той мысли, к тому открытию, которым другие люди, умея мыслить только по чужим следам, а не по собственному почину, удивляются впоследствии: как это они сами не додумались до этого. Так, солнце бросало свои лучи на все колонны, но только колосс Мемнона звучал в ответ8. Вот отчего Кант, Гете, Жан-Поль были в высшей степени чувствительны ко всякому шуму, как это сообщают их биографии*****.
Гете в последние годы своей жизни купил пришедший в ветхость дом, находившийся рядом со своим, только для того, чтобы не слышать стука при его ремонте. Напрасно, значит, в годы юности вслушивался он в барабанный бой, чтобы закалить себя против всякого шума. Здесь привычка ни при чем. С другой стороны, удивительно поистине стоическое равнодушие обыкновенных голов к шуму: никакой шум не мешает им размышлять, читать, писать и т. д., между тем как выдающаяся
26
голова от этого совершенно расстраивается. Но именно эта особенность, которая делает их столь нечувствительными ко всякого рода шуму, делает их столь же нечувствительными к прекрасному в изобразительных искусствах, к глубокой мысли или тонкому выражению в искусствах словесных, короче говоря, ко всему, что не затрагивает их личных интересов. К парализующему влиянию, которое оказывает шум на людей даровитых, относится следующее замечание Лихтенберга: «Это всегда хороший признак, если мелочи способны помешать художнику надлежащим образом проявить свое искусство. Перед игрой на фортепиано… Ф. опускал свои пальцы в плаунное семя… Посредственной голове такие вещи не мешают… она как бы просеивает через грубое решето» («Vermischte Schriften», т. 1, с. 398). Я действительно уже давно придерживаюсь мнения, что то количество шума, которое человек в состоянии переносить без неудовольствия, находится в обратно пропорциональном отношении к его духовным способностям и потому может рассматриваться как приблизительная мера последних. Если я слышу, что во дворе какого-нибудь дома целыми часами неугомонно лают собаки, то это уже достаточно определяет для меня умственные способности жильцов. Кто имеет привычку хлопать комнатными дверьми, вместо того чтобы притворять их рукой, или допускает это у себя в доме, тот не только невоспитанный, но и грубый, ограниченный человек. То, что по-английски sensible означает также и «умный», основано на верном и тонком наблюдении. Совершенно цивилизованы мы будем лишь тогда, когда закон возьмет под свое покровительство и уши и запретит разрывать сознание каждого мыслящего существа, на тысячу шагов в окружности, свистом, воем, ревом, стуком молотка, хлопаньем бича, допущением лая и т. п. Сибариты изгнали шумные ремесла за город; почтенная секта шекеров в Северной Америке не терпит в своих деревнях ненужного шума; о гернгутерах рассказывают то же самое. Подробнее об этом я говорю в тридцатой главе второго тома «Парерг».
Раскрытая выше пассивная природа слуха объясняет также столь глубокое, столь непосредственное, столь неотразимое воздействие музыки на дух и его нередкий результат — особую возвышенность настроения. Колебания звуков, протекающие в комбинированных, рациональных числовых отношениях, вызывают сходные колебания фибр самого мозга. С другой стороны, из совершенно противоположной слуху активной природы зрения становится понятным, почему для глаза не может быть ничего аналогичного музыке, и почему световой клавир был смешной нелепостью. В силу той же активности чувства зрения оно необыкновенно остро у животных, преследующих добычу, т. е. у хищных зверей, между тем как пассивное чувство, слух, очень остро у животных преследуемых, убегающих, робких: это своевременно предупреждает их о бегущем к ним или подкрадывающемся враге.
Подобно тому как в зрении мы познали чувство рассудка, а в слухе — чувство разума, так обоняние можно назвать чувством памяти, ибо оно непосредственнее всякого другого воскрешает для нас специфическое впечатление от какого-нибудь события или обстановки — даже из самого далекого прошлого.
27
О познании a
priori
Из того факта, что мы можем, исходя из самих себя, предписывать и определять законы отношений в пространстве, не нуждаясь для этого в опыте, Платон сделал вывод (Menо, р. 353, Bip.), что всякое познание есть только воспоминание; Кант же сделал отсюда вывод, что пространство обусловлено субъектом и является только формой познавательной способности. Насколько выше в этом отношении Кант по сравнению с Платоном).
Cogito, ergo sum[48]
— аналитическое суждение; Парменид считал его даже тождественным[49]:
nam intelligere et esse idem est* (Clem.
Alex. Str
Кант очень уместно ставит свои исследования о времени и пространстве во главу всех других. Ибо перед спекулятивным умом прежде всего возникают эти вопросы: что такое время? что это за существо, которое сплошь состоит из движения, но без движущегося? И что такое пространство, это вездесущее ничто, из которого не может выйти ни одна вещь, не перестав быть чем-то?
То, что время и пространство принадлежат субъекту и суть тот способ, каким совершается в мозгу процесс объективной апперцепции объектов, — это уже достаточно доказывается совершенной невозможностью устранить из мысли время и пространство, между тем как очень легко устранить из нее все, что в них представляется. Рука может уронить все, только не себя самое. Впрочем, я поясню здесь данные
28
Кантом ближайшие доказательства этой истины несколькими примерами и соображениями не для опровержения нелепых возражений, а для пользы тех, кому предстоит в будущем изложение кантовских теорий.
«Прямоугольный равносторонний треугольник» не заключает в себе логического противоречия, ибо каждый из предикатов в отдельности вовсе не уничтожает здесь субъекта, да и между собою они сами по себе не несоединимы. Только при конструировании предмета в чистом созерцании обнаруживается их несоединимость в этом предмете. Если бы мы из-за этого сочли такую несоединимость противоречием, то последним надо было бы признать и всякую физическую и лишь по истечении веков обнаруженную невозможность: например, образование металла из его элементов, или существование млекопитающего животного с количеством шейных позвонков большим или меньшим семи*, или присутствие рогов и верхних резцов у одного и того же животного. На самом же деле только логическая невозможность есть противоречие, а не физическая и не математическая. Равносторонность и прямоугольность не противоречат одна другой (в квадрате они присутствуют вместе), и каждая из них не противоречит треугольности. Поэтому несоединимость указанных выше понятий никогда не может быть познана чистым мышлением, а обнаруживается лишь в созерцании, которое, однако, имеет такой характер, что не требует опыта, не требует реального предмета: оно — чисто ментально. Сюда же относится и тезис Джордано Бруно, который, правда, можно найти и у Аристотеля: «Бесконечно большое тело по необходимости неподвижно»9; это положение не может опираться ни на опыт, ни на закон противоречия, так как оно говорит о вещах, которые не могут встретиться ни в каком опыте, и так как понятия «бесконечно большое» и «подвижное» не противоречат друг другу: только чистое созерцание показывает, что для движений требуется пространство вне тела, а бесконечная величина последнего не оставляет такого пространства. На возможное против первого математического примера возражение: все дело лишь в том, насколько полно то понятие, которое высказывающий суждение имеет о треугольнике; если бы оно было вполне полным, то оно уже заключало бы в себе и невозможность того, чтобы треугольник был прямоуголен и в то же время равносторонен, — на это возражение ответ должен быть следующим: предположим, что данное понятие о треугольнике не так полно, но ведь можно, без привлечения опыта, расширить его одним только построением треугольника в фантазии и убедиться на веки веков в невозможности указанного сочетания понятий, — а именно этот процесс и есть синтетическое суждение a priori, т. е. такое, с помощью которого мы безо всякого опыта и, однако, со значимостью для всякого опыта образуем и совершенствуем свои понятия. Ибо аналитично ли данное суждение или синтетично, это во всяком отдельном случае вообще можно определить лишь на основании того, какую степень — большую или меньшую — полноты имеет в голове высказывающего суждение, понятие субъекта: понятие «кошка» в голове Кювье во сто раз содержательнее, чем
29
в голове его слуги; поэтому одни и те же суждения о кошке будут для слуги синтетичны, а для Кювье только аналитичны. Если же мы возьмем понятия в их объективном смысле и пожелаем решить, аналитично ли данное суждение или синтетично, то надо обратить его предикат в его контрадикторную противоположность и безо всякой связки приложить его к субъекту: если получится contradictio in adjecto[51], то суждение было аналитическим, если нет — суждение было синтетическим.
То, что арифметика основывается на чистом созерцании времени, не так очевидно, как то, что геометрия имеет свой базис в созерцании пространства*. Но это можно доказать следующим образом. Всякий счет состоит в повторении полагания единицы; только дня того, чтобы всегда знать, как часто мы уже полагали единицу, мы каждый раз обозначаем ее другим словом: это и есть имена числительные. Но повторение возможно только в силу последовательности, а она, т. е. следование одного за другим, непосредственно зиждется на созерцании времени и есть понятие, которое можно усвоить только при посредстве последнего: следовательно, и счет возможен только благодаря времени. Эта зависимость всякого счета от времени сказывается в том, что во всех языках умножение обозначается словом «раз», то есть временным понятием: sexies, ἑξάκις, six fois, six times**. A ведь простой счет — это умножение на единицу; поэтому в учебных заведениях Песталоцци дети должны были умножать так: «Дважды два есть четырежды один». И Аристотель уже понимал тесное родство между числом и временем и указал на него в 14-й главе четвертой книги «Физики». Время — для него «число движения» (ὁ χρόνος ἀριϑμός ἐστι κινησεως10). Глубокомысленно ставит он вопрос о том, могло ли бы существовать время, если бы не было души, — и отрицает это. Если бы арифметика не имела своей основой такого чистого созерцания времени, то она не была бы наукой a priori и, значит, ее положения не отличались бы непогрешимой достоверностью.
Хотя время, как и пространство, — форма познания субъекта, тем не менее оно, как и пространство, представляется нам от него, субъекта, независимым и совершенно объективным. Против нашей воли или без
30
нашего ведома оно бежит или медлит: мы спрашиваем, который час, мы справляемся о времени как о чем-то вполне объективном. А что такое это объективное? Не движение небесных светил или часов, которые сами служат только для измерения по ним хода времени: нет, это нечто, совершенно отличное от всех вещей, но, как и вещи, независимое от нашего желания и знания. Оно существует только в головах познающих существ; но равномерность его течения и его независимость от воли дают ему права объективности.
Время прежде всего есть форма внутреннего чувства. Предвосхищая следующую книгу, замечу, что единственный предмет внутреннего чувства есть собственная воля познающего. Поэтому время есть форма, посредством которой для индивидуальной воли, первоначально и в себе самой бессознательной, становится возможным самопознание. Именно во времени сама по себе простая и тождественная сущность воли проявляется распространенной до жизненного пути. Но именно вследствие изначальной простоты и тождественности того, что представляется в таком виде, его характер всегда остается одинаковым, из-за чего и само течение жизни всегда сохраняет все тот же основной тон и даже ее разнообразные события и сцены в сущности являются как бы вариациями на одну и ту же тему.
Априорность закона причинности англичанами и французами отчасти еще даже не замечена, отчасти неправильно понята: вот почему некоторые из них продолжают старые попытки найти для него эмпирическое начало. Мэн де Биран видит последнее в том факте опыта, что за волевым актом как причиной следует движение тела как действие. Но сам этот факт ложен. Мы вовсе не познаем действительный непосредственный акт воли как нечто отличное от движения тела, а затем — то и другое как связанные узами причинности: они едины и нераздельны. Между ними нет отношения последовательности: они одновременны. Они — одно и то же, воспринятое двояко: то, что внутреннему восприятию (самосознанию) дает о себе знать как действительный акт воли, — то же самое во внешнем созерцании, в котором тело дано объективно, тотчас же представляется как действие тела. То, что физиологически движение нерва предшествует движению мускула, здесь не имеет значения, так как это не доходит до самосознания, и здесь речь идет не об отношении между мускулом и нервом, а об отношении между актом воли и действием тела. Но это отношение не обнаруживает себя в качестве причинной связи. Если бы этот акт и это действие представлялись нам как причина и действие, то их связь не была бы для нас такой непостижимой, какой она является на самом деле, ибо то, что мы понимаем исходя из причины, — то мы понимаем настолько, насколько вообще доступно для нас понимание вещей. В действительности же движение наших членов в силу одних только актов воли есть чудо, правда, чудо настолько повседневное, что мы его уже не замечаем; но стоит нам только обратить на него внимание, и вся непостижимость этого явления сразу же очень живо выступит в нашем сознании — именно потому, что здесь мы имеем перед собой нечто такое, чего мы не понимаем как действие своей причины. Таким образом, это восприятие никогда не могло бы привести нас к представлению причинности, которая в нем
31
вовсе не имеет места. Мэн де Биран сам признает полную одновременность волевого акта и движения («Nouvelle considérations des rapports du physique au moral», p. 377, 78)*. В Англии уже Т. Рид (On the first principles of contingent truths. Ess. VI, с. 5)** высказал мнение, что познание причинного отношения основывается на самих свойствах нашей познавательной способности. В недавнее время Т. Браун в своей очень растянутой книге «Inquiry into the relation of cause and effect», 4th. edit, 1835***, учит приблизительно тому же, — он утверждает, что это познание вытекает из врожденного нам, интуитивного и инстинктивного убеждения; таким образом, в существенном он стоит на верном пути. Но непростительно его грубое невежество: в этой объемной книге, на ее 476 страницах, из которых 130 посвящены опровержению Юма, нет даже упоминания о Канте, между тем как он[52] уже семьдесят лет назад прояснил весь этот вопрос. Если бы латинский язык остался только языком науки, то ничего подобного не произошло бы. Несмотря на верное в целом объяснение Брауна, в Англию все же проникла некая модификация разработанной Мэн де Бираном теории эмпирического происхождения фундаментального познания отношений причинности, так как она имеет некоторую видимость ‹истины›. Она гласит, что мы абстрагировали закон причинности из эмпирически воспринятого воздействия нашего собственного организма на другие тела. Уже Юм опровергает ее. Я же в своем сочинении «О воле в природе» (с. 75 второго издания) показал ее несостоятельность следующим рассуждением: для того чтобы мы могли объективно воспринять в пространственном созерцании как наше собственное тело, так и другие тела, познание причинности уже должно быть налицо, потому что оно есть условие такого созерцания. Действительно, для того чтобы достичь созерцания внешнего мира, необходим переход от чувственного ощущения, данного только эмпирически, к причине последнего, — и именно в этой необходимости такого перехода и заключается единственное подлинное основание доказательства того, что закон причинности осознается нами до всякого опыта. Вот почему я заменил этим доказательством доказательство кантовское, неправильность которого я показал. Самое подробное и основательное изложение всего этого важного вопроса, здесь только затронутого, т. е. вопроса об априорности закона причинности и интеллектуальности эмпирического созерцания, можно найти в моем трактате «О законе основания», в § 21, к нему я и отсылаю, для того чтобы не повторять здесь все сказанное там. Там я показал огромную разницу между простым чувственным ощущением и созерцанием объективного мира и выявил широкую пропасть, разделяющую их; через нее ведет лишь закон причинности, который, однако, в своем применении предполагает обе другие родственные ему формы — пространство и время. Только при помощи этих трех форм, взятых вместе, получается объективное представление. Возникает ли то ощущение, исходя из которого мы достигаем восприятия, благодаря противодействию, которое испы-
32
тывает проявление силы наших мускулов, или же в силу воздействия света на сетчатку, либо воздействия звука на слуховой нерв и т. д., — это в сущности безразлично: ощущение во всяком случае остается только простым данным для рассудка, который только и способен понять его как действие отличной от него причины, которую он созерцает как нечто внешнее, т. е. помещает в пространство, т. е. в форму, тоже до всякого опыта присущую интеллекту, — полагает как нечто, это пространство занимающее и наполняющее. Без этой интеллектуальной операции, для которой формы должны присутствовать в нас готовыми, никогда из простого ощущения в пределах нашей кожи не могло бы возникнуть созерцание объективного внешнего мира. Как можно думать, что для этого достаточно простого чувства какого-то противодействия, мешающего произвести желаемое движение (что бывает и при параличе)? К этому присоединяется еще то обстоятельство, что, для того чтобы я попытался воздействовать на внешние предметы, последние сами непременно должны были раньше оказать воздействие на меня в качестве мотивов, а это уже предполагает схватывание внешнего мира. Согласно обсуждаемой теории, человек, родившийся безруким и безногим (как я уже заметил это в вышеуказанном месте), вообще не мог бы приобрести представление причинности, а следовательно, и восприять внешний мир. А то, что это не так, доказывает факт, сообщаемый в Frorieps «Notizen», 1838, июль, № 133; там подробно, с приложением портрета, рассказывается об одной эстонке, Еве Лаук, которой к тому времени было 14 лет, родившейся совсем без рук и без ног; сообщение кончается следующими словами: «По свидетельству матери, она в умственном отношении развилась так же быстро, как и ее сестры и братья, т. е. так же скоро научилась правильно судить о величине и отдаленности внешних предметов, не имея, однако, возможности пользоваться для этого руками. — Дерпт, 1 марта 1838 г. Доктор А. Хаэк».
Учение Юма, согласно которому понятие причинности возникает просто из нашей привычки видеть, как два состояния неизменно следуют одно за другим, — это учение также фактически опровергается древнейшей из всех последовательностей, сменой дня и ночи, которые никто еще не считал причиной и действием друг друга. Эта же последовательность опровергает и ложное утверждение Канта, будто объективная реальность какой-нибудь последовательности познается нами лишь тогда, когда мы понимаем оба последовательных момента как находящиеся между собою в отношении причины и действия. Истина прямо противоположна этому учению Канта: какое из двух связанных состояний — причина и какое — действие, это мы эмпирически узнаем только по их последовательности. С другой стороны, нелепое утверждение некоторых профессоров философии наших дней, будто причина и действие одновременны, опровергается тем, что в случаях[53], где последовательность, в силу своей значительной быстроты, совсем не может быть воспринята, мы все-таки уверенно предполагаем ее a priori, а вместе с нею предполагаем и то, что между обоими моментами прошло известное время; например, мы знаем, что между спуском курка и вылетом пули должно пройти некоторое время, хотя мы его и не воспринимаем, — и что это время опять-таки распределено между несколькими событиями, возникающи-
33
ми в строгой последовательности: спуск, искра, воспламенение, распространение огня, взрыв и вылет пули. Ни один человек еще не воспринял этой последовательности событий, но, зная, какое из них воздействует на другое, мы познаем также, какое из них должно предшествовать другому во времени; следовательно, знаем и то, что в течение всего этого процесса протекло определенное время, хотя оно и столь коротко, что ускользает от нашего эмпирического восприятия: ведь никто не станет утверждать, будто вылет пули на самом деле совершается одновременно со спуском курка. Таким образом, не только закон причинности, но и его отношение ко времени и необходимость следования действия за причиной известны нам a priori. Если мы знаем, какое из двух состояний — причина и какое — действие, то мы знаем также, какое из них предшествует другому во времени; если же, наоборот, мы этого не знаем, а знаем только их причинное отношение вообще, то мы стараемся найти последовательность эмпирически и уже на ее основании определяем, какое из этих двух состояний — причина и которое — действие[54].
Ложность утверждения, будто причина и действие одновременны[55], следует, кроме того, из следующих соображений. Всю совокупность времени наполняет непрерывная цепь причин и действий. (Ведь если бы она была прервана, то мир остановился бы, или же, для того чтобы снова привести его в движение, должно было бы появиться действие без причины[56].) Но если бы каждое действие было одновременным со своей причиной, то каждое действие вторгалось бы во время своей причины, и, сколько бы звеньев ни было в цепи причин и действий, она не наполняла бы вовсе никакого времени, не говоря уже о времени бесконечном, но все они существовали бы вместе в одном мгновении. Таким образом, если допустить одновременность причины и действия, весь ход мировых событий сжался бы до одного мига[57]. Это доказательство аналогично тому, что каждый лист бумаги должен обладать известной толщиной, так как иначе ее не имела бы и вся книга. Указать, когда кончается причина и начинается действие, — это почти всегда трудно и часто невозможно. Ибо изменения (т. е. последовательность состояний) представляют собой континуум, как и время, которое они наполняют, а значит, они, как и последнее, также делимы до бесконечности. Но их последовательный ряд столь же необходимо определен и несомненен, как и ряд самих моментов времени; и каждое из этих изменений называется по отношению к своему предшественнику «действием», а по отношению к своему преемнику — «причиной».
Всякое изменение в материальном мире может наступить лишь в том случае, если ему непосредственно предшествовало другое, — вот истинное и полное содержание закона причинности[58]. Между тем нет понятия, которым в философии больше злоупотребляли, чем понятие причины, — с помощью той излюбленной уловки или ошибки, в силу которой его, в мышлении in abstracto, очерчивают слишком широко, берут слишком общо. Со времен схоластики, даже со времени Платона и Аристотеля, философия по большей части представляет собой непрерывное злоупотребление общими понятиями. Таковы, например, понятия субстанции, основания, причины, добра, совершенства, необходимости и многие другие. Склонность некоторых умов к оперированию такими
34
отвлеченными и слишком широкими понятиями проявлялась почти во все времена: она, вероятно, в конечном счете объясняется известной косностью интеллекта, которому трудно постоянно контролировать мышление созерцанием. Подобные слишком широкие понятия постепенно начинают употребляться почти как алгебраические знаки, которые перебрасывают туда и сюда, отчего философствование вырождается в простое комбинирование, в какое-то счетоводство, которое (как и всякий счет) занимает только низшие способности и требует только их. В конце концов это приводит к простому пустословию, отвратительнейший пример которого дает нам губительница умов — гегельянщина; в ней оно доведено до чистой бессмыслицы. Но уже и схоластика часто вырождалась в пустословие. Даже и «Топы»11 Аристотеля — совершенно общие и весьма отвлеченные принципы, которые можно было употреблять в диспутах pro и contra, применять к самым разнообразным предметам и повсюду использовать, — уже они ведут свое начало от этого злоупотребления общими понятиями. Бесчисленные примеры того, как обращались схоласты с такими абстракциями, можно найти в их произведениях, — особенно у Фомы Аквинского. По дороге, проложенной схоластами, философия, однако, продолжала идти вплоть до Локка и Канта, которые, наконец, дали себе отчет в происхождении понятий. Даже самого Канта, в его ранние годы, мы еще встречаем на этом пути, в его «Основании для доказательства бытия Божьего» (с. 191 I тома издания Розенкранца), где понятия субстанции, основания, реальности употребляются в таком смысле, в каком их совершенно нельзя было бы употребить, если бы было исследовано происхождение и определяемое последним истинное содержание этих понятий, ибо в таком случае обнаружилось бы, что исток и содержание субстанции — исключительно материя, исток и содержание основания (если речь идет о вещах реального мира) — исключительно причина, т. е. предшествующее изменение, влекущее за собой позднейшее, и т. д. Конечно, такое исследование не привело бы к заранее намеченному результату. Но повсюду, как и здесь, из таких слишком широких понятий, под которые можно подводить больше, чем позволяет их истинное содержание, — из таких понятий получались ложные положения, а из них — ложные системы. Весь метод доказательства у Спинозы тоже основан на таких неисследованных и слишком широких понятиях. В том и заключается выдающаяся заслуга Локка, что он для противодействия всем этим догматическим бесчинствам обратился к исследованию происхождения понятий, — а это и привело его к созерцанию и опыту. В таком же духе, но только имея в виду больше физику, чем метафизику, действовал до него Бэкон. Кант пошел по дороге, проложенной Локком, но взялся за дело более глубоко и прошел гораздо дальше, как я об этом уже упоминал выше. Конечно, для господ, которые только пускают пыль в глаза и которым удалось отвлечь внимание публики от Канта на себя, для них выводы Локка и Канта были очень неудобны. Но в подобных случаях они умеют одинаково хорошо игнорировать как мертвых, так и живых. Недолго думая, они покинули единственно верный путь, который, наконец, открыли названные мудрецы, и стали философствовать как придется, с помощью случайно найденных понятий, не заботясь об их происхожде-
35
нии и содержании, так что в конце концов гегелевская лжемудрость дошла до того, что понятия, мол, совсем не имеют никакого происхождения, а, напротив, сами служат началом вещей.
Однако Кант сделал ту ошибку, что он, обратившись к чистому созерцанию, слишком пренебрег эмпирическим, о чем я подробно говорил в своей критике его философии. У меня созерцание — безусловный источник всякого познания. Рано познав коварство и опасность абстракций, я уже в 1813 г. в своем трактате «О законе основания», показал все разнообразие отношений, которые мыслятся в этом понятии. Общие понятия должны, правда, служить материалом, в котором откладывается познание философии, но не источником, из которого она такое познание черпает: terminus ad quem, а не a quo*. Она не есть, как определяет ее Кант, наука из понятий, но наука в понятиях[59].
Таким образом, и понятие причинности, о котором мы говорим здесь, толковалось философами — в пользу их догматическим намерениям — слишком широко, из-за чего в него и вошло много такого, что в нем вовсе не заключается; отсюда возникли такие положения, как: «все, что существует, имеет свою причину», «действие не может заключать в себе больше, чем причина, следовательно — ничего такого, чего нет в последней», «causa est nobilior suo effectu»** и много других, столь же несостоятельных. Обстоятельный и яркий пример таких рассуждений дает следующее умствование пошлого болтуна Прокла[60] в его «Institutio theologica», § 76: Quidquid ab immobili causa manat, immutabilem habet essentiam ‹substantiam›. Quidquid vero a mobili causa manat, essentiam habet mutabilem. Si enim illud, quod aliquid facit, est prorsus immobile, non per motum, sed per ipsum «esse» producit ipsum secundum ex se ipso***.
Очень хорошо! Но покажи-ка мне неподвижную причину! Она невозможна[61]. Абстрактное мышление здесь, как и во многих других случаях, отбросило все определения, кроме одного — того, которое ему необходимо, не обращая внимания, что последнее без остальных существовать не может.
Единственно правильное выражение для закона причинности таково: каждое изменение имеет свою причину в другом, ему непосредственно предшествующем. Если что-нибудь происходит, т. е. наступает новое состояние, т. е. что-нибудь изменяется, то непременно только что перед этим изменилось что-нибудь другое, а перед этим что-нибудь еще, и так до бесконечности, ибо первую причину так же невозможно помыслить, как и начало времени или границу пространства. Ничего большего закон причинности не означает, — он заявляет свои притязания только при изменениях. Пока ничего не изменилось, нельзя спрашивать о причине, ибо не существует априорного основания, по которому можно было бы заключать от бытия наличных вещей, т. е. состояний материи, к их
36
предшествующему небытию, а от него — к их возникновению, т. е. к изменению. Поэтому простое наличное бытие какой-нибудь вещи не дает права на заключение, что она имеет причину. Основания же апостериорные могут существовать, т. е. основания, почерпнутые из прежнего опыта и заставляющие предполагать, что данное состояние не существовало вечно, а возникло лишь в результате какого-нибудь другого состояния, т. е. в силу изменения, для которого следует в таком случае найти причину, а затем и причину этой причины, и т. д.: здесь мы попадаем в тот бесконечный регресс, к которому всегда ведет применение закона причинности. Выше было сказано: «вещи, т. е. состояния материи», — ибо только к состояниям относятся изменение и причинность. Именно эти состояния есть то, что понимают под словом форма в широком смысле; и только формы меняются: материя неизменна. Значит, только форма подчинена закону причинности. Но форма также составляет вещь, т. е. служит основой различия вещей, между тем как материю надо мыслить однородной во всех вещах. Поэтому схоласты говорили: forma dat esse rei*, — точнее это положение гласило бы: forma dat rei essentiam, materia existentiam**. Именно поэтому вопрос о причине какой-нибудь вещи всегда относится только к форме последней, т. е. к состоянию, свойству, а не к ее материи; да и к форме он относится лишь постольку, поскольку мы имеем основания думать, что она не существовала всегда, а произошла от какого-нибудь изменения. Сочетание формы и материи, или essentia и existentia, дает конкретное, которое всегда есть нечто единичное, т. е. вещь; а то, что подлежит закону причинности, — это сочетание форм с материей, т. е. их проявление в ней, путем изменения. Таким образом, вследствие слишком широкого понимания идеи in abstracto вкралась та ошибка, что причинность распространили на саму вещь, т. е. на всю ее сущность и бытие, а значит, и на материю, и в конце концов сочли себя вправе спрашивать даже о причине мира. Отсюда возникло космологическое доказательство. Оно исходит, собственно, из того, что без всякого на то права заключает от бытия мира к его небытию, которое будто бы предшествовало бытию; своим же конечным пунктом оно имеет ту чудовищную непоследовательность, что просто уничтожает именно тот закон причинности, от которого только и заимствуют всю свою доказательную силу: в самом деле, оно останавливается на некоторой первой причине и не хочет идти дальше, т. е. как бы кончает отцеубийством, — точно пчелы, убивающие своих трутней, после того как они сослужат им свою службу. Между тем к пристыженному и оттого замаскированному космологическому доказательству сводятся все те разговоры об абсолюте, которые в течение шестидесяти лет, перед лицом «Критики чистого разума», слывут в Германии философией. Но что, собственно, означает абсолют? Нечто такое, что просто-напросто существует и о чем (под страхом наказания) уже нельзя спрашивать, откуда оно и почему. Вот кабинетное изобретение для профессоров философии! Но если космологическое доказательство изложить честно, то допущение первой причины, т. е. первого начала
37
в совершенно безначальном времени, приводит к такому результату: это начало вопросом «отчего не раньше?» отодвигается все далее и далее — и так далеко, что от него никогда не вернешься к настоящему времени, и приходится только постоянно удивляться, почему это оно, настоящее, не существовало уже миллионы лет тому назад. Таким образом, закон причинности вообще находит себе применение ко всем вещам в мире, но не к самому миру, ибо он имманентен миру, а не трансцендентен: с ним он утверждается, с ним и уничтожается. Это в конечном счете основано на том, что данный закон относится только к форме нашего рассудка, и вместе с объективным миром, который поэтому есть только явление, им, рассудком, обусловлен. Таким образом, ко всем вещам в мире—разумеется, в соответствии с их формой — сменой этих форм, т. е. в соответствии с их изменениями, закон причинности находит себе полное применение и не терпит никакого исключения: он распространяется и на деятельность человека, и на удар камня; но, как я уже сказал, он имеет силу только по отношению к процессам, к изменениям. Если же абстрагироваться от происхождения этого закона из нашего рассудка и взглянуть на него чисто объективно, то в глубочайшей своей основе он зиждется на том, что все действующее действует благодаря своей изначальной и потому вечной, т. е. вневременной, силе, и поэтому его нынешнее действие должно было бы наступить уже неизмеримо раньше, т. е. прежде всякого мыслимого времени, если бы не отсутствовало временно́е условие для этого — повод, т. е. та причина, в силу которой это действие наступает лишь теперь, но зато с необходимостью: причина указывает действию его место во времени.
Только в результате проясненного выше слишком широкого понимания, в абстрактном мышлении, понятия причины с ним смешали также понятие силы; последняя, будучи совершенно отличной от причины, есть, однако, то, что сообщает каждой причине ее каузальность, т. е. возможность действовать, — как я это подробно и основательно показал во второй книге первого тома, затем в «Воле в природе» и, наконец, во втором издании трактата «О законе основания», § 20, с. 44. В самой грубой форме мы обнаружим это смешение в упомянутой выше книге Мэн де Бирана, — о чем подробнее сказано в последнем из названных сочинений; впрочем, оно нередко встречается и в других случаях, когда спрашивают о причине какой-нибудь первичной силы — силы тяжести, например. Называет же сам Кант («О единственно возможном основании доказательства», т. 1, с. 211 и 215, изд. Розенкранца) силы природы «действующими причинами» и говорит же: «Тяжесть есть причина». Между тем невозможно прояснить свою мысль, пока мы не поймем, что сила и причина совершенно различны. К смешению же их очень легко приводит употребление отвлеченных понятий, если оставляют в стороне рассмотрение их происхождения. Мы обычно покидаем основанное на форме нашего рассудка, всегда наглядное познание причин и действий, но придерживаемся абстракции причины; только поэтому понятие каузальности, при всей его простоте, так часто встречало ложное толкование. Вот почему даже у Аристотеля (Metaph., IV, 2) причины разделены на четыре класса, которые поняты совершенно ложно и просто грубо. Сравните с этим мою классификацию причин, как я ее впервые установил в своем трактате «О зрении и цвете» (гл. I), вкратце затронул
38
в § 6 первого тома настоящего произведения и обстоятельно рассмотрел в своем конкурсном сочинении «О свободе воли» (с. 30 — 33).
Цепью каузальности, бесконечно уходящей и вперед и назад, остаются незатронутыми в природе две сущности: материя и силы природы. И та и другие представляют собой условия причинности, между тем как все остальное обусловлено последней. Ибо материя есть то, в чем возникают состояния и их изменения, а силы природы есть то, вследствие чего эти изменения вообще только и могут возникнуть. Но при этом надо помнить, что во второй книге, а позже и основательнее — в моей «Воле в природе» я доказал тождественность сил природы с волей в нас; материя же оказывается простой видимостью воли, так что и она в конце концов может быть, в известном смысле, рассмотрена как тождественная с волей.
С другой стороны, не менее истинным и правильным остается то, что изложено в § 4 первого тома, и еще лучше — во втором издании трактата «О законе основания», в конце § 21, с. 77; а именно, что материя, понятая в объективном смысле, есть причинность, так как вся ее сущность заключается в действовании вообще и сама она, следовательно, — действенность (ἐνέργεια = действительность) вещей вообще, как бы абстракция всего их разнообразного действования. Так как сущность, essentia, материи состоит, таким образом, в действовании вообще, а действительность, existentia, вещей состоит именно в их материальности, которая опять-таки тождественна с действованием вообще, то о материи можно сказать, что в ней existentia и essentia совпадают и составляют одно: ибо она не имеет других атрибутов, кроме самого бытия вообще, в отвлечении от всякого дальнейшего его определения. Напротив, каждая эмпирически данная материя, т. е. вещество (которое наши современные невежественные материалисты смешивают с материей), уже вошла в оболочку форм и открывается только через их свойства и акциденции, ибо в опыте каждое действие имеет совершенно определенный и особый характер, а не просто всеобщий. Вот почему чистая материя — предмет только мышления, а не созерцания; это привело Плотина (Enneades II lib. 4, с. 8 и 9) и Джордано Бруно (Delia causa, dial. 4) к парадоксальному высказыванию, что материя не имеет протяженности, которая неотделима от формы и потому нетелесна; ведь учил же Аристотель, что она не тело, хотя и телесна: σωμα μὲν ὀυκ ἂν ἒιη, σωματικὴ δέ (Slob. Ecl., lib. I, с. 12, § 5). Действительно, чистую материю мы мыслим просто как действование in abstracto, совершенно независимо от характера этого действования, т. е. как саму чистую причинность; как таковая, она, материя, не предмет опыта, а его условие, наравне с пространством и временем. На этом основании, в прилагаемой таблице наших чистых основных понятий a priori, материя смогла занять место каузальности и фигурирует наряду с временем и пространством как третье чисто формальное и потому присущее нашему интеллекту начало.
Эта таблица заключает в себе все основные истины, коренящиеся в нашем созерцательном познании a priori; выражены они в качестве высших, друг от друга независимых основоположений. Но в ней не указано то специфическое, что составляет содержание арифметики и геометрии; не указано в ней и то, что получается только посредством
39
сочетания и применения этих формальных знаний: последнее составляет содержание изложенных Кантом «Метафизических основоположений естествознания», по отношению к которым моя таблица является до известной степени пропедевтикой и введением, — и следовательно, она непосредственно примыкает к ним. В этой таблице я прежде всего имел в виду весьма значительный параллелизм наших познаний a priori, образующих главный остов всякого опыта; в особенности же я имел в виду и то, что, как это показано в § 4 первого тома, в материи (как и в причинности) надо видеть соединение или, если угодно, сплав пространства и времени. В соответствии с этим мы находим следующее: то, чем геометрия служит для чистого созерцания пространства, а арифметика — для чистого созерцания времени, тем Кантова форономия[62] является для чистого созерцания обоих вместе, ибо лишь материя есть подвижное в пространстве. Математическую точку нельзя мыслить подвижной, как это показал уже Аристотель (Phys., VI, 10). Этот философ сам дал и первый пример такой науки, a priori определив в пятой и шестой книге своей «Физики» законы покоя и движения.
Эту таблицу можно рассматривать, по желанию, либо как свод вечных основных законов мира, т. е. как базис онтологии, либо как главу из физиологии мозга — в зависимости от того, примем ли мы реалистическую или идеалистическую точку зрения, хотя в последней инстанции правой окажется, конечно, вторая. Мы уже прояснили это для себя в первой главе, но я хочу еще особо подтвердить это примером. Книга Аристотеля «De Xenophane» начинается следующими внушительными словами Ксенофана: «Aeternum esse, inquit, quicquid est, siquidem fieri non potest, ut ex nihilo quippiam existat»*. Здесь, таким образом, Ксенофан высказывает суждение о начале вещей в отношении его возможности, а о нем, этом начале, он не может иметь никакого опыта, даже опыта аналогии; он и не ссылается на опыт, а судит аподиктически[63], т. е. a priori. Как может он это делать, если он всматривается извне в чуждый ему мир, существующий чисто объективно, т. е. независимо от его познаний? Как может он, преходящее эфемерное существо, которому дано лишь на миг заглянуть в подобный мир, — как может он заранее, до опыта, аподиктически судить о возможности бытия и происхождения этого мира? Решение этой загадки состоит в том, что человек имеет дело только со своими собственными представлениями, которые, как таковые, суть творение его мозга и закономерность которых есть поэтому единственный способ, каким может происходить функционирование его мозга, т. е. форма его представления. Он судит, следовательно, только о феномене собственного мозга и высказывается о том, что входит в формы последнего — время, пространство и причинность — и что не входит: здесь он совершенно у себя дома и говорит об этом аподиктически. В подобном же смысле следует понимать и прилагаемую таблицу Praedicabilia a priori** времени, пространства и материи.
40
PRAEDICABILIA A PRIORI
|
времени |
пространства |
материи |
|
1) Есть только одно время, а все различные времена суть его части. |
1) Есть только одно пространство, а все различные пространства суть его части. |
1) Есть только одна материя, а все различные вещества суть различные ее состояния: как таковая она называется субстанцией. |
|
2)
Различные времена существуют не
одновременно, а последовательно. |
2)
Различные пространства существуют
не последовательно, а одновременно. |
2)
Разнородные материи (вещества)
суть таковы не благодаря субстанции, а благодаря акциденциям. |
|
3)
Время невозможно мысленно
устранить, хотя все можно мысленно устранить из него. |
3)
Пространство невозможно мысленно
устранить, хотя все можно мысленно устранить из него. |
3)
Уничтожение материи немыслимо,
хотя вполне мыслимо уничтожение всех ее форм и качеств. |
|
4)
Время имеет три отрезка: прошлое,
настоящее и будущее, которые образуют два направления с одной точкой
безразличия. |
4)
Пространство имеет три
измерения: высоту, ширину и длину. |
Материя существует, т. е. действует, во всех измерениях пространства и на всем протяжении времени, 4)
благодаря чему она объединяет их
и тем самым наполняет: в этом состоит ее сущность: таким образом, она —
целиком и полностью причинность. |
|
5)
Время делимо до бесконечности. |
5)
Пространство делимо до
бесконечности. |
5)
Материя делима до бесконечности. |
|
6)
Время гомогенно и образует континуум,
т. е. ни одна его часть не отличается от другой и не отделена от нее
чем-то, не являющимся временем. |
6)
Пространство гомогенно и
образует континуум, т. е. ни одна его часть не отличается от другой и не
отделена от нее чем-то, не являющимся пространством. |
6)
Материя гомогенна и образует
континуум, т. е. она не состоит ни из изначально разнородных частей
(гомеомерий), ни из частей изначально раздельных (атомов); она, таким
образом, не составлена из частей, которые были бы существенно разделены чем-то,
не являющимся материей. |
|
7)
Время не имеет ни начала, ни
конца; наоборот, всякое начало и всякий конец существуют в нем. |
7)
Пространство не имеет границ;
наоборот, всякая граница существует в нем. |
7)
Материя не возникает и не
уничтожается; наоборот, всякое возникновение и уничтожение происходит в
ней. |
|
8)
Благодаря времени мы считаем. |
8)
Благодаря пространству мы
измеряем. |
8)
Благодаря материи мы взвешиваем. |
41
|
времени |
пространства |
материи |
|
9)
Ритм существует только во
времени. |
9)
Симметрия существует только в
пространстве. |
9)
Равновесие существует только в
материи. |
|
10)
Мы познаем законы времени a
priori. |
10)
Мы познаем законы пространства a
priori. |
10)
Мы познаем законы субстанции
всех акциденций a priori. |
|
11)
Время может быть созерцаемо a
priori, хотя и только в образе линии. |
11)
Пространство может быть
непосредственно созерцаемо a priori. |
11)
Материя может быть только
мыслима a priori. |
|
12)
Время не обладает никаким постоянством,
оно исчезает, как только появляется. |
12)
Пространство не может исчезнуть,
оно всегда налично. |
12)
Акциденции сменяются, субстанция
пребывает. |
|
13)
Время никогда не
останавливается. |
13)
Пространство неподвижно. |
13)
Материя безразлична к покою и
движению, т. е. не имеет изначальной склонности ни к тому, ни к другому. |
|
14)
Все, что существует во времени,
обладает какой-то длительностью. |
14)
Все, что существует в
пространстве, обладает каким-то местом. |
14)
Все материальное обладает действенностью. |
|
15)
Время не имеет длительности, наоборот,
всякая длительность существует в нем; она — устойчивость сохраняющегося, в
противоположность его неутомимому бегу. |
15)
Пространство не имеет движения,
наоборот, всякое движение существует в нем; движение — смена мест подвижного,
в противоположность нерушимому покою пространства. |
15)
Материя есть устойчивое во
времени и подвижное в пространстве: через сравнение покоящегося с движущимися
мы измеряем длительность. |
|
16)
Всякое движение возможно только
во времени. |
16)
Всякое движение возможно только
в пространстве. |
16)
Всякое движение возможно только
для материи. |
|
17)
Скорость, при неизменности пространства,
обратно пропорциональна времени. |
17)
Скорость, при неизменности времени,
прямо пропорциональна пространству. |
17)
Величина движения, при
неизменности скорости, геометрически прямо пропорциональна материи (массе). |
|
18)
Время поддается измерению не
прямо, через себя самого, но только косвенно, через движение, которое
существует и во времени, и в пространстве: так, время измеряется движением
солнца и часов. |
18)
Пространство поддается измерению
прямо, через самого себя, и косвенно, через движение, которое существует и во
времени, и в пространстве: поэтому, например, говорят об одном часе пути, а
расстояние до неподвижной звезды выражают через определенное количество световых
лет. |
18)
Материя как таковая (масса)
поддается измерению, т. е. определению ее количества, только косвенно, а
именно только через величину движения, которое она воспринимает и
отдает, подвергаясь отталкиванию или притяжению. |
42
|
времени |
пространства |
материи |
|
19)
Время вездесуще: каждая часть
времени находится повсюду, т. е. во всем пространстве. |
19)
Пространство вечно: каждая его часть существует всегда. |
19)
Материя абсолютна, т. е. она не может ни
возникнуть, ни исчезнуть, а ее количество, таким образом, не может быть ни увеличено, ни уменьшено. |
|
20)
В одном только времени все
существовало бы последовательно. |
20)
В одном только пространстве все существовало бы одновременно. |
20, 21) Материя
объединяет лишенный устойчивости поток времени с жесткой неподвижностью
пространства: поэтому она есть пребывающая субстанция сменяющихся акциденций.
Эту смену для каждого места и в каждый момент времени определяет причинность,
которая именно благодаря этому связывает время и пространство и исчерпывает собой
всю сущность материи. |
|
21)
Время делает возможной смену
акциденций. |
21)
Пространство делает возможной устойчивость субстанции. |
|
|
22)
Каждая часть времени содержит
все части материи. |
22)
Ни одна часть пространства не содержит ту же самую материю, что и
другая. |
22)
Ибо материя столь же устойчива,
сколь и непроницаема. |
|
23)
Время есть principium
individuationis. |
23)
Пространство есть pnncipium mdividuationis. |
23)
Индивиды материальны. |
|
24)
«Теперь» не имеет длительности. |
24)
Точка не имеет протяжения. |
24)
Атом не имеет реальности. |
|
25) Время в себе пусто и лишено определений. |
25)
Пространство в себе пусто и лишено определений. |
25)
Материя в себе лишена формы и
качества, а также инертна, т. е. безразлична к покою или движению,
следовательно, лишена определений. |
|
26)
Каждое мгновение обусловлено предшествующим и существует только потому, что последнее прекратило существовать. — (Закон основания бытия во времени. — См. мое сочинение «О законе основания».) |
26)
Положением каждой границы в пространстве по отношению к какой-либо другой
границе полностью и строго
определено и ее положение по отношению к любой возможной границе. — (Закон основания бытия в пространстве.) |
26)
Всякое изменение в материи может
возникнуть только благодаря другому, предшествующему ему изменению: поэтому первое
изменение и тем самым первое состояние материи столь же немыслимо, как и
начало времени или граница пространства. — (Закон основания становления.) |
43
|
времени |
пространства |
материи |
|
27)
Время делает возможной арифметику. |
27)
Пространство делает возможной
геометрию. |
27)
Материя как подвижное в
пространстве делает возможной форономию. |
|
28)
Простое ‹начало› арифметики — единица/ |
28)
Простое ‹начало› геометрии —
точка. |
28)
Простое ‹начало› форономии атом. |
Примечания к прилагаемой таблице
1) К № 4 материи.
Сущность материи состоит в действовании: она — само действие in abstracto, т. е. действие вообще, помимо всяких различий в характере или роде действия: она — - целиком и полностью причинность. Именно поэтому она сама, в своем бытии, не подчинена закону причинности, т. е. не возникает и не исчезает, — иначе закон причинности был бы применен к самому себе. А так как причинность осознается нами a priori, то понятие материи как неразрушимой основы всего существующего, будучи только реализацией данной нам a priori формы познания, может в этом отношении занять место среди познаний a priori. Ибо как только мы начинаем созерцать нечто действующее, оно сейчас же ео ipso* представляется нам как материальное, — как и наоборот, материальное необходимо представляется как действующее: это действительно взаимозаменимые понятия. Поэтому слово «действительный» употребляется как синоним «материального», да и греческое κατʼ ενέργειαν**, в противоположность κατὰ δύναμιν***, свидетельствует о том же происхождении, потому что ενεργεια означает действование вообще; так же точно actu в противоположность potentia, равно как и английское actually в смысле «действительного». То, что мы называем наполнением пространства, или непроницаемостью, и считаем существенным признаком тела (т. е. материального), — это просто тот род действий, который свойствен всем телам без исключения, а именно механический. Эта всеобщность, в силу которой данный род действия входит в понятие тела и a priori следует из названного понятия и оттого не может быть устранен из мысли без уничтожения самого понятия, — эта всеобщность составляет то единственное, что отличает его от других родов действия, каковы электрический, химический, световой, тепловой. Это наполнение пространства, или механический род действия, Кант весьма правильно расчленил на отталкивающую и притягивающую силу, подобно тому как данную механическую силу посредством параллелограмма сил разлагают на две другие. Но это в сущности — только продуманный анализ расчленения феномена на его составные части. Обе силы, взятые вместе,
44
представляют тело внутри его границ, т. е. в определенном объеме, между тем как первая сила, рассеивая его до бесконечности, растворила бы его, а другая сжала бы его в одну точку. Несмотря на это взаимное уравновешивание, или нейтрализацию, тело действует и одной первой силой, отталкивая другие тела, оспаривающие у него пространство; а другой силой, в гравитации, оно действует, притягивая все тела вообще, так что две эти силы не угасают в своем продукте, теле, как гаснут, например, две равные, но действующие в противоположном направлении силы, или + Е и – Е, или кислород и водород в воде. О том, что непроницаемость и тяжесть действительно связаны между собою, хотя мысленно мы и можем их разделить, свидетельствует их эмпирическая нераздельность: одна никогда не появляется без другой.
Я не могу, однако, не напомнить, что приведенное здесь учение Канта, которое составляет основную мысль второго главного раздела его «Метафизических основоположений естествознания», т. е. динамики, уже до Канта было ясно и обстоятельно изложено Пристли, в его замечательных «Disquisitions on matter and spirit», sect. 1, 2*: эта книга появилась в 1777 году (второе издание — 1782 г.), между тем как «Метафизические основоположения» относятся к 1786 г. Бессознательные реминисценции возможны, пожалуй, в побочных тезисах, остроумных догадках, сравнениях и т. д., но не в главных и основных мыслях. Итак, должны ли мы думать, что Кант молчаливо присвоил себе столь важные мысли другого лица? И взял их из книги, которая тогда была еще новинкой? Или же он ее не знал, и одна и та же мысль почти в одно и то же время возникла в двух головах? Равным образом и объяснение, которое Кант дает в «Метафизических основоположениях» (первое изд., с. 48; издание Розенкранца, с. 384) относительно действительного различия между текучим и твердым, можно в главных чертах найти уже в «Теории генерации» Каспара Фридриха Вольфа (Берлин, 1764, с. 132). Но что же мы скажем, когда узнаем, что самое важное и самое блестящее основное учение Канта, учение об идеальности пространства и чисто феноменальном существовании физического мира, уже за тридцать лет до него было изложено Мопертюи, как это можно видеть из 14-го письма Фрауэнштедта о моей философии? Мопертюи высказывает это парадоксальное учение весьма решительно и все же безо всякой аргументации; отсюда можно заключить, что и он его откуда-то заимствовал. Было бы очень желательно, чтобы кто-нибудь серьезно исследовал этот вопрос; а так как последний требует обширных и тщательных изысканий, то одна из немецких академий могла бы предложить его как конкурсную тему. В таком же отношении, в каком по данному пункту Кант находится к Пристли, а может быть и к Каспару Вольфу и к Мопертюи или его предшественнику, — в таком же отношении к Канту находится Лаплас, замечательная и несомненно правильная теория происхождения планетной системы которого, изложенная в его «Exposition du systeme du monde»**, кн. V, гл. 2, в главном своем содержании и основной мысли была высказана Кантом почти на пять-
45
десят лет раньше в его «Естественной истории и теории неба» и, еще лучше, в 1763 г., в его «Единственно возможном основании для доказательства бытия Божьего», гл. 7; и так как в последнем из этих произведений Кант дает понять, что Ламберт в своих «Космологических письмах», 1761 г., не ссылаясь, заимствовал у него это учение, а эти письма примерно в то же время появились и на французском языке (Lettres cosmologiques sur la constitution de l’univers*), то мы должны допустить, что Лаплас знал это кантовское учение. Хотя он, в соответствии со своими более глубокими астрономическими познаниями, излагает предмет основательнее, определеннее, подробнее и все-таки проще, чем Кант, тем не менее в главном эта теория отчетливо присутствует уже у последнего и вследствие высокой значимости предмета ее одной было бы достаточно для того, чтобы обессмертить его имя.
Мы не можем не испытывать крайнего смущения, когда
перворазрядные умы оказываются заподозренными в бесчестном поступке, который постыден
даже для умов самого последнего разряда: мы чувствуем тогда, что для богача
воровство еще менее простительно, чем для бедняка. Но мы не имеем права
замалчивать это, ибо в данном случае мы — потомки и должны быть справедливы,
ведь и мы надеемся на то, что и по отношению к нам потомки будут справедливы.
Вот почему я решаюсь к перечисленным примерам добавить еще и третий. Дело в
том, что основные мысли «Метаморфозы растений» Гете были высказаны еще в 1764 г.
Каспаром Фридрихом Вольфом в его «Теории генерации», с. 148, 229, 243 и т.
д. А разве с системой тяготения дело обстоит иначе? Ее открытие все еще
приписывается на европейском материке Ньютону, между тем как в Англии по
крайней мере ученые очень хорошо знают, что оно принадлежит Роберту Гуну,
который изложил его еще в 1666 г., в одном из «C
2) К № 18 материи.
Количество движения (quantitas motus, уже у Картезия) есть произведение массы на скорость.
Этот закон обосновывает не только учение о точке в механике, но и учение о равновесии в статике. По силе удара, которую обнаруживают при одинаковой скорости два тела, можно определить отношение их масс друг к другу: так, из двух молотков, бьющих с одинаковой скоро-
46
стью, молоток большей массы глубже вобьет гвоздь в стену или кол в землю. Например, молоток, вес которого равен шести фунтам, будет при скорости = 6 обладать такою же силой, как и молоток трехфунтовый при скорости = 12, потому что в обоих случаях количество движения = 36. Из двух шаров, катящихся с одинаковой быстротой, тот, который отличается большей массой, оттолкнет третий неподвижный шар дальше, чем это может сделать шар меньшей массы, ибо масса первого, умноженная на равную скорость, дает в результате большее количество движения. Пушка бьет дальше, чем ружье, ибо в первой одинаковая скорость, сообщенная гораздо большей массе, дает гораздо большее количество движения, которое дольше противится ослабляющему действию тяжести. По той же причине одна и та же рука дальше бросит свинцовый шар, чем каменный, одинаковой величины, и больший камень она бросит дальше, чем меньший. Поэтому и картечь не летит так далеко, как пуля.
Тот же закон лежит и в основе теории рычага и весов, ибо и здесь меньшая масса, на длинном плече рычага или коромысле весов, имеет при падении бо́льшую скорость, умноженная на которую она, меньшая масса, может по количеству движения сравняться с находящейся на коротком плече большей массой, — может сравняться и даже превзойти ее. В состоянии покоя, которое вызвано равновесием, эта скорость существует только потенционально или виртуально, potentia, а не actu, но действует так же, как и actu, что весьма примечательно.
После того как мы вспомнили эти истины, нам легче будет понять следующее объяснение.
Количество данной материи вообще может быть определено только по ее силе, а последняя — только по ее проявлению. Это обнаружение — там, где материя принимается в расчет лишь по своему количеству, а не по своему качеству, — может быть только механическим, т. е. может состоять только в движении, которое она сообщает другой материи. Ибо лишь в движении сила материи становится как бы живой, — отсюда выражение живая сила, указывающее на обнаружение силы движущейся материи. Соответственно дня количества данной материи единственная мера — количество ее движения. Но в нем, если оно известно, количество материи находится еще в соединении и слиянии с другим ее фактором — скоростью; этот другой фактор должен быть, таким образом, исключен, если мы хотим узнать количество материи (массу). Правда, скорость познается непосредственно, ибо она — S/T; но другой фактор, остающийся после ее исключения, т. е. масса, всегда познается только относительно, а именно — в сравнении с другими массами, которые, однако, сами, в свою очередь, познаются только по количеству их движения, т. е. в их сочетании со скоростью. Таким образом, необходимо одно количество движения сравнить с другим, а затем из обоих вычесть скорость, для того чтобы убедиться, чем каждое из них обязано своей массе. Это производится посредством взвешивания масс: здесь сравнивается то количество движения, которое в каждой из этих масс возбуждает сила земного притяжения, действующая на ту и другую только соответственно их количеству. Поэтому и существует два способа взвешивания: либо обеим сравниваемым массам придают одинаковую
47
скорость, для того чтобы убедиться, какая из них еще и теперь сообщает другой движение, т. е. сама обладает большим его количеством, что (так как скорость с обеих сторон одинакова) следует приписать другому фактору количества движения, т. е. массе (ручные весы); либо взвешивают так: определяют, насколько известная масса должна получить скорости больше, чем имеет другая, для того чтобы сравняться с последней по количеству движения и, следовательно, уже не принимать его от нее; ибо тогда в том же отношении, в каком ее скорость должна превосходить скорость другой, — ее масса, т. е. количество ее материи, будет меньше, чем масса другой (безмен). Это измерение масс посредством взвешивания основано на том благоприятном обстоятельстве, что движущая сила сама по себе совершенно равномерно действует на обе массы, и каждая из них в состоянии непосредственно сообщать другой свой избыток количества движения, отчего он и становится видимым.
Существенное в этих теориях уже давно было высказано Ньютоном и Кантом; но связность и ясность моего изложения, надеюсь, сделали их столь понятными, что для каждого становится доступной идея, понимание которой я считал необходимым для оправдания тезиса №18.
Вторая
половина
Учение
об абстрактном представлении, или о мышлении
Глава 5*
Об интеллекте без разума
Мы могли бы в совершенстве изучить сознание животных, так как мы в состоянии конструировать его простым устранением некоторых свойств нашего сознания. Однако в сознание животных вторгается, с другой стороны, инстинкт, который у всех животных более развит, чем у человека, а у некоторых доходит до художественного влечения.
Животные обладают рассудком, не имея разума, следовательно, у них есть наглядное, а не абстрактное познание: они правильно воспринимают и схватывают даже непосредственную причинную связь, а высшие животные — даже некоторые звенья ее цепи, но они не мыслят в собственном смысле этого слова. Ибо у них отсутствуют понятия, т. е. абстрактные представления. Ближайшим следствием этого является отсутствие настоящей памяти, которое характерно даже для самых умных животных, и именно этот недостаток главным образом обосновывает различие между их сознанием и сознанием человека. Ведь полная осмысленность зиждется на ясном осознании прошлого и возможного будущего как таковых и в связи с настоящим. Необходимая дня этого подлинная память является, следовательно, упорядоченным, связным, мысленным воспроизведением прошлого, а таковое возможно только
48
благодаря общим понятиям, в помощи которых нуждается даже совершенно индивидуальное, если мы хотим восстановить его в его прежнем порядке и связи. Ибо обозримое множество однородных и похожих вещей и событий нашей жизни не позволяет нам иметь непосредственное, наглядное и индивидуальное воспоминание о каждом отдельном случае для этого не хватило бы ни сил самой обширной способности к воспоминанию, ни нашего времени; поэтому все это можно сохранить, только подводя под общие понятия и сводя таким образом все к сравнительно немногим положениям, которые и дают нам постоянную возможность иметь в своем распоряжении упорядоченную и удовлетворительную картину нашего прошлого. Только отдельные сцены прошлого мы в состоянии представлять себе в созерцании, но время, которое с тех пор протекло, и его содержание мы сознаем только in abstracto, с помощью понятий о вещах и чисел, замещающих дни и годы вместе с их содержанием. Способность воспоминания у животных, как и весь их интеллект, напротив, ограничена наглядным и состоит прежде всего только в том, что возвращающееся впечатление заявляет о себе как об уже бывшем благодаря тому, что созерцание, относящееся к настоящему, освежает след более раннего; воспоминание животных поэтому всегда опосредовано тем, что реально дано в настоящий момент. И именно поэтому оно вновь возбуждает те самые ощущения и настроения, которые вызвали прежнее явление. Потому-то собака узнает знакомых, различает друзей и врагов, находит однажды пройденный путь, дома, в которых она была, и при виде тарелки или палки сейчас же приходит в соответствующее настроение. На использовании этой способности наглядного воспоминания и необыкновенно сильной у животных силе привычки основаны все виды дрессировки: она поэтому так же отличается от человеческого воспитания, как созерцание от мышления. Да и мы в отдельных случаях, когда нам отказывает настоящая память, ограничены одним только чисто наглядным воспоминанием, что и позволяет нам на собственном опыте измерить разницу между первой и вторым; так бывает, например, при взгляде на человека, который кажется нам знакомым, но относительно которого мы не можем припомнить, где и когда мы его видели; точно так же при посещении местности, в которой мы бывали в раннем детстве, т. е. тогда, когда разум еще не был развит, и которую мы поэтому совершенно забыли, мы ощущаем все-таки впечатление настоящего как впечатление чего-то уже бывшего. Такой характер имеют все воспоминания животных. Но у наиболее умных животных эта чисто созерцательная память возвышается до известной степени фантазии, которая, в свою очередь, оказывает ей помощь и благодаря которой перед собакой, например, проносится образ отсутствующего хозяина, возбуждая в ней тоску по нему, и собака, если хозяин долго не приходит, начинает всюду искать его. На этой фантазии основываются и сновидения у животных. Их сознание, таким образом, это простая последовательность моментов настоящего, каждый из которых не присутствует, однако, до своего наступления как будущее, а после своего исчезновения — как прошлое, что служит окончательным признаком человеческого сознания. Вот почему животные в конечном счете меньше подвержены страданию, нежели мы: они не
49
знают других страданий, кроме тех, которые непосредственно приносит с собой настоящее. А настоящее непротяженно, между тем как будущее и прошедшее, заключающие в себе большинство причин наших страданий, обладают большой протяженностью, и к их действительному содержанию присоединяется еще и чисто возможное, отчего желанию и страху открывается необозримое поле; между тем животные, не зная тревог прошлого и будущего, спокойно и радостно наслаждаются всяким, даже только сносным моментом настоящего. Очень ограниченные люди в этом отношении приближаются к ним. Кроме того, страдания, которые относятся исключительно к настоящему, могут быть только физическими. Даже смерть животные, собственно говоря, не ощущают: узнать ее они могли бы только тогда, когда она приходит, но тогда их уже нет. Таким образом, жизнь животного — сплошное настоящее. Оно проживает жизнь, не осмысляя ее, всецело растворяется в настоящем; впрочем, огромное количество людей тоже живет, очень мало задумываясь. Другое следствие указанного свойства интеллекта животных — это тесная связь между их сознанием и окружающей их средой. Между животным и внешним миром не стоит ничего, между нами и этим миром всегда стоят еще и наши мысли о нем, и они часто делают нас для него, или его для нас недоступными. Только у детей и очень грубых людей этот фасад становится иногда столь тонким, что для того, чтобы знать, что происходит в них, надо только видеть, что происходит вокруг них. Вот почему животные не способны ни на умысел, ни на притворство; они ничего не скрывают. В этом отношении собака относится к человеку так, как стеклянный кубок к металлическому, и это в значительной мере способствует тому, что мы так ценим собаку: для нас это великое наслаждение — видеть в собаке явное и открытое выражение всех наших склонностей и аффектов, которые мы столь часто скрываем. Вообще, животные как бы всегда играют с раскрытыми картами; вот почему мы с таким удовольствием наблюдаем за их поступками и поведением — все равно, принадлежат ли они к одной или к разным породам. Какая-то печать невинности характеризует их поведение, в противоположность человеческим действиям, которые благодаря появлению разума, а с ним и осмысленности, отдалились от невинности природы. Но поэтому они всегда носят на себе печать предумышленности, отсутствие которой, а тем самым и зависимость от минутного импульса составляет основной признак любого действия животного. На умысел, в подлинном смысле этого слова, не способно ни одно животное: принимать намерение и осуществлять его — привилегия человека, причем привилегия, в высшей степени чреватая последствиями. Правда, инстинкт, например у перелетных птиц или у пчел, затем устойчивое, продолжительное желание, тоска, например тоска собаки по своему отсутствующему хозяину, — все это может казаться чем-то преднамеренным, но смешивать их с намерением все же нельзя.
Все это в конечном счете основывается на отношении между человеческим и животным интеллектом, которое можно выразить и следующим образом: животные обладают только непосредственным познанием, у нас же, наряду с ним, есть еще и познание опосредованное; и то преимущество, которое в некоторых делах, например в тригонометрии
50
и анализе, в машинной работе вместо ручной и т. д., опосредованное имеет перед непосредственным, — это преимущество проявляется и здесь. В соответствии с этим можно сказать и так: у животных есть только простой интеллект, у нас же двойной, а именно наряду с созерцающим еще и мыслящий, и операции обоих часто совершаются независимо друг от друга: мы созерцаем одно, а думаем о другом; с другой стороны, эти операции часто переплетаются друг с другом. Подобное описание делает особенно понятными указанные выше и существенные для животных откровенность и наивность, в противоположность человеческой скрытности.
Однако закон, согласно которому natura non facit saltus* не теряет всей своей силы и по отношению к животным, хотя шаг от животного к человеческому интеллекту несомненно самый большой из всех, которые сделала природа, созидая своих существ. Легкий след рефлексии, разума, понимания слов, мышления, преднамеренности, размышления бесспорно проявляется иногда у самых выдающихся особей животных высших видов, и это всякий раз приводит нас в изумление. Самые поразительные черты такого рода являет слон, очень развитый интеллект которого находит себе опору и новую силу еще и в упражнениях, и в опыте его жизни, продолжающейся иногда двести лет. Часто он обнаруживает явные признаки предварительного обдумывания, что в животных поражает нас больше всего; об этом существуют известные анекдоты; особенно характерен анекдот о портном, которому слон отомстил за укол иглою. Я бы хотел здесь спасти от забвения аналогичный рассказ, который вдобавок имеет то преимущество, что его достоверность подтверждена судебным дознанием. В Морпете, в Англии, 27 августа 1830 г. коронером было произведено дознание по поводу сторожа Баптиста Бернгарда, убитого его слоном. Из свидетельских показаний выяснилось, что два года назад убитый грубо оскорбил слона, и вот теперь тот, без всякого повода, но при удобном случае, внезапно схватил его и бросил на землю (см. «Spectator» и другие английские газеты за те дни). Для специального ознакомления с интеллектом животных я рекомендую превосходную книгу Леруа «Sur l’intelligence des animaux», nouv. ed. 1802**.
Глава
6
По поводу учения об абстрактном познании, или познании
разумом
Внешнее воздействие на чувства вместе с тем настроением, которое оно само по себе вызывает в нас, исчезает, как только исчезнут сами вещи, вызвавшие его. Поэтому сами они еще не могут составлять того действительного опыта, поучения которого должны руководить нашими действиями в будущем. Образ этого впечатления, сохраняемый фантазией,
51
уже с самого начала слабее, чем оно
само, с каждым днем он слабеет все более, а со временем гаснет совершенно.
Только одно не исчезает мгновенно как впечатление, или постепенно как его
образ, т. е. свободно от власти времени, это — понятие. В нем,
следовательно, должен откладываться поучительный опыт, и оно одно способно быть
надежным руководителем наших жизненных шагов. Поэтому справедливо говорит
Сенека: «Si vis tibi
52
этой процедуры ограничивается только переработкой уже приобретенных нами знаний; сюда же относится и всякий вывод из содержащихся в них посылок. Новые же и существенные взгляды можно получать только из наглядного познания, единственно полного и богатого, с помощью способности суждения. Так как, далее, содержание и объем понятий находятся между собой в обратном отношении, т. е. чем больше мыслится под некоторым понятием, тем меньше мыслится в нем, то понятия образуют некоторую градацию, или иерархию, от наиболее специализированных до самых общих; на низшей ступени этой лестницы почти всегда выигрывает свою тяжбу схоластический реализм, на верхней — номинализм. Ибо наиболее специализированное понятие — это уже почти индивид, т. е. почти реальное; а самое общее понятие, например бытие (т. е. форма инфинитива связки), — это почти одно только слово. Вот почему и те философские системы, которые замыкаются в пределы таких, очень общих понятий, не спускаясь к реальности, представляют собою почти сплошное пустословие. В самом деле: так как всякое абстрагирование состоит лишь в мысленном устранении известных признаков, то чем дальше будем мы его продолжать, тем меньше у нас останется. Поэтому когда я читаю современные философемы, которые от начала до конца развиваются в широких абстракциях, то при всем своем внимании я скоро перестаю что-либо мыслить, ибо не получаю никакого материала для своего мышления, и вынужден оперировать одними только пустыми оболочками; это вызывает во мне ощущение, подобное тому, какое бывает у нас при попытке бросить очень легкое тело: сила и напряжение налицо, но нет объекта, к которому их можно было бы приложить, для того чтобы произвести другой момент движения. Кто хочет это испытать, пусть прочтет сочинения шеллингианцев или, еще лучше, гегельянцев.
Простыми понятиями, собственно, должны были бы быть такие, которые не поддавались бы разложению на элементы и поэтому никогда не могли бы служить субъектом аналитического суждения. Но я считаю это невозможным, ибо когда кто-либо мыслит какое-нибудь понятие, он должен быть в состоянии показать и его содержание. То, что обычно приводят как примеры простых понятий, — это уже совсем не понятия, а отчасти простые чувственные ощущения (например, ощущение известного цвета), отчасти же a priori осознаваемые нами формы созерцания, т. е., собственно говоря, последние элементы наглядного познания. Следовательно, оно для системы всех наших мыслей является тем, чем в геогнозии является гранит, последняя твердая почва, на которой все зиждется и дальше которой идти нельзя. Для отчетливости понятия требуется, чтобы не только его можно было разложить на его признаки, но чтобы, в свою очередь, можно было проанализировать их, если они тоже окажутся абстракциями, — и так далее, пока мы не дойдем до наглядного познания, т. е. до тех конкретных вещей, ясное созерцание которых служит основанием для ближайших абстракций и тем самым обеспечивает как их собственную реальность, так и реальность всех основанных на них высших абстракций. Поэтому обычное объяснение, согласно которому понятие отчетливо, коль скоро можно указать его признаки, недостаточно; ибо разложение этих признаков, быть может, само приве-
53
дет нас лишь к понятиям, а не к фундаментальным созерцаниям, которые обеспечивают реальность всех этих понятий. Возьмем, например, понятие «дух» и разложим его на признаки: «мыслящая, волящая, имматериальная, простая, не наполняющая пространство, неразрушимая сущность»; при этом еще не мыслится ничего отчетливого, так как элементы перечисленных понятий не могут быть обеспечены созерцаниями: мыслящее существо без мозга есть то же, что переваривающее существо без желудка. Ясны, собственно говоря, только созерцания, а не понятия: последние в лучшем случае могут быть отчетливы. Вот почему, как это ни абсурдно, некоторые мыслители ставили выражения «ясно» и «пу́танно» рядом и употребляли их в качестве синонимов, объявляя наглядное познание запутанным абстрактным, на том основании, что будто бы только абстрактное познание отчетливо. Впервые это сделал Дунс Скот, но еще и Лейбниц, в сущности, придерживается этого взгляда; на нем основывается его «identitas indiscemibilium»*; см. опровержение этого принципа, проведенное Кантом на 275 с. первого издания его «Критики чистого разума». Затронутая выше тесная связь понятия со словом, т. е. языка с разумом, в конечном счете основывается на следующем. Все наше сознание, со своим внутренним и внешним восприятием, имеет своей неизменной формой время. Понятия же, как возникшие путем абстракции, совершенно всеобщие и отличные от всех частных вещей представления, имеют, правда, в этом своем качестве до некоторой степени объективное существование, но оно не входит ни в какой временной ряд. Поэтому, для того чтобы они могли вступить в непосредственное настоящее какого-нибудь индивидуального сознания, т. е. для того чтобы они могли быть введены в некоторый временной ряд, они должны быть до некоторой степени низведены к природе частных вещей, индивидуализированы и тем самым связаны с каким-нибудь чувственным представлением, а оно-то и есть слово. Слово, таким образом, представляет собой чувственный знак понятия и в качестве такового служит необходимым средством для его фиксации, т. е. для того, чтобы представить его связанному с формой времени сознанию и установить таким образом связь между разумом, объектами которого являются только общие, не знающие ни места, ни времени universalia, и сознанием, которое связано со временем, чувственно и поэтому имеет чисто животный характер. Только благодаря этому средству для нас возможно произвольное воспроизведение, т. е. припоминание и сохранение понятий, и лишь посредством такой репродукции мы в состоянии производить с понятиями операции, т. е. судить, умозаключать, сравнивать, ограничивать и т. д. Правда, иногда бывает, что понятия занимают сознание и без своих знаков, так как мы иной раз столь быстро пробегаем цепь умозаключений, что за этот промежуток времени не успели бы помыслить слов. Но такого рода случаи представляют собой исключение и предполагают значительную натренированность разума, которой он мог достигнуть лишь с помощью того же языка. Как тесно связана деятельность разума с языком, это мы видим на глухонемых, которые, если они не изучили какого-нибудь подобия
54
языка, обнаруживают едва ли больше интеллекта, чем орангутанги и слоны, так как разум существует у них почти только potentia, а не actu[64].
Таким образом, слово и язык — необходимое средство отчетливого мышления. Но, как и всякое средство, всякий механизм, язык является в то же время помехой и препятствием: он втискивает бесконечные оттенки подвижной и изменчивой мысли в определенные, твердо устойчивые формы и, закрепляя ее, вместе с тем налагает на нее оковы. Это препятствие отчасти устраняется изучением нескольких языков, ибо тогда мысль, переливаясь из одной формы в другую и в каждом своем облике несколько изменяясь, все более и более сбрасывает с себя всякую форму и оболочку вообще, так что в сознание отчетливее проникает ее собственная сущность, — и мысль снова получает свою первоначальную гибкость. Но древние языки оказывают эту услугу гораздо лучше, чем новые, так как благодаря их значительному отличию от последних всякая мысль должна находить себе в них совершенно особое выражение, т. е. должна принимать совсем необычную форму; к этому присоединяется еще и то, что более совершенная грамматика древних языков делает возможной более искусную и законченную конструкцию мыслей и их связей. Вот почему грек или римлянин мог всегда довольствоваться собственным языком; наоборот, кто владеет лишь каким-нибудь одним из современных patois*, тот скоро обнаружит в письме и речи эту скудость, потому что его мышление, прикованное к столь бедным, стереотипным формам, непременно окажется неуклюжим и однообразным. Конечно, гениальность возмещает это, как и все другое, например у Шекспира.
В § 9 первого тома я показал, что мы можем в совершенстве понимать слова некоторой речи, хотя бы они и не вызывали в нашей голове наглядных представлений, образов. То же самое очень хорошо и обстоятельно изложил Бёрк в своем сочинении «Inquiry into the Sublime and Beautiful», p. 5, sect. 4 и 5**. Но он выводит отсюда совершенно неправильное заключение, будто мы слышим, понимаем и употребляем слова, не связывая с ними никакого представления (idea); между тем он должен был бы сделать такой вывод: не все представления (ideas) суть созерцаемые образы (images), но как раз те представления, которые должны обозначаться словами, суть чистые понятия (absract notions), — последние же по своей природе не наглядны. Именно вследствие того, что слова передают только общие понятия, которые совершенно отличны от наглядных представлений, происходит, например, следующее: когда рассказывают о каком-нибудь событии, все слушатели получают одни и те же понятия, но если они потом захотят наглядно представить себе рассказанный факт, то каждый построит в своей фантазии иной его образ, значительно отклоняющийся от действительного, которым обладает только очевидец. В этом и состоит непосредственная причина (к ней присоединяются еще и другие) того, почему любой факт, переходя из одних уст в другие, непременно искажается: второй рассказчик сообщает понятия, которые он извлек из образа своей фантазии и из которых
55
третий составляет себе опять-таки новый, еще более неточный образ; этот образ он снова перелагает в понятия, — и так это идет все дальше и дальше. Кто достаточно сух для того, чтобы остановиться на сообщенных ему понятиях и в таком же виде передать их дальше, тот окажется самым надежным рассказчиком.
Лучшее и наиболее разумное объяснение сущности и природы понятий, какое я только мог найти, принадлежит Томасу Риду в его «Essays on the powers of human mind», vol. 2, essay 5, ch. 6*. Оно было подвергнуто неодобрительной критике со стороны Дугальда Стюарта в его «Philosophy of the human mind»**; но для того, чтобы не тратить на него бумаги, я скажу только, что он принадлежит к обильному числу тех, кто благодаря искусности и друзьям достигли незаслуженной славы, — и я могу лишь посоветовать не терять ни одного часа на писания этого тупицы.
Впрочем, то, что разум является способностью абстрактных, а рассудок — наглядных представлений, это понял уже царственный схоласт Пико делла Мирандола в своей книге «De imaginatione», с. II***. Он тщательно отделяет рассудок от разума и считает последний дискурсивной способностью, свойственной человеку, а первый — интуитивной способностью, родственной способу познания ангелов и даже Бога. Спиноза также совершенно правильно характеризует разум как способность создавать общие понятия: Этика II, теор. 40, схол. 2. Об этом не стоило бы и упоминать, если бы не те фокусы, которые компания философских дел мастеров в Германии за последние пятьдесят лет дружно проделывала с понятием разума. С бесстыдной наглостью пытались они контрабандой провезти под этим именем совершенно вымышленную способность непосредственных, метафизических, так называемых сверхчувственных познаний, действительный же разум они прозвали рассудком, а настоящий рассудок, им самим вполне чуждый, они вообще не замечали и приписали его интуитивные функции чувственности.
Во всех делах этого мира каждое новое средство познания, каждая польза и каждое преимущество неминуемо связаны и с новым вредом: так и разум, дающий человеку столь великие преимущества перед животными, оборачивается специфическими недостатками и открывает человеку такие ложные пути, на которые животное никогда не может попасть. Благодаря разуму над волей человека приобретает власть совершенно новая категория мотивов, недоступная животному, а именно абстрактные мотивы, голые мысли, которые далеко не всегда извлекаются из собственного опыта, а часто приходят к человеку только через речь и примеры других, силой традиции и письменности. Сделавшись доступным для мысли, человек тотчас же стал открыт заблуждению. А каждое заблуждение должно рано или поздно принести свой вред, и тем больший, чем больше было оно само. Тот, кто питает индивидуальное заблуждение, должен когда-нибудь его искупить, и часто он платит за него дорогою ценой; то же самое, но в более широких размерах относится и к общим заблуждениям целых народов. Поэтому никогда не станет
56
слишком частым повторение того, что всякое заблуждение, где бы мы его ни встретили, надо преследовать и искоренять, как врага человечества, и что не может быть привилегированных или даже санкционированных заблуждений. Долг мыслителя — бороться с ними, даже если человечество, подобно больному, к нарыву которого прикасается врач, будет громко кричать при этом.
Животное никогда не может далеко уклониться от путей природы, ибо его мотивы лежат исключительно в созерцаемом мире, где находит себе место только возможное, даже только реальное; в отвлеченные же понятия, в мысли и слова облекается все, что только можно придумать, следовательно, и все ложное, невозможное, абсурдное, бессмысленное. Так как разум присущ всем, а способность суждения — немногим, то следствием этого является то, что человек открыт иллюзиям и отдан во власть всевозможным химерам, какие только ему внушат; действуя в качестве мотивов его желания, они могут побудить его ко всякого рода извращенностям и глупостям, к неслыханным экстравагантностям и даже к поступкам, совершенно противоречащим его животной природе. Истинное образование, в котором познание и суждение идут рука об руку, может быть дано лишь немногим, и еще меньшее количество людей способно его воспринять. Для массы же взамен образования повсюду существует что-то вроде дрессировки: ее орудием являются пример, привычка и крайне преждевременное, настойчивое внушение известных понятий, прежде чем опыт, рассудок и способность суждения могут помешать этому. Так и прививаются мысли, которые впоследствии оказываются столь прочными и столь мало поддающимися изменению посредством обучения, как если бы они были врожденными, за которые их часто и принимают — даже философы. На этом пути можно, при одинаковом старании, внушить людям как истинное и разумное, так и самое нелепое; например, можно приучить их приближаться к тому или другому кумиру не иначе как со священным трепетом и при звуке его имени падать ниц не только телом, но и всей своей душою; охотно жертвовать своим достоянием и жизнью ради слов, ради имени, для зашиты самых сумасбродных причуд; произвольно связывать высшую честь и глубочайший позор с той или другою вещью, и сообразно этому ценить или презирать каждого из людей с искренним убеждением; отказываться от всякой животной пищи, как в Индостане, или пожирать еще теплые и дрожащие куски, вырезанные из живого тела животных, как в Абиссинии; поедать людей, как в Новой Зеландии, или приносить своих детей в жертву Молоху; кастрировать себя, добровольно бросаться в костер умершего, одним словом, их можно приучить к чему угодно. Отсюда — крестовые походы, изуверства фанатических сект; отсюда хилиасты и флагелланты, преследования еретиков, аутодафе и вообще весь длинный список человеческих извращений. Для того чтобы не подумали, будто такими примерами богаты одни только темные века, я приведу несколько новых. В 1818 г. 7000 хилиастов переселились из Вюртемберга к Арарату, ибо там должно было наступить новое Царство Божье, возвещенное Юнг-Штиллингом*. Галль рассказывает, что
57
в его время одна мать убила и зажарила своего ребенка, чтобы его жиром вылечить ревматизм своего мужа*. Трагическая сторона заблуждений и предрассудков относится к практике, комическая представлена теорией; если бы, например, удалось убедить всего трех человек, что солнце не является причиной дневного света, то вполне можно было бы надеяться, что это скоро приобрело бы силу всеобщего убеждения. Отвратительного, бездарного шарлатана и беспримерного бумагомарателя, Гегеля, удалось в Германии провозгласить величайшим философом всех времен, и многие тысячи людей в течение двадцати лет неуклонно и твердо верили этому, — даже за пределами Германии, как датская Академия, которая ополчилась против меня, отстаивая его славу, и хотела заставить признать его summus philosophus** (см. об этом в предисловии к моим «Основным проблемам этики»).
Таковы, следовательно, те вредные стороны, которые, ввиду
того что способность суждения
встречается редко, связаны с существованием разума.
К ним присоединяется еще и возможность безумия: животные не сходят с ума, хотя плотоядные подвержены
бешенству, а травоядные способны
впасть в своего рода неистовство.
Глава 7***
Об отношении наглядного познания к познанию
отвлеченному
Мы уже видели, что понятия заимствуют свой материал из наглядного познания, и потому все здание мира наших мыслей зиждется на мире созерцаний. Вследствие этого мы должны иметь возможность от каждого понятия, хотя бы через промежуточные ступени, возвращаться к созерцаниям, из которых оно непосредственно извлечено или из которых извлечены те понятия, абстракцией которых является, в свою очередь, оно само, т. е. мы должны иметь возможность обеспечивать его созерцаниями, которые по отношению к абстракциям играют роль примеров. Эти созерцания, таким образом, дают реальное содержание всему нашему мышлению, и всюду, где их нет, наша голова наполнена не понятиями, а только словами. В этом отношении наш интеллект подобен эмиссионному банку: последний, если он хочет быть солидным, должен располагать в кассе наличными деньгами, для того чтобы в случае требования иметь возможность учесть все выданные им векселя: созерцания — это наличные деньги, понятия — это векселя. В этом смысле было бы правильно назвать созерцания первичными, а понятия вторичными представлениями; схоласты (что было не столь уместно) называли, вслед за Аристотелем (Metaph. VI, II; XI, I), реальные вещи substantias primas, а понятия — substantias secundas[65]****.
Книги сообщают только вторичные представления. Одни понятия о какой-нибудь вещи, без созерцания, дают только общее знание о ней.
58
Вполне основательное понимание вещей и их отношений мы имеем лишь в том случае, если мы способны представить их себе полностью в отчетливых созерцаниях, без помощи слов. Слова объяснять словами, понятия сравнивать с понятиями (в чем в основном и заключается философствование) — это, в сущности, игра в сравнение сфер понятий, чтобы узнать, какая из них входит в другую и какая — нет. В самом удачном случае можно прийти к умозаключениям, но и умозаключения вовсе не дают вполне нового знания, а только показывают нам, что уже заключалось в прежнем знании и что из этого приложимо к каждому данному случаю. Наоборот, созерцать, заставлять сами вещи говорить с нами, постигать их новые отношения и затем все это, для надежного сохранения, откладывать в понятиях — вот что дает новые знания. Но в то время как сравнивать понятия с понятиями способен так или иначе всякий, сравнивать понятия с созерцаниями — дар избранных: он, в зависимости от степени совершенства, является условием остроумия, способности суждения, проницательности, гениальности. Между тем первая способность никогда не порождает ничего другого, кроме чего-то вроде разумных соображений.
Сокровеннейшее ядро каждого подлинного и действительного познания — созерцание, да и каждая новая истина — плод того же созерцания. Всякое изначальное мышление протекает в образах — вот почему фантазия является его необходимым орудием; умы, лишенные фантазии, никогда не создадут ничего великого, разве только в математике. Наоборот, одни только отвлеченные мысли, лишенные всякого наглядного ядра, подобны очертаниям облаков, лишенных реальности. Даже письменность и речь, будь то учение или поэзия, ставят последней целью привести читателя к тому же наглядному познанию, из которого исходил автор; если же произведение не ставит себе такой цели, то оно дурно. Вот почему изучение и наблюдение каждой действительной вещи, если только она дает наблюдателю что-нибудь новое, поучительнее всякого чтения и слушания. Ибо в каждом предмете действительности, если проникнуть в ее основу, заключается вся истина и мудрость и даже последняя тайна вещей, конечно, только in concreto и как золото в руде: все дело в том, чтобы извлечь ее оттуда. Из книги же мы в лучшем случае получаем истину из вторых рук, чаще же не получаем ее совсем.
Авторы большинства книг (не говоря уже о книгах безусловно дурных), если их содержание не чисто эмпирическое, мыслят, но не созерцают: они пишут на основании рефлексии, а не интуиции, и как раз это и делает их книги посредственными и скучными. Ибо то, что мыслил автор, мог бы при некотором усилии мыслить и читатель: ведь это лишь разумные мысли, более подробное изложение того, что implicite*[66] уже заключается в самой теме. Но этим путем в мир никогда не приходит действительно новое знание, такое знание рождается только в момент созерцания, непосредственного постижения новой стороны вещей. Вот почему там, где в основе мыслей автора лежит не понятие, а созерцание, — там он словно пишет из такой страны, которой сам читатель еще не посетил; там все свежо и ново, ибо непосредственно почерпнуто из
59
первоисточника всякого знания. Я
поясню затронутое здесь различие простым и легким примером. Каждый обыкновенный
писатель легко изобразит глубокую задумчивость или оцепенелость изумления
следующими словами: «Он застыл, как изваяние»; но Сервантес говорит: «как
одетое изваяние, ибо ветер шевелил его одеяние» (Дон Кихот, кн. 6, гл. 19). Все
великие умы всегда мыслили, актуализируя созерцание, устремляя на
созерцаемое свой пристальный взор. Это видно, между прочим, из того, что самые
разные среди них часто сходятся между собою в отдельных подробностях, ибо все
они говорят об одной и той же вещи, которая у всех них была перед глазами: эта
вещь — мир, созерцаемая действительность; и до известной степени все они даже
говорят одно и то же, а другие никогда им не верят. Это видно, далее, из того,
что их выражения всегда удачны, оригинальны, точно соответствуют предмету, эти
выражения внушены им созерцанием; это видно из наивности их признаний и новизны
образов, из меткости сравнений — ведь все это непременно характеризует творения
великих умов и все это отсутствует у других писателей; на долю последних
остаются только банальные обороты и избитые образы, и они никогда не позволяют
себе непосредственность из страха обнаружить свою пошлость во всей ее печальной
наготе; вместо этого они манерны. Оттого и сказал Бюффон: le style est l’h
60
момент наполняет сознание всею своей мощью. На этом и основывается бесконечное превосходство гения перед ученостью, — они относятся друг к другу как текст древнего классика к его комментарию. Всякая истина и всякая мудрость в конечном счете содержатся в созерцании. Но, к сожалению, ее нельзя ни удержать, ни передать другим; правда, объективные условия для этого могут быть предложены другим, очищенные и просветленные с помощью изобразительных искусств и, уже гораздо более опосредованно, — с помощью поэзии; но ведь созерцание в такой же степени покоится и на субъективных условиях, которые даны не каждому и никому не даны всегда, а в высших степенях совершенства даже составляют счастливый удел только немногих избранных. Безусловно передаваемо лишь самое дурное познание — отвлеченное, вторичное, понятие, тень настоящего познания. Если бы можно было передавать свои созерцания, то это, безусловно, стоило бы труда; теперь же каждый должен в конце концов оставаться в своей коже и в своем черепе, и никто другому помочь не может. Поэзия и философия неустанно трудятся над тем, чтобы обогатить понятие созерцанием.
Между тем существенные цели человека имеют практический характер, а для этого достаточно, чтобы воспринятое в созерцании оставляло в нас следы, по которым мы в следующем сходном случае могли бы его вновь узнать: так приобретается житейская мудрость. Поэтому практичный человек, как правило, не умеет обучать накопленным истине и мудрости, а умеет только пользоваться ими на деле: он верно схватывает все происходящее и решает, чего требуют данные обстоятельства. То, что книги не заменяют опыта, а ученость не заменяет гениальности, — это два родственных феномена: их общее основание заключается в том, что абстрактное никогда не может заменить наглядного. Книги никогда не заменяют опыта потому, что понятия всегда остаются общими и не опускаются до частностей, а как раз с последними и приходится иметь дело в жизни; к этому присоединяется и то, что все понятия абстрагированы из частных и созерцаемых элементов опыта; следовательно, надо уже предварительно знать их, для того чтобы надлежащим образом понимать даже только то общее, которое сообщают книги. Ученость не заменяет гениальности потому, что и она дает одни только понятия, между тем как познание гения заключается в постижении (платоновых) идей предметов и оттого по существу своему интуитивно. Таким образом, в первом феномене отсутствует объективное условие наглядного познания, а во втором — субъективное; первое условие можно обеспечить, второе — нет.
Мудрость и гениальность, эти две парнасские вершины человеческого знания, коренятся не в абстрактной и дискурсивной способности, а в способности созерцания. Истинная мудрость — это нечто интуитивное, а не абстрактное. Она состоит не в положениях и мыслях, которые можно носить готовыми в голове как результаты чужого или собственного исследования: нет, она представляет собой тот способ, которым человек представляет себе мир. Этот образ столь неодинаков, что мудрый живет в ином мире, чем глупый, и гений видит иной мир, чем тупица. Если создания гения бесконечно превосходят произведения всех других людей, то это объясняется только тем, что мир, который он
61
видит и из которого черпает свои высказывания, гораздо яснее и как бы глубже разработан у него, чем мир, существующий в головах других: последний содержит в себе, конечно, те же вещи, но относится к первому, как китайский рисунок без теней и перспективы — к современной картине, написанной маслом. Материал во всех головах один и тот же; но в совершенстве той формы, которую он принимает в каждой из них, заключается то различие, на которое в конечном счете опирается столь богатая ступенями лестница градации интеллектов; это различие, таким образом, присутствует уже в самом корне, в созерцающем постижении, а не возникает лишь на стадии абстрактного мышления. Именно поэтому изначальное умственное превосходство так легко проявляется при каждом поводе, другие же его сразу ощущают и начинают ненавидеть.
В практической жизни интуитивное познание рассудка может непосредственно руководить нашей деятельностью, между тем как абстрактное познание разума в состоянии делать это лишь при посредстве памяти. Отсюда и вытекает преимущество интуитивного познания во всех тех случаях, когда нет времени рассуждать, т. е. в повседневном общении: именно поэтому в нем более умелы женщины. Лишь тот, кто интуитивно познал сущность и кто таким же способом постигает индивидуальность каждого отдельного человека, — лишь тот умеет правильно и уверенно обходиться с ними. Другой может знать наизусть все триста правил житейской мудрости Грасиана, но это не спасет его от глупостей и ошибок, если у него отсутствует интуитивное познание. Ибо всякое абстрактное познание дает прежде всего только общие принципы и правила, но ведь частный случай почти никогда не бывает точно скроен по правилу; кроме того, последнее должно быть нам своевременно подсказано памятью, а это редко случается в нужную минуту; затем из данного случая надо образовать propositio minor* и, наконец, вывести заключение. Но прежде чем мы соберемся все это сделать, удобный момент по большей части уже успевает исчезнуть и повернуться к нам спиной, и тогда наши великолепные принципы и правила в лучшем случае оставляют нам возможность задним числом измерить всю величину сделанной нами ошибки. Конечно, и отсюда со временем, путем опыта и упражнения, постепенно вырастает житейская мудрость, поэтому в связи с последними и правила in abstracto несомненно могут оказаться плодотворными. Интуитивное же познание, которое всегда постигает только единичное, находится в непосредственном отношении ко всякому данному случаю: правило, отдельный случай и применение есть для него нечто единое, и поступок следует за ним немедленно. Этим и объясняется то, почему в действительной жизни ученый, преимущество которого заключается в богатстве абстрактных познаний, так сильно уступает практику, преимущество которого состоит в полноте того интуитивного знания, каким его одарили природные задатки и которое развил в нем богатый опыт. Оба эти способа познания всегда находятся между собой в таком же отношении, какое существует между ценными бумагами и наличностью; но как в некоторых случаях и обстоятельствах первые предпочтительнее вторых, так же бывают вещи и положения, для
62
которых более полезно абстрактное знание, чем интуитивное. А именно, если при известных обстоятельствах нашими поступками руководит понятие, то оно имеет то преимущество, что, однажды образованное, оно остается неизменным; вот почему под его руководством мы твердо и уверенно принимаемся за дело. Однако эта уверенность, которую понятие дает с субъективной стороны, т. е. для самого деятеля, уравновешивается присущей ему объективной недостоверностью: другими словами, или все понятие может быть ложным и несостоятельным, или же объект, о котором идет речь, может не подходить под него, относясь совсем или отчасти не к его роду. Если в отдельном случае мы неожиданно замечаем что-нибудь подобное, то нас покидает самообладание; если же сами мы этого не замечаем, то это покажет нам исход дела. Поэтому Вовенарг говорит: «Personne n’est sujet à plus de fautes, que ceux qui n’agissent que par réflexion»*. Если же, с другой стороны, нашими поступками руководит непосредственное созерцание объектов и их отношений, с которыми мы должны иметь дело, то мы колеблемся на каждом шагу, потому что созерцание очень изменчиво, двусмысленно, заключает в себе неисчерпаемые детали и показывает одну сторону предмета за другой: оттого наши действия не вполне уверенны. Но субъективная неуверенность компенсируется здесь объективной достоверностью, ибо в данном случае между объектом и нами не стоит понятие и мы не теряем объект из вида; и потому, если только правильно видеть все, что находится перед нами, и все, что мы делаем, то мы будем поступать правильно. Таким образом, совершенно надежными бывают наши действия лишь тогда, когда ими руководит такое понятие, правильная основа, законченность и применимость к данному случаю которого абсолютно несомненны. Если поступки опираются на понятия, то это может перейти в педантизм; а если действовать всегда только в соответствии с наглядными впечатлениями, то это может перейти в легкомыслие и глупость.
Созерцание не только источник всякого познания, но оно само — познание κατ̓ἐςοχήν**, единственное безусловно истинное, подлинное и достойное своего имени; ибо только оно дает подлинное понимание, оно одно действительно ассимилируется человеком, переходит в его существо и по праву может называться его собственным, между тем как понятия только прилипают к нему. В четвертой книге мы видели, что даже добродетель исходит, собственно, из наглядного познания, ибо только те поступки, которые непосредственно вытекают из него, т. е. совершаются из чистых побуждений нашей собственной природы, — только они служат действительными симптомами нашего истинного и неизменного характера, а не те поступки, которые вытекают из рефлексии и ее догматов, часто противоречат характеру и поэтому не имеют в нас неизменной основы и почвы. Но и мудрость, истинное понимание жизни, правильный взгляд и меткое суждение имеют своим источником то, как человек постигает наглядный мир, а не простое его знание, т. е. не
63
абстрактные понятия. Так же как фонд или основное содержание каждой науки состоит не в доказательствах и не в доказанном, а в недоказанном, на которое опираются доказательства и которое в конечном счете постигается только созерцанием, — так и фонд подлинной мудрости и действительного понимания каждого человека заключается не в понятиях и не в знании in abstracto, а в созерцаемом, и в той степени остроты, правильности и глубины, с которой он это созерцаемое понял. Кто преуспел в этом, тот познает (платоновы) идеи мира и жизни; каждый случай, который он видел, служит для него представителем бесчисленных других случаев; он с каждым разом все лучше и лучше узнает каждую сущность в ее истинной природе, и его поступки, как и его суждения, соответствуют его пониманию. Постепенно и его внешний облик обретает выражение проницательности, истинной разумности и, на высоких ступенях, мудрости. Ибо только превосходство наглядного познания налагает свой отпечаток и на черты лица, между тем как мастерство в познании абстрактном не в состоянии этого сделать. Вот почему во всех сословиях мы встречаем людей, обладающих интеллектуальным превосходством и при этом безо всякого образования. Ибо природный рассудок может заменить почти любую степень образования, — но никакое образование не может заменить природного рассудка. Конечно, перед такими людьми ученый имеет то преимущество, что у него есть целая сокровищница случаев и фактов (исторические сведения) и причинных определений (естествознание), расположенных в систематическом и обозримом порядке; но это еще не обеспечивает ему более правильного и глубокого проникновения в истинную сущность всех этих случаев, фактов и причинных связей. Необразованный человек, обладающий острым взглядом и проницательностью, сумеет обойтись и без этого богатства, — у него изба красна не углами, а пирогами. Один случай из собственного опыта для него поучительнее, чем для иного ученого тысячи случаев, которые он знает, но которых, собственно, не понимает; ибо то немногое, что знает этот неученый человек, имеет живой характер: всякий известный ему факт обеспечен для него верным и хорошо понятым созерцанием, вследствие чего один такой факт заменяет ему тысячи подобных. Напротив, многознайство обыкновенных ученых мертво, ибо оно, даже если и не состоит из одних слов, как это часто бывает, все же ограничивается исключительно абстрактными познаниями, а они всю свою цену получают только от наглядного познания индивида, от которого ведут свое начало все понятия и которое в конечном счете должно реализовать их все. Если это знание очень скудно, то такая голова подобна банку, наличный фонд которого вдесятеро меньше его ассигнаций и который в конце концов становится банкротом. Вот почему в то время как верное понимание наглядного мира придает иногда чертам неученого человека отпечаток мудрости, лицо иного ученого не носит на себе других следов обильных знаний, кроме утомления и истощенности — результатов насильственного и чрезмерного напряжения памяти ради противоестественного накопления мертвых понятий; и часто вид у такого человека бывает столь ограниченным и глупым, что подумаешь, не влечет ли чрезмерное напряжение опосредованной и направленной на абстракции познавательной способности,
64
не влечет ли оно за собой прямого ослабления способности непосредственной и интуитивной и не туманит ли постепенно книжный свет природного, зоркого взгляда. Несомненно, беспрерывный приток чужих мыслей должен тормозить и заглушать собственные и в конце концов парализовать способность мыслить, если только она не обладает такой высокой степенью упругости, которая может противиться этому неестественному потоку. Вот почему беспрестанное чтение и учение даже портит голову, между прочим, и оттого, что система наших собственных мыслей и знаний теряет свою цельность и связность, когда их так часто намеренно разрывают, для того чтобы дать простор совершенно чуждому ряду мыслей. Отгонять свои мысли для того, чтобы освободить место для мыслей из какой-нибудь книги, — это представляется мне тем же, в чем Шекспир упрекает современных ему туристов: они продают свою собственную землю, для того чтобы видеть землю чужую19. Впрочем, страсть к чтению у большинства ученых есть своего рода fuga vacui* их собственной головы, которая насильственно втягивает чужое; для того чтобы иметь мысли, такие ученые должны их вычитывать, подобно тому как неодушевленные тела получают движение только извне; наоборот, самостоятельные мыслители похожи на тела одушевленные, которые движутся сами собой. Даже опасно читать о каком-нибудь предмете раньше, чем ты сам поразмыслил о нем. Ибо в таком случае вместе с новым материалом вкрадываются в голову чужие взгляды на предмет и способ его понимания, и это происходит тем легче, что косность и апатия побуждают нас не утруждать себя собственным размышлением и принимать на веру уже продуманное другими. И вот это чужое свивает себе прочное гнездо, и вслед за тем мысли о данном предмете текут уже как ручей, по привычному руслу; найти собственное, новое русло тогда вдвойне трудно. Это обстоятельство весьма способствует недостатку оригинальности среди наших ученых. Но сюда присоединяется еще и то, что они, подобно другим людям, воображают, будто им необходимо делить свое время между развлечением и работой. И вот, считая чтение работой и своим настоящим призванием, они объедаются им до несварения желудка. Чтение уже не является у них преддверием размышления, но полностью заменяет его, ибо они размышляют о вещах только до тех пор, пока читают о них, т. е. чужой головою, а не собственной. А лишь только книга отложена, их интерес сейчас же и гораздо живее начинают занимать совсем другие вещи — личные дела, театр, карты, кегли, злоба дня и болтовня. Мыслящий человек оттого и мыслит, что такие вещи совсем его не интересуют, а интересны для него только его проблемы, в которые он повсюду и углубляется, самостоятельно и без книг; искусственно привить себе такой интерес, когда его нет, невозможно. В этом-то вся суть. Этим же объясняется и то, что книжники всегда говорят только о прочитанном, между тем как мыслитель говорит о продуманном, и что они, как выражается Поп:
Forever reading, never to be
read**.
65
Дух по своей природе — существо свободное, а не крепостное: ему удается только то, что он делает охотно и по собственной воле. Наоборот, насильственное принуждение ума к занятиям, до которых он не дорос, которые его утомляют или тянутся слишком долго и invita Minerva*, — это насилие так же притупляет мозг, как чтение при лунном свете портит глаза. В особенности такое воздействие оказывает напряжение еще незрелого мозга в ранние детские годы; я думаю, что изучение латинской и греческой грамматики в возрасте от 6 до 12 лет закладывает фундамент позднейшей тупости большинства ученых. Конечно, дух нуждается в пище, в материале извне. Но подобно тому как не все, что мы едим, сейчас же усваивается организмом, но лишь постольку, поскольку оно переваривается, причем только малая часть этого действительно ассимилируется нами, все же остальное опять выделяется, и потому есть больше, чем мы в состоянии ассимилировать, бесполезно и даже вредно, — так обстоит дело и с нашим чтением: лишь постольку, поскольку оно дает материал для мышления, расширяет оно наш кругозор и действительные знания. Вот почему уже Гераклит сказал: multiscitia non dat intellectum**; мне же ученость представляется тяжелым панцирем, который сильного человека, бесспорно, делает совершенно неодолимым, но зато для слабого является бременем, под которым он изнемогает.
Данная нами в третьей книге характеристика познания (платоновых) идей, как познания высшего доступного человеку и вместе с тем безусловно наглядного, служит для нас подтверждением того, что не в абстрактном знании, а в правильном и глубоком наглядном постижении мира лежит источник истинной мудрости. Оттого-то мудрецы и могут жить во все времена, и мудрецы древности остаются мудрецами и для всех грядущих поколений; ученость, напротив, относительна, и ученые древности в сравнении с нами по большей части — дети и нуждаются в нашей снисходительности.
Тому, кто учится, чтобы обрести понимание, книги и занятия служат просто ступенями лестницы, по которой он восходит к вершине знания. Лишь только какая-нибудь ступень поднимет его на шаг выше, он сейчас же ее покидает. Напротив, большинство, которое занимается только для того, чтобы наполнять свою память, не пользуется ступенями лестницы для восхождения, а собирает и взваливает их на себя, чтобы унести с собой, радуясь постоянному увеличению тяжести ноши. Они всегда остаются внизу, ибо носят на себе то, что должно было бы возносить их.
На изложенной здесь истине, что зерно всякого знания — наглядное постижение, основывается и следующее правильное и глубокое замечание Гельвеция: действительно самобытные и оригинальные взгляды, на которые способен даровитый индивид, обработкой, развитием и многообразным применением которых являются все его, даже гораздо позже написанные произведения, — эти взгляды возникают у него лишь до тридцать пятого, самое позднее — до сорокового года его жизни и являются, по существу, результатом комбинаций, сделанных им в самой ранней юности22. Ибо они, эти взгляды, — вовсе не простые цепи
66
абстрактных понятий, а свойственное ему интуитивное постижение объективного мира и сущности вещей. А то, что такое постижение должно завершить свое дело до указанного возраста, это объясняется отчасти следующим: в этот период человеку являются отображения всех (платоновых) идей, так что впоследствии ни одно из них не может возникнуть с силой первого впечатления; кроме того, для этой квинтэссенции всякого познания, для этих оттисков avant la lettre* постижения мира, необходима высшая энергия мозговой деятельности, обусловленная свежестью и гибкостью волокон мозга и напряженностью, с какою артериальная кровь приливает к мозгу; а этот прилив бывает наиболее силен до тех пор, пока артериальная система имеет решительный перевес над венозной; между тем такой перевес слабеет уже по истечении первых тридцати лет, и, наконец, к сорок второму году верх берет венозная система, — как это прекрасно и поучительно доказал Кабанис. Поэтому двадцатые годы и начало тридцатых представляют собой для интеллекта то же, что май для деревьев: лишь тогда начинается то цветение, из которого вырастают все дальнейшие плоды. Наглядный мир запечатлен, и тем самым заложена основа для всех дальнейших мыслей индивида. Последний может новыми размышлениями прояснить для себя постигнутое; он приобретет еще много сведений в качестве питания уже завязавшегося плода; он расширит свои взгляды, исправит свои понятия и суждения, путем бесконечных комбинаций станет настоящим господином добытого материала и даже свои лучшие творения по большей части создаст гораздо позже, подобно тому как самая теплая погода наступает лишь тогда, когда дни становятся короче, но рассчитывать на новые изначальные знания из единственно живого источника созерцания ему уже нельзя. Это чувство выражает Байрон в своей чудесной жалобе:
No more — no more — oh! never
more on me
The freshness of the heart can
fall like dew,
Which out of all the lovely
things we see
Extracts emotions beautiful
and new,
Hived in our bos
Thinkst thou the honey with
those objects grew?
Alas! ’twas not in them, but
in thy power
To double even the sweetness
of a flower**.
Надеюсь, все изложенное ясно показало ту важную истину, что всякое абстрактное познание, подобно тому как оно возникло из наглядного знания, получает всю свою ценность лишь через свое отношение к нему, т. е. благодаря тому, что его понятия, или их частичные представления, могут быть реализованы, т. е. подтверждены созерцани-
67
ями; как и то, что главное — это качество этих созерцаний. Понятия и абстракции, которые не ведут в конце концов к созерцаниям, подобны лесным тропинкам, которые никуда не приводят. Понятия весьма полезны тем, что с их помощью легче оперировать первоначальным материалом познания, обозревать его и упорядочивать; но хотя с ними и возможно совершать множество логических и диалектических операций, из них все же никогда не получится изначального и совершенно нового познания, т. е. такого, материал которого не содержался бы уже в созерцании или не был бы почерпнут из самосознания. В этом и состоит истинный смысл приписываемого Аристотелю учения: nihil est in intellectu, nisi quod an tea fuerit in sensu*; в этом же и смысл теории Локка, которая навеки составила эпоху в философии благодаря тому, что серьезно поставила вопрос о происхождении наших познаний. Этому же в основном учит и «Критика чистого разума». Она тоже требует, чтобы мы не останавливались на понятиях, а доходили бы до их источника, т. е. созерцания; но она делает еще одно верное и важное дополнение: то, что справедливо для самого созерцания, распространяется и на его субъективные условия, т. е. на формы, которые заранее заложены в созерцающем и мыслящем мозгу» как его естественные функции, хотя они, по крайней мере — virtualiter**, предшествуют действительному чувственному созерцанию, т. е. априорны, и, следовательно, не они зависят от него, а он зависит он них; ибо и эти формы не имеют никакой другой цели и применения, кроме порождения эмпирического созерцания после того, как возникает возбуждение нервов органов чувств, подобно тому как другие формы предназначены к тому, чтобы из материала этого созерцания потом создавать мысли in abstracto. Поэтому «Критика чистого разума» относится к философии Локка так же, как анализ бесконечного к элементарной геометрии; но все-таки она безусловно должна рассматриваться как продолжение философии Локка.
Наличный материал всякой философии, таким образом, есть не что иное, как эмпирическое сознание, которое распадается на сознание собственной самости (самосознание) и сознание других вещей (внешнее созерцание). Ибо лишь это представляет собой непосредственное, действительно данное. Всякая философия, которая, вместо того чтобы исходить из этого, своей отправной точкой делает произвольно выбранные абстрактные понятия, как, например, абсолют, абсолютная субстанция, Бог, бесконечное, конечное, абсолютное тождество, бытие, сущность и т. д. и т. д., — такая философия парит в воздухе и поэтому не может привести к действительным результатам. Тем не менее философы всех веков предпринимали такие попытки; вот почему даже Кант, по традиции и больше по привычке, чем последовательно, определяет иногда философию как науку, основанную на чистых понятиях. Но такая наука задавалась бы, собственно, целью вывести из одних только частных представлений (ибо таковы абстракции) то, чего нельзя найти в полных представлениях (созерцаниях), из которых выведены, посредством удаления отдельных признаков, первые. К этому склоняет возможность
68
умозаключения, так как здесь сопоставление суждений дает новый результат, правда, больше по видимости, чем в действительности, ибо умозаключение только выявляет то, что уже содержалось в данных суждениях: ведь заключение не может содержать в себе больше, чем посылки. Конечно, понятия — материал философии, но лишь в том смысле, в каком мрамор является материалом скульптора: философия должна работать, не исходя из понятий, а облекаясь в понятия, т. е. должна откладывать в них свои результаты, а не исходить из них, как из данного. Кто желает иметь яркий образчик такого извращенного метода, исходящего из чистых понятий, пусть посмотрит «Institutio theologica» Прокла, и он убедится, как несостоятелен весь этот способ. Там нагромождена куча таких абстракций, как unum, multa, bonum, producens et productum, sibi sufficiens, causa, melius, mobile, immobile, motum* и т. д.; но созерцания, которым все они обязаны своим происхождением и содержанием, игнорируются, рассматриваются свысока; затем из названных отвлеченностей строится некая теология, причем ее цель, ϑεος** скрывается, и создается видимость, что исследование ведется очень беспристрастно, как будто бы читатель не знает с первой же страницы, и так же хорошо, как и автор, к чему все клонится. Отрывок оттуда я уже привел выше. Поистине, на этом произведении Прокла особенно легко убедиться, как непригодны и иллюзорны подобные комбинатами абстрактных понятий: из них можно вывести все, что угодно, — в особенности если еще и использовать многозначность некоторых слов, например κρεῖττον***. При личном знакомстве с таким архитектором понятий достаточно только простодушно спросить его: где же все те вещи, о которых он столько рассказывает, и откуда он знает те законы, из которых он выводит свои заключения об этих вещах? Тогда он скоро будет вынужден сослаться на эмпирическое созерцание, в котором только и является тот реальный мир, откуда почерпнуты названные понятия. А затем остается лишь спросить его, почему он не действует честно и не исходит из данного ему созерцания этого мира: ведь это открыло бы ему возможность на каждом шагу обосновывать им свои утверждения, вместо того чтобы оперировать понятиями, которые выведены из него и потому обладают лишь той значимостью, какую дает им оно. Но фокус нашего архитектора в том именно и заключается, что с помощью таких понятий, в которых, благодаря абстрагированию, мыслится разделенным нераздельное и соединенным несоединимое, он выходит далеко за пределы созерцания, давшего начало этим понятиям, а вместе с тем — и за пределы их применимости, выходит в мир совершенно иной по сравнению с тем, который предоставил ему строительный материал, т. е. в мир небылиц. Я привел здесь в пример Прокла потому, что как раз у него этот прием применяется с беззастенчивой наглостью и оттого особенно ясен; но и у Платона можно встретить подобные же, хотя и менее яркие образцы такого рода, впрочем, ими изобилует вообще вся философская литература всех времен. Литература нашей эпохи тоже богата ими; обратитесь, например, к произведениям школы Шеллинга
69
и взгляните на конструкции, которые возводятся там из таких абстракций, как конечное, бесконечное; бытие, небытие, инобытие; деятельность, препятствие, продукт, определение, определяемость, определенность; граница, ограничение, ограниченность; единство, множественность, многообразие, тождество, различие, безразличие; мышление, бытие, сущность и т. д. Все сказанное относится не только к конструкциям из подобного материала: нет, ввиду того, что посредством таких широких абстракций мыслится бесконечно многое, внутри них может мыслиться лишь чрезвычайно мало; они — пустые оболочки. А вследствие этого материал подобного философствования становится исключительно скудным и жалким, отчего и возникает та невообразимая и мучительная скука, которая свойственна всем таким произведениям. Если бы я захотел напомнить о злоупотреблениях, которые совершали с такими широкими и пустыми абстракциями Гегель и его подмастерья, то, боюсь, читателя бы стошнило, да и меня тоже, ибо от пустословия этих отвратительных горе-философов веет удручающе противной скукой.
То, что и в практической философии из одних абстрактных понятий никакой мудрости не извлечешь на свет Божий, — это единственный поучительный результат, который можно вынести из моральных рассуждений богослова Шлейермахера, который в течение целого ряда лет навевал скуку их чтением в виде лекций в Берлинской академии, а теперь выпустил отдельным изданием. За исходную точку в них принимаются абстрактные понятия, такие, как долг, добродетель, высшее благо, нравственный закон и т. п., без какого-либо разъяснения, точно так же, как они обыкновенно выступают в системах морали и затем трактуются как данные реальности. О них автор весьма разнообразно и изощренно рассуждает, но ни разу не касается вопроса об источнике этих понятий, т. е. самой сути дела, ни разу не касается он и действительной человеческой жизни, к которой между тем эти понятия только и относятся, из которой они должны быть почерпнуты и с которой, собственно, мораль и имеет дело. Вот почему эти диатрибы столь же бесплодны и бесполезны, как и скучны: это имеет немалое значение. Таких людей, как этот слишком охотно философствующий теолог, во все времена постигает одна и та же участь: при жизни они знамениты, а потом их скоро забывают. Я же советую читать тех, которым выпала обратная доля, ибо время коротко и драгоценно.
Если, таким образом, широкие, абстрактные, но в то же время не поддающиеся реализации в созерцании понятия никогда не могут быть источником знания, исходной точкой или действительным материалом философствования, то все же отдельные философские результаты иногда оказываются такими, что их можно мыслить лишь in abstracto и они не поддаются подтверждению созерцанием. Знания такого рода, конечно, будут только полузнаниями: они как бы лишь указывают место, где лежит то, что надо познать, но последнее остается скрытым. Вот почему довольствоваться такими понятиями следует только в самом крайнем случае и там, где мы достигли пределов познания, возможного для наших способностей. Примером таких понятий может служить хотя бы понятие бытия вне времени; таков же тезис: неразрушимость нашего истинного существа в смерти не есть его продолжение. При использова-
70
нии понятий такого рода как бы колеблется та твердая почва, на которой построено все наше познание, т. е. созерцаемое. Поэтому изредка и в случае необходимости философствование может проникать в область такого познания, но никогда не должно им начинаться.
Осужденное выше оперирование широкими абстракциями, совершенно пренебрегающее наглядным познанием, из которого они выведены и которое поэтому служит их постоянным, естественным контролером, — такое оперирование было во все времена главным источником заблуждений догматической философии. Наука, основанная на простом сравнении понятий, т. е. построенная на общих положениях, могла бы быть достоверной лишь в том случае, если бы все ее суждения были синтетическими a priori, как в математике, ибо только подобные суждения не терпят исключений. Если же суждения содержат в себе какой-нибудь эмпирический материал, то его надо всегда сохранять под рукою, для того чтобы проверять им общие положения. Ибо ни одна истина, как-либо почерпнутая из опыта, никогда не бывает безусловно достоверной, и общезначимость таких истин поэтому лишь приблизительна: здесь нет правил без исключений. Если же связывать подобные положения друг с другом на том основании, что сферы значения их понятий входят одна в другую, то очень легко может случиться, что одно понятие будет связано с другим именно там, где находится исключение; а если это произойдет хоть раз на протяжении длинной цепи силлогизмов, то все здание оторвется от своего фундамента и повиснет в воздухе. Если, например, я скажу: «Жвачные не имеют передних резцов» и применю это правило со всеми его последствиями к верблюду, то все окажется ложным, ибо приведенный закон относится лишь к жвачным рогатым.
Сюда же относится и тот прием, который Кант столь
часто порицает и называет мудрствованием: он состоит в том, что одни
понятия подводят под другие и при этом не обращают внимания на их происхождение
и не проверяют, насколько такое подведение является правильным и исчерпывающим;
благодаря этому приему прямым или окольным путем почти всегда можно дойти до
любого результата, который был намечен заранее как цель, и, следовательно,
подобное мудрствование только степенью отличается от настоящей софистики. А
софистика в теоретической области то же, что в практической — крючкотворство. Однако
сам Платон очень часто позволял себе такое мудрствование; а Прокл,
как я уже упомянул, следуя своему образцу, по обыкновению всех подражателей
зашел в этом заблуждении гораздо дальше. И Дионисий Ареопагит, «De divis
n
71
философа Саллюстия «De diis et mundo»[70]*[71], особенно главы 7, 12 и 17. Но истинный шедевр философского мудрствования, прямо переходящего в софистику, представляет собой следующее рассуждение платоника Максима Тирского, которое я, ввиду его краткости, хочу здесь привести. «Всякая несправедливость — похищение блага; нет другого блага, кроме добродетели, а добродетель нельзя похитить, следовательно, невозможно, чтобы добродетельный терпел какую-нибудь несправедливость от злого. Таким образом, остается только одно из двух: либо вообще невозможно, чтобы причинялась несправедливость, либо несправедливость терпит злой от злого. Но злой не обладает никаким благом, ибо только добродетель есть благо, следовательно, у злого нельзя отнять никакого блага; следовательно, и он не может претерпеть несправедливость; следовательно, несправедливость — вещь невозможная». Подлинник, вследствие повторений менее сжатый, звучит так: ’Αδικία ἐστὶν ἀφααίρεσις ἀγαϑοῦ τὸ δἐ ἀγαϑὸν τί ἂν εἲη ἂλλο ἢ ἀρετή ἡ δὲ ἀρετἠ ἀναφαίρετον. Οὐκ ἀδικήσεται τοίνυν ὁ τήν ἀρετὴν ἒχων, ἢ οὒκ ἐστιν ἀδικία ἀφαίρεσις ἀγαϑοῦ οὐδἐν γὰρ ἀγαϑὀν ἀφαίρετον οὐδ’ ἀπόβλητον οὐδ’ ἑλετὸν οὐδἐὲ ληιστόν. Εῖεν οῦν, οὐδ’ ἀδικείται ὀ χρηοτὸς οὐδ’ ὑπὸ τοῦ μοχϑηρού͂ ἀναφαὶρετος γὰρ. Λεὶπεται τοὶνυν ἢ μηδένα ἀδικεῖσϑάι καϑάπαξ ἢ τὸν μοχϑηρὸν ὑπὸ τοῦ ὁμοίου ἀλλά τῷ μοχϑηρῷ οὐδενὸς μέτεστιν ἀγαθού͂ ἡ δὲ ἀδικία ῆν ἀγαϑοῦ ἀφαίρεσις ὁ δὲ μὴ ἒχων ὂ, τι ἀφαιρεϑῆ, οὐδὲ εἰς ὂ, τι ἀδικηϑῆ, ἒχει (Sermo 2). Я приведу еще один современный пример таких доказательств, опирающихся на абстрактные понятия и выдающих явный абсурд за истину, и образец этот я возьму из творений великого мужа Джордано Бруно. В своей книге «Del Infinite, universo e mondi»[72]*[73] (с. 87 изд. А. Вагнера) он вкладывает в уста одного перипатетика (утрируя мысль Аристотеля, I, 5, De coelo) доказательство, что по ту сторону мира не может быть пространства. Мир, дескать, замкнут восьмой сферой Аристотеля, а по ту сторону ее уже не может быть пространства. В самом деле: если бы по ту сторону от нее существовало еще другое тело, то оно было бы или простым, или сложным. А затем с помощью вымученных принципов софистически доказывается, что такое тело не может быть простым, но не может оно быть и сложным, так как последнее должно было бы состоять из тел простых. Следовательно, там нет вообще тела, а значит, там нет и пространства. Ибо пространство определяется, как «то, в чем могут быть тела», а мы только что доказали, что там не может быть тел. Значит, там нет и пространства. В последнем соображении заключается главный нерв этого доказательства, построенного на отвлеченных понятиях. В сущности, оно покоится на том, что суждение «где нет пространства, там не может быть и тел» берется как общеотрицательное, и потому его simpliater*** переворачивают: «где не может быть тел, там нет пространства». Но если внимательно рассмотреть приведенное выше суждение, то оно окажется общеутвердительным и будет гласить: «все непространственное бестелесно», сле-
72
довательно, его нельзя simpliciter
переворачивать. Однако не каждое доказательство
может быть подобным образом сведено к логической ошибке. Ибо софизм не всегда заключается в форме, часто он
коренится в материи, в посылках и
в неопределенности понятий и их объема. Многочисленные
подтверждения этому можно найти у Спинозы, метод которого в том и состоит, чтобы строить доказательства, исходя
из понятий; см., например, жалкие
софизмы в его «Этике», ч. IV, теор. 29—31,
где он пользуется многозначностью шатких понятий — convenire и c
Таким образом, всякое такого рода мудрствование ясно показывает, какие ложные пути подстерегают эту алгебру чистых понятий, которую не контролирует созерцание; отсюда видно также, что созерцание для нашего интеллекта — то же самое, чем для нашего тела является твердая почва, на которой мы стоим: если эту почву покинуть, то все становится instabilis tellus, innabilis unda***[74]. Ради поучительности этих рассуждений и примеров мне простят излишнюю подробность в их изложении. Я хотел этим подчеркнуть и показать великую, до сих пор мало замеченную разницу, даже противоположность между наглядным и абстрактным, или рефлективным, познанием: установление этого различия является существенной чертой моей философии, так как только оно объясняет многие феномены нашей духовной жизни. Связующим звеном между этими двумя столь различными видами познания служит, как я показал в § 14 первого тома, способность суждения. Правда, она действует и в области чисто абстрактного познания, где сравнивает понятия только с понятиями; поэтому каждое суждение, в логическом смысле этого слова, является делом способности суждения, так как здесь более узкое понятие подводится под более широкое. Однако эта деятельность способности суждения, при которой она сравнивает между собой одни только понятия, менее значительна и трудна, чем та ее операция, в силу которой совершается переход от совершенно единичного созерцаемого к существенно общему, к понятию. Так как в первом случае, посредством разложения понятий на их существенные признаки, вопрос об их соединимости или несоединимости должен быть решаем чисто логическим путем, для чего достаточно присущего каждому от рождения простого разума, то способность суждения проявляется здесь только в со-
73
кращенни этого процесса, ибо человек, одаренный этой способностью, быстро обозревает то, к чему другие приходят лишь благодаря целому ряду рефлексий. Но деятельность способности суждения в более узком смысле проявляется лишь тогда, когда возникает необходимость наглядно познанное, т. е. реальное, опыт, перевести в отчетливое, абстрактное знание, подвести под точно соответствующие понятия и таким образом свести к знанию рефлектированному. Следовательно, именно эта способность должна устанавливать прочные основания всех наук, которые всегда состоят из того, что было познано непосредственно и уже ниоткуда не может быть выведено. Здесь, в основных суждениях и заключается поэтому вся трудность наук, а не в умозаключениях из них. Умозаключать легко, судить трудно. Неправильные умозаключения — редкость, неправильные суждения встречаются сплошь и рядом. Точно так же и в практической жизни, при всех серьезных предприятиях и важных решениях, способность суждения играет главную роль, да и судебный приговор в сущности является ее делом. Подобно тому как зажигательное стекло собирает солнечные лучи в узкий фокус, так интеллект, применяя способность суждения, должен столь тесно связать все данные, которые он имеет о каком-нибудь предмете, чтобы охватить их одним взглядом, правильно зафиксировать этот взгляд и затем обдуманно прояснить себе полученный результат. Составить себе о чем-нибудь суждение в большинстве случаев трудно потому, что мы должны идти от следствия к основанию, а этот путь всегда ненадежен; я показал даже, что именно здесь лежит источник всех заблуждений. Тем не менее во всех эмпирических науках, как и в различных обстоятельствах действительной жизни, этот путь по большей части бывает единственным. Эксперимент является уже попыткой пройти этот путь в обратном направлении; оттого он имеет решающее значение и по крайней мере обнаруживает, где ошибка, конечно, при условии, что он правильно избран и проведен добросовестно, а не так, как ньютоновы эксперименты в учении о цветах; но и сам эксперимент, в свою очередь, должен стать предметом суждения. Безусловная достоверность априорных наук, т. е. логики и математики, зиждется главным образом на том, что в них для нас открыт путь от основания к следствию, путь, который всегда надежен. Это и придает им характер чисто объективных наук, т. е. таких, истины которых, если они однажды поняты, непременно вызывают у всех людей одинаковые суждения; это свойство априорных наук тем поразительнее, что как раз они опираются на субъективные формы интеллекта, между тем как науки эмпирические имеют дело только с осязаемо объективным.
Проявлениями способности суждения являются также остроумие и проницательность: в первом случае она имеет характер рефлективный, во втором — субсуммирующий. У большинства людей эта способность существует только номинально; своего рода ирония — причислять ее к нормальным способностям духа: на самом деле она относится к monstris per excessum*[75]. Обыкновенные люди даже в самых мелких житейских обстоятельствах обнаруживают недостаточное доверие к соб-
74
ственному суждению: они по опыту знают, что оно доверия не заслуживает. Его место у них занимают предрассудки и отголоски чужих суждений; поэтому они остаются в состоянии хронического несовершеннолетия, от которого освобождается едва ли один из сотен. Конечно, они этого не сознают, так как даже самих себя обманывают мнимой самостоятельностью суждений, но при этом всегда пытаются подслушать чужие мнения, которые служат для них тайной опорой. В то время как всякому стыдно было бы разгуливать в заемном платье, шляпе или пальто, все они имеют исключительно заемные мнения; с жадностью подхватывают они их всюду, где только можно, и затем чванятся ими, выдавая за собственные. Другие, в свою очередь, занимают мнения у них и поступают точно так же. Этим и объясняется быстрое и широкое распространение ошибок, а также и слава, которой пользуется все дурное; профессиональные поставщики мнений, т. е. журналисты и т. п., обыкновенно предлагают только поддельный товар, подобно тому как лица, отдающие напрокат маскарадные костюмы, снабжают только фальшивыми драгоценностями.
Глава 8*
По поводу теории смешного
Разъясненная в предшествующих главах и особенно выделенная мною противоположность между наглядными и абстрактными представлениями лежит и в основе моей теории смешного; поэтому я выскажу здесь все то, что еще необходимо для уяснения последней, хотя в порядке текста это должно было бы найти себе место гораздо позднее.
Проблема всюду тождественного источника, а тем самым и истинного значения смеха была понята еще Цицероном, который тем не менее тотчас же признал ее неразрешимой (De orat., II, 58). Самая давняя из всех известных мне попыток психологического объяснения смеха сделана Хатчесоном в его «Introduction into moral philosophy». Bk. 1, ch. 1, § 14**. Появившееся несколько позднее анонимное сочинение «Traité des causes physique et morales du rire», 1768***, не лишено некоторой ценности как пояснение предмета. Мнения философов, от Хоума до Канта, пытавшихся объяснить этот своеобразный феномен человеческой природы, собрал Платнер в своей «Антропологии», § 894. Теории смешного Канта и Жан Поля известны. Доказывать их неправильность я считаю излишним, ибо всякий, кто попытается свести к ним конкретные случаи смешного, сейчас же ясно увидит, что для большинства из них эти теории недостаточны.
Согласно моему объяснению, приведенному в первом томе, источником смешного всегда является парадоксальное и оттого неожиданное подведение какого-нибудь предмета под такое понятие, которое в других отношениях с ним разнородно; феномен смешного, следовательно, оз-
75
начает внезапное восприятие несоответствия между таким понятием и реальным объектом, который мыслится в этом понятии, т. е. несовпадения между абстрактным и ‹наглядно› созерцаемым. Чем больше и неожиданнее в понимании смеющегося это несоответствие, тем сильнее оказывается смех. Поэтому во всем, что возбуждает смех, непременно должно быть какое-нибудь понятие и нечто единичное, т. е. такие вещь или случай, которые хотя и могут быть подведены под это понятие и, следовательно, мыслятся в нем, но зато в другом и более важном отношении совсем не подходят к нему, а, напротив, разительно отличаются от всего остального, что мыслится в данном понятии. Если, как это особенно часто бывает при употреблении острот, вместо такого созерцаемого реального момента появляется видовое понятие, подчиненное более высокому или родовому понятию, то оно лишь потому возбуждает смех, что фантазия реализует его, т. е. заменяет его (наглядно) созерцаемым представителем, и таким образом возникает конфликт между мыслимым и созерцаемым. Мало того, чтобы понять этот процесс вполне explicite[76]*[77], все смешное можно свести к умозаключению по первой фигуре с неоспоримой major[78]** и неожиданной, до известной степени построенной на уловке minor*[79], — в результате такого сочетания посылок заключение приобретает характер смешного.
В первом томе я счел излишним пояснять свою теорию примерами, так как всякий может это легко сделать сам, немного подумав над известными ему случаями смешного. Но для того чтобы прийти на помощь и тем читателям, которые, предаваясь умственной лени, решительно не хотят выходить из своего пассивного состояния, я сделаю это сам и в настоящем третьем издании даже увеличу количество примеров, чтобы уже не осталось сомнения в том, что после многочисленных и бесплодных попыток здесь наконец дана истинная теория смешного и окончательно решена проблема, поставленная, но и отвергнутая Цицероном.
Если мы подумаем о том, что для образования угла требуются две встречные линии, которые, будучи продолжены, пересекаются друг с другом, и что, наоборот, касательная задевает круг только в одной точке и в этой точке с ним, собственно, параллельна; и если мы вследствие этого будем питать абстрактное убеждение в невозможности существования угла между окружностью и касательной и если, наконец, несмотря на это, мы видим перед собой на бумаге такой угол, то это легко может вызвать у нас улыбку. Правда, смешное в этом случае крайне слабо; но зато его источник, т. е. несоответствие между мыслимым и созерцаемым, именно здесь виден необыкновенно отчетливо.
В зависимости от того, переходим ли мы, при раскрытии такого несоответствия, от реального, т. е. созерцаемого, к понятию или, наоборот, от понятия к реальному, возникающее в результате смешное бывает или остро́той, или нелепостью, а в более высокой степени, особенно в практической жизни, глупостью, как я это показал в тексте. В качестве
76
примера первого рода, т. е. остроумия, приведем сначала общеизвестный анекдот о гасконце. Король посмеялся над ним, увидев его в суровую зимнюю пору одетым очень легко, по-летнему; гасконец ответил на это королю так: «Если бы Ваше Величество надели то, что я надел, то Вы нашли бы это очень теплым»; когда же его спросили, что же он надел, ответил: «Весь свой гардероб». В этом последнем понятии можно одинаково мыслить как необозримый гардероб короля, так и единственный летний сюртучок бедняги, — но вид этого сюртучка на зябнущем теле очень не гармонирует с понятием гардероба. Публика одного из парижских театров потребовала сыграть «Марсельезу»; когда это не было исполнено, она разразилась громким негодованием и криками, так что, в конце концов, на сцену вышел полицейский комиссар в мундире и заявил, что в театре можно исполнять только то, что значится в афише; в ответ на это раздался чей-то голос: «Et vous, Monsieur, etes-vous aussi sur l’affiche?»[80]* Последовал всеобщий хохот, ибо здесь подведение разнородных вещей под одно понятие было до очевидности ясно и непринужденно. Эпиграмма:
Bav ist der treue Hirt, Von dem die
Bibel sprach:
Wenn seine Herde schlaft, bleibt er allein noch
wach**.
подводит под понятие пастуха, бодрствующего вблизи заснувшего стада, скучного проповедника, который усыпил свою паству и продолжает себе бормотать, в то время как его никто не слушает. Аналогичная надпись на могиле врача: «Здесь лежит он, как герой, а сраженные им лежат вокруг него», — подводит под почетное для героя понятие «почиющего среди сраженных им» врача, который должен спасать чужую жизнь. Очень часто острота заключается в каком-нибудь одном выражении, где есть только намек на то понятие, под которое можно подвести данный случай, но которое совершенно разнородно с ним во всех остальных отношениях. Так, например, в «Ромео и Джульетте» жизнерадостный, но только что смертельно раненный Меркуцио отвечает своим друзьям, которые обещают навестить его на следующий день: «Да, приходите, — вы найдете меня спокойным человеком»; под это понятие здесь подводится мертвый; а по-английски сюда присоединяется еще и игра слов, так как a grave man означает одновременно и серьезного человека, и покойника[81]. Такого же рода — известный анекдот об актере Унцельмане: однажды, после того как в берлинском театре строго запретили всякие импровизации, ему пришлось появиться на сцене верхом; при этом как раз около рампы лошадь стала бросать помет; уже одно это вызвало смех публики, но он еще более усилился, когда Унцельман обратился к лошади: «Что ты делаешь! Разве ты не знаешь, что импровизация нам воспрещена?» Здесь подведение разнородных вещей под одно более общее понятие весьма ясно, и оттого острота вышла чрезвычайно меткой, а вызванный ею эффект смешного — крайне сильным. Сюда же относится газетное сообщение из Галле, появившееся
77
в 1851 г.: «Еврейская шайка мошенников, как мы уже упоминали, опять водворена у нас с должным сопровождением»[82]. Это подведение полицейского конвоя под музыкальный термин очень удачно, хотя и приближается уже к простой игре слов. Напротив, совершенно соответствуют тому роду смешного, о котором здесь идет речь, следующие факты и остроты. Сафир в литературной полемике с актером Анжели характеризует последнего как «великого и духом, и телом Анжели»: здесь из-за известной всему городу тщедушной фигуры актера очевидна подстановка необыкновенно малого под понятие «великого». Тот же Сафир называет арии новой оперы «добрыми старыми знакомыми», т. е. под такое понятие, которое в других случаях служит рекомендацией, подводит именно отрицательное свойство. Точно так же о даме, на благосклонность которой имеют влияние подарки, говорят, что она умеет соединять utile dulci*: этим под понятие правила, которое Гораций советует применять в эстетической области26, подводится нечто морально низменное. Для того чтобы намекнуть на дом терпимости, его называют «скромный приют тихих радостей». Порядочное общество, которое, для того чтобы окончательно опошлиться, изгнало все прямые и, следовательно, резкие выражения и для более мягкого обозначения скандальных или чем-либо шокирующих вещей обыкновенно прибегает к помощи абстрактных понятий; но вследствие этого под такие понятия подводится и то, что более или менее разнородно с ними, и в результате получается, в соответственной степени, эффект смешного. Сюда, таким образом, относятся и приведенное выше utile dulci, и такие выражения: «он имел неприятности на балу» — о человеке, которого избили и выбросили вон; «он слишком увлекся» — о пьяном; «у этой женщины, кажется, бывают минуты слабости» — о женщине, которая наставляет мужу рога, и т. д. Сюда же относятся и двусмысленности, т. е. понятия, которые сами по себе не содержат ничего неприличного, но которые вызывают неприличное представление, когда под них подводят конкретный случай. Они употребляются в обществе очень часто. Но совершеннейший образец выдержанной и великолепной двусмысленности — это несравненная эпитафия «Justice of peace»** Шенстона: в высокопарном и лапидарном стиле она как будто бы говорит о благородных и возвышенных вещах, между тем под каждое из ее понятий может быть подведено нечто совсем другое, и это другое раскрывается только в самом последнем слове, как неожиданный ключ к целому, и читатель с громким смехом убеждается, что он прочел просто грязную двусмысленность. Приводить ее, а в особенности переводить — совершенно недопустимо в наш прилизанный век; ее можно найти, под заглавием «Inscription», в «Poetical works»*** Шенстона. Двусмысленности иногда переходят в простую игру слов, о чем все необходимое сказано в тексте. Лежащее в основе всего смешного подведение под известное понятие чего-нибудь такого, что в одном отношении с ним гетерогенно, но подходит к нему в других отношениях, — это подведение может быть
78
и неумышленным; например, один из свободных негров в Северной Америке, старающихся во всем копировать белых, сочинил своему умершему ребенку эпитафию, которая начиналась так: «О, милая, рано сорванная лилия». Когда же, наоборот, что-нибудь реальное и созерцаемое грубо и преднамеренно подводят под понятие его противоположности, то получается лишь плоская и пошлая ирония; например, при сильном дожде говорят: «Вот сегодня отличная погода!»; про безобразную невесту — «И красотку же нашел он себе!»; про мошенника — «Этот человек чести», и т. п. Только у детей и совсем необразованных людей это может вызывать смех, ибо здесь несовпадение между мыслимым и наглядным — полное. Но именно при таком грубом преувеличении смешного его основной признак, несовпадение между понятием и предметом, выступает весьма явственно.
К этому роду смешного, в силу его преувеличенного и явно преднамеренного характера, в известной степени приближается пародия. Ее прием состоит в том, что она подменяет события и слова какого-нибудь серьезного стихотворения или драмы незначительными, низменными личностями или мелочными поступками и мотивами. Она подводит, таким образом, изображаемые ею плоские реальности под данные в теме высокие понятия, к которым они в известном отношении должны подходить, но которым в других отношениях они не соответствуют, отчего противоречие между созерцаемым и мыслимым выступает очень резко. В общеизвестных примерах здесь недостатка нет; поэтому я приведу лишь один, из «Зобейды» Карло Гоцци, акт 4, сц. 3, где два шута, только что подравшись, мирно лежат друг подле друга, утомленные дракой, — и автор вкладывает им в уста буквальный текст знаменитых стансов Ариосто (Orl. fur. I, 22): «Oh gran bonta de’cavalieri antichi»* и т. д. Такой же характер носит излюбленное в Германии применение серьезных, в особенности шиллеровских стихов к тривиальным случаям; здесь до очевидного ясно подведение гетерогенного под общее понятие, выражаемое стихом. Так, например, если кто-нибудь совершит очень характерный для него поступок, то вряд ли не найдется человек, который скажет: «Тут узнаю своих я паппенгеймцев»27. Но оригинально и весьма остроумно вышло, когда один господин обратился (не знаю, очень ли громко) к только что обвенчанной молодой чете, женская половина которой ему нравилась, — обратился с заключительными стихами шиллеровской баллады «Порука»:
Позвольте,
чтоб в вашем союзе, друзья,
Отныне
был третьим навеки и я!
Эффект смешного здесь силен и неотразим, ибо под те самые понятия, которые у Шиллера рождают в нас представление о нравственной и благородной связи, подводится связь запретная и безнравственная, но подводится вполне правильно и без всякого изменения.
Мы видим, что во всех указанных примерах остроумия под известное понятие или вообще отвлеченную мысль подводится нечто реальное
79
непосредственно или же посредством более узкого понятия; это реальное, строго говоря, подходит под указанное общее понятие, но бесконечно далеко от действительного и первоначального намерения и направления мысли. Вот почему остроумие как духовная способность заключается в одной только легкости, с какой для каждого данного предмета находят некоторое понятие, в котором этот предмет, бесспорно, может мыслиться, хотя он крайне отличен в то же время от всех других предметов, сюда относящихся.
Второй род смешного, как я уже упомянул, движется в противоположном направлении — от абстрактного понятия к мыслимой в нем реальности, или созерцаемому, которое, однако, в каком-нибудь раньше не замеченном отношении не соответствует этому понятию, отчего и получается нелепость, a in praxi* — глупый поступок. Так как поступков, действия требует театральная пьеса, то этот род смешного свойствен комедии. На этом и основывается замечание Вольтера: «J’ai cru remarquer aux spectacles, qu’il ne s’élève presque jamais de ces éclats de rire universels, qu’à l’occasion d’une méprise» (Preface de «L’enfant prodigue»)**[83]. Примерами этого рода смешного могут считаться следующие факты. Однажды некто признался, что он любит гулять один; на это какой-то австриец сказал ему: «Вы любите гулять один, я тоже: так пойдемте вместе». Он исходил из принципа: «Удовольствие, которое любят двое, они могут разделить сообща», — и подвел под него как раз тот случай, когда общность исключается. Слуга смазывает макассаровым маслом облезлую тюленью шкуру на чемодане своего барина, для того чтобы она опять покрылась волосами; он исходит при этом из принципа «от макассарового масла растут волосы». Солдаты в караульной позволяют только что приведенному арестанту принять участие в их карточной игре; но так как он плутует, и в результате возникает перебранка, то они его выталкивают вон; солдаты руководствуются здесь общим принципом «скверных товарищей вон из компании»; но они забывают, что этот товарищ — в то же время арестант, т. е. лицо, которое они обязаны держать под стражей. У двух крестьянских парней ружье было заряжено крупной дробью; они хотели ее вынуть и заменить мелкой, не теряя в то же время пороха. Тогда один вложил дуло ствола в свою шляпу, сжав ее между ног, и сказал другому: «Теперь спускай курок очень, очень медленно — и первой выкатится дробь»; он исходил из принципа «замедление причины влечет за собой замедление действия». Примером может служить, далее, большая часть поступков Дон-Кихота, который под понятия, извлеченные им из рыцарских романов, подводит совершенно отличные от них реальные явления, например, для того чтобы помочь угнетенным, освобождает каторжников. Сюда же относится, собственно, и вся мюнхаузениада; но только тут это не действительные происшествия, а невозможные, выдаваемые слушателю за действительные. Факт тут всегда излагается так, что, взятый in abstracto, т. е. мыслимый сравнительно a priori, он представляется возможным и веро-
80
ятным; но затем, переходя к созерцанию индивидуального случая, т. е. a posteriori, мы убеждаемся в невозможности всего события: перед нами предстает абсурдность самой посылки, и очевидное несоответствие созерцаемого и мыслимого вызывает смех; так это бывает, например, когда нам говорят, что замерзшие в почтовом рожке мелодии оттаяли в теплой комнате, или что Мюнхаузен[84], сидя в суровый мороз на дереве, поднял с земли свой упавший нож замерзшей струей своей мочи, и т. д. Такова же история про двух львов, которые ночью проломали разделявшую их перегородку и в ярости пожрали друг друга, так что утром нашли только два хвоста.
Есть, кроме того, случаи смешного, когда понятие, под которое подводят созерцаемое, не нуждается ни в словесном выражении, ни в ином указании, а само появляется в сознании в силу ассоциации идей. Гаррик, исполняя одну из своих трагических ролей, вдруг разразился смехом: он увидел, что какой-то мясник, стоявший в партере, для того чтобы отереть пот, время от времени надевал свой парик на голову своей большой собаки, которая, опершись передними лапами на партер барьера, разглядывала театр; этот смех был обусловлен тем, что Гаррику пришло в голову понятие собаки-зрителя[85]. Этим же объясняется и то, что вид некоторых животных, например обезьян, кенгуру, кроликов и т. п., иногда возбуждает у нас смех: некоторое сходство с человеком заставляет нас подводить их под понятие человеческого облика; но когда мы исходим затем из этого понятия, мы замечаем все их несоответствие.
Понятия, несоответствие которых созерцанию заставляет нас смеяться, бывают или понятиями другого человека, или нашими собственными. В первом случае мы смеемся над другими, во втором случае нередко испытываем приятное, по крайней мере забавное изумление. Поэтому-то дети и необразованные люди смеются во всяком ничтожном, даже неподходящем случае, если только он является дня них неожиданностью, т. е. проявляет ошибку в заранее составленном ими понятии. Как правило, смех — приятное состояние: нам доставляет радость восприятие несоответствия мыслимого с созерцаемым, т. е. с действительностью, и мы охотно предаемся тому судорожному сотрясению, которое возбуждает это восприятие[86]. Это объясняется следующим. В неожиданно возникающем разладе между созерцаемым и мыслимым правда всегда и несомненно остается за созерцаемым, так как она вообще не подвержена ошибкам, не нуждается во внешнем удостоверении, но представляет себя самою. Его конфликт с мыслимым вытекает в конечном счете из того, что последнее со своими отвлеченными понятиями не может спуститься к беспредельному разнообразию и оттенкам созерцаемого. Эта победа наглядного познания над мышлением радует нас. Ибо созерцание — это изначальный, неотделимый от животной природы способ познания, в котором предстает все, что непосредственно удовлетворяет волю; это среда настоящего, наслаждения и радости, и она к тому же не связана ни с каким усилием. О мышлении надо сказать противоположное: это — вторичная потенция познания, и его осуществление всегда требует некоторого усилия, порою значительного; его понятия часто противостоят удовлетворению наших непосредственных желаний, потому что они, как среда прошедшего, будущего и серьез-
81
ного, служат орудием наших опасений, нашего раскаяния и всяческих забот. Видеть, как этот строгий, неутомимый и несносный гувернер-разум уличается в несостоятельности, — это, конечно, нас очень тешит. Вот почему внешнее выражение смеха очень родственно выражению радости.
Поскольку животное не имеет разума, а значит, общих понятий, оно не способно ни говорить, ни смеяться: речь и смех — преимущества и характерный признак человека. Впрочем, к слову сказать, и единственный друг человека, собака, возвышается над остальными животными аналогичным, ей одной свойственным и характерным актом: это — столь выразительное, благожелательное и глубоко честное помахивание хвостом. Как выгодно отличается это приветствие, созданное самой природой, от реверансов и притворных проявлений вежливости человека, и оно в тысячу раз надежнее — по крайней мере в наше время, — чем людские уверения в искренней преданности и дружбе!
Противоположностью смеха и шутки является серьезное[87]. Оно, таким образом, представляет собой сознание полного согласия и соответствия между понятием, или мыслью, и созерцаемым, или реальностью. Серьезный убежден, что он мыслит вещи такими, каковы они в действительности, и что они таковы, какими он их мыслит. Вот почему переход от глубокой серьезности к смеху особенно легок и может быть вызван какой-нибудь мелочью: чем полнее казалось в глазах серьезного это соответствие, тем скорее рушится оно от неожиданного обнаружения какого-нибудь, хотя бы и мелкого несоответствия. Поэтому чем более способен человек к истинной серьезности, тем сердечнее может он смеяться. Люди, у которых смех всегда выходит аффектированным и принужденным, не глубоки в умственном и нравственном отношениях; вообще, манера смеяться и, с другой стороны, поводы к нему очень важны для характеристики человека. Если половые отношения дают самый легкий, всегда находящийся под руками, готовый и доступный даже очень слабому остроумию материал для шуток, как это показывает обилие непристойностей, то это объясняется именно тем, что в их основе лежит нечто глубоко серьезное.
Нас больно оскорбляет чужой смех по поводу наших поступков или слов потому, что он указывает на значительное несоответствие между нашими понятиями и объективной реальностью. Этим же объясняется и то, что предикат «смешной» обиден. Неподдельный язвительный смех злорадно возвещает разбитому противнику, как далеки были понятия, которых он придерживался, от действительности, которая теперь стала для него явной. Наш собственный горький смех, когда нам открывается ужасная истина, которая показывает обманчивость наших заветных надежд, является живым выражением сделанного нами открытия, что мысли, которые мы питали в своем глупом доверии к людям и судьбе, не соответствуют разоблаченной действительности.
Преднамеренно смешное — это шутка: она стремится вызвать разрыв между понятиями другого человека и реальностью, сдвинув какой-нибудь один из этих двух моментов; между тем как ее противоположность, серьезное, состоит — по крайней мере по своему замыслу — в точном соответствии обоих моментов друг другу. Если шутка
82
прячется за серьезное, то получается ирония, например, когда мы с деланной серьезностью выслушиваем чужие мнения, противоположные нашим, и притворно разделяем их, пока, наконец, результат не сбивает с толку нашего собеседника и в отношении нас самих, и в отношении его собственных мнений. Так обходился Сократ с Гиппием, Протагором, Горгием и другими софистами, да и вообще со многими собеседниками. Противоположностью иронии было бы тогда серьезное, спрятанное за шуткой, т. е. юмор. Его можно назвать двойным контрапунктом иронии. Объяснения вроде того, что «юмор есть взаимопроникновение конечного и бесконечного»28, служат только доказательством полнейшей неспособности к мышлению тех, кто может довольствоваться такой пустой риторикой. Ирония объективна, т. е. рассчитана на других; юмор субъективен, т. е. прежде всего существует для нашего собственного я. В силу этого шедевры иронии принадлежат древним, шедевры юмора — новым. Ибо, если вникнуть глубже, юмор коренится в субъективном, но серьезном и возвышенном настроении, которое непроизвольно вступает в конфликт с гетерогенным ему, низким внешним миром: от него оно не может уклониться, но не может оно и поступиться собой, — вот почему оно пытается найти опосредующее звено в том, что мыслит свои собственные воззрения и внешний мир в одних и тех же понятиях, которые вследствие этого оказываются вдвойне несоответствующими мыслимой в них реальности — то на одной стороне, то на другой; в результате и возникает впечатление преднамеренно смешного, т. е. шутки, сквозь которую, однако, просвечивает скрытая в ней глубокая серьезность. Если ирония начинается серьезным выражением лица, а кончается смехом, то с юмором все наоборот. Примером юмора могут служить приведенные уже слова Меркуцио. То же и в «Гамлете»:
Полоний. Досточтимый принц, прошу разрешения удалиться.
Гамлет. Не мог бы вам дать ничего, сударь, с чем расстался бы охотней. Кроме моей жизни, кроме моей жизни, кроме моей жизни29.
Там же, перед началом придворного спектакля, Гамлет обращается к Офелии: «Впрочем, что и остается, как не веселиться? Взгляните, какой радостный вид у моей матери, а всего два часа, как умер мой отец».
Офелия. Нет, принц, полных два месяца.
Гамлет. Как! Так много? Ну, тогда к дьяволу траур! Буду ходить в соболях30.
Так и в «Титане» Жан Поля: предавшись глубокомыслию и погрузившись в самоанализ, Шоппе часто взглядывает на свои руки и говорит самому себе: «Здесь присутствует собственной персоной какой-то господин и я в нем, — но кто же это?» Истинным юмористом является Генрих Гейне в своем «Романцеро»: за всеми его выходками и шутками мы замечаем глубокую серьезность, которая из стыдливости не выступает без покрова. Итак, юмор вытекает из особого настроения, которое по-немецки называют Laune* (вероятно, от Luna); под этим понятием, со всеми его модификациями, разумеют сильный перевес субъективного над объективным в восприятии внешнего мира. Да и всякое поэтическое или художественное изображение любой комической сцены и даже фар-
83
са, где на втором плане все-таки просвечивает серьезная мысль, является продуктом юмора, т. е. юмористично. Сюда же относится и картина Тишбейна: она изображает совершенно пустую комнату, освещенную только пламенем камина; перед ним стоит человек в жилете так, что тень от его фигуры, начинаясь у его ног, простирается на всю комнату. «Это, — комментирует Тишбейн, — человек, которому ничего в мире не удалось и который ничего не достиг: теперь он рад, что может хотя бы отбрасывать такую большую тень». Но если бы мне надо было выразить ту серьезную мысль, которая скрыта в этой шутке, то я лучше всего мог бы это сделать посредством следующих стихов, заимствованных из персидского стихотворения Анвари «Сохейли»:
Если
ты утратишь целый мир,
Не
горюй: это — ничего.
Если
ты обретешь целый мир,
Не
ликуй: это — ничего.
Мимо
пройдут скорби и радости,
Пройди,
минуя мир: это — ничего31.
То, что в современной немецкой литературе слово «юмористическое» сплошь да рядом употребляется в значении «комического» вообще, — это вытекает из жалкой страсти давать вещам более пышные имена, чем им подобает, т. е. имена стоящего над ними класса: так, всякая гостиница именует себя отелем, всякий меняла — банкиром, всякий манеж — цирком, всякий оркестр — музыкальной академией, купеческая контора — бюро, горшечник — ваятелем, а потому и всякий шут — юмористом. Слово юмор заимствовано у англичан для того, чтобы выделить и обозначить впервые у них подмеченный, совершенно своеобразный и даже, как я выше показал, родственный возвышенному вид смешного, а вовсе не для того, чтобы величать им каждое шутовство и каждую клоунскую выходку, как это делают теперь в Германии все литераторы и ученые, не встречая никакого сопротивления. Ибо истинное понятие этой разновидности, этого состояния духа, этого детища смешного и возвышенного было бы слишком тонко и недоступно для их публики, а для того чтобы ей угодить, они усердно опошляют и вульгаризируют все. Ну, в добрый час! «Возвышенные слова и низменный смысл» — таков вообще девиз благородной современности: вот почему в наши дни называют юмористом того, кто прежде звался шутом.
Глава 9*
По поводу логики вообще
Логика, диалектика и риторика взаимосвязаны, потому что они в совокупности составляют технику разума; под этим названием их и следовало бы вместе преподавать — логику как технику собственно мышления, диалектику как технику диспута с другим[88] и риторику как технику
84
речи, обращенной ко многим (condonatio), — соответственно единственному, двойственному и множественному числам, как и монологу, диалогу и панегирику.
Под диалектикой я, в согласии с Аристотелем (Metaph. Ill, 2, et Analyt. post. I, 11), понимаю искусство беседы, имеющей своей целью совместное исследование истины, истины философской. Впрочем, такая беседа неизбежно переходит, в большей или меньшей степени, в разногласие; вот почему диалектику можно определить и как искусство диспута. Примеры и образцы диалектики предоставляют нам диалоги Платона; но для подлинной теории ее, т. е. для техники диспута, эристики[89], до сих пор сделано очень мало. Я предпринял попытку в этом направлении и дал образчик ее во втором томе «Парерг»; поэтому здесь я вовсе не буду касаться этой науки.
В риторике риторические фигуры являются примерно тем же, чем в логике являются фигуры силлогизма; но во всяком случае они заслуживают рассмотрения. По-видимому, во время Аристотеля они еще не были предметом теоретического исследования, ибо ни в одной из своих риторик он не говорит о них, и мы в этом отношении должны опираться на Рутилия Лупа, эпитоматора какого-то позднейшего Горгия32.
Все три науки имеют между собой то общее, что мы, не изучая их, все же следуем их правилам; мало того, последние сами только абстрагируются из этой естественной практики. Вот почему, будучи очень интересными теоретически, они в практическом отношении мало полезны: отчасти потому, что они дают само правило, но не частный случай его применения; отчасти потому, что при осуществлении практики у нас обычно нет времени припоминать правила. Они, таким образом, учат лишь тому, что каждый и без того уже сам знает и делает; тем не менее отвлеченное знание об этом интересно и важно[90]. Практическую пользу — по крайней мере для нашего собственного мышления — логика едва ли приносит. Ведь ошибки нашего собственного рассуждения почти никогда не коренятся в умозаключениях или в форме, но почти всегда — в самих суждениях, т. е. в материи мышления. Напротив, при разногласии с другими мы можем иногда извлекать из логики и практическую пользу, а именно благодаря ей мы в состоянии свести к строгой форме правильных умозаключений обманчивую аргументацию противника, к которой он прибегает с более или менее сознательной преднамеренностью и которую преподносит нам под изукрашенной пеленою гладкой речи, — и тем самым уличить его в логических ошибках, например в простом обращении общеутвердительных суждений, в умозаключениях с учетверением терминов, в умозаключениях от следствия к основанию, в умозаключениях по второй фигуре из одних только утвердительных посылок и т. п.
Мне кажется, что учение о законах мышления можно было бы упростить, если принять только два из них, а именно закон исключенного третьего и закон достаточного основания. Первый должен был бы гласить: «За всяким субъектом один и тот же предикат можно или признавать, или отрицать». Уже в самом этом «или—или» заключается указание, что нельзя одновременно делать и то и другое, т. е. указание именно на то, о чем говорят законы тождества и противоречия; послед-
85
ние, таким образом, могли бы служить короллариями[91] названного закона, который, в сущности, гласит, что любые две сферы понятий можно мыслить либо объединенными, либо разделенными, но никогда нельзя их мыслить и объединенными и разделенными одновременно, и что, следовательно, там, где мы встречаем связь слов, выражающих такое, эти слова обозначают невыполнимый процесс мышления: понимание этой невыполнимости есть чувство противоречия[92].
Второй закон мышления — закон основания — должен был бы гласить, что указанное выше приписывание или отрицание предиката должно определяться чем-то таким, что от самого суждения отлично и что может быть созерцанием (чистым или эмпирическим) или же просто другим суждением, — и это другое и отличное называется тогда основанием суждения. Если суждение удовлетворяет первому закону мышления, оно мыслимо; если оно удовлетворяет второму закону, оно истинно — по крайней мере логически, или формально истинно, — если основанием суждения является опять-таки только суждение[93]. Материальная же или абсолютная истина[94] — это в конечном счете всегда только отношение между каким-нибудь суждением и каким-нибудь созерцанием, т. е. между абстрактным и наглядным представлением. Это отношение либо непосредственно, либо опосредовано другими суждениями, т. е. другими абстрактными представлениями. Отсюда легко понять, что никогда одна истина не может опровергать другой, а все они в конце концов должны согласовываться между собой, так как в сфере наглядного, их общей основе, не может быть противоречия. Вот почему одной истине нечего бояться другой. Наоборот, обман и ошибка должны трепетать перед всякой истиной, потому что в силу логического сцепления всех истин даже самая отдаленная когда-нибудь затронет любую ошибку. Этот второй закон мышления составляет, таким образом, точку соединения логики с тем, что уже не логика, но материал мышления. Следовательно, согласованность понятий, т. е. абстрактных представлений, с тем, что дано в наглядном представлении, — вот что со стороны объекта является истиной, а со стороны субъекта — знанием.
Выражать указанные выше соединенность или разделенность двух сфер понятий — в этом назначение связки «есть — не есть». Благодаря ей каждый глагол может быть выражен посредством своего причастия. Поэтому всякое суждение состоит в употреблении глагола, и наоборот. Таким образом, связка означает, что вместе с субъектом надо мыслить и предикат, больше ничего. Теперь подумайте, к чему сводится содержание неопределенного наклонения связки «быть». Между тем последнее служит главной темой профессорской философии наших дней33. Впрочем, не следует понимать этих профессоров столь буквально: большинство из них желает тем самым обозначить не что иное, как существование материальных вещей, мира тел, которому они, как совершенно невинные реалисты, в глубине своей души приписывают высшую реальность. Говорить же просто о телах, без обиняков, кажется им слишком вульгарным; вот почему они и говорят: «бытие», что звучит гораздо торжественнее, — и думают в это время о стоящих перед ними столах и стульях.
«Ибо, потому что, почему, потому, итак, так как, хотя, правда (zwar), все-таки, но, если —то, или — или» и т. п. — все это, собственно,
86
логические частицы, так как единственное их назначение — выражать формальный элемент в процессах мышления. Они составляют поэтому драгоценное достояние языка и не всем языкам свойственны в одинаковом количестве. Например, zwar (сокращенное «es ist wahr»[95]*), по-видимому, является принадлежностью исключительно немецкого языка[96]; оно всегда соотносится со следующим или подразумеваемым но, так же как если — с то.
Логическое правило, в силу которого единичными по количеству суждениями, т. е. имеющими своим субъектом единичное понятие (notio singularis), следует оперировать так же, как и общими суждениями, — это правило основано на том, что они в действительности — общие суждения, с той лишь особенностью, что их субъектом служит понятие, которое может быть подтверждено только одним реальным объектом и, следовательно, его содержание охватывает собой только один объект: например, если понятие обозначено собственным именем. Но с этой особенностью надо считаться, собственно, лишь тогда, когда мы спускаемся от абстрактного представления к наглядному, т. е. когда мы желаем реализовать понятия; в самом же мышлении, при оперировании суждениями, отсюда не возникает никакого различия, потому что нет логического различия между единичными и общими понятиями: «Иммануил Кант» логически значит — «все Иммануилы Канты»[97]. Таким образом, по количеству суждения бывают, собственно, лишь двоякими: они — или общие, или частные. Единичное представление вообще не может быть субъектом суждения, ибо оно не абстракция, не мыслимое, но созерцаемое, между тем как всякое понятие по своему существу общо и каждое суждение должно иметь субъектом понятие[98].
Отличие частных суждений (propositiones particulares) от общих нередко основано только на том внешнем и случайном обстоятельстве, что в языке нет особого слова, которое могло бы выразить выделяемую часть общего понятия, служащую субъектом подобного суждения[99]; когда же такое слово имеется, частное суждение иногда становится общим. Например, частное суждение «на некоторых деревьях растут чернильные орехи» становится общим, потому что для этого ответвления понятия дерево мы имеем особое слово: «на всех дубах растут чернильные орехи». В таком же отношении находится суждение «некоторые люди черны» к суждению «все мавры черны»[100].
Или же указанное отличие частных суждений от общих основывается на том, что в голове высказывающего суждение человека понятие, которое он делает субъектом частного суждения, не отделилось отчетливо от общего понятия как обозначаемая им часть; иначе вместо частного суждения он мог бы высказать общее, например, вместо суждения «некоторые жвачные животные имеют верхние резцы», он высказал бы такое суждение: «все нерогатые жвачные имеют верхние резцы».
Гипотетическое и разделительное суждения выражают отношение двух (в разделительном суждении также нескольких) категорических суждений друг к другу. Гипотетическое суждение означает, что от истинности первого из связанных здесь категорических суждений зависит истинность второго, и от неистинности второго — неистинность перво-
87
го, т. е. эти два суждения, с точки зрения истинности и неистинности, находятся между собой в прямой связи. Разделительное же суждение означает, что от истинности одного из связанных здесь категорических суждений зависит неистинность остальных, и наоборот, т. е. что эти два положения с точки зрения истинности и неистинности находятся в отношении противоречия. Вопрос — это суждение, в котором остается неизвестной одна из трех его частей, т. е. либо связка: «римлянин Кай или нет?», либо сказуемое: «Кай — римлянин или что-нибудь другое?», либо подлежащее: «Кай ли римлянин или кто-то другой?» Место неизвестного понятия может оставаться и совершенно незанятым, например: «что такое Кай?», «кто — римлянин?» Аристотелевская ἐπαγωγή (inductio)* есть противоположность ἀπαγωγή**[101]. Последняя доказывает ложность известного положения, указывая на то, что выводы, которые можно из него сделать, не соответствуют истине, т. е. она действует посредством instantia in contrarium***.
Напротив, ἐπαγωγή доказывает истинность известного положения, указывая на то, что выводы, которые можно из него сделать, соответствуют истине[102]. Она, таким образом, склоняет примерами к известному допущению[103], между тем как ἀπαγωγή таким же путем отклоняет от него[104]. Следовательно, ἐπαγωγή, или индукция, представляет собой заключение от следствий к основанию, и притом modo ponente34, ибо она из многих случаев выводит закон, следствиями которого, в свою очередь, являются эти случаи. Именно поэтому она никогда не бывает безусловно достоверной, и в лучшем случае обеспечивает только очень большую вероятность[105]. Тем не менее эта формальная недостоверность, благодаря перечислению множества следствий, может оставить место для достоверности материальной, подобно тому как в математике иррациональные отношения, благодаря десятичным дробям, бесконечно приближаются к рациональности. Наоборот, ἀπαγωγή — это прежде всего заключение от основания к следствиям, но она действует уже потом, modo tollente35, доказывая несуществование необходимого следствия и тем опровергая истинность предположенного основания. Вот почему она всегда достоверна и одним достоверным примером in contrarium дает для устанавливаемого положения больше, чем индукция своими бесчисленными примерами. Настолько легче оспаривать, чем доказывать, опровергать, чем устанавливать[106].
Глава 10
По поводу силлогистики
Хотя очень трудно высказать новый и правильный взгляд на такой предмет, который в течение более чем двух тысяч лет обсуждался бесчисленным количеством людей и который, сверх того, не обогащается новыми данными опыта, я все-таки решаюсь предложить мыслителям для проверки нижеследующую попытку.
88
Умозаключение это такая операция нашего разума, благодаря которой из двух суждений, путем их сравнения, возникает третье, без помощи какого бы то ни было другого познания. Условием для этого является то, что два таких суждения имеют одно общее понятие: иначе они были бы совершенно чужды друг другу и не имели бы ничего общего. А при соблюдении этого условия они становятся отцом и матерью ребенка, который имеет в себе что-то от каждого из них. И эта операция — акт не произвола, но разума, который, углубившись в рассмотрение таких суждений, совершает его самостоятельно, по собственным законам; поэтому данный акт объективен, а не субъективен и подчинен самым строгим правилам.
Попутно возникает вопрос: узнает ли благодаря новому суждению тот, кто делает умозаключение, действительно что-нибудь новое, ранее ему неизвестное? Не полностью, но лишь в определенной степени. То, что он узнает, заключалось в том, что он знал, следовательно, он уже знал это прежде. Но он не знал, что он это знал: так бывает, когда мы что-нибудь имеем, не зная этого, что равносильно тому, как если бы мы вовсе этого не имели. Другими словами: прежде он знал это лишь implicite[107]*, теперь же он знает это explicite[108]**; a это различие может быть так велико, что заключительное суждение покажется ему новой истиной[109].
Например:
Все алмазы суть камни.
Все алмазы горючи.
Следовательно, некоторые камни горючи.
Сущность силлогизма, таким образом, состоит в следующем: мы получаем ясное сознание того, что сказанное в заключении уже было мыслимо нами в посылках; силлогизм, следовательно, является для нас средством для уяснения наших собственных знаний, для того чтобы мы лучше узнали или осознали то, что мы знаем. То знание, которое дано в заключении, было скрыто и поэтому так же мало действовало на нас, как мало влияет скрытая теплота на термометр. У кого есть соль, у того есть и хлор; но это все равно, как если бы он вовсе не имел последнего, ибо соль только в том случае может действовать как хлор, когда она подвержена химическому разложению, и, следовательно, только в этом случае у нас действительно есть хлор[110]. Таково же и приобретение, какое мы получаем в простом умозаключении из посылок, уже нам известных: благодаря ему освобождается знание, до сих пор связанное и скрытое. Такое сравнение может показаться несколько преувеличенным, но это не так. Действительно, в силу того что много заключений, вытекающих из наших знаний, мы делаем очень легко, очень быстро и без формальностей, вследствие чего у нас не остается о них ясного воспоминания, — в силу этого нам и кажется, что у нас вовсе не хранились, в течение продолжительного времени, без употребления посылки для возможных заключений, и что для всех посылок, лежащих в области нашего знания, мы уже имели наготове и заключения. Но это не всегда бывает так: напротив, в одной голове две посылки могут долго существовать изоли-
89
рованно, пока, наконец, какой-нибудь случай не сведет их вместе, и тогда сразу появляется заключение, подобно искре, которая вылетает из стали и камня лишь после того, как они ударятся друг о друга. На самом деле воспринятые извне посылки[111] — как теоретических взглядов, так и мотивов, влекущих за собой определенные решения, — нередко подолгу находятся в нас и, отчасти в силу неотчетливых и даже невысказанных актов мысли, сливаются с остальным запасом наших знаний, перемешиваются и перетасовываются, пока, наконец, надлежащая большая посылка не встречается с надлежащей меньшей: тогда они принимают должное положение относительно друг друга, и сразу возникает заключение, как внезапно осенивший свет, без нашего содействия, словно какое-то наитие, и мы не понимаем тогда, как мы и другие могли столь долго не знать этого. Конечно, в удачно организованной голове этот процесс совершается быстрее и легче, чем в обыкновенной, и именно потому, что он происходит спонтанно и даже без четкого осознания, ему нельзя научиться[112]. Поэтому Гете говорит:
Легко
ли было, скажет нам,
Кто
сам придумал и сделал сам36.
Изображенный процесс мысли можно сравнить с висячими замками, которые состоят из колец с буквами: когда их подвешивают к чемодану в экипаже, кольца перемещаются в тряске до тех пор, пока буквы не составят нужного слова и замок не откроется. Впрочем, надо иметь в виду, что силлогизм заключается в самом течении мыслей; слова же и предложения, в которых он выражается, только отмечают оставшиеся после него следы: они относятся к нему, как звуковые фигуры из песка относятся к тонам, вибрации которых они изображают37. Желая что-нибудь обдумать, мы собираем воедино все имеющиеся у нас данные; они срастаются в суждения, которые начинают быстро притираться друг к другу, подвергаются сравнению между собой, и в результате с помощью всех трех силлогистических фигур мгновенно осаждаются возможные из них заключения; причем, однако, ввиду быстроты этих операций, мы употребляем мало слов, а иногда и вовсе не употребляем их, и только заключение высказываем в полной форме. Вот почему иногда, когда на этом пути или же на пути созерцания, благодаря счастливому apperçu*, нам случится осознать какую-нибудь новую истину, мы ищем для нее, как для заключения, посылки, т. е. стремимся найти для нее доказательство: ибо сами знания обычно появляются у нас раньше, чем их доказательства. Мы перебираем тогда весь запас наших знаний, — не найдется ли там какая-нибудь истина, в которой implicite уже заключена истина вновь открытая, или не найдутся ли два таких суждения, из правильного сопоставления которых можно было бы получить ее как результат[113].
Напротив, всякий судебный процесс являет нам образец самого формального и великолепного силлогизма — по первой фигуре. Гражданский или уголовный проступок, из-за которого возбуждено дело,
90
это меньшая посылка: ее устанавливает обвинитель; закон служит здесь большей посылкой; приговор — заключение, которое поэтому, как необходимое, судья только «познает».
А теперь я постараюсь дать самое простое и правильное описание действительного механизма умозаключения.
Процесс суждения, эта основная и самая важная операция мысли, состоит в сравнении двух понятий; процесс умозаключения состоит в сравнении двух суждений. Между тем в учебниках обычно и умозаключения тоже сводят к сравнению понятий, хотя и трех, на том основании, что из отношения, в которых два из этих понятий находятся к третьему, познается то отношение, в котором они находятся друг к другу. Такому взгляду тоже нельзя отказать в истинности, а так как он сверх того дает еще повод к наглядному изображению силлогистических отношений посредством начертания сфер понятий, — изображению, которое и я одобрил в тексте своего сочинения, — то он обладает тем преимуществом, что позволяет легко понять все дело. Но мне кажется все-таки, что здесь, как и во многих других случаях, удобопонятность приобретается в ущерб основательности. Таким способом нельзя познать того действительного процесса мысли, который совершается при умозаключении, — процесса, точно связанного с тремя силлогистическими фигурами и их необходимостью. Умозаключая, мы оперируем не просто понятиями, а целыми суждениями, для которых весьма существенны и качество, заключающееся только в связке, а не в понятиях, и количество, и сверх того еще модальность. Взгляд на умозаключение, как на соотнесение трех понятий, грешит тем, что он разлагает суждение на его последние элементы (понятия), причем утрачивается соединительное звено этих элементов и то своеобразие, которое присуще суждениям как таковым в их цельности, — именно то, что влечет за собой необходимость следующего из них вывода, как раз это теряется из виду. Подобный взгляд на умозаключение представляет собой ошибку, аналогичную той, какую делала бы органическая[114] химия, если бы в своем анализе растений прямо разлагала их на последние элементы: из всех растений она добывала бы углерод, водород и кислород, но специфические различия их утрачивались бы, — те различия, для получения которых необходимо остановиться в своем анализе на ближайших элементах, так называемых алкалоидах, и следить за тем, чтобы не подвергнуть немедленному разложению и их.
Из трех данных понятий нельзя еще вывести никакого заключения. И мы, естественно, говорим: для этого должно быть еще дано отношение двух из этих понятий к третьему. А выражением этого отношения именно и служат суждения, связующие эти понятия: следовательно, материалом силлогизма являются суждения, а не простые понятия. Поэтому умозаключение по существу своему есть сравнение двух суждений с суждениями, с мыслями, которые они выражают, а не просто с тремя понятиями совершается в нашей голове процесс мысли, даже если он не полно или же вовсе не выражен в словах; именно как таковой, как сопоставление целостных нерасчлененных суждений надо рассматривать этот процесс, для того чтобы понять подлинную технику умозаключения, — и тогда прояснится необходимость трех действительно соответствующих разуму силлогистических фигур[115].
91
Подобно тому как при изображении силлогистики в сферах понятий мы представляем их себе в форме кругов, так при изображении ее в целостных суждениях можно представлять себе последние в форме палочек[116], которые, в целях сравнения, приставляются одна к другой то одним, то другим концом: различные комбинации, возможные при этом, и дают три фигуры. А так как всякая посылка содержит в себе свой субъект и свой предикат[117], то их, эти два понятия, надо представлять себе в виде обоих концов каждой палочки. И вот оба суждения сравниваются между собой по отношению к тем понятиям, которые в них обоих различны, ибо третье понятие, как я уже упомянул, должно быть в них обоих одним и тем же; поэтому оно само не подлежит сравнению, а составляет именно то, с чем, т. е. по отношению к чему, сравниваются оба другие понятия, — оно и есть средний термин. Последний, таким образом, всегда есть в силлогизме только средство, а не главное. Предметом же размышления являются оба разных понятия[118], и выяснить посредством суждений, в которых они, эти понятия, содержатся, их взаимное отношение, — в этом состоит цель силлогизма; вот почему в выводе говорится лишь о них, а не о среднем термине, — он был простым средством, масштабом, который отбрасывают, как только он отслужил свою службу. Если это тождественное в обоих предложениях понятие, т. е. средний термин, является в одной посылке ее субъектом[119], то ее предикатом должно быть понятие, подлежащее сравнению, и наоборот. И здесь сразу же a priori выявляется возможность трех случаев: либо субъект одной посылки сравнивается с предикатом другой; либо субъект одной посылки сравнивается с субъектом другой; либо, наконец, предикат одной посылки сравнивается с предикатом другой. Отсюда вытекают три аристотелевские фигуры силлогизма; четвертая же, с некоторой дерзостью присоединяемая сюда, неподлинна и самозванна (ее приписывают Галену, но это мнение опирается только на показания арабских авторитетов). Каждая из трех фигур представляет собой совершенно особый, правильный и естественный ход мыслей разума при умозаключении.
Если в двух сравниваемых суждениях цель сравнения — найти отношение между предикатом одного и субъектом другого, то возникает первая фигура. Только она имеет то преимущество, что понятия, которые в заключении служат субъектом и предикатом, оба выступают в этом самом качестве уже и в посылках, — между тем как в двух других фигурах одно из них всегда должно в заключении переменить свою роль. Но зато в первой фигуре результат всегда дает меньше нового и поразительного, чем в обеих других. Указанное преимущество первой фигуры обусловливается тем, что предикат большей посылки сравнивают с субъектом меньшей, но не наоборот: это очень существенно и ведет к тому, что средний термин занимает оба разноименных места, т. е. в большей посылке является субъектом, а в меньшей — предикатом; отсюда опять-таки видна его подчиненная роль в силлогизме: он фигурирует только в качестве гири, которую можно произвольно перекладывать с одной чаши весов на другую. Ход мысли в этой фигуре состоит в том, что субъекту меньшей посылки достается предикат большей, так как субъект большей служит собственным предикатом субъекта меньшей, или, в отрицательном модусе, на том же основании происходит обрат-
92
ное. Здесь, таким образом, вещам, которые мыслятся в известном понятии, приписывается данное свойство в силу того, что оно принадлежит другому свойству, которое мы уже знаем в этих вещах, или наоборот. Вот почему руководящим принципом здесь служит: nota notac est nota rei ipsius, et repugnans notae repugnat rei ipsi*.
Если же мы сравниваем два суждения с целью вывести то отношение, в котором находятся между собой субъекты обоих, то в качестве их общего мерила мы должны брать их предикат: поэтому он становится средним термином и, следовательно, должен быть одним и тем же в обоих случаях. Отсюда возникает вторая фигура. Здесь отношение двух субъектов друг к другу определяется тем отношением, в котором они находятся к одному и тому же предикату. А это отношение может приобрести значение только в силу того, что один и тот же предикат приписывается одному субъекту и отрицается в другом, вследствие чего он и становится существенным основанием различия между ними. В самом деле: если бы он приписывался обоим субъектам, то это не могло бы иметь решающего значения для определения их взаимного отношения, ибо почти всякий предикат подходит к бесчисленным субъектам[120]. Еще меньше имело бы значения, если бы в этом предикате обоим субъектам отказывали. Отсюда и вытекает основной признак второй фигуры, а именно то, что обе посылки должны быть по своему качеству противоположны: одна должна быть утвердительного характера, другая — отрицательного. Вот почему главное правило здесь такое: sit altera negans**; его королларий такой: e mens affirmativis nihil sequitur***, — правило, против которого нередко грешат в шаткой, прикрытой многими вводными предложениями аргументации. Из сказанного отчетливо проясняется тот ход мысли, который представляет данная фигура: это — изучение двух видов вещей с целью различить их, т. е. установить, что они неоднородны; а обнаруживается это здесь из того, что для одного рода существенно свойство, которое отсутствует у другого[121]. То, что этот ход мысли сам собой облекается во вторую фигуру и только в ней получает четкое выражение, видно на следующем примере:
Все рыбы холоднокровны.
Ни один кит не холоднокровен.
Следовательно, кит не рыба.
Наоборот, если выразить эту же мысль по первой фигуре, то она предстанет вялой, натянутой и даже как бы сшитой из лоскутков:
Ничто холоднокровное не кит.
Все рыбы холоднокровны.
Следовательно, ни одна рыба не кит.
И, значит, ни один кит не рыба.
Приведем еще пример с утвердительной меньшей посылкой:
Ни один магометанин не еврей.
Некоторые турки — евреи[122].
Следовательно, некоторые турки — не магометане.
93
Руководящим принципом для этой фигуры я устанавливаю, таким образом, следующий: для модусов с отрицательной меньшей посылкой — cui repugnat nota, etiam repugnat notatum*; a для модусов с утвердительной меньшей посылкой — notato repugnat id cui nota repugnat**. Соединенные вместе, эти принципы могут быть выражены так: два субъекта, находящиеся в противоположном отношении к одному предикату, сами находятся между собой в отрицательном отношении.
Третий случай — тот, когда мы сопоставляем два суждения для
того, чтобы исследовать отношение их предикатов; отсюда возникает третья
фигура, в которой поэтому средний термин выступает в обеих посылках в качестве
субъекта. Он и здесь является tertium c
Некоторые животные умеют говорить.
Все животные неразумны.
Следовательно, некоторые неразумные существа умеют говорить.
По Канту («Ложное мудрствование», § 440), это заключение лишь потому имеет характер вывода, что мысленно мы добавляем: «следовательно, некоторые неразумные существа суть животные». Но это, кажется, здесь совершенно излишне и вовсе не отвечает естественному течению мысли. А для того чтобы этот мысленный процесс выполнить прямо, посредством первой фигуры, я должен был бы сказать:
Все животные неразумны.
Некоторые существа, умеющие говорить, суть животные, — что, очевидно, не является естественным ходом мысли; мало того, вытекающее отсюда заключение «некоторые существа, умеющие говорить, неразумны» надо обратить, для того чтобы получить то заключение, которое третья фигура дает сама собой и которого добивался весь ход мысли.
Возьмем еще один пример:
Все щелочные металлы не тонут в воде.
Все щелочные металлы суть металлы.
Следовательно, некоторые металлы не тонут в воде.
94
При переведении этого силлогизма в первую фигуру меньшая посылка должна быть обращена, и она будет гласить тогда: «некоторые металлы щелочные металлы», т. е. выразить лишь то, что некоторые металлы находятся в сфере понятия «щелочные металлы», другими словами, она представит такую схему:
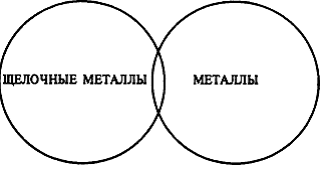
тогда как наше действительное знание состоит в том, что все щелочные металлы находятся в сфере понятия «металлы», т. е. представляет такую схему:
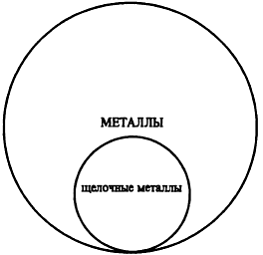
Следовательно, если признать, что первая фигура — единственно нормальная, то, для того чтобы мыслить естественным образом, мы должны были бы мыслить меньше, чем знаем, и мыслить неопределенно то, что мы знаем определенным образом. Слишком многое говорит против этого допущения. Вообще неверно, будто мы, при умозаключении по второй и третьей фигуре, втихомолку обращаем одно из предложений. На самом деле третья, а также вторая фигуры представляют собой столь же соответствующий процесс мысли, как и первая. Рассмотрим теперь еще пример другого вида третьей фигуры, того, в результате которого выясняется возможность раздельного существования обоих предикатов, в силу чего одна из посылок должна быть здесь отрицательной:
Ни один буддист не верит в Бога.
Некоторые буддисты разумны.
95
Следовательно, некоторые разумные существа не верят в Бога[123].
Как в предыдущих примерах речь шла о соединимости двух свойств, так здесь речь идет об их раздельности. И последний вопрос решается таким образом, что данные свойства сравнивают с одним субъектом и доказывают существование в нем одного свойства без другого; этим цель достигается непосредственно, между тем как с помощью первой фигуры ее можно было бы достигнуть лишь косвенно. Ибо, для того чтобы свести силлогизм к этой фигуре, надо было бы обратить меньшую посылку, т. е. сказать: «Некоторые разумные существа — буддисты», — а это было бы неправильным выражением ее смысла, который гласит: «Ведь некоторые буддисты довольно разумны».
Как руководящий принцип этой фигуры, я устанавливаю следующее[124]
правило: для утвердительных модусов — ciusdem rei notae, modo sit altera universalis,
sibi invicem sunt notae particulares; а для отрицательных модусов — nota rei c
В четвертой фигуре подвергается сравнению субъект большей посылки с предикатом меньшей; но в заключение оба они должны обменяться своими ролями и своими местами, так что в качестве предиката выступает то, что в большей посылке было субъектом, а в качестве субъекта — то, что в меньшей посылке было предикатом. Уже отсюда ясно, что эта фигура в сущности является только своевольно перевернутой первой фигурой, а вовсе не выражением реального и присущего разуму хода мысли.
Что же касается трех первых фигур, то они — отражения действительных и по существу различных операций мысли. Общее у них то, что все они представляют собой сравнение двух суждений; но такое сравнение плодотворно лишь в том случае, если оба суждения имеют какое-нибудь одно понятие в качестве общего. Если изобразить посылки в виде двух палочек, то это общее понятие надо представить себе в форме крючка, который соединяет их между собой[125]; такими палочками, я думаю, можно пользоваться с учебной целью. А различаются эти три фигуры тем, что названные суждения сравниваются между собой либо по отношению к субъектам обоих, либо по отношению к их предикатам, либо, наконец, по отношению к субъекту одного и предикату другого. Так как всякое понятие имеет свойство быть субъектом или предикатом лишь постольку, поскольку оно уже является частью суждения, то это подтверждает мой взгляд, что в силлогизме прежде всего сравниваются только суждения, понятия же сравниваются лишь постольку, поскольку они — части суждений. А при сравнении двух суждений главным и существенным является то, по отношению к чему их сравнивают, а не то, посредством чего их сравнивают. Первое — это различные понятия суждений, а последнее — средний термин, т. е. понятие, тождественное в обоих суждениях. Вот почему неправильно при анализе силлогизмов исходить из среднего термина, делать его главным моментом и считать его положение существенно важным для характера силлогизма, как это
96
делают Ламберт, да, собственно говоря, и Аристотель и почти все новейшие философы. На самом деле роль среднего термина лишь второстепенна и его положение зависит от логической ценности тех понятий, которые, собственно, и сравниваются в силлогизме. Эти понятия аналогичны двум веществам, которые подлежат химическому анализу; средний же термин — это реагент, на котором они испытываются. Поэтому он всегда занимает то место, которое оставляют свободным сравниваемые понятия, и в заключение уже больше не появляется. Его выбирают, сообразуясь с тем, насколько известно его отношение к обоим понятиям и насколько он подходит к месту, которое надо занять; вот почему во многих случаях его можно по желанию заменять другим, и силлогизм от этого ничего не терпит; например, в умозаключении:
Все люди смертны.
Кай — человек,
я могу средний термин «человек» заменить термином «живое существо».
В умозаключении:
Все алмазы — камни.
Все алмазы горючи,
я могу средний термин «алмаз» заменить термином «антрацит». В качестве внешнего признака, по которому можно тотчас же распознать фигуру умозаключения, средний термин, конечно, весьма удобен. Но как основной признак вещи, которая подлежит объяснению, надо брать ее существенные черты, а они состоят здесь в том, для чего сопоставляют два суждения — для того ли, чтобы сравнить их предикаты, или их субъекты, или предикат одного с субъектом другого.
Таким образом, для того чтобы можно было создать из посылок заключение, два суждения должны иметь общее понятие; далее, они не должны быть оба отрицательными и оба частными и, наконец, в случае, если оба сравниваемые в них понятия являются их субъектами, они также не должны быть оба утвердительными.
Как символ силлогизма можно рассматривать вольтов столб: точка безразличия посредине — это средний термин, который сочетает воедино обе посылки и сообщает им силу следования; напротив, обоим различающимся понятиям, которые, собственно, и есть то, что подлежит сравнению, соответствуют разнородные полюсы столба; лишь тогда, когда эти полюсы, через два своих проводника, которые символизируют связки обоих суждений, лишь когда они соединяются друг с другом, их соприкосновение дает искру — новый свет заключения силлогизма.
Глава 11*
По поводу риторики
Красноречие — это способность передавать другим людям наш взгляд на какую-нибудь вещь или наше внутреннее отношение к ней; это — способность возбуждать в них наши собственные чувства и таким образом порождать в них симпатию к нам; достигается все это тем, что
97
мы, с помощью слов, вводим поток наших мыслей в головы слушателей — и с такой силой, что он отклоняет течение их собственных мыслей от принятого уже направления и увлекает его за собой. И чем больше течение чужих мыслей отдалялось до этого от нашего, тем искуснее одержанная красноречием победа. Отсюда легко понять, почему собственная убежденность и страсть делают нас красноречивыми и почему вообще красноречие в большей степени является даром природы, чем созданием искусства, хотя и здесь искусство служит подспорьем для природы.
Для того чтобы убедить других в истине, которая противоречит какому-нибудь твердо укоренившемуся в них заблуждению, необходимо прежде всего держаться легкого и естественного правила: сначала выдвигать посылки, а вывод — вслед за ними. Между тем это правило редко соблюдается, и обыкновенно действуют наоборот, потому что увлечение, запальчивость и страсть к спору заставляют нас во всеуслышание и резко противопоставлять свой конечный вывод словам человека, который держится противоположного, ошибочного мнения[126]. А это сразу запугивает противника, и вот он упорно отбивается от всяких оснований и посылок, потому что знает уже, к какому заключению они ведут. Вот почему это заключение следовало бы тщательно скрывать, а давать только посылки — отчетливо, полно, всесторонне. Где можно, лучше совсем не высказывать заключения: его по необходимости и закономерно сделают сами слушатели, и это самостоятельно зародившееся убеждение будет гораздо более искренним; к тому же его будет сопровождать чувство самоудовлетворения, а не стыда. В затруднительных случаях можно даже делать вид, что желаешь прийти совсем к противоположному выводу, чем тот, который намечен в действительности. Образцом такого приема может служить знаменитая речь Антония в «Юлии Цезаре» Шекспира[127].
При защите какого-нибудь положения многие впадают в такую ошибку:
не задумываясь, они высказывают все, что только можно придумать в его пользу, —
истинное, истинное лишь наполовину, истинное лишь на первый взгляд. Между тем
слушатели скоро распознают или чувствуют ложное, и вследствие этого под
подозрение попадают даже и истинные и удачные аргументы, которые были
предложены им вместе с ложными. Вот почему в споре следует высказывать одно
только безусловно верное и надо остерегаться защищать какую-нибудь истину неудовлетворительными
и оттого — поскольку они выдаются за удовлетворительные — софистическими
доказательствами: противник разбивает их, и вследствие этого кажется, будто он
разбил и саму истину, которая на них опирается, т. е. он выдает argumentas
ad h
98
Глава 12*
По поводу наукоучения
Из осуществленного во всех предшествующих главах анализа различных функций нашего интеллекта выясняется, что для правильного использования последнего, будь то в теоретической или в практической сфере, необходимы следующие условия: 1) правильное наглядное восприятие рассматриваемых нами реальных вещей и всех существенных для них свойств и отношений, т. е. всех данных; 2) образование из них правильных понятий, т. е. подведение этих свойств под правильные абстракции, которые, в свою очередь, становятся материалом дальнейшего мышления; 3) сравнение этих понятий — отчасти с тем, что было предметом нашего созерцания, отчасти друг с другом, отчасти с остальным запасом наших понятий, так чтобы в результате получились правильные, относящиеся к данному предмету и вполне его исчерпывающие суждения, т. е. вынесение правильных суждений о вещи; 4) сопоставление или комбинирование этих суждений в качестве посылок для умозаключений: это комбинирование, в зависимости от выбора и распределения суждений, может оказаться весьма разнообразным, и все-таки подлинный результат всей этой операции главным образом зависит от него. Все дело здесь в том, чтобы из множества возможных комбинаций различных суждений, относящихся к данному предмету, свободное размышление выбрало комбинации целесообразные и решающие. Но если в пределах первой функции, т. е. при наглядном постижении вещей и отношений, был не замечен какой-либо существенный пункт, то правильность всех дальнейших операций духа не предохранит от неправильности результат, ибо там, в пределах этой первой функции, находятся все данные, материал всего исследования. Если мы не уверены, что данные собраны правильно и сполна, то в важных случаях надо воздержаться от какого бы то ни было окончательного решения.
Понятие правильно, суждение истинно, тело реально, отношение очевидно. Непосредственно достоверное положение — аксиома. Только логические и почерпнутые из созерцания a priori математические основоположения и, наконец, закон причинности имеют непосредственную достоверность. Опосредованно достоверное положение — теорема, а то, посредством чего выясняется эта достоверность, — доказательство.
Если суждению, не имеющему непосредственной достоверности, приписывается последняя[129], то это — petito principii[130]**[131]. Положение, непосредственно отсылающее к эмпирическому созерцанию, является ассерторическим: для того чтобы сопоставить его с таким созерцанием, требуется способность суждения. Эмпирическое созерцание может служить основанием только единичных, а не общих истин; правда, благодаря многократному повторению и подтверждению такие истины тоже получают всеобщий характер, но только сравнительный и непрочный, потому что они все еще открыты для возражений. Если же какое-нибудь положение
99
имеет абсолютно общезначимый характер, то созерцание, на которое оно ссылается, априорно, а не эмпирично. Поэтому безусловно достоверные науки — это только логика и математика; но зато они учат нас только тому, что мы уже знали и раньше. Ибо они только проясняют осознаваемое нами a priori, а именно формы нашего собственного познания: одна — форму познания рефлективного, другая — наглядного. Мы, таким образом, созидаем их, исходя только из наших собственных оснований. Всякое другое знание эмпирично.
Доказательство доказывает слишком много, если оно распространяется на вещи или случаи, для которых доказываемое очевидно не имеет силы, и поэтому оно, доказательство, им апагогически[132] опровергается. Deductio ad absurdum[133]* состоит, собственно, в том, что, принимая высказанное ложное утверждение в качестве большей посылки и присоединяя к нему правильную меньшую посылку, мы получаем заключение, которое противоречит каким-нибудь соответствующим опыту фактам или несомненным истинам. Окольным путем такая deductio возможна для любого ложного учения, так как его защитник все же признает и допускает какую-нибудь истину, — а в таком случае выводы из этой истины и, с другой стороны, выводы из ложного утверждения могут быть продолжены до тех пор, покуда не получатся два тезиса, прямо друг другу противоречащие. Много примеров этого прекрасного, подлинно диалектического приема мы находим у Платона.
Правильная гипотеза — это не что иное, как истинное и полное выражение наличного факта, который ее творец интуитивно понял в его действительной сущности и внутренней связи. Ибо она, гипотеза, говорит нам лишь то, что здесь в действительности происходит.
Указание на противоположность между аналитическим и синтетическим методом мы находим уже у Аристотеля; но отчетливо описана она — быть может, впервые — Проклом, который совершенно правильно говорит: «Methodi traduntur sequentes: pulcherrima quidem ea, quae per analysin quaesitum refert ad prindpium, de quo iam convertit; quam etiam Plato Laodamanti tradidisse dicitur». «In primum Euclidis librum», I, 3**. Действительно, аналитический метод состоит в сведении данных к соответствующему принципу; синтетический же, наоборот, — в выведении из такого принципа. Они аналогичны поэтому разъясненным в 9-й главе ἐπαγωγή и άπαγωγή; разница только в том, что последние служат не для обоснования известных тезисов, а для их опровержения. Аналитический метод идет от фактов и частностей к принципам, к общему, или от следствий к основаниям; синтетический метод идет обратным путем. Вот почему было бы гораздо правильнее называть их индуктивным и дедуктивным методами: так как обычные термины здесь не подходят и плохо выражают суть дела.
Если бы философ начинал с придумывания метода, согласно которому он хочет философствовать, то он уподобился бы поэту, который
100
сначала сочинил бы эстетику, а потом уже творил бы в соответствии с ней, — и оба они походили бы на человека, который сперва поет свою песенку, а затем пляшет под нее. Мыслящий дух должен найти свой путь, исходя из изначального побуждения: правило и его применение, метод и его осуществление должны быть нераздельны, как материя и форма. И лишь потом, когда цель уже достигнута, мы можем оглянуться на пройденный путь. Эстетика и методология по своей природе моложе поэзии и философии, как грамматика моложе языка, генерал-бас моложе музыки, логика моложе мышления.
Здесь будет уместно высказать несколько соображений, с помощью которых я хотел бы, пока есть еще время, остановить одно разрастающееся зло.
То обстоятельство, что латынь перестала быть языком всех научных исследований, привело к негативному результату: у нас нет больше единой, общей для всей Европы научной литературы, а есть только отдельные национальные литературы. Вследствие этого каждый ученый, прежде всего, имеет в своем распоряжении гораздо более узкий круг публики, которая к тому же проникнута национальной узостью и предрассудками. И вот он вынужден, кроме обоих древних языков, изучать еще четыре главных европейских языка. При этом для него большим облегчением служит то, что termini technici* всех наук (исключая минералогию), как наследие наших предшественников, остаются латинскими или греческими. Вот почему все народы мудро сохраняют их. Только немцам пришла в голову несчастная мысль перевести на немецкий termini technici всех наук. Это очень нежелательно в двух отношениях. Во-первых, иностранный, а также и немецкий ученые вынуждены изучать всю терминологию своей науки два раза[134], что в тех случаях, когда терминов много, как, например, в анатомии, чрезвычайно затруднительно и требует лишнего времени. Если бы другие народы не были в этом отношении умнее немцев, то мы должны были бы каждый технический термин изучать пять раз. И если немцы будут и дальше в том же духе продолжать, то иностранные ученые совсем перестанут читать их книги, тем более что последние написаны по большей части слишком обстоятельно, а кроме того, еще и небрежным, скверным, часто напыщенным и безвкусным стилем и нередко с грубым невниманием к читателю и его потребностям. Во-вторых, почти все онемеченные termini technici представляют собой длинные, усложненные, неумело выбранные, тягучие и тусклые слова, которые не выделяются из обычного языка и поэтому с трудом проникают в память, между тем как греческие и латинские выражения, придуманные древними, незабвенными основателями наук, имеют все противоположные положительные свойства и, в силу своей благозвучности, легко запоминаются. Например, как отвратительно и какофонично слово «Stickstoff», употребляемое вместо «азот»! «Verbum, Substantiv, adjectiv» и скорее запоминаются, и легче различаются, чем «Zeitwort, Nennwort, Beiwort»**, или даже «Umstandswort»***
101
вместо «adverbium». Но где такая германизация в особенности невыносима, пошла и отдает цирюльней, так это в анатомии. Уже «Pulsader» и «Blutader» гораздо легче спутать, чем артерию и вену; но совсем запутывают выражения «Fruchthalter, Fruchtgang, Fruchtleiter» вместо «uterus, vagina» и «tuba Faloppii»*, которые всякий врач должен знать и которые он может найти во всех европейских языках; таковы же «Speiche» и «Ellenbogenrohre» вместо «radius» и «ulna»**, которые вся Европа понимает испокон веков. Зачем же все это неумелое, запутывающее, плоское и безвкусное онемечивание? Не менее отвратительно, когда на немецкий язык переводят логические термины: наши гениальные профессора философии являются творцами новой терминологии и почти каждый из них обладает своей собственной; например, Г. Э. Шульце называет субъект — «Grundbegriff», предикат — «Beilegungsbegriff»; мы встречаем у него «Beilegungsschlusse, Voraussetzungsschlusse» и «Entgegensetzungsschlusse»; суждения имеют «Größe, Beschaffenheit, Verhältnis» и «Zuverlässigkeit», т. е. количество, качество, отношение и модальность. Такое же дурное впечатление производит это онемечивание и во всех других науках. Латинские и греческие выражения имеют еще и то преимущество, что на каждое научное понятие они налагают именно отпечаток научности, выделяя его из слов повседневного обихода и скрепляющих его ассоциаций идей, между тем как называть пищу младенцев «Speisebrei», например, вместо «chymus», а «Lungensack», вместо «pleura»***, и «Herzbeutel» вместо «pericardium»**** более приличествует мяснику, чем анатому. Наконец, с употреблением античных terminis technias непосредственно связана необходимость изучения древних языков, а этому изучению все более и более грозит опасность изгнания, по мере того как для научных исследований пользуются языками новыми. Но если это совершится, если в науке испарится связанный с классическими языками античный дух, то всей литературой овладеют грубость и пошлость. Ибо творения древних — это полярная звезда для каждого художественного и литературного стремления: если эта звезда для вас закатится — вы погибли. Уже и теперь по жалкому и топорному стилю большинства писак видно, что они никогда не писали по-латыни*****. Изучение классических писателей очень метко называют гуманитарными занятиями: благодаря им учащийся прежде всего становится человеком, ибо они вводят его в мир, еще свободный от той уродливости средних веков и романтики, которая впоследствии так глубоко проникла в европейское человечество, что и теперь еще все мы рождаемся на свет
102
окрашенными ею, и мы должны предварительно стереть ее с себя, для того чтобы опять сделаться людьми. Не думайте, что ваша современная мудрость когда-либо заменит это посвящение в человека: вы не свободны от рождения, как греки и римляне, вы не простодушные сыны природы. Вы прежде всего — дети и наследники грубого средневековья с его безумием, позорной властью клерикального обмана и наполовину дикого, наполовину шутовского рыцарства; и если ныне вы мало-помалу отрешаетесь от того и другого, то это еще не значит, что вы можете стоять на собственных ногах. Без школы древних ваша литература выродится в пошлую болтовню и плоское филистерство. Вот те основания, по которым я даю свой благожелательный совет — немедленно покончить с осужденными выше германофильскими благоглупостями.
Я воспользуюсь случаем, чтобы высказаться и против тех бесчинств, которые в течение нескольких последних лет неслыханным образом творятся с немецким правописанием. Писаки всяких категорий услышали кое-что о сжатости выражений, но они не знают, что последняя состоит в осмотрительном удалении всего излишнего (к чему несомненно принадлежит их собственное писательство); они полагают, что этой сжатости можно добиться насильственно — путем урезывания слов, как это делают мошенники с монетами; и вот каждый слог, который кажется им излишним, потому что они не чувствуют его ценности, они без дальних разговоров отсекают. Так, например, наши предки, обладая верным тактом, говорили «Beweis» и «Verweis», но «Nachweisung»; это тонкое различие, аналогичное различию между «Versuch» и «Versuchung», «Betracht» и «Betrachtung», ускользает от грубых ушей и грубых мозгов, — вот почему такие господа и придумали слово «Nachweis», которое сейчас же и вошло во всеобщее употребление, ибо для этого требуется только, чтобы выдумка была достаточно нелепа, а изобретатель достаточно пошл. Дальше — больше, и вот такой ампутации подверглось уже множество слов: например, вместо «Untersuchung» пишут «Untersuch», даже вместо «allmälig» — «mälig», вместо «beinahe» — «nahe», вместо «beständig» — «ständig». Если бы какой-нибудь француз позволил себе писать «pres» вместо «presque», или англичанин — «most» вместо «almost», то его единодушно осмеяли бы как дурака; а в Германии выкинуть что-нибудь подобное — значит прослыть оригинальной головой. Наши химики пишут уже «löslich» и «unlöslich», вместо «unauflöslich», и таким образом, если грамматики не ударят их по рукам, они украдут у языка ценное слово: «löslich» можно говорить об узлах, башмачных пряжках, а также о конгломератах, цемент которых размяк, и тому подобных вещах; «auflöslich» же — то, что совершенно растворяется в жидкости, как соль в воде. «Auflösen» — terminus ad hoc[135], который имеет специальное значение и указывает на определенное понятие; между тем наши остроумные языкоправцы хотят вылить его в общий резервуар слова «lösen». В таком случае, оставаясь последовательными, они должны были бы вместо «ablösen» (о карауле), «auslösen», «einlösen» и т. д., всюду писать «lösen», и здесь, как и там, лишать язык определенности выражения. Но сделать язык беднее на одно слово — это значит сделать мысль народа беднее на одно понятие. И к этому стремятся соединенными силами почти все
103
наши книгописатели — вот уже около двух десятилетий: ведь то, что я показал здесь на одном примере, можно видеть и на сотне других, и гнусное калечение слов свирепствует как эпидемия. Жалкие писаки тщательно пересчитывают буквы и бесстыдно уродуют слова или употребляют их в искаженном смысле — лишь бы только выгадать две буквы. Кто не способен дать ни одной новой мысли, тот старается вынести на рынок, по крайней мере, новое слово, и всякий бумагомарака мнит себя призванным улучшать язык. Наглее всех в этом отношении газетчики, и так как их листки, благодаря тривиальности содержания, привлекают к себе самую широкую публику, даже такую, которая ничего другого не читает, то с их стороны языку грозит великая опасность; вот почему я серьезно советую подвергнуть их орфографической цензуре или брать штраф за каждое неупотребительное или исковерканное слово, ибо может ли быть зрелище более недостойное, чем то, что реформы в языке исходят от самой низменной ветви литературы? Язык, в особенности такой в известном смысле праязык, как немецкий, — это самое драгоценное наследие народа, это художественное произведение, очень сложное, легко подвергающееся неисправимой порче, своего рода «noli me tangere»*. Другие народы чувствовали это и оказывали своим языкам, хотя и гораздо менее совершенным, великое уважение; вот почему язык Данте и Петрарки только в мелочах отличается от современного языка, Монтеня легко читать еще и теперь, как и Шекспира в его старейших изданиях.
Для немца даже удобно извлекать из своих уст довольно длинные слова: он мыслит медленно, и они дают ему время подумать. Но эта распространившаяся экономия языка, о которой я говорю, проявляется еще и в других, очень характерных фактах: например, вопреки всякой логике и грамматике, ставят имперфект вместо перфекта и плюсквамперфекта; часто опускают вспомогательный глагол; употребляют творительный падеж вместо родительного; для того чтобы выгадать несколько логических частиц, строят такие запутанные периоды, что добраться до их смысла можно, только перечитав их раза четыре: ведь такие писаки стараются щадить бумагу, а не время читателей; при собственных именах, совершенно по-готтентотски, не означают падежа ни флексией, ни артиклем — читателю предоставляют догадываться об этом. В особенности же охотно изгоняют двойные гласные и удлиняющее звук h — эти буквы, предназначенные для просодии; такой прием совершенно равносилен тому, как если бы мы изгнали из греческого языка η и ω и заменили их на ε и ο. Кто пишет «Scham, Marchen, Mass, Spass», тот должен писать и «Lon, Son, Stat, Sat, Jar, Al» и т. д. Но письмо — отражение речи, и поэтому наши потомки будут думать, что и выговаривать надо так, как написано, — и от немецкого языка останется только ощипанный, жалкий, неблагозвучный шум согласных, и всякая просодия исчезнет. Теперь очень излюбленно также, ради сбережения одной буквы, написание «Literatur» вместо правильного «Litteratur». Это оправдывают тем, что выводят слово «Litteratur» из причастия глагола «linere». Но «linere» означает мазать. Поэтому для большинства немец-
104
ких книгоделов излюбленное ими написание, пожалуй, вполне правильно, так что можно различать в Германии очень маленькую Litteratur от очень широко распространенной Literatur.
Для того чтобы писать сжато, надо облагородить свой стиль и избегать всякого ненужного пустословия и повторения, и тогда не придется, ради экономии на дорогой бумаге, выбрасывать слоги и буквы. Писать же столько ненужных страниц, ненужных листов, ненужных книг и затем наверстывать такую трату времени и бумаги за счет невинных слогов и букв — это поистине то, что англичане называют «pennywise and poundfoolish»*, но только в превосходной степени. Очень жаль, что не существует такой немецкой академии, которая взяла бы язык под свою защиту против литературного санкюлотства, особенно в наше время, когда даже люди, невежественные в древних языках, осмеливаются прибегать к печатному станку. Обо всем этом непростительном бесчинстве, которую[136] творят ныне с немецким языком, я подробнее высказался в своих «Парергах», т. 2, гл. 23.
В своем трактате «О законе достаточного основания», § 51, я впервые разработал, а здесь, в § 7 и 15 первого тома, снова затронул вопрос об окончательной классификации наук по господствующей в каждой из них форме закона основания. Теперь я хочу предложить маленькую попытку такой классификации, которую несомненно можно будет улучшить и дополнить.
I. Чистые науки a priori.
1) Учение об основании бытия:
a) в пространстве: геометрия;
b) во времени: арифметика и алгебра.
2) Учение об основании познания: логика.
II. Науки эмпирические, или a posteriori.
Все — по основанию становления, т. е. по закону причинности в его трех модусах.
1) Учение о причинах:
a) Общие науки: механика, гидродинамика, физика, химия.
b) Частные науки: астрономия, минералогия, геология, технология, фармацевтика.
2) Учение о раздражениях:
a) Общие науки: физиология растений и животных наряду с ее вспомогательной наукой — анатомией.
b) Частные науки: ботаника, зоология, зоотомия, сравнительная физиология, патология, терапия.
3) Учение о мотивах:
a) Общие науки: этика, психология.
b) Частные науки: правоведение, история.
Философия, или метафизика как учение о сознании и его содержании вообще или о целостности опыта как такового, не входит в этот ряд,
105
потому что она не следует непосредственно тому способу рассмотрения, которого требует закон основания, а напротив, имеет своим предметом как раз сам этот закон. Ее надо рассматривать как основной бас всех наук, но она выше их родом и почти так же родственна искусству, как и науке. Подобно тому как в музыке каждый отдельный период должен соответствовать тому звуку, до которого дошел основной бас, так всякий писатель, соответственно своей специальности, носит на себе отпечаток господствующей в его время философии. Но сверх того каждая наука имеет еще и свою специальную философию, почему и говорят о философии ботаники, зоологии, истории и т. д. Под этими «философиями» следует понимать не что иное, как главные результаты каждой науки, рассматриваемые и объединяемые с той высшей, иначе говоря, — самой общей точки зрения, какая только возможна в ее пределах. Эти общие результаты непосредственно примыкают к общей философии, предоставляя ей важные данные и освобождая ее от необходимости самой разыскивать их в философски необработанном материале специальных наук. Эти частные философии представляют собой, таким образом, опосредующее звено между их специальными науками и философией в собственном смысле. В самом деле: так как философия должна давать самые общие разъяснения обо всех вещах, то необходимо, чтобы их можно было также сводить и применять ко всякой отдельной категории предметов. Тем не менее философия каждой науки возникает независимо от общей философии — вырастает из данных соответствующей науки; поэтому ей не надо дожидаться, когда, наконец, будет открыта общая философия: нет, хотя она и разработана раньше, она в любом случае будет соответствовать истинной общей философии. Последняя же, наоборот, всегда нуждается в подкреплении и разъяснении со стороны философий частных наук, ибо самая общая истина должна находить себе подтверждение в истинах более частных. Прекрасный образец философии зоологии дал Гете в своих размышлениях о дальтоновских и пандеровских скелетах грызунов («Hefte zur Morphologie», 1824). Подобные же заслуги перед этой наукой имеют Кильмайер, Ламарк, Жоффруа Сент-Илер, Кювье и многие другие, ибо все они выявили общую аналогию, внутреннее сродство, устойчивый тип и закономерную связь форм животных.
Эмпирические науки, которые имеют своей целью исключительно самих себя и лишены философской тенденции, похожи на лицо без глаз. Они составляют, однако, подходящее занятие для людей с хорошими способностями, но лишенных высших даров духа, которые, впрочем, были бы только помехой для дотошных исследований подобного рода. Такие люди концентрируют все свои силы и знания на какой-нибудь одной, строго ограниченной области, в которой они и могут, при условии совершенного невежества во всем остальном, достигнуть исчерпывающей полноты знаний; между тем как философ должен обозревать все области и даже, до известной степени, чувствовать себя во всех них как дома, причем, разумеется, та полнота знаний, которой можно достигнуть только изучением деталей, по необходимости исключается для него. Вот почему специалистов можно сравнить с женевскими рабочими, из которых один выделывает исключительно часовые колесики, другой —[137]
106
исключительно пружины, третий — исключительно цепочки; философ же подобен часовщику, который изо всего этого только и создает нечто целое, полное движения и смысла. Первых можно сравнить также и с музыкантами в оркестре, из которых каждый является мастером своего инструмента[138]; философ же подобен капельмейстеру, который должен знать характер всякого инструмента и способ обращения с ним, хотя бы он и не умел играть в совершенстве на всех инструментах или даже на каком-нибудь одном из них. Скот Эриугена подводит все науки под понятие «scientia», в противоположность философии, которую он именует «sapientia»*[139]. Но особенно удачное и пикантное сравнение этих двух видов духовных стремлений существует у древних, и они его так часто повторяли, что теперь уже неизвестно, кому, собственно, оно принадлежит. Диоген Лаэрций (II, 79) приписывает его Аристиппу, Стобей (Floril. tit. IV, 110) Аристону Хиосскому, Аристотелю — его схолиаст42 (с. 8 берлинского издания), Плутарх же (De puer. educ. с. 10) приписывает его Биону, «qui aiebat, acut Penelopes proci, quum non possent cum Penelope concumbere, rem cum eius ancillis habuissent; ita qui philosophiam nequeunt apprehendere, eos in aliis nullius pretii disciplinis sese conterere»**. В наш по преимуществу эмпирический и исторический век небесполезно вспомнить об этом.
Глава 13***
По поводу методологии математики
Эвклидовский метод доказательства из собственного же лона породил самую меткую на себя пародию и карикатуру — в знаменитом споре о теории параллельных и в повторяющихся из года в год попытках доказать одиннадцатую аксиому. Последняя гласит — если прибегнуть к опосредующему признаку третьей, пересекающей линии, — что две линии, сходящиеся друг с другом (ведь это и значит «‹углам при пересечении› быть меньше двух прямых»), если их продолжить, непременно встретятся. Эта истина кажется слишком сложной для того, чтобы считаться самоочевидной; поэтому она требует доказательства, которого, однако, не могут найти — именно потому, что нет ничего более непосредственного. Эта добросовестность напоминает мне юридический вопрос Шиллера:
Нос
свой давно уже я для нюханья употребляю,
Можно
ли мне доказать право свое на него?43
И мне думается, что логический метод здесь доходит до абсурда. Но именно споры по данному вопросу, наряду с бесплодными попытками
107
выяснить опосредованную достоверность того, что достоверно непосредственным образом, — именно это составляет настолько же поучительный, насколько и забавный контраст между самостоятельностью и ясностью интуитивной очевидности, с одной стороны, и бесполезностью и трудностью логического доказательства — с другой. Евклидовский метод не признает непосредственной достоверности потому, что она не имеет чисто логического характера, не вытекает из самого понятия, т. е. не опирается исключительно на отношение предиката к субъекту, по закону противоречия. Но ведь указанная аксиома — синтетическое суждение a priori, и за нее в качестве такого ручается чистое, неэмпирическое созерцание, которое столь же непосредственно и достоверно, как и сам закон противоречия, откуда все доказательства только и заимствуют свою убедительность. В сущности, сказанное применимо ко всякой геометрической теореме, и мы поступаем произвольно, когда желаем провести здесь границу между тем, что непосредственно достоверно, и тем, что нужно еще доказать.
Меня удивляет, что никто не ставил под сомнение скорее восьмую аксиому: «фигуры, совпадающие друг с другом при наложении, равны». Ведь совпадать друг с другом при наложении — это либо тавтология, либо нечто совершенно эмпирическое и относящееся не к чистому созерцанию, а к внешнему чувственному опыту. Здесь предполагается подвижность фигур; но подвижное в пространстве — это исключительно материя, и, таким образом, ссылка на взаимное наложение покидает чистое пространство, единственную стихию геометрии, для того чтобы перейти в область материального и эмпирического.
Знаменитая надпись над школой Платона: «Αγεωμέτρητοᾳ μηδεὶς ε’ιδίτω»*, эта надпись, которой столь гордятся математики, несомненно объясняется тем, что Платон усматривал в геометрических фигурах нечто среднее между вечными идеями и отдельными вещами, как об этом часто упоминает Аристотель в своей «Метафизике» (в особенности I, с. 6, р. 887,998 и Scholia, p. 827, Ed. Berol.). Кроме того, противоположность между самодовлеющими, вечными формами, или идеями, и преходящими отдельными вещами легче всего можно было уяснить на геометрических фигурах и этим заложить основание для учения об идеях, которое составляет центр философии Платона и даже его единственно серьезный и определенный теоретический догмат; вот почему при изложении учения об идеях Платон исходил из геометрии. Таков же смысл сообщения, что он рассматривал геометрию как подготовительную школу, в которой ум учеников, до тех пор, в практической жизни, занимавшийся одними только телесными вещами, привыкал к изучению бестелесных предметов (Schol. in Aristot, p. 12, 15). Вот, значит, в каком смысле Платон рекомендовал философам геометрию, и мы не имеем права давать этому совету более широкое толкование. С своей стороны, я мог бы рекомендовать, в качестве исследования о влиянии математики на наши умственные способности и о значении ее для научного образования вообще, очень основательное и содержательное сочинение в форме рецензии на одну книгу Юэвелла, в «Edinburgh Rewiew» (январь, 1836);
108
автором его
является У. Гамильтон, профессор логики и метафизики в Шотландии, — он
впоследствии обнародовал его под своей фамилией вместе с некоторыми другими
статьями. Названное сочинение нашло себе немецкого переводчика и появилось
отдельно под заглавием: «О пользе и бесполезности математики», 1836. Взгляд
автора сводится к тому, что ценность математики — лишь косвенная: а именно, ею следует
пользоваться для тех целей, которые достижимы только с ее помощью; сама же по
себе математика оставляет дух на той же ступени, на которой она его нашла, и не
только не способствует его дальнейшему образованию и развитию, но даже прямо
препятствует им. Этот вывод опирается не только на основательное
дианойологическое исследование математической деятельности духа, но и
подкреплен весьма компетентным подбором отдельных примеров и авторитетных мнений.
Единственная непосредственная польза, которую автор оставляет на долю
математики, заключается в том, что она может приучить рассеянные и неустойчивые
умы сосредоточивать свое внимание на одном предмете. Даже Картезий,
который сам был знаменитым математиком, придерживался такого же мнения о своей
науке. В книге Baillet: «Vie de Descartes», 1693 (Liv. II, ch. 6, p.
54) мы читаем: «Sa propre expérience
l’avait convaincu du peu d’utilité des mathématiques, surtout
lorsqu’on ne les cultive que pour elles mêmes. …Il ne voyait rien de moins
solide, que de s’occuper de n
Глава 14
Об ассоциации мыслей
Присутствие представлений и мыслей в нашем сознании так же строго подчинено закону основания в его различных видах, как движение тел подчинено закону причинности. Как тело не может прийти в движение без причины, так мысль не может появиться в сознании без повода. Последний бывает либо внешним, т. е. воздействием на чувства; либо внутренним, т. е. опять-таки мыслью, которая в силу ассоциации влечет за собой другую мысль. Сама ассоциация, в свою очередь, зиждется либо на отношении основания и следствия между двумя мыслями, либо на их сходстве, а также простой аналогии; либо, наконец, на одновременности их первого восприятия, которая сама может вытекать из пространственной смежности их предметов. Оба последние случая обозначают словом «à propos»**. Интеллектуальную ценность ума характеризует преобладание одной из этих трех ассоциаций над другими: ассоциация первого типа господствует у людей мыслящих и основательных; второго — у людей остроумных, даровитых, поэтических; третьего — у людей
109
ограниченных. Не менее характерной является и степень легкости, с которой одна мысль вызывает другие, находящиеся с ней в каком-либо отношении, — в этой легкости и заключается живость ума. То, что мысль, даже при всем напряжении воли, не может возникнуть в сознании без достаточного повода для этого, показывают все те случаи, когда мы тщетно пытаемся что-либо осмыслить и перерываем весь запас своих мыслей, для того чтобы найти какую-нибудь одну, которая ассоциировалась бы с искомой: если мы найдем первую, то появится и последняя. Желая вызвать какое-нибудь воспоминание, мы непременно ищем прежде всего ту нить, на которой оно висит в силу ассоциации мыслей. На этом основана мнемоника: она пытается снабдить нас легко находимыми поводами для всех тех понятий, мыслей или слов, которые мы желали бы сохранить в своей памяти. Но беда в том, что и сами эти поводы тоже надо сперва найти, и они для этого, в свою очередь, нуждаются в поводе. Как много значит повод для припоминания, можно видеть из того, что всякий, вычитавший из сборника анекдотов пятьдесят рассказов и затем отложивший книгу, непосредственно за этим иногда не в состоянии вспомнить ни одного из них; а как только появится известный повод или придет в голову мысль, имеющая некоторую аналогию с одним из этих анекдотов, последний сейчас же всплывает в сознании; и таким же образом вспомнятся все пятьдесят, если только представится случай. То же самое надо сказать и обо всем, что мы читаем.
Наша непосредственная, т. е. не обусловленная
мнемоническими приемами, память на слова, а с нею и вся наша языковая
способность основываются, в сущности, на непосредственной ассоциации мыслей. Ибо
изучение языка состоит в том, что мы навсегда связываем данное понятие с данным
словом — так прочно, что вслед за понятием сейчас же у нас возникает и
соответствующее слово, и вслед за словом нам сейчас же приходит в голову
соответствующее понятие. Тот же самый процесс мы должны повторять при изучении
каждого нового языка. Если же мы изучаем язык только для пассивного, а не для
активного употребления, т. е. для чтения, а не для разговора, как,
например, большинство изучает греческий язык, то связь понятия и слова является
односторонней, потому что вслед за словом у нас возникает понятие, но не всегда
вслед за понятием припоминается и слово. Тот же процесс, что и при изучении
языка, очевидно, совершается, в меньших масштабах, и при усвоении каждого
нового собственного имени. Иногда, впрочем, мы не доверяем себе и не надеемся с
мыслью об этом лице, или городе, реке, горе, растении, животном и т. д.
непосредственно связать их название столь прочно, чтобы эта мысль сама собой
вызывала название: в таком случае мы прибегаем к помощи мнемонических приемов и
связываем образ лица или вещи с каким-нибудь наглядным свойством, название
которого входит в название этого лица или вещи. Но это служит лишь опорой,
впоследствии мы отбрасываем ее, так как ассоциация мыслей становится
непосредственной.
Поиски нити воспоминания выражаются очень своеобразно в том случае, когда нам хочется припомнить сон, который мы, пробудившись, забыли: мы тщетно ищем того, что еще несколько минут назад занимало
110
нас всей мощью самого очевидного присутствия, а теперь совсем испарилось; и мы стараемся уловить хотя бы одно сохранившееся впечатление, для того чтобы к нему прикрепить ту ниточку, которая в силу ассоциации могла бы опять ввести в наше сознание исчезнувший сон. Даже магнетически-сомнамбулический сон иногда оставляет после себя воспоминание — именно в том случае, если в бодрствующем состоянии мы уже встречали соответствующий чувственный знак (см.: Kieser. «Tellurismus». Bd. 2, § 271). На том же, что мысль не может появиться без своего повода, основывается и следующее явление: если мы намерены заняться чем-нибудь в определенный час, то это осуществимо только при двух условиях — либо мы до тех пор не должны думать ни о чем другом, либо в определенный час нам должно что-нибудь напомнить об этом; такое напоминание может быть или внешним, заранее приуготовленным для этого впечатлением, или другой, опять-таки закономерно возникшей мыслью. И то и другая принадлежат в таком случае к классу мотивов.
Каждое утро после пробуждения наше сознание есть tabula rasa[140], которая, впрочем, быстро заполняется вновь. Прежде всего к нам возвращается обстановка предшествующего вечера, которая и вызывает у нас в памяти то, что мы думали в этой обстановке; к этому примыкают события вчерашнего дня, — и так одна мысль быстро влечет за собой другую, пока не вернется все то, что занимало нас вчера. Душевное здоровье в том и состоит, чтобы этот процесс совершался правильно, в противоположность безумию, для которого, как это показано в третьей книге, характерны именно большие разрывы в цепи воспоминаний. Но то, в какой сильной степени сон обрывает нить воспоминаний, принуждая нас каждое утро связывать ее снова, можно видеть на примерах отдельных неудач этой операции: мы, например, утром иногда не в состоянии припомнить ту самую мелодию, которая накануне вечером назойливо звучала в нашей голове.
По-видимому, исключение из указанного правила составляют те случаи, когда мысль или образ фантазии появляются у нас внезапно и без явного повода. Но по большей части это только иллюзия: повод был так незначителен, а сама мысль так ярка и интересна, что она мгновенно вытеснила его из сознания; иногда же причиной такого внезапного появления какого-нибудь образа служат внутренние физические воздействия — либо одной части мозга на другую, либо органической нервной системы на мозг.
Вообще внутренний процесс нашего мышления в действительности не так прост, как его теория, ибо в нем переплетаются многие элементы. Для наглядности сравним наше сознание с водой известной глубины. Отчетливо сознаваемые мысли — это лишь ее поверхность, между тем как массу образует нечто смутное — чувства и ощущения, следы виденного и пережитого вообще; и все это смешано с настроем нашей воли, которая составляет ядро нашего существа. Вся эта масса сознания находится в постоянном движении — более или менее сильном, в зависимости от степени нашей интеллектуальной живости; а то, что вследствие этого движения поднимается на поверхность, — это ясные образы фантазии, или отчетливые, сознательные, выраженные словами мысли
111
и решения воли. Редко бывает, чтобы процесс нашего мышления или принятия решений всецело происходил на поверхности, т. е. заключался в сцеплении отчетливо мыслимых суждений, хотя мы и стремимся к этому, для того чтобы иметь возможность давать себе и другим отчет: обыкновенно же в темной глубине духа совершается та переработка извне полученного материала, благодаря которой он обращается в мысль, — и совершается она почти так же бессознательно, как и превращение питательных веществ в соки и субстанцию тела. Этим и объясняется, почему мы иногда не можем дать себе отчет о происхождении наших глубочайших мыслей: они — порождение таинственных глубин нашего существа. Суждения, догадки, решения неожиданно выплывают из этой глубины и удивляют нас самих. Какое-нибудь письмо приносит нам важные и неожиданные вести, и они вызывают замешательство в наших мыслях и мотивах; тогда мы на время отвлекаемся от этого и перестаем думать о письме, — и вот на другой или на третий, четвертый день перед нами ясно встает вся та ситуация, с которой нам теперь нужно будет иметь дело. Сознание — только поверхность нашего духа; в духе, как и в земном шаре, мы знаем лишь оболочку и не знаем внутреннего ядра.
Но то, что приводит в движение саму ассоциацию мыслей, законы которой я изложил выше, это, в последней инстанции, или в тайниках нашего внутреннего существа, — воля; она побуждает своего слугу, интеллект, по мере сил нанизывать мысль на мысль, вызывать в памяти сходное и одновременное, познавать причины и следствия, — ибо в интересах воли, чтобы люди вообще мыслили и таким образом возможно лучше ориентировались в разных обстоятельствах жизни. Вот почему та форма закона основания, которая управляет ассоциацией мыслей и поддерживает ее деятельность, — это в конечном счете закон мотивации; ибо то, что руководит сферой наших чувств и заставляет их искать, на том или другом пути, аналогии или иные ассоциации мыслей, это — воля мыслящего субъекта. И как здесь законы связи идей покоятся только на базисе воли, так и причинная связь тел в реальном мире опирается, собственно, только на базис той же воли, раскрывающейся в явлениях этого мира; вот почему объяснение из причин никогда не бывает абсолютным и исчерпывающим, а отсылает как к своему условию к силам природы, сущность которых и есть именно эта воля как вещь в себе (я, конечно, предвосхищаю здесь содержание следующей книги).
А поскольку внешние (чувственные) поводы присутствия наших представлений постоянно воздействуют на наше сознание так же точно, как и внутренние (ассоциация мыслей), причем те и другие воздействуют независимо друг от друга, то отсюда получаются частые перерывы в ходе наших мыслей, которые и влекут за собой известную раздробленность и путаницу в мышлении. Эта путаница принадлежит к неустранимым недостаткам человеческого интеллекта, которые мы и рассмотрим теперь в особой главе.
112
О существенных недостатках интеллекта
Формой нашего самосознания является не пространство, а одно только время; поэтому наше мышление не протекает, как наше созерцание, в трех измерениях, а только в одном, т. е. по одной линии без ширины и глубины. Отсюда и возникает самый крупный из присущих нашему интеллекту недостатков. А именно: мы можем все познавать только последовательно и в каждый момент времени сознаем только что-нибудь одно, да и это одно — лишь при том условии, что мы временно забываем все остальное, совершенно его не сознаем и что оно, таким образом, на время перестает для нас существовать. В этом отношении наш интеллект можно сравнить с телескопом, имеющим очень узкое поле зрения, так как наше сознание не устойчиво, а текуче. Интеллект воспринимает только последовательно, и для того чтобы уловить одно, он должен упускать другое, сохраняя от него только следы, которые становятся все слабее и слабее. Мысль, которая теперь живо занимает меня, спустя короткое время должна совсем исчезнуть из моего сознания; а если меня отделит от нее еще и ночь, проведенная в глубоком сне, то может случиться, что она и потом ко мне никогда не вернется, если только она не будет связана с моими личными интересами, т. е. с моей волей, которая всегда удерживает свои позиции.
Этот недостаток интеллекта является причиной рапсодического и часто фрагментарного характера процесса нашего мышления, о котором я уже упомянул в конце предыдущей главы; а он, в свою очередь, порождает неизбежную рассеянность нашей мысли. С одной стороны, в него вторгаются внешние чувственные впечатления и производят в нем сумятицу и беспорядок, каждый миг навязывая ему нечто чуждое; с другой стороны, в связке ассоциаций одна мысль влечет за собой другую и, в свою очередь, сама вытесняется ею; наконец, и сам интеллект совершенно не способен продолжительно и упорно сосредотачиваться на одной мысли: подобно тому как глаз, пристально и долго всматриваясь в одну вещь, скоро перестает ясно различать ее, потому что ее очертания бледнеют, сливаются и все мало-помалу покрывается тьмой, так и мысль, если она долго и настойчиво занимается каким-нибудь одним предметом, начинает подергиваться туманом, притупляется и совершенно гаснет. Вот почему всякое размышление или обсуждение, которое, по счастью, не было ничем нарушено, но все-таки не доведено до конца, следует по истечении некоторого времени (в зависимости от индивидуальности каждого) совсем прерывать на некоторый срок, хотя бы оно и касалось очень важного и серьезного вопроса: мы должны отрешиться в своем сознании от этого столь интересующего нас предмета и заняться на время незначительными и безразличным вещами, как бы ни тяготела над нами забота. И в течение этого промежутка времени серьезный предмет для нас уже не существует: как теплота в холодной воде, он находится тогда в латентном состоянии. Вернувшись к нему впоследствии, мы воспринимаем его как нечто новое и должны ориентироваться
113
в нем сызнова, хотя и делаем это быстрее прежнего; да и само его воздействие на нашу волю, приятное или тягостное, возникает опять. Но и мы-то сами возвращаемся к нему не совсем прежними. Ибо вместе с физическим составом соков и напряжением нервов, которое постоянно изменяется, сообразно часам, дням и временам года, вместе с ними изменяется и наше настроение, наши взгляды; к тому же и посторонние представления, которые посетили нас за истекшее время, оставили свой отзвук в нашем сознании, и тон его влияет на все последующие представления. Вот почему одна и та же вещь часто является нам в разное время весьма по-разному — утром не такой, как вечером или после обеда или на следующий день; она является нашему сознанию с противоположных сторон и увеличивает наши сомнения. Поэтому и говорят, что утро вечера мудренее, и, прежде чем решиться на что-нибудь важное, мы требуем для себя времени на размышление. Если это свойство нашего интеллекта, вытекая из его слабости, влечет за собой несомненно отрицательные результаты, то, с другой стороны, оно связано и с тем преимуществом, что, отвлекшись и физически перестроившись, мы возвращаемся к своему делу сравнительно другими людьми — освеженные и как бы посторонние для него, так что нередко видим его в значительно измененном свете.
Все это показывает, что человеческое сознание и мышление, по самой своей природе, имеет неизбежно фрагментарный характер, вследствие чего теоретические или практические результаты, которые можно получать из соединения таких отрывков, оказываются в большинстве случаев несовершенными. Наше мыслящее сознание подобно laterna magica*, в фокусе которого в каждый данный момент может появиться только одна картина, и каждая из таких картин, пусть даже ее содержание — самое благородное, должна скоро исчезнуть, для того чтобы уступить место совсем другому и даже пошлому образу. В практических делах самые важные планы и решения определяются сначала в общих чертах; и уже этим общим решениям, как средства целям, подчиняются другие; последним, в свою очередь, подчиняются еще более частные решения и т. д. и т. д., пока не получится то частное и конкретное действие, которое надо выполнить. При этом все такие планы и замыслы осуществляются нами не в порядке их важности: дело в том, что в то время когда мы заняты своими планами в их целостном и общем содержании, нам приходится бороться с ничтожными частностями и заботами минуты[141]. От этого наше сознание становится еще более прерывистым. Вообще, теоретические занятия лишают человека способности к практическим делам, и наоборот.
Вследствие этой неизбежной рассеянности и фрагментарности всего нашего мышления и обусловленного ими смешения разнороднейших представлений, от которой не свободен даже самый благородный человеческий ум, — вследствие этого мы имеем, собственно говоря, только половинчатое сознание и на ощупь блуждаем с ним в лабиринте нашей жизни и во тьме наших изысканий, и отдельные светлые мгновения, как молнии, озаряют наш путь. Да и чего вообще можно ожидать от таких
114
голов, даже мудрейшая из которых каждую ночь становится ареной самых причудливых и бессмысленных сновидений и непосредственно от них должна возвращаться к своим размышлениям? Очевидно, что сознание, подверженное столь значительным ограничениям, мало приспособлено к тому, чтобы разгадать загадку мира, — такое притязание казалось бы странным и жалким в глазах тех высших существ, чей интеллект не имел бы своей формой время и чье мышление отличалось бы поэтому настоящей цельностью и единством. И удивительно даже, как это, несмотря на столь пеструю смесь разнородных представлений и мыслей, обрывки которых вечно смешиваются в нашей голове, — как это мы еще не запутываемся в этой смеси полностью и умеем всегда сориентироваться и разобраться в ней. Очевидно, должна существовать какая-то простая нить, на которую все нанизывается; что же это за нить? Одной памяти для этого недостаточно, так как она имеет существенные ограничения, о которых я скоро буду говорить; кроме того, она весьма несовершенна и коварна. Логическое я или трансцендентальное синтетическое единство апперцепции, — это такие выражения и пояснения, которые мало что разъясняют; скорее, они напоминают о стихе:
…Ключ
хитер, но все же двери той
Не
отопрет замка, не разрешит вопроса!44
Кантовское положение: «Я мыслю должно сопровождать все наши представления», — неудовлетворительно, ибо Я — величина неизвестная, т. е. само представляет для себя тайну. То, что придает сознанию единство и цельность и, пронизывая собой все его представления, является его основой и неизменимым носителем, — это не может быть само обусловлено сознанием и, значит, не есть представление: наоборот, оно должно быть prius* сознания и корнем того дерева, плодом которого является сознание. Я утверждаю, что это prius — воля: она одна неизменна и безусловно тождественна самой себе, и это она ради своих целей произвела сознание. Поэтому именно она придает ему и единство, связывает в одно целое все его представления и мысли, все время сопровождая его как генерал-бас. Без воли интеллект потерял бы единство сознания и уподобился бы зеркалу, лучи которого соединяются в воображаемой точке позади его поверхности. Но только воля представляет собой устойчивый и неизменный элемент сознания. Это она связывает в одно целое все мысли и представления как средства для своих целей; это она придает им окраску своего характера, своего настроения и своих интересов, овладевает вниманием и держит в руках нить мотивов, которые своим влиянием приводят в действие в конечном счете также память и ассоциацию идей, — и это о воле, в сущности, идет речь всякий раз, когда в суждении появляется «Я». Воля, таким образом, представляет собой истинный, конечный пункт единства сознания и связующее звено всех его функций и актов; но сама она не принадлежит интеллекту, а является лишь его корнем, источником и повелителем.
115
Из того, что ряд представлений имеет своей формой время и обладает одним измерением, вытекает как рассеянность интеллекта, так его забывчивость: ведь для того, чтобы удержать одно, интеллект должен упустить все другое. Большую часть упущенного он уже никогда не воспримет вновь, потому что такое повторное восприятие связано с законом основания, т. е. нуждается в поводе, который ассоциация мыслей и мотивация должны сперва предоставить; впрочем, этот повод может быть тем отдаленнее и слабее, чем больше наша восприимчивость к нему усилена интересом, который вызывает у нас данная вещь. Память же, как я показал в своем трактате о законе основания, — это вовсе не хранилище, а способность к произведению любых представлений, которые вследствие этого надо поддерживать беспрестанным упражнением, — иначе они постепенно улетучатся. Вот почему знания даже самого образованного человека существуют у него только virtualiter[142], как выработанная способность производить известные представления; но actualiter и он ограничен только одним каким-нибудь представлением и осознает в каждый данный момент времени только его[143]. Отсюда и возникает замечательный контраст между тем, что он знает potentia, и тем, что он знает actu, т. е. между его знаниями вообще и содержанием его ума в каждую данную минуту: первое — это необозримая и всегда несколько хаотическая масса, последнее — это одна ясная мысль. Отношение здесь такое же, как и между бесчисленными звездами небосклона и узким полем зрения телескопа. Этот контраст особенно ярко проявляется тогда, когда ученому хочется, по какому-нибудь поводу, ясно припомнить ту или другую мелочь из своих знаний: ему надо потратить много времени и усилий, чтобы извлечь ее из этого хаоса. Быстро справиться с такой задачей — это особый дар, но он находится в большой зависимости от дня и часа; вот отчего память иногда отказывается служить нам — даже и в таких вещах, которые в другое время она всегда имеет под рукой. Отсюда можно видеть, что мы в своем образовании должны стремиться больше к выработке правильного понимания, чем к накоплению учености, и помнить, что качество знания важнее его количества. Последнее сообщает книгам только объем, первое — основательность и в то же время стиль, ибо качество — это величина интенсивная, между тем как количество — только экстенсивная[144]. Качество состоит в отчетливости и совершенстве понятий наряду с чистотой и правильностью лежащих в их основе наглядных познаний; поэтому все знание во всех своих частях проникается им и сообразно этому становится либо ценным, либо ничтожным. С незначительным объемом знания, при его хорошем качестве, можно сделать больше, чем с очень значительным количеством при дурном качестве.
Самое лучшее и полное знание — наглядное, но оно ограничено только единичным, индивидуальным[145]. Соединение многого и различного в одном представлении возможно только посредством понятия, т. е. посредством опущения различий; следовательно, понятие — очень несовершенный вид представляющей деятельности. Правда, и единичное может быть непосредственно воспринято как общее — именно в том случае, если оно возвышается до (платоновской) идеи; но в этом процессе (я уже разобрал его в третьей книге) интеллект тоже, в свою очередь,
116
выходит из границ индивидуальности и, значит, времени; к тому же это лишь исключение.
Эти внутренние и существенные недостатки интеллекта увеличиваются еще из-за одной помехи, до некоторой степени внешней ему, но неизбежной: это влияние, которое оказывает на все его операции воля, если только она хоть немного заинтересована в результате последних. Всякая страсть и даже всякая симпатия и антипатия придают объектам познания свою окраску. Наиболее обычной является та подделка, которую привносят в наше познание надежда и желание: то, что маловероятно, они рисуют нам как возможное и почти достоверное, и в значительной степени лишают нас способности видеть противоположное; подобным же образом действует страх; аналогично и влияние всякого предвзятого мнения, всякой партийности, а также, как я уже говорил, всякого интереса, побуждения и склонности воли.
Ко всем этим недостаткам интеллекта присоединяется, наконец, и то, что он стареет вместе с мозгом, т. е., как и все физиологические функции, с годами теряет свою энергию, отчего все его недостатки значительно усиливаются.
Описанное здесь несовершенство интеллекта не будет нас удивлять, если мы вспомним, откуда он произошел и каково его назначение, что я изложил во второй книге. Природа создала его для служения индивидуальной воле; поэтому его роль состоит исключительно в том, чтобы познавать вещи настолько, насколько они являются мотивами такой воли, а вовсе не в том, чтобы постигать вещи в их основании и внутренней сущности. Человеческий интеллект — это только высшая степень интеллекта животного, и подобно тому, как последний всецело ограничен настоящим, так наш ум носит явные следы этого же ограничения. Вот почему наша память и объем наших воспоминаний представляют собой нечто весьма несовершенное: сколь немногое можем мы восстановить из того, что мы сделали, пережили, изучили, прочли! И даже это немногое мы припоминаем обычно лишь с трудом и не полностью[146]. По той ж причине для нас так трудно не поддаваться воздействию настоящего.
Бессознательность — это изначальное и естественное состояние всех вещей; следовательно, она является той основой, из которой, в отдельных видах существ, как высший ее цвет, вырастает сознание: поэтому бессознательное даже и на этой высокой ступени все еще преобладает. В силу этого большая часть живых существ не имеет сознания, но действует все-таки по законам своей природы, т. е. своей воли. Растения в лучшем случае имеют очень слабое подобие сознания; у низших животных есть лишь его проблески. Но даже после того как сознание, пройдя всю иерархию животного царства, возвысилось до человека и его разума, бессознательность растения, из которой оно исходило, все еще остается главной общей основой жизни, и ее можно почувствовать в необходимости сна, как и во всех других указанных мною существенных и крупных недостатках всякого интеллекта, возникающего благодаря физиологическим функциям: о другом же интеллекте мы не имеем никакого понятия.
К описанным здесь существенным недостаткам интеллекта в отдельных случаях присоединяются еще и несущественные[147]. Никогда интеллект
117
не бывает во всех отношениях тем, чем он мог бы быть: возможные для него положительные качества настолько противоположны, что исключают друг друга. Вот почему никто не может быть Платоном и Аристотелем, или Шекспиром и Ньютоном, или Кантом и Гете одновременно. Наоборот, отрицательные свойства интеллекта очень хорошо уживаются между собой: оттого он в действительности бывает по большей части гораздо ниже того, чем он мог бы быть. Его функции зависят от такого огромного множества условий, которые мы в явлении, где они только нам и даны, можем воспринимать лишь как анатомические и физиологические, что интеллект, ярко выдающийся хотя бы в одном только отношении, принадлежит к редчайшим явлениям природы; потому и создания его хранятся в течение многих веков, и всякая реликвия такого счастливо одаренного индивида становится великой драгоценностью. Бесчисленные ступени отделяют подобный интеллект от такого, который приближается к слабоумию. Сообразно с ними и духовный кругозор у разных людей оказывается весьма неодинаковым: начинаясь простым восприятием настоящего, которое существует и у животного, он расширяется до таких пределов, которые объемлют ближайший час, затем — целый день, даже и следующий, наконец — неделю, год, жизнь, столетия, тысячелетия, пока не достигнет такого состояния, которое почти всегда видит перед собой, хотя и в смутных очертаниях, горизонт бесконечности, и мысли которого принимают соответствующий ему характер.
Далее, различие интеллектов проявляется в быстроте мышления, которая играет очень важную роль и которая может иметь столько же оттенков и степеней, сколько имеет их скорость точек радиуса вращающегося круга[148]. То предельное расстояние между следствием и причиной[149], которое в состоянии пройти мышление данного лица, по-видимому, находится в определенном отношении с быстротой его мысли, так как высшее напряжение силы мышления может вообще длиться лишь очень короткое время, — а между тем всякая мысль может быть продумана во всей своей цельности только до тех пор, пока длится это напряжение; значит, все здесь сводится к тому, как далеко может интеллект проследить данную мысль за столь короткое время, т. е. какое количество пути он может пройти за этот временной промежуток. Но, с другой стороны, у некоторых людей быстрота мышления возмещается большей продолжительностью того времени, в течение которого они могут всецело сосредоточиться на одной мысли. По всей вероятности, медленное и устойчивое мышление создает математический ум; быстрота же мысли — свойство гения: последний воспаряет, а математик уверенно движется по твердой почве, шаг за шагом. Но то, что такого поступательного движения недостаточно для тех наук, которые имеют дело не с простыми величинами, а стремятся постигнуть сущность явлений, — это доказывает ньютоново учение о цветах, а также — бредни Био о цветовых кольцах, что, впрочем, соответствует всей атомистической теории света у французов с их «molecules de lumiere»*[150] и вообще с их идефикс — все в природе сводить к чисто механическим действиям[151].
118
Наконец, значительное индивидуальное различие интеллектов проявляется преимущественно в степени ясности понимания и, следовательно, в отчетливости всего мышления. Один сразу понимает то, что другой лишь слегка подметил; один успел и уже пришел к цели, в то время как другой только начинает свой путь; один уже решил то, что для другого является только проблемой. Это объясняется качеством мышления и знания, о котором я уже упоминал. Степень освещения различна и в комнатах, и в головах. Качество всего мышления вы легко почувствуете, как только прочтете всего несколько страниц того или иного писателя. Ибо здесь вы с самого начала мыслите с помощью его рассудка и в его духе: поэтому, прежде чем вы узнаете, что он мыслит, вы уже знаете, как он мыслит, т. е. каков формальный склад, ткань его мышления, которая остается неизменной, о чем бы он ни мыслил, и выражением которой являются ход мыслей и стиль. Они сразу же обнаруживают развитие, гибкость, легкость и даже окрыленность его духа или, наоборот, его тяжеловесный, напряженный, вялый и свинцовый характер. Ибо как язык есть отражение духа народа и стиль — непосредственное отражение духа писателя, его физиономия. Бросьте книгу, если вы заметите, что она приводит вас в такую область, которая темнее вашей собственной, разве только вы хотите почерпнуть из нее одни лишь факты, а не мысли. В ином случае только тот писатель принесет нам пользу, который понимает вещи яснее и проницательнее, чем мы сами, который ускоряет нашу мысль, а не задерживает ее, как это делают тупые писаки, заставляющие нас следовать за черепашьим шагом их мысли, полезен лишь такой писатель, умом которого нам легче и плодотворнее думать и который увлекает нас в те области, куда мы собственными силами не могли бы добраться[152]. Гете сказал мне однажды, что, когда он прочитывает страницу из Канта, он испытывает такое ощущение, как будто входит в ярко освещенную комнату. Дурные головы дурны не только потому, что они судят вкривь и вкось и, значит, ложно, а потому главным образом, что все их мышление неотчетливо и напоминает собой скверную зрительную трубу, в которой все рисуется в смутных и туманных очертаниях и различные предметы сливаются в одну массу. Слабый рассудок таких людей боязливо отступает перед требованием отчетливости понятий и не предъявляет его даже самому себе, — и вот они довольствуются полумраком, где ради собственного успокоения охотно прибегают к словам, в особенности к таким, которые обозначают неопределенные, очень абстрактные, необычные и труднообъяснимые понятия, каковы, например, бесконечное и конечное, чувственное и сверхчувственное, идея бытия, идеи разума, абсолютное, идея блага, божественное, нравственная свобода, сила самопроизвольного зарождения, абсолютная идея, субъект-объект и т. д.[153] Они жонглируют такими понятиями и думают, что все это действительно выражает какие-то мысли, и требуют, чтобы все довольствовались этим, ибо крайняя доступная для них вершина мудрости заключается в том, чтобы на каждый возможный вопрос иметь наготове подобные слова. Эта поразительная удовлетворенность словами чрезвычайно характерна для дурных голов: она объясняется их неспособностью к отчетливым понятиям, коль скоро последние выходят за пределы самых тривиальных
119
и простых отношений, объясняется слабостью и вялостью их интеллекта и даже тайным сознанием этой слабости, которое у ученых, сверх того, связано с давно испытанной жестокой необходимостью выдавать себя за мыслящие существа: для того чтобы во всех случаях отвечать этой репутации, они и держат наготове целый запас подобных слов. Поистине забавное, должно быть, зрелище — видеть профессора философии такого пошиба на кафедре! Bona fide* извергает он ряд бессодержательных слов в добросовестном самообольщении, что это действительно мысли; а перед ним студенты, также bona fide, т. е. в том же самообольщении, благоговейно внимают ему и записывают его речи; между тем ни тот, ни другие в сущности не идут дальше слов, и только звук этих слов да внятный скрип перьев — вот единственное, что здесь реально. Эта своеобразная удовлетворенность словами больше всего способствует укоренению ошибок. Ибо, опираясь на унаследованные от предшественников слова и фразы, каждый смело проходит мимо трудностей и проблем; и последние, оставленные без внимания в течение веков, разрастаясь, перекочевывают из одной книги в другую, и мыслящий человек, особенно в юности, мучится сомнением: он ли только неспособен все это понять, или же в самом деле здесь нет ничего понятного; и не знает он, действительно ли не составляет для других проблемы то, мимо чего они с такой комической серьезностью крадутся все по одной дорожке, или же они просто не хотят ее видеть. Много истин только потому остаются неоткрытыми, что никто не имеет мужества встать к проблеме лицом к лицу и попытаться ее разрешить[154].
В противоположность этому свойственная выдающимся умам отчетливость мышления и ясность понятий способствуют тому, что даже известные истины, если они излагаются ими, приобретают новый свет или, по крайней мере, новую прелесть: когда вы их читаете или слушаете, то вам кажется, что скверную зрительную трубу для вас обменяли на хорошую. Прочтите, например, изложение Эйлером в «Письмах к принцессе» основных истин механики и оптики! На этом и основывается замечание Дидро в «Neveu de Rameau»**, что только безусловные мастера способны хорошо преподавать элементы своей науки, ибо только они действительно понимают свой предмет и слова никогда не заменяют у них мыслей.
Но следует помнить, что скверные головы — правило, хорошие — исключение, выдающиеся — большая редкость, гений — portentum***. Иначе разве было бы возможно, чтобы состоящее почти из восьмисот миллионов индивидов человечество спустя шесть тысячелетий оставило еще столько неразгаданного, неоткрытого, непродуманного и несказанного. Интеллект рассчитан[155] только на сохранение индивида, да и для этого он по большей части едва-едва пригоден. Но природа все же проявила мудрость в том, что была скупа в раздаче большей меры интеллекта. Ибо ограниченный ум в состоянии гораздо легче обозревать те немногие и простые отношения, которые лежат
120
в узкой сфере его деятельности, и он лучше может управлять их рычагом, нежели ум выдающийся, горизонт которого несравненно шире и богаче, а рычаг длиннее. Так, насекомое на своих стебельках и листиках видит все до последних мелочей и гораздо лучше, чем мы; но оно не замечает человека, который стоит перед ним в трех шагах. На этом основывается хитрость глупцов и парадокс: «Il y a un mystere dans l’esprit des gens qui n’en ont pas»*. Для практической жизни гений так же пригоден, как телескоп в театре.
Таким образом, по отношению к интеллекту природа в высшей степени аристократична. Различия, которые она здесь установила, значительнее тех, которые устанавливают в любой стране рождение, звание, богатство и различие каст. Но как в других аристократиях, так и в аристократии природы на одного благородного приходятся тысячи плебеев, на одного князя — миллионы простолюдинов, и большинство — это одна только чернь, mob, rabble, la canaille. При этом, конечно, между иерархией природы и иерархией условности существует вопиющий контраст, на устранение которого можно надеяться только в золотом веке. А пока люди, очень высоко стоящие в той или другой иерархии, имеют между собой то общее, что в большинстве случаев они живут в гордом одиночестве, на что и намекает Байрон, говоря:
То feel me in the solitude of
kings,
Without the power that makes
them bear a crown.
(«Proph. of Dante», с I)**
Ибо интеллект — это принцип дифференциации и, следовательно, разделения; его различные степени гораздо больше, чем степени простого образования, дают каждому свои понятия, вследствие чего каждый в известной мере живет в особом мире, где непосредственно встречается только с людьми равными ему, а к остальным может взывать лишь издали, пытаясь сделаться для них понятным. Значительные различия, существующие в степени и развитии интеллекта, раскрывают между человеком и человеком широкую пропасть, и ее в состоянии преодолеть только доброе сердце, которое, в противоположность интеллекту, является началом единения, отождествляя всякого другого с нашим собственным Я. И все-таки эта связь остается чисто моральной, союзом интеллектуального характера она сделаться не может. Даже при сравнительно одинаковой степени образования разговор между великим умом и ординарным человеком напоминает совместное путешествие конного и пешего: скоро оно становится в тягость обоим и долго длиться не может. На короткое время всадник может, правда, спешиться и пойти вровень со своим товарищем, но и в таком случае ему надо будет сильно бороться с нетерпением своего коня.
Ничто не будет так полезно для публики, как познание интеллектуального аристократизма природы. Она поймет, что пока речь идет
121
о фактах, т. е. пока излагаются выводы из экспериментов, путешествий, кодексов, исторических книг и хроник, до тех пор довольно и обыкновенного ума; но там, где требуются мысли, хотя бы и такие, для которых у каждого имеются материал и данные, и где, значит, все дело в сущности сводится лишь к тому, чтобы предуказать путь для чужой мысли, — там безусловно необходимы решительное превосходство и прирожденные способности, которые дарит исключительно природа — и дарит в высшей степени редко; и никто не заслуживает внимания, если сейчас же не предъявит образцов своего умственного превосходства. Если бы удалось сделать эту истину достоянием нашей публики, то последняя свой досуг, скупо отмеренный ей для образования, уже не тратила бы на порождения ординарных умов, на те бесчисленные кропанья в поэзии и философии, которые высиживаются каждый божий день; она перестала бы вечно хвататься за литературные новинки, в детском заблуждении, что книги, как и яйца, надо есть свежими, — она обратилась бы к творениям немногих избранных и призванных всех времен и народов, постаралась бы их узнать и понять и таким образом постепенно дошла бы до истинного образования. Тогда не появились бы и те тысячи незваных произведений, которые, словно плевелы, затрудняют рост доброй пшеницы.
Глава 16*
О практическом применении разума и о стоицизме
В седьмой главе я показал, что если в области теории исходить из понятий, то это ведет лишь к посредственным результатам, между тем как для достижения выдающихся результатов требуется черпать из самого созерцания как из первоисточника всякого познания. В практической же сфере дело обстоит как раз наоборот: здесь определенность наглядным характерна для животного, но недостойна человека, ибо он для руководства своими поступками имеет понятия и поэтому свободен от власти данного в созерцании настоящего, которому животное подчинено безусловно. В той мере, в какой человек пользуется этим преимуществом, его деятельность можно назвать разумной, и только в этом смысле может идти речь о практическом разуме, а не в кантовском смысле, несостоятельность которого я подробно показал в своем конкурсном сочинении об основании морали.
Однако нелегко руководствоваться одними понятиями: даже на сильнейший дух властно воздействует окружающий внешний мир и его наглядная реальность. Но именно в победе над этими воздействиями, в уничтожении их миража человеческий дух проявляет свое достоинство и величие. Так, если он остается равнодушным к чарам наслаждений и удовольствий, если его не потрясают угрозы и ярость озлобленных врагов и его решения не колеблют мольбы заблуждающихся друзей; если он остается невозмутимым перед обманчивой сетью, которой ста-
122
раются его опутать интриганы и заговорщики; если насмешки глупцов и толпы не лишают его самообладания и не роняют его в собственных глазах, то он как бы находится под влиянием только ему видимого духовного мира (и это — мир понятий), перед которым, словно призрак, рассеивается открытая для всех ‹наглядно› созерцаемая действительность.
С другой стороны, то, что придает внешнему миру и зримой
реальности мощную власть над
духом, это — их близость и непосредственность. Как магнитная стрелка, благодаря совместному действию широко распространенных, охватывающих всю
землю сил природы постоянно сохраняет
свое обычное направление, но все же при достаточной близости маленького кусочка железа уклоняется от
своей линии и начинает беспокойно
колебаться из стороны в сторону, так и сильный дух может иногда потерять самообладание и прийти в смущение от ничтожных происшествий и людей, если только они
влияют на него с очень близкого расстояния;
и даже самое обдуманное решение может быть мгновенно поколеблено под воздействием незначительного, но зато
непосредственного противомотива.
Ибо относительное влияние мотивов подчиняется известному закону, который прямо противоположен закону действия тяжестей на рычаги весов и в силу
которого очень слабый, но очень близкий
мотив иногда перевешивает мотив гораздо более сильный, но действующий издалека. Особенность духа,
вследствие которой он подчиняется этому
закону и не может освободиться от него силой действительно практического разума, — эта особенность
и является тем, что древние называли
animi impotentia[156]*[157],
которое собственно означает ratio regendae voluntatis impotens**[158].
Всякий аффект (animi perturbatio) возникает в силу того, что известное
представление, действующее на нашу волю, чрезмерно приближается к нам, так что
закрывает перед нами все остальное и мы не в состоянии видеть ничего, кроме
него, из-за чего в данную минуту мы теряем способность учитывать иное. Хорошее
средство против этого — заставить себя относиться к настоящему так, как если бы
оно было прошедшим, т. е. сознательно воспринимать его в эпистолярном
стиле римлян. Ведь умеем же мы очень хорошо совершать обратный процесс: давно
прошедшие события так живо воскресают перед нами, как если бы они происходили
теперь, и давно уснувшие аффекты благодаря этому опять пробуждаются во всей
своей бурной стремительности[159].
Точно так же различные невзгоды и неудачи не волновали бы нас и не выводили из себя,
если бы разум всегда напоминал нам, что, собственно, представляет собой
человек: существо, каждый день и каждый час отданное на произвол бесчисленных
великих и малых невзгод, вечно нуждающееся в помощи и вечно озабоченное и
трепещущее, — τὸ
δειλότατον ξφῷον***. Как сказал еще Геродот: «H
Применение разума в практической жизни дает прежде всего тот результат, что мы воссоединяем в цельный образ односторонние и раздробленные элементы чисто наглядного познания и те противоречия,
123
которыми оно отличается, употребляем в качестве коррективов друг для друга: так достигается объективно правильный результат. Например, видя дурной поступок какого-то человека, мы осуждаем его; но, представив себе нужду, которая подвинула его на это, мы чувствуем к нему сострадание: разум же с помощью своих понятий взвесит и то и другое и приведет нас к заключению, что этого человека должно обуздать, ограничить и исправить соответствующим наказанием.
Я еще раз напомню изречение Сенеки: «Si vis tibi
Это стремление к свободному от страданий существованию возможно благодаря применению разумного размышления и следованию ему, а также благодаря постижению истинного характера жизни, — это стремление, строго и последовательно доведенное до своих крайних пределов, породило кинизм, а из него впоследствии появился стоицизм; я в нескольких словах изложу это здесь для более прочного обоснования того, что я говорил об этом в конце нашей первой книги.
Все моральные системы древности, за исключением платоновской, были руководствами к счастливой жизни; поэтому добродетель имеет в них свою конечную цель вовсе не по ту сторону смерти, а в этом мире. Ибо добродетель, согласно их учению, это лишь верный путь к истинно счастливой жизни, потому мудрец и выбирает ее. Из такого взгляда и проистекают сохраненные для нас преимущественно Цицероном пространные дебаты и остроумные, никогда не прекращавшиеся исследования того, действительно ли одной добродетели, самой по себе, достаточно для счастливой жизни, или же для этого требуются еще и некоторые внешние условия; будет ли добродетельный и мудрец счастлив даже под пыткой, на колесе или в быке Фалариса48, или же так далеко дело не заходит. Да и понятно, что именно эти вопросы должны быть пробным
124
камнем такой этики: следование ей
должно делать человека счастливым непосредственно и безусловно. Если же она не
в состоянии этого сделать, то она не отвечает своему назначению и должна быть
отвергнута. Оттого Августин, со свой христианской точки зрения, прав,
когда предпосылает своему изложению моральных систем древних такое замечание (De
civ. Dei. Lib. XIX, с. 1): «Exponenda sunt nobis argumenta mortalium, quibus
sibi ipsi beatitudinem facere in huius vitae infelicitate
moliti sunt; ut ab eonim rebus vanis spes nostra quid differat clarescat. De
finibus bonorum et malorum multa inter se philosophi disputarunt; quam
quaestionem maxima intentione versantes, in venire conati sunt, quid efficiat h
Эту же цель наиболее счастливой жизни ставила перед собой и
этика киников; об этом
прямо свидетельствует император Юлиан, Orat. VI: «Cynicae philosophiae,
ut etiam
125
feliciter vivere: felicitas vitae
autem in eo posita est, ut secundum naturam vivatur, nee vero secundum
opiniones multitudinis»*. Но
только киники пролагали к этой
цели совершенно особый путь, прямо противоположный обычному, путь как можно больших лишений. Они исходили из того взгляда, что те желания, в которые
погружают нашу волю пленяющие и
возбуждающие предметы, тягостные, по большей части бесплодные усилия овладеть желанной вещью, страх
потерять ее, когда она уже приобретена,
наконец, действительная утрата — все это порождает гораздо больше страданий, чем полное отречение от подобных
вещей. Вот почему ради достижения
наиболее свободной от страданий жизни они
избирали путь самых больших лишений, какие только возможны, и избегали всех наслаждений, как сетей,
в которые нас ловит грядущее страдание.
И оттого они могли бросать гордый вызов счастью и его капризам. Таков дух кинизма; он нашел себе ясное
выражение у Сенеки в восьмой главе
его «De tranquillitate animi»**: «Cogitandum
est, quanto levior dolor sit, non habere, quam perdere: et intelligemus, paupertati
eo minorem tormentorum, quo minorem damnorum esse matcriam». Затем: «Tolerabilius
est, fadliusgue, non acquirere quam amittere… Diogenes effedt, ne quid sibi
eripi posset… qui se fortuitis
Aera quidem absumit tempus, sed tempore numquam
Interitura
tua est gloria, Diogenes:
Quandoquidem
ad vitam miseris mortalibus aequam
Monstrata
est facilis, te duce, et ampla via******.
Таким образом, основная мысль кинизма заключается в том, что наиболее сносна и оттого предпочтительна жизнь в ее простейшей и обнаженной форме, с ее естественными тяготами; ибо всякие удобства,
126
удовольствия, забавы и развлечения,
все то, чем стараются сделать ее приятнее, — все это влечет за собой только
новые муки, более сильные, чем те, которые присущи ей в ее изначальной форме.
Поэтому основной пункт его учения можно видеть в следующем изречении: «Diogenes
clamabat saepius h
127
им саньяси53,
она представляет собой некоторую цель, выходящую за пределы жизни; у киников же
— просто убеждение, что легче свести свои желания и потребности к минимуму, чем
достигнуть максимума в их удовлетворении, причем последнее даже невозможно, так
как по мере удовлетворения потребности и желания возрастают до бесконечности; вот
почему киники, ради достижения цели всей античной этики, возможного счастья в
этой жизни, проложили путь воздержания, как самый короткий и легкий: unde et
Cynismum dixere c
Коренное отличие духа кинизма от духа аскезы явственно обнаруживается в том смирении, которое характерно для последней и настолько чуждо первому, что он, напротив, провозглашает своим девизом гордость и презрение ко всем остальным:
Sapiens
uno minor est love, dives,
Liber,
honoratus, pulcher, rex denique regum.
Horaz**
С другой стороны, мировоззрение киников по духу своему совпадает с мировоззрением Ж. Ж. Руссо, как он его излагает в своем «Discours sur l’origine de l’inégalite»***: ведь и он хотел вернуть нас к грубому первобытному состоянию и самый надежный путь к счастью видел в сокращении потребностей до минимума. Впрочем, киники были исключительно практическими философами; по крайней мере, я не имею никаких сведений об их теоретической философии.
От них ведут свое происхождение стоики, превратившие практическое в теоретическое. Они полагали, что действительного воздержания от всего того, без чего можно обойтись, не требуется; достаточно только, чтобы мы в обладании и наслаждении всегда видели нечто, без чего можно обойтись, и подвластное случаю: тогда, если нас постигнет действительное лишение, мы будем к нему подготовлены и оно не будет нас тяготить. Можно, пожалуй, все иметь и всем наслаждаться, необходимо только всегда питать убеждение в ничтожестве и ненужности таких благ и, с другой стороны, помнить, что они непрочны и бренны; мы должны не придавать им значения и быть постоянно готовыми к отказу от них. Тот же, кто во избежание соблазна вынужден и на деле отрекаться от подобных вещей, показывает этим, что в глубине души он считает их истинными благами, которые необходимо совсем удалять из своего поля зрения, для того чтобы не почувствовать к ним вожделения. Мудрец, напротив, знает, что это не благо, что это — совершенно безразличные вещи, ἀδιάφορα, или, по крайней мере, προηγμένα****. Поэтому он при удобном случае не прочь ими воспользоваться; но он
128
всегда готов с полным равнодушием отказаться от них, когда их повелитель — тот же случай — потребует их обратно; ибо они — τῶν οὺχ εʼφʼ ἡμῖν*. В этом смысле и говорит Эпиктет, гл. 7, что мудрец подобен человеку, который сойдет, пожалуй, с корабля на берег, приударит за бабенкой или мальчуганом, но, как только позовет его кормчий, сейчас же покинет их. Так стоики усовершенствовали теорию равнодушия и независимости за счет практики, ибо они все сводили к умственному процессу и с помощью софистических аргументов, как в первой главе Эпиктета, разрешали себе все житейские удобства. Но при этом они упустили из виду, что все, к чему мы привыкли, становится потребностью, от которой можно отказаться только ценою болезненного усилия; что воля не позволяет играть собой и не может наслаждаться без любви к своим наслаждениям; что собака не остается равнодушной, когда ей суют в рот кусок жареного мяса, да и мудрец, если он голоден, не останется к этому равнодушен; что между вожделением и отречением нет середины. Они думали, что полностью следуют своим принципам, если, возлегая за роскошной[161] римской трапезой, не пропускают ни одного блюда, но при этом уверяют, что все это для них только προηγμένα, а не ὰγαϑὰ**; попросту говоря, они пили, ели, жили в свое полное удовольствие, но не считали нужным почтительно благодарить за это Бога, а, напротив, строили брезгливые физиономии и все утверждали, что их обжорство вовсе им не любо. В этом заключалась уловка стоиков, и они были героями только на словах; и к киникам они относятся приблизительно так же, как упитанные бенедиктинцы и августинианцы — к францисканцам и капуцинам. Чем больше пренебрегали они практикой, тем тоньше заостряли свою теорию. К изложению ее, которое я дал в конце первой книги, я здесь присоединю еще несколько дополнительных замечаний.
Если бы мы пожелали найти в дошедших до нас произведениях стоиков, которые все написаны несистематично, последнее основание того непоколебимого равнодушия, которое они всегда проповедуют, то мы увидели бы, что это основание представляет собой не что иное, как убеждение в совершенной независимости миропорядка от нашей воли и, следовательно, в неизбежности постигающих нас бедствий. Если мы глубоко проникнемся этим верным убеждением и согласно с ним урегулируем наши притязания, то печаль и радость, страх и надежда — все это предстанет в наших глазах нелепостью, на которую мы уже не будем способны. Но при этом, особенно в комментариях Арриана, допускается такая передержка, как будто все то, что οὐκ ἑφʼ ἡμῖν (т. е. не зависит от нас), является одновременно и тем, что οὐ πρὀς ηʼμᾶς (т. е. нас не касается). Во всяком случае, стоики правы в том, что все жизненные блага находятся во власти случая и поэтому как только случай, проявляя свою власть, отнимает их у нас, мы становимся несчастны, ибо видели в них свое счастье. От этой недостойной участи нас должно избавить правильное использование разума: оно заставит нас рассматривать все эти блага не как нашу собственность, а как нечто данное взаймы на
129
неопределенный срок; лишь при таком
взгляде мы действительно застрахованы от
их утраты. Поэтому и говорит Сенека (Ер. 98): «…si, quid humananim rerum
varietas possit, cogjtaverit, antequam senserit»*
и Диоген Лаэртский (VII,
1, 87): «Secundum virtutem vivere idem est quod secundum experientiam eorum,
quae secundum naturam accidunt, vivere»**.
Сюда же, в особенности, относится
одно место в рассуждениях Арриана об Эпиктете (1. III, с. 24, 84—89);
особым подтверждением того, что я говорил об этом в § 16 первого тома, может служить следующее место у него (ibid.
IV, 1. 42): «Наес enim causa est h
Как подтверждение того, что я в указанном месте говорил относительно стоического принципа ὁμολογουμένως ζῆν********, можно рас-
130
сматривать отрывки, собранные в «Historia
philosophiae Graeco-R
Замечу еще, что καϑήκοντα[165] стоиков, которые Цицерон переводит словом «officia», означают приблизительно «обязанности» или то, что надлежит сделать по существу дела, — по-английски «incumbencies», по-итальянски «quel che tocca a me di fare, о di lasdare», т. е. вообще то, что подобает делать разумному человеку (см. Diog. Laert. VII, 1, 109).
Наконец, пантеизм стоиков, который совсем не
соответствует иным капуцинадам Арриана, яснее всего выражен у Сенеки: «Quid est
Deus?
131
Mens universi. Quid
est Deus? Quod vides totum et quod non vides totum. Sic demum magnitudo sua
illi redditur, qua nihil maius excogitari potest: si solus est
Глава 17**
О метафизической потребности человека
Ни одно существо, кроме человека, не удивляется собственному бытию: последнее кажется всем им чем-то понятным само собой, так что его даже не замечают. В спокойном взгляде животных еще отражается мудрость природы, ибо в них воля и интеллект еще не так далеко разошлись между собой, чтобы при встрече удивляться друг другу[166]. Здесь все существо еще прочно держится на том стволе природы, из которого оно выросло, и сопричастно бессознательному всеведению великой матери. Лишь после того как внутренняя сущность природы (воля к жизни в своей объективации) мощно и радостно вознесется через оба царства бессознательных существ и затем поднимется по длинной и широкой лестнице животного мира, лишь тогда, при появлении разума, т. е. в человеке, она впервые достигнет осмысленности, и удивится творениям своих же рук и спрашивает себя — что же такое она сама? И это удивление тем серьезнее, что здесь она впервые сознательно встречается со смертью, и наряду с мыслью о конечности всякого бытия ее более или менее властно охватывает и мысль о тщете всех стремлений. Вместе с этим сознанием и с этим удивлением возникает для человека ему одному свойственная потребность в метафизике[167]: он, таким образом, представляет собой animal metaphysicum***.
Конечно, на начальной стадии развития своего сознания и
человек тоже принимает себя за нечто само собой понятное. Но это длится недолго:
очень рано, вместе с первой рефлексией, зарождается у него то удивление,
которому впоследствии суждено стать матерью метафизики. Оттого и говорит
Аристотель в начале своей «Метафизики»: «Propter admirationem enim et nunc et
primo inceperunt h
132
оно существует, и то, что оно существует, кажется ему понятным само собой. Это объясняется тем, что его интеллект еще остается всецело верен своему первоначальному назначению — служить воле в качестве посредника мотивов; он тесно связан с миром и природой и входит в них составной частью: вот почему для него невозможно как бы отделиться от совокупности явлений, на время противопоставить ей себя как нечто самостоятельное и понять мир чисто объективно. С другой стороны, то философское удивление, которое возникает из такого взгляда на мир, в отдельных людях обусловлено более высоким развитием интеллекта, но, вообще говоря, не им одним: без сомнения, наиболее сильный толчок философскому осмыслению и метафизическим истолкованиям мира дает нам сознание грядущей смерти[168] и созерцание страданий и горестей жизни. Если бы наша жизнь была бесконечна и беспечальна, то, быть может, никому бы и в голову не пришло спросить, отчего существует мир и отчего он таков, каков он есть, все это казалось бы тогда понятным само собой. Соответственно этому мы видим, что интерес, который вызывают философские или даже религиозные системы, несомненно больше всего связан с догматом о той или иной форме загробной жизни; и хотя религиозные системы, по-видимому, главным вопросом признают существование своих богов и его защищают наиболее ревностно, но это в конце концов объясняется лишь тем, что с существованием богов они связывают свой догмат о бессмертии и последний считают неотделимым от первого: только это, собственно, для них и значимо. Действительно, если бы можно было обосновать в их глазах несомненность бессмертия каким-нибудь иным путем, то их ревностная любовь к их богам скоро охладела бы; и с другой стороны, она уступила бы место почти совершенному равнодушию, если бы была доказана полная невозможность бессмертия: ибо интерес к существованию богов исчез бы вместе с надеждой на более близкое знакомство с ними, или он сохранился бы лишь настолько, насколько богам приписывалось бы влияние на события текущей жизни. А если бы можно было доказать, что загробная жизнь несовместима с существованием богов — хотя бы потому, что она предполагает изначальность каждого существа, — то они ради собственного бессмертия пожертвовали бы богами и стали бы ревностными приверженцами атеизма. Этим же объясняется и то, почему собственно материалистические системы, как и последовательно скептические, никогда не могли достигнуть всеобщего или длительного влияния на людей.
Храмы и церкви, пагоды и мечети во всех странах и во все времена — пышные и величавые свидетели метафизической потребности людей, которая мощно и непобедимо идет вослед физической. Правда, человек с сатирическими наклонностями мог бы заметить, что метафизическая потребность — особа невзыскательная, и угодить ей нетрудно. Она порою довольствуется пошлыми и нелепыми побасенками, и если только человеку достаточно рано внушили их, то впоследствии они служат для него истолкованием его бытия и опорой его нравственности и вполне удовлетворяют его в этом качестве. Возьмите, например, Коран: этой скверной книги оказалось достаточно для того, чтобы основать мировую религию, удовлетворять — вот уже 1200 лет — метафизическую
133
потребность бесчисленных миллионов людей, сделаться основой их морали и глубокого презрения к смерти, вдохновлять на кровавые войны и самые обширные завоевания. Мы находим в этой книге самую печальную и жалкую форму теизма. Правда, многое, быть может, утратилось в переводе, но я, по крайней мере, не мог найти в ней ни одной ценной мысли. Все это показывает, что с метафизической потребностью не идет рука об руку метафизическая способность. Но, по-видимому, в раннюю пору жизни нашей планеты дело обстояло иначе, и те, кто значительно ближе нас стоял к возникновению человеческого рода и первоисточнику органической природы, обладали еще, с одной стороны, большей энергией интуитивных сил познания, а с другой — большей ясностью духа, почему они и были способны к более чистому и непосредственному пониманию сущности природы и, таким образом, могли более достойно удовлетворять свою метафизическую потребность. Так зародились у праотцов[169] брахманов, риши, те почти сверхчеловеческие концепции, которые позднее были изложены в Упанишадах Вед51.
Но зато никогда не было недостатка в людях, стремившихся построить на метафизической потребности человека свое благосостояние и возможно более интенсивно эксплуатировать ее, оттого и существуют у всех народов ее монополисты и генеральные откупщики — жрецы. Однако вполне обеспечить их промысел можно было только тем, что им предоставили право втолковывать людям свои метафизические догматы с очень ранних пор, пока способность суждения еще не пробудилась у человека от своей утренней дремоты, т. е. в раннем детстве, ибо тогда всякий хорошо запечатленный догмат, как бы нелеп он ни был, остается навсегда. Если бы жрецам приходилось ждать, пока в отроке созреет способность суждения, то их привилегии не могли бы устоять.
Другой, хотя и не столь многочисленный класс людей, извлекающих средства к жизни из метафизической потребности человека, составляют те, кто живет за счет философии: у греков они назывались софистами, теперь их зовут профессорами философии[170]. Аристотель, не задумываясь, причисляет Аристиппа к софистам (Metaph., II, 2); объяснение этого мы находим у Диогена Лаэртского (II, 65): он сообщает, что Аристипп был первым среди учеников Сократа, взимавшим плату за свою философию, — из-за этого Сократ и отослал ему обратно его подарок. И в наше время лица, которые живут за счет философии, за очень редкими исключениями совсем не те, кто живет для философии; мало того, они весьма часто являются противниками, тайными и непримиримыми врагами последних, ибо всякое истинное и серьезное философское произведение бросает слишком сильную тень на их собственные изделия и, кроме того, не соответствует их планам и цеховым ограничениям. Вот они и принимают все меры к тому, чтобы заглушить такое произведение, и, смотря по обстоятельствам данного момента, прибегают с этой целью к одному из своих обычных средств: либо замалчивают его, утаивают, игнорируют, обходят, либо отрицают его, принижают, хулят, порочат, искажают, либо преследуют автора и пишут на него доносы. И по этой причине уже не один великий ум должен был в изнеможении влачить свою жизнь, без признания, без почестей, без наград, пока,
134
наконец, его смерть не показывала миру, кем был он и кем были его враги. А пока суд да дело, они имели полный успех, слыли за то, чем должен был слыть он, и с женами и детьми жили за счет философии, между тем как он жил для нее. Когда же такой мыслитель умирает, дело меняется: новое поколение вездесущих лжефилософов становится наследником его произведений, перекраивает их на свой аршин и начинает жить уже за его счет[171]. Если Кант мог все-таки одновременно жить за счет философии и для философии, то это объясняется тем редким обстоятельством, что в его время, впервые после Divi Antonini и Divi Iuliani*, на троне восседал философ58; только при таких ауспициях59 могла увидеть свет «Критика чистого разума». Но король умирает, и мы сейчас же видим, что Кант, — ведь он тоже принадлежал к цеху — объятый страхом, изменяет, кастрирует и портит во втором издании свой шедевр, тем не менее вскоре подвергается опасности потерять свою кафедру, так что Кампе приглашает его в Брауншвейг жить у себя в качестве главы его семейства (Ring. «Ansichten aus Kants Leben». S. 68). Университетская философия — это, по большей части, одно притворство: ее настоящая цель — глубоко внедрить в сознание студентов такой образ мыслей, который соответствовал бы намерениям министерства, предоставляющего профессорские кафедры. Быть может, с государственной точки зрения оно имеет на это право, но только отсюда следует, что такая философия с кафедры представляет собой «nervis alienis mobile lignum»**, и в ней надо видеть философию не серьезную, а комическую. Во всяком случае, справедливо, что такой надзор или руководство простирается только на университетскую философию, а не на философию действительную, которая относится к своему делу серьезно. Ибо если есть в мире что-нибудь желанное и ценное, настолько ценное, что даже темная и косная толпа в минуты просветления предпочла бы его серебру и злату, тогда это то, чтобы во тьму нашего бытия проник луч света и дал нам разгадку нашей таинственной жизни, в которой для нас ясно одно: ее горесть и ее ничтожество. Но если бы такая разгадка и была сама по себе осуществима, то во всяком случае насильственные и навязанные решения проблемы сделали бы ее невозможной.
А теперь рассмотрим в общих чертах различные способы, какими удовлетворяется эта столь могучая метафизическая потребность.
Под метафизикой я понимаю всякое предполагаемое знание, которое выходит за пределы возможного опыта, т. е. природы или данного явления вещей, выходит для того, чтобы открыть, чем эта область явлений, в том или другом смысле, обусловлена, или, выражаясь популярно, что таится за природой и делает ее возможной. Но большое врожденное неравенство умственных способностей, а также их неодинаковое развитие у отдельных лиц, требующее значительного досуга, порождают столь большую разницу между людьми, что как только народ выходит из первобытного состояния, одна метафизика уже не в состоянии удовлетворять всех; вот почему у цивилизованных народов мы встречаем ее всегда в двух видах, которые различаются между собой
135
тем, что один имеет свое обоснование в себе самом, а другой — вне себя. Так как метафизические системы первого рода требуют для своего признания размышления, образования, досуга, самостоятельности суждения, то они могут быть доступны лишь крайне ограниченному числу людей; да и возникнуть и существовать они могут только при высоком уровне цивилизации. Наоборот, для большинства людей, которым под силу не размышление, а одна только вера и на которых действуют не разумные доводы, а только авторитет, для них существуют исключительно системы второго рода, и последние можно назвать поэтому народной метафизикой, по аналогии с народной поэзией или народной мудростью, под которой понимают пословицы. В действительности эти системы известны под именем религий и встречаются у всех народов, за исключением самых грубых. Обоснование их, как я уже сказал, имеет внешний характер и в качестве такого называется откровением, которое подтверждается знамениями и чудесами. Аргументы в таких системах — это, главным образом, угрозы вечных или временных мук, направленные против неверующих и даже против сомневающихся; в качестве ultimae rationis theologorum* мы встречаем у некоторых народов костры и тому подобное. Если же названные системы ищут для себя иного обоснования или прибегают к доказательствам иного характера, то это значит, что они уже делают переход к системам первого рода и могут выродиться в нечто среднее между теми и другими, — а это для них скорее опасно, чем выгодно. Ибо надежнее всего обеспечивает им постоянную власть над умами то неоценимое их преимущество, что они преподаются детям, вследствие чего их догматы превращаются во второй врожденный интеллект, словно ветка, привитая к дереву; между тем системы первого рода всегда обращаются исключительно ко взрослым и уже застают их убеждения во власти какой-нибудь из систем второй категории.
Оба рода метафизики, различие меду которыми состоит, кратко говоря, в том, что одно учение основано на убеждении, а другое — на вере, имеют между собой то общее, что каждое из их учений в отдельности находится во враждебном отношении ко всем остальным из той же категории. Борьба между учениями первого рода ведется только словом и пером; борьба между учениями второго рода ведется, кроме того, огнем и мечом, и некоторые из них своим распространением обязаны отчасти последнему виду полемики; все они мало-помалу поделили между собой землю и поделили так решительно и властно, что народы отличаются друг от друга в гораздо большей степени в соответствии с ними, чем по национальности или по форме правления. Только они, эти системы, — каждая на своей территории — господствуют, между тем как системы первого рода в крайнем случае терпят, да и то лишь потому, что ввиду малочисленности их последователей в них обычно видят нечто, не стоящее обуздания огнем и мечом (впрочем, когда это представляется необходимым, против них успешно принимают и такие меры); да и встречаются они, кроме того, лишь спорадически. В большинстве случаев их допускают только в прирученном и покорен-
136
ном виде, и господствующая в стране система второго рода более или менее строго предписывает им приспосабливаться к ней самой. Иногда же она не только покоряет, но и заставляет их служить себе, пользуется ими в качестве подставных лошадей; впрочем, это опасный эксперимент, так как системы первого рода, насильственно обезоруженные, считают себя вправе прибегать к хитрости и никогда не бывают совершенно чисты от потайных замыслов, что иной раз и обнаруживается и приносит труднопоправимый ущерб. Это опасное положение философских учений усиливается еще тем, что все реальные науки, даже самые невинные из них, являются их тайными союзницами против систем второго рода и, сами не вступая в открытую войну с последними, нежданно-негаданно причиняют им большой урон. К тому же попытка воспользоваться философской системой в служебных целях и с ее помощью придать еще и внутреннюю убедительность религиозному учению, которое первоначально имело одно только внешнее обоснование, такая попытка, по самой природе своей, несостоятельна: ведь если бы подобное учение поддавалось внутреннему обоснованию, оно не имело бы нужды во внешнем. Вообще всегда рискованно подводить под готовое здание новый фундамент. Да и зачем нужна религии поддержка философских систем? И так ведь все на ее стороне: откровение, Писание, чудеса, пророчества, правительственная охрана, высший почет, который гарантирует ей истинность, общее признание и уважение, тысячи храмов, где ее проповедуют и осуществляют, дружная армия жрецов и — что самое главное — неоценимое право внушать свои учения в пору нежного детства, вследствие чего они становятся как бы врожденными идеями. Для того чтобы при таком изобилии средств добиваться еще расположения каких-то несчастных философов и страшиться их противодействия, для этого религия должна быть более жадной и более пугливой, что плохо вяжется с чистой совестью.
К указанному различию между метафизикой первой и второй категории присоединяется еще и другое. Система первого рода, т. е. философия, выражает притязание, а следовательно, и берет на себя обязательство всегда говорить одну только истину, sensu stricto et proprio*, так как она обращается к мышлению и убеждению человека. Наоборот, религия предназначена для массы, которая неспособна к проверке и размышлению и которой недоступны глубочайшие и труднейшие истины sensu proprio, — она берет на себя обязательство быть истинной только sensu allegorico**. Истина не может являться народу в обнаженном виде. Симптомами этой аллегорической природы религий служат таинства, которые можно найти, вероятно, в каждой из них: это — определенные догматы, которые нельзя даже отчетливо помыслить, не говоря уже о том, чтобы они могли быть истинными в своем буквальном смысле. Быть может, справедливо даже сказать, что некоторые полностью бессмысленные и абсолютно абсурдные вещи составляют существенный элемент всякой развитой религии, так как именно они служат печатью ее аллегорической природы и единственно удобным способом дать почув-
137
ствовать грубому рассудку и обыденному пониманию ту истину, которая иначе была бы для них непостижима, истину, что религия по самой своей сущности говорит о совершенно другом миропорядке, о порядке вещей в себе, перед которым исчезают те законы нашего мира явлений, в соответствии с которыми она, религия, должна строить свои рассказы; что поэтому не только догматы бессмысленные, но и догматы понятные, собственно говоря, представляют собой только аллегории и приспособления к человеческой способности понимания. Мне кажется, что именно в этом смысле Августин и даже Лютер стояли за христианские таинства, в противоположность пелагианству, который[172] все готов был свести к плоской понятности. С этой точки зрения становится понятным и то, как Тертуллиан мог безо всякой иронии сказать: «Prorsus credibile est, quia ineptum est: …certum est, quia impossibile» («De came Christi», с. 5)*.
Этот аллегорический характер религий освобождает их и от обязанности доказывать свои положения, как это надлежит философии; он вообще делает их недоступными проверке, вместо которой они требуют веры, т. е. добровольного признания, что дело обстоит именно так. А так как вера руководит поступками человека и аллегории строятся таким образом, чтобы в практическом отношении они во всяком случае вели туда же, куда привела бы истина sensu proprio, то религия по праву обещает верующим вечное блаженство. Итак, мы видим, что религии в главном и для массы, от которой нельзя требовать мышления, вполне заменяют метафизику вообще, потребность в которой человек чувствует как необходимую: они, во-первых, служат людям в практической области как путеводная звезда их действий, как общественный стандарт справедливости и добродетели, по меткому выражению Канта; они, во-вторых, являют собой и незаменимое утешение в тяжких страданиях жизни и в этой роли с полным успехом заступают место объективно истинной метафизики, потому что они лучше, чем что-либо другое, умеют поднимать человека над самим собой и над временным бытием, — и в этом блестяще сказывается их великая ценность, и даже полная незаменимость. Ибо «vulgus philosophum esse impossibile est»** (De Rep. VI, p. 89, Bip.), как правильно сказал уже Платон. Единственным камнем преткновения является здесь то, что религии никогда не могут признать свою аллегорическую природу, а должны притязать на обладание истиной sensu proprio. Тем самым они вторгаются в сферу подлинной метафизики и вызывают ее антагонизм, который и обнаруживается во все те эпохи, когда метафизику не сажают на цепь.
Непонимание того, что всякая религия имеет аллегорический характер, служит причиной и столь упорных в наши дни споров между супранатуралистами и рационалистами. И те и другие хотят понимать христианство sensu proprio. В этом смысле первые желают принять его целиком, как оно есть, а это трудная позиция при современном уровне научного и общекультурного развития. Последние же пытаются своей экзегетикой исключить из него все специфически христианское, и в остат-
138
ке у них получается нечто такое, чего нельзя назвать истиной ни sensu proprio, ни sensu allegorico, и что, скорее, представляет собой одну лишь пошлость, едва ли не простой иудаизм или, в лучшем случае, мелкое пелагианство и — что всего хуже — низменный оптимизм, истинному христианству совершенно чуждый. Кроме того, попытка обосновать религию при помощи разума переносит ее в другой класс метафизики, который находит свое основание в себе самом, переносит ее, таким образом, на чуждую почву философских систем, делает ее участницей их внутренних междоусобиц и ставит ее под ружейный огонь скептицизма и под обстрел тяжелой артиллерии «Критики чистого разума»; выходить на такую арену было бы со стороны религии чрезмерной самонадеянностью.
Для обеих категорий метафизики было бы полезнее всего оставаться обособленными друг от друга и каждой держаться своей собственной области, для того чтобы там беспрепятственно развивать свою сущность. Но вместо этого на протяжении всей христианской эпохи многие люди прилагают всяческие усилия к тому, чтобы обеспечить слияние религии и философии, и переносят догматы и понятия первой в сферу второй, чем портят обе. Наиболее ясно проявилось это в наши дни — в том своеобразном гермафродите, или кентавре, который называется религиозной философией; будучи чем-то вроде гностицизма, она старается истолковать данную религию и то, что истинно sensu allegorico, прояснить через истинное sensu proprio. Однако для этого надо было бы уже знать истину sensu proprio и владеть ею, но в таком случае упомянутое истолкование было бы излишним. Вообще попытка найти уже в самой религии, посредством толкований и перетолкований, истину sensu proprio является сомнительным и опасным предприятием, на которое можно было бы решиться только в том случае, если бы было известно, что истина, подобно железу и другим неблагородным металлам, встречается только в состоянии руды, а не как чистый самородок, и что добыть ее можно лишь путем извлечения из этой руды.
Религии необходимы для народа, и они для него являются неоценимым благодеянием. Но если они становятся на пути человеческого прогресса в познании истины, то их надо возможно мягче устранять. И требовать, чтобы даже великий дух — Шекспир или Гете — исповедовал догматы какой-нибудь религии simpliciter, bona fide et sensu proprio*, — это равносильно требованию, чтобы великан носил обувь карлика.
Религии, будучи рассчитаны на способность понимания массы, могут обладать лишь косвенной, а не непосредственной истинностью; требовать от них последней — это все равно, как если бы мы желали читать литеры в раме наборщика, вместо их оттиска. Ценность религии зависит от большего или меньшего содержания истины, которую она носит в себе под покровом аллегории, и также от большей или меньшей отчетливости, с которой это ядро истины просвечивает сквозь свои покровы, т. е. от степени их прозрачности. И кажется, что подобно тому как древнейшие языки — самые совершенные, так совершеннее всего и древнейшие религии. Если бы критерием истины я избрал выводы
139
своей философии, то я должен был бы
признать за буддизмом первенство перед всеми другими учениями. Во всяком
случае, мне отрадно видеть, что моя система находится в таком значительном
согласии с религией, которая имеет за собой на земле большинство, — ведь у нее гораздо
больше последователей, чем у всех других. И это совпадение должно быть для меня
тем приятнее, что я в своих философских исканиях совсем не находился под
влиянием буддизма. Ибо до 1818 года, когда вышло в свет мое произведение, в
Европе можно было найти лишь очень немногие, в высшей степени недостаточные и
скудные сведения об этой религии: они почти исключительно ограничивались
несколькими статьями в ранних томах «Asiatic researches» и преимущественно
относились к бирманскому буддизму. Лишь позднее стали мало-помалу доходить до
нас более полные сведения о буддизме вообще, главным образом благодаря
основательным и поучительным исследованиям заслуженного петербургского
академика И. И. Шмидта, в записках его академии; а затем буддизмом
постепенно начали заниматься и некоторые английские и французские ученые, так
что я в своем сочинении «О воле в природе», под рубрикой «Синология», мог
привести довольно обширный список лучших работ об этом вероучении. К сожалению,
Чома Кереши, этот неутомимый венгр, который для изучения языка и
священных книг буддизма провел много лет в Тибете и особенно в буддийских монастырях,
был похищен смертью как раз в тот момент, когда приступил к разработке и
публикации результатов своих изысканий. Не могу отрицать, что я с удовольствием
читаю в его предварительных сообщениях некоторые места, заимствованные из «Kahgyur’а»,
— например, вот этот разговор[173]
умирающего Будды с почитающим его Брахмой: «There is description of their conversation on
the subject of creation — by wh
Основное различие между отдельными религиями я не могу видеть — как это обыкновенно делают — в том, что одни из них представляют собой монотеизм, другие политеизм, третьи пантеизм, а четвертые,
140
наконец, атеизм; нет, такое различие я усматриваю в том, оптимистичны ли они или пессимистичны, т. е. считают ли они бытие этого мира оправданным самим собой и потому восхваляют и славят его, или же они видят в нем нечто такое, что может быть понято только как следствие нашей вины и поэтому, собственно, не должно было бы существовать, ибо они понимают, что страдание или смерть не могут корениться в вечном, изначальном, неизменном порядке вещей, в том, что должно существовать во всех отношениях. Сила, благодаря которой христианство смогло победить сначала иудаизм, а затем греческое и римское язычество, заключается всецело в его пессимизме, в признании того, что наше состояние в высшей степени горестно и в то же время греховно, между тем как иудейство и язычество были оптимистичны. Эта христианская истина, которую глубоко и болезненно чувствовал каждый, пробилась на поверхность и повлекла за собой потребность в искуплении.
Обратимся теперь к общему рассмотрению другого рода метафизики, того, который имеет обоснование в самом себе и называется философией. Вспомним, что, как я показал выше, последняя имеет свое начало в удивлении перед миром и нашим собственным существованием, ибо мир и жизнь встают перед интеллектом как загадки, и человечество уже давно и неустанно занимается их разрешением. И я прежде всего хочу здесь обратить внимание на то, что этого удивления и загадочности не могло бы быть, если бы мир представлял собой «абсолютную субстанцию», т. е. безусловно необходимую сущность, в спинозовском смысле этого понятия, который в наши дни в новых формах и оболочках так часто опять выступает в виде пантеизма. В самом деле, это значит: мир существует в силу такой глубокой необходимости, что рядом с нею всякая другая необходимость, постижимая для нашего рассудка как таковая, должна казаться простой случайностью; и, если бы верна была эта точка зрения Спинозы, мир должен был бы представлять собой нечто такое, что заключало бы в себе не только всякое действительное, но даже и всякое возможное бытие, так что его возможность и действительность были бы совершенно едины и небытие мира было бы поэтому уже самой его невозможностью, — иначе говоря, мир был бы чем-то таким, небытие или инобытие чего было бы совершенно немыслимо и от чего, поэтому, так же нельзя было бы мысленно отрешиться, как нельзя отрешиться, например, от пространства или времени. И так как, далее, мы сами были бы частями, модусами, атрибутами или акциденциями такой абсолютной субстанции, которая представляла бы собой единственное, что в каком бы то ни было смысле, когда бы то ни было и где бы то ни было могло бы существовать, то наше существование и ее существование, вместе с характерными свойствами последнего, не только не представляли бы для нас что-нибудь поразительное и загадочное, какую-то непостижимую и вечно тревожащую загадку, напротив, были бы понятны сами собой, еще понятнее, чем то, что дважды два — четыре. Ибо мы были бы совершенно не в состоянии мыслить что-нибудь иное, кроме того, что мир есть, и он таков, каков есть; следовательно, мы так же не осознавали бы его бытие как таковое, т. е. как проблему для размышления, как не ощущаем невероятно быстрого движения планеты.
141
На самом же деле все это далеко не так. Только для неразумного животного мир и жизнь кажутся понятными сами собой; в глазах же человека это — проблема, которую живо чувствует даже самый грубый и ограниченный из людей в свои отдельные светлые мгновения и которая тем ярче и настойчивее проникает в сознание, чем оно яснее и глубже и чем больше пищи дня ума получил человек благодаря образованию; наконец, в подходящих для философствования головах все это достигает высоты платоновского mirari, valde philosophicus affect us*, — именно того изумления, которое во всей полноте постигает загадку бытия, которая неустанно занимает и тревожит благороднейших представителей человечества всех веков и стран. Поистине беспокойство, которое приводит в движение никогда не останавливающиеся часы метафизики, это — сознание, что небытие нашего мира так же возможно, как и его бытие. Вот почему взгляд Спинозы на мир как на сущность абсолютно необходимую, т. е. как на нечто такое, что безусловно в любом смысле должно быть и не быть не может, — этот взгляд ложен. Ведь даже обыкновенный теизм в своем космологическом доказательстве молчаливо исходит из того, что от бытия мира заключает к его предшествующему небытию, следовательно, он предварительно принимает мир за нечто случайное. Мало того, мы очень скоро усваиваем себе представление о мире как о чем-то таком, небытие чего не только мыслимо, но и более предпочтительно, чем его бытие; и оттого наше удивление перед ним легко переходит в раздумье о фатальности, которая все же смогла вызвать его существование и вследствие которой столь безмерную силу, которая нужна для создания и сохранения подобного мира, оказалось возможным направить ему же в ущерб. Таким образом, философское изумление, по самой природе своей, — это изумление смущенное и скорбное; философия, как и увертюра к «Дон-Жуану», начинается минорным аккордом; и отсюда ясно, что она не имеет права быть ни спинозизмом, ни оптимизмом.
Эта характерная черта изумления, ведущего к философским размышлениям, вытекает, очевидно, из созерцания бедствий и зла, существующих в мире: если бы даже они находились в самом справедливом отношении друг к другу, если бы даже их значительно перевешивало добро, все же они есть нечто такое, чего вообще и безусловно не должно бы существовать. А так как ничто не может возникнуть из ничего, то, значит, и они должны иметь свой зародыш в самом корне, или ядре мира. Нам трудно допустить это, когда мы созерцаем величие, порядок и совершенство физического мира, ибо, думается нам, то, что обладало мощью для создания вселенной, должно было, конечно, иметь силу и для устранения горестей и зла. Понятно, что труднее всего принять указанное допущение (наиболее откровенно выраженное в учении об Ормузде и Аримане) теизму. Вот почему была изобретена свобода воли, для того чтобы прежде всего устранить из мира зло; но эта свобода является лишь замаскированной попыткой создать нечто из ничего, так как здесь допускают, некое operari**, не вытекающее ни из какого esse***
142
(см. мои «Две основные проблемы этики», с. 58 и сл. ‹2-е изд., с. 57 и сл.›). Что же касается страдания в мире, то от него пробовали отделаться тем, что ставили его в вину материи, или неодолимой необходимости, причем с большой неохотой отказывались от дьявола, который, собственно говоря, был бы самым лучшим expidiens ad hoc*. К бедствиям мира относится и смерть, а зло — это лишь перенесение какого-нибудь бедствия с себя на другого. Следовательно, как уже сказано выше, философское изумление квалифицируют и возвышают зло, бедствия и смерть: не только то, что мир существует, но еще больше то, что он так горестен, — вот это является punctum pruriens** метафизики, загадкой, которая погружает человечество в беспокойство, неустранимое ни с помощью скептицизма, ни посредством критицизма.
Объяснением явлений в мире занята и физика (в самом широком смысле этого слова). Но в самой природе ее объяснения уже коренится их неудовлетворительность. Физика не в силах стоять на собственных ногах и нуждается в том, чтобы опереться на метафизику, как она ни важничает перед нею. Ибо она объясняет явления чем-то еще более неизвестным, нежели они сами, — законами природы, основанными на силах природы, к которым относится и жизненная сила. Бесспорно, весь наличный порядок вещей в мире или в природе необходимо должен поддаваться объяснению из чисто физических причин. Но такому объяснению, если допустить, что мы действительно когда-нибудь возвысимся до него, столь же необходимо будут всегда присущи два серьезных недостатка (словно два сомнительных пятна или ахиллесова пята, или лошадиное копыто дьявола), два недостатка, в силу которых все таким образом объясненное остается, в сущности, по-прежнему необъясненным. Первый недостаток — тот, что до начала объясняющей все цепи причин и действий, т. е. связанных между собой изменений, — до этого начала никогда нельзя дойти: как и границы мира в пространстве и времени, оно постоянно отодвигается все дальше и дальше — до бесконечности. Второй недостаток — тот, что совокупность действующих причин, из которых все объясняют, сама по необходимости покоится на совершенно необъяснимой основе — на изначальных свойствах вещей и проявляющихся в них силах природы, благодаря которым эти свойства действуют определенным образом: таковы тяжесть, твердость, сила удара, упругость, теплота, электричество, химические силы и т. д.; эти силы в каждом данном объяснении остаются нераскрытыми, подобно неустранимой и неизвестной величине в алгебраическом уравнении, которое во всех других отношениях вполне разрешимо; и нет такого ничтожного глиняного черепка, который бы весь не состоял из необъяснимых свойств. Таким образом, эти два неустранимых недостатка всякого чисто физического, т. е. причинного, объяснения показывают, что подобное объяснение может быть только относительно истинным и что сам характер и метод его не являются единственным и окончательным, т. е. исчерпывающим, — не является таким методом, с помощью которого можно было бы когда-нибудь прийти к удовлетворительному
143
решению трудной загадки вещей и к истинному постижению мира и бытия; нет, физическое объяснение, взятое вообще и как таковое, нуждается еще в объяснении метафизическом, которое дало бы ему ключ ко всем его предпосылкам, но которое тем самым и проложило бы совершенно иной путь. Первый шаг к нему заключается в том, чтобы ясно и навсегда понять различие между обоими видами объяснения, т. е. между физикой и метафизикой. Это различие в общем опирается на кантовское различение между явлением и вещью в себе. Именно потому, что Кант считает последнюю безусловно непознаваемой, с его точки зрения вовсе и не существует никакой метафизики[174], а есть только, во-первых, имманентное знание, т. е. простая физика, которая может говорить только о явлениях, и, во-вторых, критика разума, стремящегося к метафизике. Предвосхищая содержание второй книги, я именно здесь хочу подчеркнуть подлинный пункт единения моей философии с философией Канта и отмечу, что последний в своем прекрасном объяснении о совместимости свободы и необходимости («Крит. чист, раз.», перв. изд., с. 532—554, и «Крит, практ. раз.», с. 224—231 изд. Розенкранца) показывает, как один и тот же поступок, с одной стороны, всецело объясняется как необходимо вытекающий из характера данного человека, из влияний, испытанных им в течение жизни, из мотивов, действующих на него в данную минуту, а с другой стороны, должен все-таки рассматриваться как дело его свободной воли; и в том же смысле говорит Кант в § 53 своих «Пролегомен»: «…хотя всякой связи причины и действия в чувственно воспринимаемом мире будет присуща естественная необходимость, однако, с другой стороны, за той причиной, которая сама не есть явление (хотя и лежит в основе явления), будет признана свобода. Таким образом, природа и свобода могут быть без противоречия приписаны одной и той же вещи, но в различном отношении: в одном случае — как явлению, в другом — как вещи самой по себе»64. И вот то, что Кант говорит о явлении человека и его поступках, мое учение распространяет на все явления в природе, так как оно полагает в их основу, в качестве вещи в себе, волю. Этот прием прежде всего оправдывается уже тем одним, что мы не имеем права допустить, будто человек специфически, toto genere* и в самой основе своей отличается от всех остальных существ и вещей в природе[175], скорее, здесь есть только различие в степени.
От этого предвосхищающего отступления я возвращаюсь к нашему рассуждению о неспособности физики дать окончательное объяснение вещей. Итак, я говорю: физически объяснимо все и физически необъяснимо ничего. Как для движения шара, получившего толчок, так и для мышления мозга в конечном счете должно быть возможно физическое объяснение, которое сделало бы последний феномен столь же понятным, как понятен первый. Но в том-то и дело, что и этот первый феномен, который представляется нам совершенно ясным, в сущности для нас так же темен, как и последний: в самом деле, что такое внутренняя сущность движения в пространстве или сущность непроницаемости, подвижности, твердости, упругости и тяжести, — это и после всех физических объясне-
144
ний остается такой же тайной, как и мышление. Но так как в последнем необъяснимое выступает наиболее непосредственно, то здесь тотчас же сделали скачок из физики в метафизику и гипостазировали субстанцию совершенно иного рода, чем все физическое, — поместили в мозг душу. Но если бы люди не были столь тупы, что их поражают только самые удивительные явления, то они должны были бы объяснять пищеварение душой в желудке, процесс вегетации — душой в растении, химическое сродство — душой в реагентах и даже падение камня — душой в нем. Ибо свойства всякого неорганического тела столь же загадочны, как и жизнь в теле живом; и оттого физическое объяснение везде с одинаковой необходимостью наталкивается на элемент метафизический, в котором и находит свою гибель, т. е. перестает быть объяснением. Строго говоря, все естественные науки в сущности делают не больше того, чем занимается ботаника, т. е. собирают и классифицируют однородное. Физика, которая утверждает, что ее объяснения вещей в отдельных случаях — из причин, а в общем — из сил, вполне удовлетворительны, т. е. исчерпывают сущность мира, — такая физика представляет собой чистый натурализм. Начиная от Левкиппа, Демокрита и Эпикура до «Systeme de la nature»* и вплоть до Ламарка, Кабаниса и вновь подогретого в последние годы материализма можно проследить непрекращающиеся попытки создать физику без метафизики, т. е. учение, которое из явления делало бы вещь в себе. Но все такие объяснения пытаются скрыть от самих объяснителей и от других, что они, не обговаривая это, уже принимают как предпосылку самое главное. Они стараются показать, что все феномены, в том числе и духовные, суть феномены физические; это справедливо, но только они не видят, что, с другой стороны, все физическое есть в то же время метафизическое. Правда, без помощи Канта это и трудно увидеть, так как это уже предполагает различение явления и вещи в себе. Тем не менее Аристотель, не зная этого различения, как ни склонен он был к эмпирии и как бы ни был он далек от платоновской сверхфизики, — Аристотель был свободен от упомянутой ограниченности взгляда. Он говорит: «Si igitur non est aliqua alia substantia praeter eas, quae natura consistunt, physica profecto prima scientia esset: quodsi autem est aliqua substantia immobiHs, haec prior et philosophia prima, et universalis sic, quod prima; et de ente, prout ens est, speculari huius est» (Metaph., V, 1)**. Такая абсолютная физика, описанная выше, не оставляющая места ни для какой метафизики, превратила бы natura naturata в natura naturans***, это была бы физика, посаженная на трон метафизики, но на этом высоком посту она имела бы почти такой же вид, какой имел у Гольберга театральный любитель поговорить о политике, когда его сделали бургомистром[176]. Даже пошлое, само по себе,
145
и большей частью злобное обвинение в атеизме скрывает в себе, как свой внутренний смысл, основание и силу, темное понятие о такой абсолютной физике без метафизики. Бесспорно, подобная физика была бы разрушительна для этики, и если теизм неправильно считали неотделимым от моральности, то это все же справедливо по отношению к метафизике вообще, т. е. к познанию того, что порядок природы не есть единственный и абсолютный порядок вещей. Поэтому необходимым кредо всех праведных и добрых можно считать: «Верую в метафизику». В этом отношении важно и необходимо проникнуться убеждением в несостоятельности абсолютной физики, тем более что она, т. е. чистый натурализм, представляет собой такое мировоззрение, которое само собой, все снова и снова, навязывается человеку и которое может устранить только более глубокая спекуляция: как ее суррогаты в этом смысле приносят, конечно, свою пользу всякого рода вероучения и системы, поскольку и покуда они имеют значение. А то обстоятельство, что глубоко неверное мировоззрение само собой навязывается человеку и его надо устранять искусственными средствами, — это объясняется тем, что первоначальное назначение интеллекта состоит не в том, чтобы поучать нас о сущности вещей, а в том, чтобы показывать нам только их отношения, в отношении к нашей воле; как мы увидим во второй книге, интеллект — это лишь посредник мотивов. Как и то, что в нем мир схематизируется так, что проявляется совершенно другой порядок вещей, нежели безусловно истинный[177]; потому что он показывает нам не ядро вещей, а только их внешнюю оболочку, — это происходит accidentaliter* и не может быть поставлено в вину интеллекту, тем более что впоследствии он в самом же себе находит средства исправить эту ошибку, возвышаясь до различения между явлением и внутренней сущностью вещей, которое, собственно говоря, делали всегда, но которое по большей части сознавали очень несовершенно и потому выражали в весьма неудовлетворительной форме, так что оно даже нередко выступало в странном одеянии. Например, уже христианские мистики, называя интеллект светом природы, тем самым признавали, что его недостаточно для проникновения в истинную сущность вещей. Он — точно плоскостная сила, подобная электричеству, и не проникает в сущностные глубины.
Неудовлетворительность чистого натурализма, как я уже сказал, прежде всего обнаруживается именно на эмпирическом пути: ведь физическое объяснение выводит всякое частное явление из его причины; между тем цепь этих причин, как мы знаем a priori, т. е. с полной достоверностью, уходит назад, в бесконечность, так что решительно ни одна из причин не может быть первой. И вот действенность всякой причины сводят к какому-нибудь закону природы, а последний, наконец, — к силе природы, которая уже и остается для нас чем-то безусловно необъяснимым. Но это необъяснимое, к которому сводят все явления — от высших до низших, — столь ясного, столь естественно объяснимого мира, оно-то и показывает, что сам способ такого объяснения
146
условен, существует как бы ex concessis* и ни в коем случае не является подлинным и достаточным: вот почему я выше сказал, что физически объяснимо все и необъяснимо ничего. То безусловно необъяснимое, что пронизывает все явления и больше всего поражает в феноменах высшего порядка, например в деторождении, но присуще также и явлениям самого низшего порядка, например механическим, указывает на совершенно иной миропорядок, лежащий в основе физического, который есть именно то, что Кант называет порядком вещей в себе и который составляет конечный пункт метафизики.
Но, во-вторых, неудовлетворительность чистого натурализма проясняется и из той основной философской истины, которую мы обстоятельно рассмотрели в первой половине этой книги и которая составляет также содержание «Критики чистого разума», — из той истины, что всякий объект, как по собственному объективному бытию вообще, так и по своему характеру и (формальному) способу этого бытия, всецело обусловлен познающим субъектом и поэтому представляет собой только явление, а не вещь в себе; все это разъяснено в § 7 первого тома, где показано также, что нет ничего более нелепого, чем, по образцу всех материалистов, не задумываясь принимать объективное за данное безусловно и выводить из него все, не обращая никакого внимания на субъективное, через посредство которого и в котором все объективное только и существует. Лучшие образчики такого метода предлагает наш современный модный материализм, который поэтому и сделался достойной философией цирюльников и аптекарских учеников. В своей невинности он считает материю, бездумно принятую за нечто абсолютно реальное, вещью в себе, а силу толчка — единственной способностью вещи в себе, между тем как другие свойства являются в его глазах только проявлениями этой силы.
Таким образом, натурализмом или чисто физическим способом рассмотрения не обойдешься: он подобен арифметическому упражнению, которое никогда не решается. Причинные ряды без начала и без конца, непостижимые основные силы, бесконечное пространство, безначальное время, бесконечная делимость материи, и все это еще и обусловлено познающим мозгом, в котором оно, подобно сновидению, только и существует и без которого исчезает, — вот что образует тот лабиринт, в котором нас беспрестанно кружит натурализм. Высота, которой в наше время достигли естественные науки, оставляет в этом отношении в глубокой тени все предшествующие столетия и являет собой вершину, на которую человечество поднимается впервые. Тем не менее, какие бы великие успехи ни делала физика (в широком, античном смысле данного слова), это еще ни на шаг не приближает ее к метафизике, подобно тому как плоскость, сколько бы мы ее ни расширяли, никогда не станет кубом. Ибо такие успехи всегда совершенствуют только знание явлений, между тем как метафизика стремится за пределы самого явления, к тому, что является. И если бы даже к нашим услугам был полностью завершенный опыт, то и в таком случае мы нисколько не поправили бы дела. Мало того: если бы кто-нибудь обошел все планеты всех неподвижных звезд, то этим он не сделал бы еще ни одного шага в области метафизики.
147
Напротив, именно величайшие успехи физики будут делать все ощутимее потребность в метафизике, потому что исправленное, углубленное и более основательное знание природы, с одной стороны, все более и более подрывает признанные до сих пор метафизические гипотезы и, наконец, совсем ниспровергает их; а с другой стороны, саму проблему метафизики оно ставит яснее, правильнее и полнее, отделяя ее от всего чисто физического; наконец, более совершенное и точное знание сущности частных вещей все настойчивее требует объяснения целого и всеобщего, — а чем глубже, лучше и полнее наши эмпирические знания об этом целом и всеобщем, тем загадочнее оно становится. Конечно, отдельный рядовой естествоиспытатель в своей специальной физической области не так-то скоро все это поймет: он мирно спит у избранной им служанки в доме Одиссея, отказавшись от всякой мысли о Пенелопе (см. конец 12 главы). Вот почему в наши дни с предельной точностью изучена скорлупа природы, до мельчайших деталей исследованы внутренности кишечных червей и паразитов, но если кто-нибудь приходит, как, например, я, и начинает говорить о ядре природы, то его не слушают, думая, что это не относится к делу, и продолжают колупать свою скорлупу. Поневоле назовешь этих микроскопических и микрологических естествоиспытателей любителями совать свой нос в дела природы. И люди, которые полагают, что тигель и реторта — истинный и единственный источник всякой мудрости, в своем роде так же заблуждаются, как заблуждались некогда их антиподы, схоласты. Подобно тому как последние[178], всецело погрузившись в свои отвлеченные понятия, ломали за них копья, ничего больше не зная и не изучая, так и они, естествоиспытатели, всецело погружены в свою эмпирию, признают только то, что находится у них перед глазами, и мнят этим путем дойти до последнего основания вещей, не подозревая, что между явлением и являющимся, т. е. вещью в себе, лежит глубокая пропасть, существует коренное различие, на которое проливает свет только познание и точное определение границы субъективного элемента в явлении и понимание того, что окончательные и самые важные разъяснения сущности вещей могут быть почерпнуты только из самосознания; они не подозревают, что без этого нельзя ни шагу ступить за пределы непосредственно данного в чувственном опыте, без этого нельзя пойти дальше самой проблемы.
Но, с другой стороны, необходимо заметить, что возможно более полное знание природы является уже правильным изложением проблемы метафизики, и поэтому пусть никто не дерзает приступать к ней без предварительного, пусть даже только общего, но основательного, ясного и систематического знакомства со всеми отраслями естествознания. Ибо постановка проблемы должна предшествовать ее решению. А затем исследователь должен обратить свой взор внутрь себя, потому что интеллектуальные и этические феномены важнее физических в той же мере, в какой, например, животный магнетизм представляет собой несравненно более важное явление, чем магнетизм минеральный. Последние тайны мира человек носит внутри себя, и внутренний мир доступен ему самым непосредственным образом; только в нем, следовательно, может он надеяться обрести ключ к мировой загадке и ту единую нить,
148
которая ведет к сущности всех вещей. Таким образом, собственная область метафизики, несомненно, лежит в том, что называют философией духа.
Ты
ввел меня в поток могучей жизни,
Ты
научил меня родное видеть
В
волнах, в порывах вихря, в тихой роще:
.......................................................................
В
уединенье ты меня ведешь,
И
сам себя тогда я созерцаю,
И
вижу тайны духа моего66.
Что же касается, наконец, источника или фундамента метафизического познания, то я уже выше высказался против той предпосылки, принятой и Кантом, будто он должен всецело заключаться в одних только понятиях. Понятия ни в каком знании не могут играть первенствующей роли, потому что они всегда выведены из какого-нибудь созерцания. А мотивом для такого предположения послужил, вероятно, пример математики. Она действительно может, особенно в алгебре, тригонометрии и анализе, совсем обходиться без созерцания и оперировать с помощью одних только абстрактных и даже изображаемых не словами, а знаками понятий и все-таки достигать вполне достоверных и притом столь отдаленных результатов, что их нельзя было бы получить, если бы мы оставались на твердой почве созерцания. Но, как достаточно хорошо показал Кант, возможность таких операций объясняется тем, что математические понятия выведены из самых достоверных и самых определенных созерцаний, а именно из априорных, но познаваемых все-таки интуитивно количественных отношений, и поэтому они, эти понятия, всегда поддаются реализации и контролю — арифметическому или же геометрическому: в первом случае производят те вычисления, которые были только намечены этими знаками; во втором случае прибегают к операции, называемой Кантом конструкцией понятий. Между тем этого преимущества лишены те понятия, из которых будто бы можно построить метафизику, каковы, например, сущность, бытие, субстанция, совершенство, необходимость, реальность, конечное, бесконечное, абсолютное, основание и т. д. Ибо такие понятия отнюдь не первичны, они не упали с неба и не врожденны: подобно всем понятиям, и они выведены из созерцаний, и так как в них, в противоположность понятиям математическим, содержатся не только формальные элементы созерцания, но и нечто большее, то в их основе лежат эмпирические созерцания, и следовательно, из них нельзя почерпнуть ничего такого, что не содержалось бы уже и в эмпирическом созерцании, т. е. не было бы предметом опыта и чего последний не мог бы дать гораздо надежнее и из первых рук, так как эти понятия представляют собой очень широкие абстракции. Ведь из понятий никогда нельзя почерпнуть больше того, что содержат созерцания, из которых они выведены. Если же требуются чистые понятия, т. е. такие, которые по своему происхождению не эмпиричны, то можно указать лишь на понятия, относящиеся к пространству и времени, т. е. к чисто формальной части созерцания, следовательно, можно указать только на математи-
149
ческие понятия и, в крайнем случае, еще на понятие причинности: оно, правда, возникло не из опыта, но появляется в сознании только с его помощью (только в чувственном созерцании); поэтому, хотя опыт возможен только благодаря понятию причинности, но зато и силу оно имеет только в пределах опыта, почему Кант и сказал, что оно служит лишь для того, чтобы сообщать нашему опыту связность, а не для того, чтобы перелетать за его пределы, и что оно, таким образом, допускает только физическое, а не метафизическое применение. Аподиктическую достоверность всякое познание может иметь, конечно, только в том случае, если оно по своему происхождению априорно, но именно это происхождение ограничивает это познание одной только формальной стороной опыта вообще, указывая на то, что он обусловлен субъективными свойствами интеллекта. Таким образом, аподиктическое познание не только не выводит нас за пределы опыта, но и дает лишь часть последнего — а именно часть формальную, ему безусловно присущую и оттого всеобщую, т. е. одну только форму без содержания. А так как метафизика меньше всего может ограничиваться этим, то и она должна иметь эмпирические источники познания, и следовательно, предвзятое понятие чисто априорной метафизики необходимо оказывается тщетным. Кант бесспорно допускает petitio principii*, когда в § 1 своих «Пролегомен» категорически высказывается за то, что метафизика должна черпать свои основные понятия и положения не из опыта: ведь он при этом заранее допускает, будто только то, что мы знаем до всякого опыта, может вести нас за пределы возможного опыта. Опираясь на это, Кант и доказывает, что всякое такое познание есть не что иное, как форма интеллекта, применяемая к опыту, и следовательно, оно не может вывести нас за его пределы; а отсюда он правильно заключает о невозможности какой бы то ни было метафизики. Но не является ли это извращением действительного положения вещей? Неужели для того чтобы разгадать загадку опыта, т. е. нам одним данный мир, мы должны совершенно отвернуться от него, пренебречь его содержанием и в качестве материала для этого пользоваться одними только a priori осознаваемыми нами пустыми формами? Не будет ли более соответствовать сути дела то, что наука об опыте вообще и как таковом будет обращаться к самому же опыту? Ведь и сама проблема этой науки дана ей эмпирически, почему же для ее решения не звать на помощь опыт? Разве не абсурдно — говорить о природе вещей, не обращая внимания на сами вещи, а придерживаясь только некоторых отвлеченных понятий? Правда, задача метафизики не в том, чтобы наблюдать отдельные явления опыта; но все же в том, чтобы правильно объяснить опыт в его совокупности, поэтому ее фундамент, бесспорно, должен иметь эмпирический характер. Мало того, априорность некоторой части человеческого знания понимается ею как данный факт, из которого она и заключает о субъективном происхождении этой части. Лишь в той мере, в какой последнюю сопровождает сознание ее априорности, она называется у Канта трансцендентальной в отличие от трансцендентного, что означа-
150
ет «выходящего за пределы всякого возможного опыта» и противополагается имманентному, т, е. остающемуся в пределах этого опыта. Я охотно восстанавливаю первоначальное значение этих введенных Кантом выражений, с которыми, как и с категорией и т. п., ведут ныне свою игру обезьяны философии.
Надо заметить, однако, что источником метафизики является не только внешний опыт, но в такой же степени и внутренний; и даже самая своеобразная ее черта, делающая для нее возможным тот важный шаг, который один может решить ее великий вопрос, — эта черта заключается в том, что метафизика в надлежащем месте приводит внешний опыт в связь с внутренним и последний делает ключом к первому; это я подробно и обстоятельно изложил в своей «Воле в природе» под рубрикой «Физическая астрономия».
Выясненное здесь происхождение метафизики из эмпирических источников познания, которое невозможно опровергнуть при помощи добросовестных аргументов, конечно, лишает ее той аподиктической достоверности, которую дает только априорное познание: такая аподиктичность остается собственностью математики и логики, но зато эти науки учат, собственно, только тому, что каждый знает уже и сам, хотя и неотчетливо; в крайнем случае, из априорного познания можно вывести еще и самые первые элементы естествознания. Если метафизика признает это, она откажется лишь от старого притязания, которое, согласно сказанному выше, покоилось на недоразумении и против которого во все времена свидетельствовали великое разнообразие и изменчивость метафизических систем, а также их неизменный спутник — скептицизм. Тем не менее против самой возможности метафизики вообще эта изменчивость не может служить аргументом, так как последняя является уделом и всех ветвей естествознания: химии, физики, геологии, зоологии и т. д., и даже истории она не пощадила. Если же когда-нибудь будет найдена — насколько это допускают пределы человеческого интеллекта — истинная система метафизики, то ей будет присуща та неизменность, которая свойственна a priori познанной науке, ибо фундаментом такой системы может служить только опыт вообще, а не отдельные и частные опыты: последние, напротив, постоянно модифицируют содержание естественных наук и сообщают все новый и новый материал истории. Опыт же, взятый в своей всеобщности и цельности, никогда не изменит своего характера, не поменяет его на другой.
Следующий вопрос заключается вот в чем: каким образом наука, почерпнутая из опыта, может вести за его пределы и потому заслуживать названия метафизики? Она не может делать этого так же, как по трем членам пропорции находят четвертый или по двум сторонам и углу — треугольник. Между тем именно таков был путь докантовской догматики, которая по известным, a priori осознаваемым законам пыталась заключать от того, что дано, к тому, что не дано, от следствия к основанию, иначе говоря, от опыта к тому, что не может быть дано ни в каком опыте. Невозможность метафизики на таком пути выяснил Кант, показав, что, хотя эти законы и не почерпнуты из опыта, тем не менее они имеют значимость только для него. Он поэтому справедливо учит, что таким способом нам никогда не выйти за пределы возможного опыта.
151
Но есть еще и другие пути к метафизике. Вся совокупность опыта походит на шифрованное письмо; философия же — это его дешифровка, правильность которой подтверждается тем, что она сообщает письму общую связность. Если эта совокупность понимается достаточно глубоко и если к внешнему опыту присоединяют внутренний, то всегда должна существовать возможность истолковать ее и раскрыть из нее самой. После того как Кант неопровержимо доказал нам, что опыт вообще произрастает их двух элементов — форм познания и внутренней сущности вещей — и что оба эти элемента можно даже отграничить друг от друга, а именно как a priori осознаваемое и как a posteriori привходящее, после этого мы имеем возможность, по крайней мере в общих чертах, определить, что в каждом данном опыте, который прежде всего есть простое явление, принадлежит обусловленной интеллектом форме этого явления и что, за вычетом последней, остается на долю вещи в себе. И хотя никто сквозь оболочку форм созерцания не может познать вещь в себе, но, с другой стороны, каждый носит ее в себе и даже является ею; поэтому она тем или другим способом должна быть ему доступна в самосознании, хотя бы условно. Таким образом, мост, по которому метафизика выходит за пределы опыта, представляет собой не что иное, как именно это расчленение опыта на явление и вещь в себе, в чем я вижу величайшую заслугу Канта. Ибо оно содержит в себе указание на внутреннее ядро явления, отличное от него самого. Правда, это ядро никогда не может быть совсем оторвано от явления и его нельзя в качестве «ens extramundanum»* рассматривать как нечто самостоятельное: оно всегда познается только в своих отношениях к самому явлению. Но истолкование и разъяснение этих отношений, применительно к их внутреннему ядру, может раскрыть нам такие их свойства, которые иным путем никогда не были бы нами осознаны. В этом смысле, таким образом, метафизика выходит за пределы явления, т. е. природы, выходит к тому, что скрыто в ней или за ней τὸ μετκὰ τὸ φυσιχὸν); но она при этом всегда рассматривает это скрытое лишь как проявляющееся в природе, а не как независимое от всякого явления: метафизика остается имманентной и никогда не становится трансцендентной. Она никогда не отрешается от опыта полностью, а остается только его толкованием и разъяснением, ибо о вещах в себе она никогда не говорит иначе, чем в их отношении к явлению. По крайней мере таков смысл, в котором я пытался решить проблему метафизики, все время не упуская из виду показанных Кантом границ человеческого познания; вот почему его «Пролегомены во всякой метафизике» я признаю пролегоменами и к моей. Таким образом, моя метафизика, собственно говоря, никогда не выходит за пределы опыта, а только дает ключ к истинному пониманию мира, содержащегося в этом опыте. Она, вопреки повторенному еще Кантом определению метафизики, не есть ни наука из чистых понятий, ни система выводов из априорных положений, непригодность которых для метафизических целей выяснил Кант. Нет, моя метафизика — это изложенное в отчетливых понятиях знание, почерпнутое из созерцания внешнего, действительного мира и из тех данных о нем, которые раскры-
152
вает самый интимный факт самосознания. Она, следовательно, — наука опытная; но только ее предметом и ее источником являются не отдельные опыты, а весь опыт в его совокупности и всеобщности. Я вполне принимаю учение Канта о том, что мир опыта — простое явление и что априорные познания имеют силу только по отношению к нему; но я прибавляю к этому, что именно в качестве явления мир представляет собой раскрытие того, что является, и вместе с Кантом я называю это являющееся вещью к себе. Последняя, таким образом, выражает свою сущность и свой характер в мире опыта, и поэтому этот характер следует объяснять из последнего, и притом из содержания, а не из одной только формы опыта. Итак, философия есть не что иное, как правильное и универсальное понимание опыта, истинное истолкование его смысла и содержания. Этот смысл и есть метафизическое, т. е. нечто, лишь одетое в покровы явления и облаченное в его формы, то, что относится к явлению, как мысль к словам.
Такая расшифровка мира и поиск ключа к тому, что в мире является, должно находить подтверждение своей правильности в самом себе, в той связи, которую оно устанавливает между самыми разнородными явлениями вселенной и которую без него нельзя заметить. Когда нам попадается в руки рукопись, алфавит которой неизвестен, мы до тех пор ищем ключ к ее истолкованию, пока не набредем на гипотезу о значениях букв, позволяющую получить осмысленные слова и связные периоды. И тогда уже не остается никакого сомнения в правильности дешифровки, так как невозможно, чтобы те связность и согласованность, которые найденное истолкование придает всем знакам этой рукописи, были простой случайностью и чтобы при совершенно ином значении букв можно было получить такое же сочетание слов и периодов. Подобным же образом и расшифровка мира должна всецело в самой себе находить подтверждение своей правильности. Она должна проливать равномерный свет на все явления мира и приводить даже самые разнородные из них к гармонии, она должна разрешать противоречия между самыми противоположными феноменами. И это подтверждение из себя самой является признаком ее истинности. Ибо всякая ложная расшифровка, если даже она подойдет к некоторым отдельным явлениям, тем ярче будет противоречить всем остальным. Так, например, оптимизм Лейбница противоречит явной горести бытия; учение Спинозы о том, что мир — единственно возможная и абсолютно необходимая субстанция, несовместимо с нашим удивлением перед существованием и сущностью мира; учение Вольфа о том, что человек получает свои existentia и essentia* от чуждой ему воли, противоречит сознанию нашей моральной ответственности за поступки, которые со строгой необходимостью, в конфликте с мотивами, вытекают из этих existentia и essentia; распространенному учению о прогрессе и совершенствовании человечества или вообще учению о каком-то становлении посредством мирового процесса противоречит то априорное соображение, что до всякого данного момента прошло уже бесконечное время и, следовательно, все, что время должно было бы с собой принести, уже должно было бы существовать. Таким
153
образом, легко составить бесконечный список противоречий, в которые вступают догматические гипотезы с данной реальностью вещей. Но я протестую против того, что в этот список можно с достаточным основанием внести какое-нибудь из учений моей философии, именно потому, что каждое из них было продумано пред лицом наглядной действительности и ни одно из них не имеет своих корней исключительно в абстрактных понятиях. А так как в основе моей философии лежит все же единая мысль, которая может быть приложена ко всем явлениям мира в качестве их ключа, то в этой мысли и надо видеть тот правильный алфавит, из применения которого все слова и периоды получают смысл и значение. Правильность найденного слова загадки подтверждается тем, что оно должно подходить ко всем входящим в нее фразам. Так и мое учение вносит порядок и связь в исполненную контрастов сутолоку мировых явлений и разрешает те бесчисленные противоречия, которые возникают, если рассматривать ее со всякой другой точки зрения. Оно в этом отношении походит на арифметическое вычисление, результаты которого вполне сходятся между собой. Конечно, это вовсе не значит, что моя философия не оставляет без решения ни одной проблемы, не оставляет без ответа ни один вопрос. Утверждать подобное было бы дерзким отрицанием границ человеческого познания вообще. Какой бы факел мы ни возжигали и какое бы пространство он ни освещал, наш горизонт всегда остается окруженным глубокой тьмой. Ибо последнее решение мировой загадки непременно должно говорить о вещах в себе, а не о явлениях. Между тем все формы нашего познания приложимы как раз только к явлениям, и поэтому мы все должны представлять себе в отношениях существования, последовательности и причинности. Но эти формы имеют значение и смысл только для явлений; постичь же с их помощью вещи в себе и их возможные соотношения нельзя. Поэтому действительное и положительное решение мировой загадки должно быть чем-то таким, что интеллект человека совершенно не способен постичь и помыслить, так что, если бы даже к нам явилось существо высшего порядка и приложило все усилия разъяснить нам это, мы все равно ничего не могли бы понять из его откровений. Поэтому те, кто уверяет, что они познали конечные, т. е. первые, основания вещей, или первосущность, абсолют или как они там еще это называют вместе с процессом, основаниями, мотивами и т. д., вследствие которых из этой первосущности произошел, или проистек, или отпал, или был создан, или положен в бытие, или «отпущен» и любезно выпровожен мир, — такие люди ломают комедии и являются пустозвонами, а то и вовсе шарлатанами.
Большим преимуществом своей философии я считаю то, что все ее истины найдены независимо одна от другой, путем рассмотрения реального мира, между тем как их единство и согласованность, о которых я не заботился, впоследствии обнаруживались сами собой. Вот почему она так богата и имеет широкие корни в почве наглядной действительности, этом источнике, из которого питаются все абстрактные истины; вот почему она и не скучна: я показал, что скука вовсе не есть неизбежный признак философии, как это можно было бы думать, судя по философским сочинениям последнего пятидесятилетия. Если же все положения
154
какой-нибудь философской системы выводят одно из другого и в конечном счете даже из одного основного принципа, то она непременно оказывается скудной и тощей, а следовательно, и скучной, так как ни из одного положения не может следовать больше того, что, собственно, выражает уже оно само; кроме того, в таких системах все зависит от правильности одного положения, и единственная ошибка в выводах грозит истине целого. Еще меньшую поруку достоверности дают системы, исходящие из интеллектуального созерцания, т. е. из чего-то вроде экстаза или ясновидения: всякое знание, приобретенное таким путем, надо отвергать как субъективное, индивидуальное и, следовательно, проблематичное. Даже если бы такое познание действительно существовало, то его нельзя было бы передавать другим, потому что доступно передаче только познание, добытое посредством нормальной мозговой деятельности: если оно отвлеченное, его передают с помощью понятий и слов, если оно только наглядное — через посредство художественных произведений[179].
Метафизике часто бросают упрек в том, что она в течение стольких веков сделала такие незначительные успехи. Но следовало бы принять во внимание, что никакая другая наука не развивалась, подобно ей, под беспрестанным гнетом, что ни одна наука не встречала себе извне таких препятствий и помех, которые всегда терпела метафизика со стороны государственной религии: везде притязая на монополию метафизических знаний, религия терпит подле себя метафизику только как сорную траву, как неправоспособного работника, как цыганскую орду и обычно допускает ее лишь при том условии, что она будет служить ей и следовать. Где и когда существовала действительная свобода мысли? Славословили ее достаточно, но лишь только она пыталась продвинуться немного дальше и не ограничиваться только отклонением от второстепенных догматов государственной религии, как проповедников терпимости охватывал священный ужас перед такой дерзостью и они кричали: ни шагу дальше! Какие же успехи могла сделать метафизика под таким давлением? К тому же насилие, совершаемое привилегированной метафизикой, простирается не только на гласное выражение мыслей, но и на само мышление, ибо она, с торжественно-серьезной, заученной физиономией, прочно внедряет свои догматы в нежные, гибкие, доверчивые и наивные души детей, и там они глубоко пускают свои корни и становятся почти врожденными идеями, которыми их поэтому и считали некоторые философы (а чаще считали притворно). Между тем ничто так не мешает пониманию самой проблемы метафизики, как предвзятое, навязанное и рано привитое уму решение ее, ибо необходимая исходная точка для всякого истинного философствования — это глубокое ощущение сократовского принципа: «Я знаю только то, что ничего не знаю»67. Древние и в этом отношении имели преимущество перед нами, так как их государственные религии хотя и ограничивали в некоторой степени обнародование мыслей, но самой свободы мышления не стесняли: эти религии не служили предметом формального и торжественного обучения в школах, да и вообще не принимались уж очень всерьез. Вот почему древние еще до сих пор — наши учителя[180] в метафизике.
По поводу упрека в незначительности успехов метафизики и в том, что она, несмотря на свои настойчивые усилия, все еще далека от своей
155
цели, надо иметь в виду также и следующее обстоятельство. Философия — что бы о ней ни говорили — всегда оказывала ту неоценимую услугу, что ставила границы безмерным притязаниям привилегированной метафизики и в то же время противодействовала натурализму и материализму, которые, в виде неизбежной реакции, именно эта метафизика и порождала. Подумайте, до каких размеров дошли бы притязания жрецов каждой религии, если бы вера в их учения была так прочна и слепа, как им этого хочется! Оглянитесь на войны, смуты, мятежи и революции, которые происходили в Европе с восьмого по восемнадцатое столетие: как мало среди них таких, которые бы своим ядром или своим предлогом не имели какого-нибудь вероисповедального разногласия — другими словами, какой-нибудь метафизической проблемы. Да, метафизика натравливала народы друг на друга! Все это тысячелетие представляет собой сплошное убийство на поле брани, на эшафоте, на площадях из-за метафизических вопросов! Я хотел бы иметь достоверный список тех преступлений, которые христианство действительно предотвратило, и тех добрых дел, которые оно действительно совершило, для того чтобы положить его на другую чашу весов.
Наконец, что касается обязанностей метафизики, то она имеет только одну, ибо это такая обязанность, которая не терпит подле себя никакой другой, — обязанность быть истинной. Если бы мы хотели возложить на метафизику еще и другие обязательства, как, например, быть спиритуалистической, оптимистической, монистической или даже только моральной, то нельзя было бы поручиться, что эти новые задачи не помешают выполнению той первой обязанности, без которой все остальные успехи метафизики, очевидно, должны были бы потерять всю свою ценность. Поэтому для оценки всякой данной философии существует только один масштаб — истина. Впрочем, философия по существу своему — мировая мудрость; ее проблема — мир, и только с ним она имеет дело, а богов оставляет в покое и надеется, что и боги ее за это оставят в покое.
Мы взяли ложный след.
Не думайте — мы шутим!
Ядро природы —
Не в сердце ль человечьем?
Гете1
Глава 18*
О познаваемости вещи в себе
Еще в 1836 г. своим сочинением «О воле в природе» (втор, изд., 1854) я весьма существенно дополнил эту книгу ‹«Мира как воли и представления»›, которая содержит наиболее оригинальный и важный шаг моей философии, а именно признанный Кантом невозможным переход от явления к вещи в себе. Очень ошибается тот, кто думает, будто настоящим материалом и предметом «Воли в природе», этой небольшой по объему, но важной по содержанию работы, являются те чужие взгляды, с которыми я связал там свои разъяснения: нет, эти взгляды послужили для меня только поводом к тому, чтобы, отправляясь от них, яснее, чем где бы то ни было, изложить упомянутую основную истину моего учения и связать ее с эмпирическим познанием природы. Самым исчерпывающим и строгим образом я сделал это под рубрикой «Физическая астрономия», и у меня нет оснований надеяться, что я когда-нибудь найду более правильное и точное выражение для этого ядра моей философии. Вот почему те, кто желает основательно изучить и серьезно проверить мою философию, должны прежде всего обратить внимание на указанную рубрику. Вообще, все изложенное в этом маленьком произведении составило бы главное содержание предлагаемых дополнений, если бы его не следовало исключить как предшествующее им; во всяком случае, я предполагаю здесь, что оно известно, иначе отсутствовало бы самое лучшее.
Прежде всего я сделаю несколько предварительных и общих замечаний по поводу того, в каком смысле может идти речь о познании вещи в себе, и по поводу неизбежных ограничений этого познания.
Что такое познание? Прежде всего и по существу — представление. Что такое представление? Очень сложный физиологический процесс в мозгу животного, результатом которого является сознание некоего образа в этом мозгу. Очевидно, что отношение такого образа к чему-то совершенно отличному от того животного, в мозгу которого он находится, может быть лишь очень опосредованным. Быть может, это самый
157
простой и понятный способ указать на глубокую пропасть между идеальным и реальным. Она относится к тем вещам, которых мы, подобно движению земли, непосредственно не воспринимаем, потому-то древние ее и не замечали, как и движение земли. Но зато с тех пор как Картезий впервые указал на нее, она не давала философам покоя. А после того как Кант самым основательным образом доказал, наконец, полное различие между идеальным и реальным, утверждать их абсолютное тождество, безапелляционно ссылаясь на мнимое интеллектуальное созерцание, — это было столь же дерзкой, сколь и абсурдной попыткой, которая, однако, была верно рассчитана на способность суждения немецкой философской публики и потому увенчалась блестящим успехом. На самом же деле существование субъективное и существование объективное, бытие для себя и бытие для других, сознание собственной самости и сознание других вещей — и то и другое дано нам непосредственно, однако совершенно по-разному, так что никакое иное различие не может сравниться с этим. О себе каждый знает непосредственно[181], обо всем другом — лишь весьма опосредованно. Таков факт и такова проблема.
Напротив, абстрагируются ли, благодаря дальнейшим процессам внутри мозга, из возникших там наглядных представлений или образов, общие понятия (universalia[182]) в целях дальнейших комбинаций, вследствие чего познание становится делом разума и уже называется мышлением, — это уже здесь не существенно[183] и имеет второстепенное значение. Ибо все такие понятия заимствуют свое содержание исключительно из наглядного представления, которое поэтому является изначальным познанием и, следовательно, только и принимается в расчет при исследовании отношения между идеальным и реальным. Вот почему определять это отношение как отношение между бытием и мышлением — значит совершенно не понимать проблемы; во всяком случае, это определение очень неудачно. Мышление прежде всего соотносится только с ‹наглядным› созерцанием, созерцание же имеет отношение к бытию в себе ‹наглядно› созерцаемого, а последнее и составляет ту великую проблему, которая нас здесь занимает. Эмпирическое же бытие так, как оно наличествует, напротив, представляет собой не что иное, как данность в созерцании; но для последнего его собственное отношение к мышлению не составляет загадки, потому что понятия, непосредственный материал мышления, как это очевидно, абстрагируются из созерцания, — в этом для разумного человека не может быть никакого сомнения. К слову сказать: насколько важен правильный выбор философских терминов, можно видеть из того, что осужденное выше неудачное выражение и порожденное им недоразумение стали фундаментом всей гегелевской лжефилософии, которая занимала немецкую публику в течение двадцати пяти лет.
Но если бы мы сказали: «Созерцание есть уже и познание вещи в себе, ибо оно представляет собой действие на нас того, что существует вне нас, и как оно действует, таково оно и есть: его действие и есть его бытие», — если бы мы так сказали, то обнаружили бы следующие возражения: 1) закон причинности, как это достаточно выяснено, имеет субъективное происхождение, подобно чувственному ощущению, из которого исходит созерцание; 2) точно такое же субъективное происхождение имеют время и пространство, в которых объект предстает перед
158
нами; 3) если бытие объекта состоит в его действии, то это значит, что оно состоит лишь в изменениях, которые оно вызывает в других и следовательно, само по себе есть ничто. Только по отношению к материи справедливо, как я сказал в тексте (основного произведения) и разъяснил в конце § 21 трактата «О законе основания», что ее бытие состоит в ее действии, что она есть целиком и полностью только причинность, т. е. сама причинность, созерцаемая объективно — но именно потому она сама по себе — ничто (materia mendacium verax*) и является в качестве ингредиента созерцаемого объекта чистой абстракцией, которая сама по себе не может быть дана ни в каком опыте. Ниже, в специальной главе мы подробно рассмотрим это.
Но созерцаемый объект должен быть чем-то сам по себе, а не только чем-то для других, ибо в противном случае он был бы исключительно представлением и мы имели бы абсолютный идеализм, который в конце концов превратился бы в теоретический эгоизм, когда всякая реальность исчезает и мир становится только субъективным фантазмом. Если же мы без дальнейших рассуждений всецело остановимся на мире как представлении, то, разумеется, для нас будет все равно, признаю ли я объекты представлениями в моей голове или же явлениями, представляющимися во времени и пространстве, — так как и сами время и пространство тоже существуют лишь в моей голове. В этом смысле можно было бы, пожалуй, утверждать тождество идеального и реального, но этим, после Канта, мы не сказали бы ничего нового. Кроме того, сущность вещей и мира явлений, очевидно, не была бы этим исчерпана, и мы все еще оставались бы только на стороне идеального. Реальной же стороной должно быть нечто, от мира как представления toto genere[184] отличное, а именно то, что вещи суть сами по себе: и это полное различие между идеальным и реальным Кант доказал самым основательным образом.
Локк[185] отказал чувствам в способности познавать вещи такими, как они существуют сами по себе; Кант же отказал в ней и созерцающему рассудку: в этом термине я соединяю здесь и то, что он называет чистой чувственностью, и опосредующий эмпирическое созерцание закон причинности, поскольку он дан a priori. Не только оба мыслителя правы, но можно даже совершенно непосредственно видеть, что есть противоречие в утверждении, будто вещь познается такой, как она существует в себе и для себя, т. е. вне познания. Ибо всякое познание, как я уже сказал, по самому своему существу — представление: но мое представление, именно потому что оно мое, никогда не может быть тождественным с внутренней сущностью вещи, которая находится вне меня. В себе и для себя бытие каждой вещи по необходимости должно быть субъективным, в представлении же другого оно столь же необходимо существует как объективное: различие, которое никогда нельзя сгладить полностью. Ведь это различие в корне изменяет сам способ существования вещи: как объективная, вещь предполагает чужой субъект, в качестве представления которого она существует, и, кроме того, как показал Кант, она облекается в такие формы, которые чужды ее собственной сущности, ибо
159
они принадлежат именно этому чужому субъекту, чье познание становится возможным только благодаря им. Когда я, углубившись в это размышление, созерцаю неодушевленные тела легко обозримой величины и правильной, ясной формы и когда я пытаюсь затем понять это пространственное существование в его трех измерениях как бытие в себе, т. е. как существование вещей, субъективное для них, то для меня становится явственно ощутимой невозможность этого, так как я решительно не могу мыслить эти объективные формы как бытие, субъективное для вещей; напротив, у меня появляется непосредственное сознание того, что то, что я здесь представляю, есть образ, возникший в моем мозгу и существующий только для меня как для познающего субъекта, — образ, который не может представлять собой окончательного, т. е. субъективного, для себя и в себе бытия даже этих неодушевленных тел. Но, с другой стороны, я не могу предположить и того, что даже и эти неодушевленные тела существуют исключительно только в моем представлении, нет, ввиду того что они обладают непостижимыми свойствами и вытекающей из них действенностью, я должен признать за ними некоторое бытие в себе. Однако именно эта непостижимость свойств, указывая, с одной стороны, на нечто существующее независимо от нашего познания, дает, с другой стороны, эмпирическое подтверждение того, что познание, заключаясь в одной только представляющей, посредством субъективных форм, деятельности, доносит до нас всегда одни лишь явления, а не внутреннюю сущность вещей. Именно этим и объясняется тот факт, что во всем познаваемом нами для нас остается скрытым нечто, не поддающееся никакому постижению, и мы должны признать, что мы не можем понять до конца даже самые обыкновенные и простые явления. Ибо не только высшие произведения природы — живые существа или сложные феномены неорганического мира — остаются для нас непостижимыми, но и любой кусок горного хрусталя, любой серный колчедан, благодаря своим кристаллографическим, оптическим, химическим и электрическим свойствам, дает для глубокого исследования и изучения целую бездну непонятного и таинственного. Так дело обстоять не могло бы, если бы мы познавали вещи такими, как они существуют сами по себе, потому что в таком случае нам, разумеется, были бы полностью известны по крайней мере те простейшие явления, к свойствам которых нам не закрывала бы пути скудость наших сведений, и познание могло бы воспринимать в себя эти явления во всей их сущности, во всем их бытии. Таким образом, дело здесь не в недостаточности нашего знакомства с вещами, а в сущности самого познания. В самом деле, если уже наше созерцание, а следовательно, и вообще все эмпирическое постижение являющихся нам вещей в существенном и главном определяется нашей способностью познания и обусловливается ее формами и функциями, то отсюда ясно, что вещи не могут не являться нам в совершенно отличном от их собственного подлинного существа виде и проходят перед нами как бы в маске, которая позволяет лишь догадываться о том, что под нею скрыто, но никогда не позволяет познать это скрытое; оно просвечивает всюду как непостижимая тайна, и познание никогда не сможет полностью и без остатка воспринять в себя природу какой-либо вещи, и уж подавно ничто реальное не может
160
быть сконструировано a priori, подобно математическим предметам. Итак, недоступность всех естественных сущностей для эмпирического исследования служит апостериорным подтверждением того, что их эмпирическое существование идеально и обладает лишь феноменальной действительностью.
Ввиду всего сказанного, на пути объективного познания, т. е. исходя из представления, никогда нельзя выйти за пределы представления или явления; другими словами, на этом пути мы обречены оставаться перед внешней стороной предметов, никогда не имея возможности проникнуть внутрь их и исследовать, что они суть в себе и для себя. В этих пределах я согласен с Кантом. Но в противовес данной истине я выдвинул другую, ту, что мы — не только познающий субъект, но, с другой стороны, и сами принадлежим к познаваемым сущностям, сами суть вещь в себе, и что, следовательно, к той собственной подлинной и внутренней сущности вещей, к которой мы не можем проникнуть извне, для нас открыта дорога изнутри, словно подземный ход или потайная галерея, которая как бы предательски сразу вводит нас в крепость, совершенно недоступную для внешнего натиска. Вещь в себе, именно как таковая, может войти в сознание лишь непосредственно, как раз благодаря тому, что она начинает осознавать самое себя: желание познать ее объективно есть нечто противоречивое. Все объективное есть представление, а следовательно, явление, т. е. простой феномен мозга.
Главный результат, к которому пришел Кант, можно резюмировать следующим образом: «Все понятия, в основе которых не лежит созерцание в пространстве и времени (чувственное созерцание), т. е. понятия, которые не почерпнуты из такого созерцания, безусловно пусты, т. е. не дают никакого познания. А так как созерцание может давать нам только явления, а не вещи в себе, то и о вещах в себе мы не имеем никакого знания». Я соглашаюсь со всем этим, но только не по отношению к тому знанию, которое каждый имеет о собственном волении: знание о нем, во-первых, не есть созерцание (ибо всякое созерцание пространственно), и, во-вторых, оно не пусто, напротив, оно более реально, чем всякое другое. Кроме того, оно не априорно, как знание чисто формальное, но целиком и полностью апостериорно; и именно поэтому в отдельных случаях мы и не можем его предугадать и часто ошибаемся в самих себе.
Действительно, наше воление — это единственный случай, когда мы имеем возможность понять какой-нибудь внешним образом представленный процесс и с его внутренней стороны, т. е. это единственное, что известно нам непосредственно, а не дано, как все остальное, только в представлении. Здесь, таким образом, содержатся данные о том, что одно пригодно стать ключом ко всему другому; здесь, как я сказал, находится единственная узкая дверца к истине. Поэтому мы должны научиться понимать природу из себя самих, а не наоборот — себя из природы. Непосредственно известное должно служить для нас истолкованием того, что известно лишь косвенно, а не наоборот. Разве перемещение шара после полученного толчка мы понимаем лучше, чем свое собственное движение — на основании воспринятого мотива? Некоторые, пожалуй, ответят на это утвердительно; я же утверждаю обрат-
161
ное. И мы убедимся, что суть обоих только что упомянутых процессов тождественна, хотя лишь так, как самый низкий, еле слышный тон гармонии тождествен одноименному ему тону, лежащему на десять октав выше.
При этом следует иметь в виду и я всегда настаивал на этом, — что и внутреннее восприятие своей собственной воли еще вовсе не дает нам исчерпывающего и адекватного знания вещи в себе. Это знание было бы таким, если бы оно было совершенно непосредственным, но так как оно опосредовано тем, что воля вместе с телесностью и посредством нее создает себе еще и интеллект (ради своих отношений к внешнему миру) и благодаря ему узнает себя в самосознании (этом необходимом противнике внешнего мира) как волю, то это знание вещи в себе не вполне адекватно. Прежде всего оно связано с формой представления, является восприятием и как таковое распадается на субъект и объект. Ибо и в самосознании Я не безусловно просто, а состоит из некоторого познающего, интеллекта, и некоторого познаваемого, воли: первое не познается, второе не познает, хотя и то и другое сливаются в сознание единого Я. Но именно поэтому это Я не воспринимает самого себя в своем интимном содержании целиком и полностью, оно не прозрачно, а темно и остается, таким образом, загадкой для самого себя. Следовательно, и во внутреннем познании существует еще разница между бытием в себе его объекта и восприятием последнего в познающем субъекте. Но при этом внутреннее познание свободно от двух форм, которые присущи познанию внешнему, а именно от формы пространства и от опосредующей всякое чувственное созерцание формы причинности. Напротив, форму времени оно еще сохраняет, как и форму познанности и познания вообще. Итак, хотя в этом внутреннем познании вещь в себе и сбрасывает значительную долю своего покрова, тем не менее она еще не выступает в полной наготе. Вследствие свойственной ей еще формы времени каждый познает свою волю только в смене ее отдельных актов, но не в ее целостности, не в себе и для себя. Вот почему никто не знает своего характера a priori, а узнает его лишь из опыта и всегда неполно. И все-таки то восприятие, в котором мы познаем побуждения и акты собственной воли, гораздо более непосредственно, чем всякое другое: оно — та точка, где вещь в себе наиболее непосредственно проступает в явлении и в наибольшей близости озаряется светом познающего субъекта; вот почему только этот столь интимно познаваемый процесс может служить истолкователем всякого другого.
Ибо всякий раз, когда из темной глубины нашего внутреннего существа в познающее сознание приходит какой-нибудь волевой акт, совершается непосредственный переход вневременной вещи в себе в явление. Поэтому хотя волевой акт и представляет собой только самое близкое и самое отчетливое проявление вещи в себе, тем не менее отсюда следует, что если бы мы могли столь же непосредственно познавать изнутри и все остальные явления, то мы должны были бы признать их тем же самым, что и воля в нас. В этом смысле я и утверждаю, что внутренняя сущность каждой вещи — воля, и называю волю вещью в себе. Тем самым я модифицирую учение Канта о непознаваемости вещи в себе в том
162
отношении, что вещь в себе признаю непознаваемой только абсолютно и во всей ее глубине, но самое непосредственное из ее проявлений, которое этой непосредственностью toto genere отличается от всех остальных, выступает для нас как вещь в себе, и поэтому мы должны свести весь мир явлений к тому явлению, в котором вещь в себе выступает под самым легким покровом и остается явлением лишь постольку, поскольку мой интеллект, единственное, что способно познавать, все еще остается отличным от меня как от существа вопящего, и не отрешается от познавательной формы времени даже при внутреннем восприятии.
Но, сделав этот последний и самый крайний шаг, мы встречаемся еще и с таким вопросом: что же в конце концов есть, сама по себе, непосредственно, та воля, которая отображается в мире и предстает как мир? Другими словами: что она такое, совершенно независимо от того, что она представляет собой как воля, или вообще является, т. е. вообще познается? На этот вопрос никогда нельзя дать ответ, ибо, как я сказал, сама познаваемость уже противоречит бытию в себе и все познанное, уже как таковое, есть только явление. Но возможность этого вопроса показывает, что вещь в себе, которую мы наиболее непосредственным образом познаем в воле, может вне всякого возможного явления иметь такие определения, свойства и формы бытия, которые для нас совершенно непознаваемы и непостижимы и которые как сущность вещи в себе остаются тогда, когда эта вещь в себе, как я показал в четвертой книге, свободно устраняет себя как волю и поэтому совершенно выходит за пределы явления и для нашего познания, т. е. по отношению к миру явлений, превращается в пустое ничто. Если бы воля была вещью в себе безусловно и абсолютно, то и это ничто было бы абсолютным; между тем мы видели, что именно тогда, при самоупразднении воли, это ничто оказывается лишь относительным.
Я намерен теперь дополнить еще несколькими соображениями предложенное как в нашей второй книге, так и в сочинении «О воле в природе» доказательство учения о том, что во всех явлениях этого мира, на различных его ступенях, объективируется именно то самое, что в наиболее непосредственном познании открывается нам как воля. Приступая к этому, я сначала приведу ряд психологических фактов, которые показывают, что прежде всего в нашем собственном сознании воля неизменно выступает как нечто первичное и основное и всегда утверждает свое первенство перед интеллектом, который, наоборот, всегда оказывается чем-то вторичным, подчиненным и обусловленным. Показать это тем более необходимо, что все предшествовавшие мне философы, от первого до последнего, полагали истинную сущность или ядро человека в познающем сознании и поэтому понимали и изображали Я, или его трансцендентную ипостась, так называемую душу, как нечто прежде всего и по существу познающее, даже мыслящее и лишь в результате этого, вторично и производно, волящее. Эту древнейшую и общую коренную ошибку, эту огромную πρῶτον φεῦδος и основное ὒσιερον πρότερον*, надо устранить прежде всего и, наоборот, вполне отчетливо понять дейст-
163
вительное положение вещей. Но так как это, после тысячелетий философского поиска, совершается здесь впервые, то некоторая обстоятельность будет вполне уместна. Тот удивительный феномен, что в этом наиболее существенном пункте заблуждались все философы и даже ставили истину с ног на голову, можно, особенно по отношению к философам христианской эпохи, отчасти объяснить тем, что все они стремились представить человека как можно более отличным от животного, но при этом смутно чувствовали, что различие между тем и другим заключается в интеллекте, а не в воле; поэтому у них бессознательно зародилась склонность считать интеллект главным и существенным началом и даже усматривать в волении простую функцию интеллекта. Вот почему и понятие души не только несостоятельно в качестве трансцендентной ипостаси, как это установлено в «Критике чистого разума», но и становится источником неисправимых заблуждений, ибо заранее устанавливает, в своей «простой субстанции», нераздельное единство познания и воли, — разделение коих как раз и открывает путь к истине. Поэтому понятие души не должно больше иметь доступа в философию, его надо предоставить немецким врачам и физиологам, которые, отложив в сторону скальпель и шпатель, берутся философствовать с помощью воспринятых ими при конфирмации понятий. Пожалуй, они могут попытать счастья в Англии. Французские физиологи и зоотомы (вплоть до недавнего времени) были совершенно безупречны в данном отношении.
Ближайшее и весьма неудобное для всех этих философов следствие их общей коренной ошибки заключается в следующем: так как со смертью познающее сознание очевидно погибает, то они вынуждены либо признать смерть уничтожением человека, чему противится наше внутреннее чувство, либо принять гипотезу о загробном бытии познающего сознания, для чего требуется сильная вера, так как собственный опыт каждого убедительно показывает полную и безусловную зависимость познающего сознания от мозга, и представить себе познающее сознание без мозга так же трудно, как и пищеварение без желудка. Из этой дилеммы выход дает только моя философия, так как она впервые полагает истинную сущность человека не в сознании, а в воле, которая не связана по существу с сознанием, а относится к сознанию, т. е. к познанию, как субстанция к акциденции, как освещенное к свету, как струна к резонатору и которая проникает в сознание изнутри, как физический мир — извне. Теперь мы можем понять неразрушимость этого нашего подлинного ядра и истинной сущности, несмотря на очевидное уничтожение сознания в смерти и соответствующее отсутствие его до рождения. Ибо интеллект столь же преходящ, как и мозг, продуктом или, вернее, результатом деятельности которого он является. Мозг же — это, как и весь организм, продукт или явление — словом, вторичный момент воли, которая есть единственное непреходящее.
164
Глава 19*
О примате воли в самосознании
Воля как вещь в себе составляет внутреннюю, истинную и неразрушимую сущность человека, но сама по себе она бессознательна. Ибо сознание обусловлено интеллектом, а последний является простой акциденцией нашего существа: ведь интеллект представляет собой функцию мозга, который вместе со связанными с ним нервами и спинным мозгом — только плод, продукт и даже паразит остального организма, поскольку он непосредственно не участвует в его внутренней активности, и служит цели самосохранения только тем, что регулирует отношения организма с внешним миром. Сам же организм — это видимость, объектность индивидуальной воли, ее образ, такой, каким он является в этом мозгу (который мы в первой книге признали условием объективного мира вообще), и поэтому он опосредован познавательными формами мозга, временем, пространством и причинностью и, следовательно, предстает как нечто протяженное, действующее последовательно и материальное, т. е. действенное. Члены организма непосредственно ощущаются и созерцаются посредством чувств только в мозгу. Поэтому можно сказать: интеллект — это вторичный феномен, организм — первичный, т. е. непосредственное проявление воли; воля — нечто метафизическое, интеллект — нечто физическое; интеллект, как и его объекты, — простое явление; вещь в себе есть одна лишь воля; затем, выражаясь все более образно, мы скажем: воля — субстанция человека, интеллект — акциденция; воля — материя, интеллект — форма; воля — теплота, интеллект — свет.
Удостоверим и вместе с тем поясним этот тезис вначале при помощи следующих фактов, относящихся к внутренней жизни человека; возможно, таким образом мы получим больше знаний о внутреннем человеке, чем их можно найти во многих систематических руководствах по психологии.
1) Не только сознание других вещей, т. е. восприятие внешнего мира, но и самосознание, как я уже упомянул, содержит в себе познающее и познаваемое, иначе оно не было бы сознанием. Ибо сознание заключается в познавании, а к последнему относятся познающее и познаваемое; поэтому и самосознание не могло бы существовать, если бы и в нем познающему не противополагалось отличное от него познаваемое. Как объект не может быть без субъекта, так и субъект не может быть без объекта, т. е. не может быть ничего познающего без отличного от него познаваемого. Поэтому сознание, которое было бы только интеллектом, невозможно. Интеллект подобен солнцу: он не освещает пространство, если нет предмета, который отражал бы его лучи. Само познающее, именно как таковое, не может быть познано, иначе оно было бы познаваемым какого-то другого познающего. Но как познаваемое, в самосознании мы находим исключительно волю. Ибо не только воление и решение в узком смысле, но и всякое стремление, желание, отвраще-
165
ние, надежда, опасение, любовь,
ненависть — словом, все, что непосредственно составляет нашу радость и наше
горе, наше удовольствие и неудовольствие, все это, очевидно, только аффектация
воли, только побуждение, модификация воления и неволения, именно то, что,
действуя вовне, представляется нам как волевой акт в собственном смысле*. Во всяком познании главным и
существенным является познаваемое, а не познающее: первое — это πρωτότνπος**, второе — ἓκτνπος***. Поэтому и в самосознании познаваемое, т. е. воля, должно быть первым и
основным, между тем как познающее —
это момент вторичный, привходящий, зеркало.
Они относятся друг к другу приблизительно так, как самостоятельно светящееся тело относится к отражающему; или как вибрирующая струна — к резонатору, причем
возникающим таким образом звуком было
бы сознание. Такой же символ сознания можно видеть
в растении. Оно, как известно, имеет два полюса: корень и венчик; первый тяготеет ко мраку, влажности,
холоду, последний — к свету, сухости
и теплу; кроме того, у растения есть еще, как точка безразличия обоих полюсов, там, где они расходятся,
вплотную около почвы, корневище (rhiz
166
плотных листьев состоящем венчике имеют очень маленькие корни; но в действительности таких гениев не существует. То, что сила воли и страстность характера являются условиями развитого интеллекта, это имеет свое физиологическое соответствие в том, что деятельность мозга обусловлена движением, которое при каждом ударе пульса сообщают ему большие, идущие за basis cerebri* артерии; поэтому энергичное биение сердца и даже, согласно Биша, короткая шея соответствуют требованиям мощной мозговой деятельности. Правда, встречается соединение волевых и умственных свойств, противоположное указанному выше, — а именно мощные желания, страстный, бурный характер при слабом интеллекте, т. е. при маленьком и дурно сформированном мозге, под толстым черепом, — столь же частое, сколько и отвратительное явление; его можно уподобить свекловице.
2) Но для того чтобы не только образно описать сознание, но и основательно изучить его, необходимо прежде всего исследовать то, что равным образом присутствует во всяком сознании и потому, в качестве общего и постоянного момента, является существенным. А затем мы рассмотрим то, что отличает одно сознание от другого и поэтому является моментом привходящим и вторичным.
Сознание, конечно, известно нам лишь как свойство животных существ; следовательно, мы не имеем права да и не можем мыслить его иначе как животное сознание, — так что это выражение уже является тавтологией. Таким образом, то, что всегда присутствует во всяком, даже самом несовершенном и слабом животном сознании и лежит в его основании, — это непосредственное восприятие какого-нибудь желания и смены его удовлетворения и неудовлетворения, причем в очень различных степенях. Это мы до известной степени знаем a priori. Ибо как ни удивительно разнообразие бесчисленных видов животных, какой бы странной ни казалась нам какая-нибудь новая, еще никогда не виданная их форма, тем не менее мы заранее уверены в том, что их внутренняя область существа нам хорошо знакома и даже родственна. Ведь мы знаем, что животное желает; мы знаем даже, чего оно желает, — существования, благополучия, жизни и размножения: с полной достоверностью предполагая, что в этих отношениях животное тождественно с нами, мы нисколько не колеблемся приписать и ему, в неизменном виде, все те состояния воли, которые мы сознаем в самих себе, и мы не стесняемся говорить о его желании, отвращении, страхе, гневе, ненависти, любви, радости, печали, тоске и т. д. Но лишь только речь заходит о феноменах чистого познания, мы сейчас же впадаем в сомнение. Что животное постигает, мыслит, судит, знает — этого мы сказать не решаемся: мы уверенно приписываем ему только представления вообще, так как без них его воля не могла бы испытывать указанное выше движение. Но относительно того, есть ли у животных определенный способ познания и каковы точные границы последнего для каждого данного вида, — об этом мы имеем лишь неясные понятия и строим догадки; вот почему нам часто бывает столь трудно объясняться с животными и мы достигаем этого лишь искусственными средствами, с помощью опыта и упраж-
167
нения. В этом, таким образом, заключается разница в сознании. Что же касается вожделений, стремлений, желаний или неприязни, отвращения, нежелания, то они присущи всякому сознанию: они есть и у человека, и у полипа. Таков, следовательно, существенный момент и базис всякого сознания. Различие его проявлений в различных породах живых существ объясняется различием объемов их познавательных сфер, в которых содержатся мотивы этих проявлений. Все действия и жесты животных, выражающие движения воли, мы понимаем, непосредственно исходя из нашего собственного существа, поэтому мы, в этих пределах, способны сочувствовать им. Пропасть же между ними и нами возникает исключительно на основе различий интеллекта. Быть может, пропасть между очень умным животным и очень ограниченным человеком не намного меньше, чем пропасть между глупцом и гением; поэтому сходство между ними, которое, с другой стороны, возникает благодаря тождеству их склонностей и аффектов, и снова объединяет обоих, иногда проявляется здесь с поразительной силой и вызывает удивление.
Это рассуждение ясно показывает, что воля во всех животных существах есть начало первичное и субстанциональное, между тем как интеллект — начало вторичное, привходящее, простое орудие для служения воле, орудие, более или менее совершенное и сложное, в зависимости от требований этого служения. Подобно тому как любая порода животных, сообразно целям своей воли, появляется как снабженная копытами, когтями, руками, крыльями, рогами или зубами, так есть у нее и более или менее развитой мозг, функцией которого является необходимый для сохранения данной породы интеллект. Чем сложнее в восходящем ряду животных становится организация, тем больше возрастают и ее потребности, тем более разнообразными и специфическими делаются объекты, пригодные для удовлетворения последних, и, значит, тем запутаннее и отдаленнее становятся те пути, которыми их можно достичь: ведь все эти пути нужно теперь познать и открыть; поэтому в той же мере должны становиться более многосторонними, точными, определенными и связными и представления животного, а его внимание — более напряженным, устойчивым и возбудимым; следовательно, его интеллект должен отличаться более высокой степенью развития и совершенства. Вот почему орган интеллекта, т. е. мозговая система, вместе с органами чувств развивается параллельно с возрастанием потребностей и усложнением организма, а увеличение представляющей части сознания (в противоположность волящей) находит себе физическое выражение в том, что постоянно увеличивается преобладание, во-первых, мозга вообще по отношению к остальной нервной системе и, во-вторых, большого мозга по отношению к малому, ибо первый (по Флурансу) является лабораторией представлений, а последний — инстанцией, направляющей и упорядочивающей движения. Последний же шаг, который в этом направлении сделала природа, чрезмерно велик. Ибо у человека не только достигает высшей степени совершенства способность наглядного представления, которая до тех пор существовала одна, но сюда присоединяется и абстрактное представление, мышление, т. е. разум, а с ним и рассудительность. Благодаря этому значительному приросту интеллекта, т. е. вторичного момента сознания, последний одерживает верх над первичным
168
— в той мере, в какой его деятельность отныне становится преобладающей. В то время как у животного непосредственное восприятие его удовлетворенного или неудовлетворенного вожделения составляет самый главный момент его сознания, и в тем большей степени, чем ниже стоит животное, так что животные, занимающие самую низкую ступень, отличаются от растений только наличием некоторого смутного представления, — с человеком дело обстоит как раз наоборот. Как ни могучи его вожделения, которые даже превосходят вожделения любого животного и возвышаются до страсти, тем не менее его сознание непрерывно занято и наполнено главным образом представлениями и мыслями. Без сомнения, преимущественно это обстоятельство дало повод к той основной ошибке всех философов, в силу которой они существенным и первичным моментом так называемой души, т. е. внутренней или духовной жизни человека, считают мышление и всегда выдвигают его на передний план, между тем как воление является в их глазах простым результатом мышления, который привходит лишь позднее и вслед за ним. Но если бы желание просто вытекало из познания, то как могли бы животные, даже низшие, при столь ограниченном интеллекте, обнаруживать иногда столь неодолимую и могучую волю? Ввиду того что это основное заблуждение философов как бы превращает акциденцию в субстанцию, оно заводит их в такие дебри, откуда потом и не выберешься.
Это возникающее в человеке относительное преобладание познающего сознания над вожделеющим, т. е. вторичного момента над первичным, может в отдельных, чрезвычайно одаренных индивидах заходить так далеко, что в минуты высшего подъема вторичная, или познающая, часть сознания совершенно отрешается от волевой и, самодовлея, погружается в свободную, т. е. не возбуждаемую волей и уже не подчиненную ей, деятельность, вследствие чего она и становится чисто объективной и делается ясным зеркалом мира, а отсюда возникают концепции гения, которые служат предметом нашей третьей книги.
3) Обозревая сверху вниз лестницу животного мира, мы замечаем, что интеллект становится все слабее и несовершеннее, но мы отнюдь не видим соответствующей деградации воли. Напротив, она по своей сущности везде остается тождественной самой себе и обнаруживает себя как сильную привязанность к жизни, как заботу об индивиде и роде, как эгоизм и пренебрежение ко всем другим, как возникающие из этого аффекты. Даже в самом ничтожном насекомом воля присутствует полностью и как целое: оно хочет того, чего хочет, так же решительно и полно, как человек. Разница заключается лишь в том, чего оно хочет, т. е. в мотивах, но они уже составляют дело интеллекта. Последний, разумеется, как момент вторичный и связанный с физическими органами, имеет бесчисленные степени совершенства и вообще существенно ограничен и несовершенен. Напротив, воля, как первичное и как вещь в себе, никогда не может быть несовершенной: каждый волевой акт всецело то, чем он может быть. В силу простоты, которая свойственна воле как вещи в себе, как метафизическому началу явлений, ее сущность не допускает никаких степеней, но всегда сполна есть она сама: только ее возбуждение имеет степени, от крайне слабой склонности и до страсти; имеет степени и ее возбудимость, т. е. ее мощь, — от флегматического
169
и до холерического темперамента. Не то интеллект: существуют степени не только его возбуждения, начиная с сонливости и кончая весельем и воодушевлением, но и степени самой его сущности, степени ее совершенства, которое прогрессирует от низших, лишь смутно воспринимающих животных вплоть до человека, и здесь вновь, от глупца и до гения. Только воля повсюду всецело — она сама. Ибо ее функция отличается величайшей простотой: она состоит в волении и неволении, которое совершается чрезвычайно легко, безо всякого усилия, и не требует упражнения, между тем как познание, наоборот, имеет разнообразные функции и никогда не протекает совсем без усилия, в котором оно нуждается для фиксации внимания и для того, чтобы сделать отчетливым объект; а в дальнейшем оно нуждается в нем еще и для мышления и обдумывания, поэтому оно доступно значительному усовершенствованию путем упражнения и образования. Когда интеллект показывает воле какой-нибудь простой наглядный объект, то она сейчас же выражает по поводу него свое одобрение или неодобрение; точно так же, когда интеллект усердно обдумывает и взвешивает многочисленные данные, для того чтобы путем трудных и долгих комбинаций вывести из них тот результат, который, по-видимому, наиболее соответствует интересам воли, — последняя в это время пребывает в бездействии, и лишь когда все кончено, когда результат получен, является, точно султан в свой диван, для того чтобы опять-таки лишь односложно выразить свое одобрение или неодобрение, степень которого может быть разной, но сущность которого всегда остается одной и той же.
Это коренное различие в природе воли и интеллекта, эти свойственные воле простота и первичность, противоположные сложному и вторичному характеру интеллекта, прояснятся для нас еще больше, если мы обратим внимание на их своеобразную игру в нашем внутреннем мире и, в частности, присмотримся к тому, как образы и мысли, возникающие в интеллекте, приводят волю в движение и до какой степени различны и самостоятельны роли того и другой. Правда, мы можем заметить это уже при наблюдении реальных событий, которые живо возбуждают волю, между тем как они, прежде всего сами по себе, являются только предметами интеллекта. Но, с одной стороны, здесь не так очевидно, что и эта реальность как таковая существует прежде всего только в интеллекте; а с другой стороны, смена происходит здесь по большей части не так быстро, как это необходимо для того, чтобы можно было легко обозреть и хорошо понять весь процесс. Между тем и того и другого легко достигнуть, если подвергнуть нашу волю воздействию одних только мыслей и фантазий. Когда, например, наедине с собой, обдумывая какое-нибудь личное дело, мы живо представим себе действительно грозящую нам опасность и возможность несчастного исхода, сердце тотчас же у нас сожмется от страха и кровь застынет в жилах. Но когда интеллект остановится на возможности противоположного исхода и побудит воображение нарисовать перед нами картину обретения давно желанного счастья, то наша кровь сейчас же придет в радостное волнение и сердце будет биться сладостно и легко, — пока интеллект не очнется от своей грезы. А если вслед за тем у нас почему-либо зародится воспоминание о какой-нибудь давно испытанной обиде или несправед-
170
ливости, тотчас же гнев и злоба возмутят доселе спокойную грудь. Но вот, случайно вызванный, встает перед нами образ давно потерянной женщины, а вслед за ним проносятся очаровательные сцены всего нашего романа — и сейчас же гнев уступает место тихой грусти и тоске. Наконец, воскресает перед нами какое-нибудь давнишнее, постыдное для нас происшествие, и мы корчимся, мы готовы провалиться сквозь землю, краска стыда покрывает наше лицо, и часто, как бы изгоняя злых духов, мы пытаемся каким-нибудь громким криком насильственно отвлечься от этого представления и рассеяться.
Мы видим, таким образом, что интеллект играет, а воля должна плясать под его дудку; мало того, он заставляет ее играть роль ребенка, которого няня, перемежая грустные сказки и побасенки веселыми, по своему произволу погружает в самые разнообразные настроения. Это объясняется тем, что воля сама по себе лишена познания, а связанный с ней рассудок лишен воли. Поэтому воля представляет собой как бы движущееся тело, а интеллект — те причины, которые приводят его в движение, ибо он — среда мотивов. При всем том, однако, примат воли становится опять явным в тех случаях, когда она дает почувствовать интеллекту (в игрушку которого, как я сказал выше, она превращается всякий раз, когда предоставляет ему свободу), свое господство над ним и запрещает ему некоторые представления, заглушает в нем известные ряды мыслей, зная, т. е. узнав от того же интеллекта, что они, эти мысли и представления, возбудили бы в ней одно из описанных выше движений: тогда она обуздывает интеллект и заставляет его заняться чем-нибудь другим. Как это ни бывает трудно подчас, но воле всегда удается такое обуздание, если только она в нем серьезно заинтересована, ибо противодействие в данном случае исходит не от интеллекта, который равнодушен ко всему, а от самой воли, которая к известному представлению, в одном отношении ей ненавистному, питает в другом отношении какую-то склонность. То есть представление интересно для нее само по себе тем, что приводит ее в движение; но в то же время абстрактное познание говорит ей, что оно бесцельно вызовет в ней мучительное и недостойное потрясение: тогда в соответствии с ним она принимает решение и побуждает интеллект к повиновению. Это называется «быть себе господином»; очевидно, господином является здесь воля, а слугой — интеллект, так как в последней инстанции решающий голос всегда сохраняет за собой именно воля, которая поэтому и составляет действительное ядро, внутреннюю сущность человека. В этом отношении воле подобал бы титул ἡγεμονικόν*; но, с другой стороны, этот же титул, по-видимому, должен принадлежать и интеллекту, насколько последний является вожатым и проводником — точно наемный служитель, который указывает путь иностранцу. В действительности же самым удачным будет сравнение взаимного отношения воли и интеллекта с мощным слепцом, который носит на своих плечах зрячего паралитика.
В существовании описанного здесь отношения между волей и интеллектом можно, далее, убедиться и на основании того, что интеллект
171
первоначально остается совершенно чужд решениям воли. Он дает ей мотивы; но какое действие они оказали, об этом он узнает лишь задним числом, вполне a posteriori, подобно химику-экспериментатору, который соединяет реагенты, а затем ожидает последствий. Мало того: интеллект настолько устранен от действительных решений и тайных замыслов собственной воли, что иногда узнает о них — словно о решениях чужой воли — только благодаря тому, что подслушивает их и застает врасплох; он должен поймать волю, так сказать, на месте ее проявления для того только, чтобы понять ее истинные замыслы. Например, я разработал план; но, во-первых, на пути к его осуществлению стоит еще некоторая неуверенность во мне самом, а во-вторых, сама возможность его исполнения весьма сомнительна, так как она зависит от внешних, еще не выясненных обстоятельств. Значит, до поры, до времени все равно бесполезно было бы принимать то или иное решение, и я поэтому откладываю все дело на неопределенный срок. При таких условиях я часто не знаю, насколько в глубине души я сроднился со своим планом и насколько я, несмотря на свои колебания, желаю его удачи, т. е. мой интеллект этого не знает. Но вот приходит весть, говорящая в пользу исполнимости моего замысла, сейчас же в моей душе возникает чувство ликующей, неудержимой радости; оно охватывает все мое существо и надолго, к моему собственному изумлению, овладевает им. Ибо мой интеллект лишь теперь узнает, как твердо еще ранее решилась моя воля осуществить указанный план и насколько она освоилась с ним, между тем как интеллект считал его еще совершенно проблематичным и думал, что он вряд ли выдержит испытание моими сомнениями. Или возьмем другой пример. Допустим, что я, увлекшись, связал себя взаимным договором, который, как мне казалось, вполне отвечает моим желаниям. Но дальнейшие события дают мне почувствовать все невыгоды и неудобства этого договора, и у меня появляется подозрение, не раскаиваюсь ли я в том, о чем прежде так усердно хлопотал; но я подавляю эту мысль, уверяя себя, что, и не будучи связан договором, я все равно продолжал бы действовать точно так же. Но вот обязательство внезапно нарушает другая сторона, и я с изумлением вижу, что это доставляет мне великую радость и облегчение. Часто мы не знаем, чего хотим или боимся. Мы можем целые годы иметь какое-нибудь желание, не признаваясь в нем, даже не вполне его сознавая, так как интеллект ничего не должен знать об этом, иначе пострадало бы то доброе мнение, которое мы имеем о самих себе; но когда такое желание осуществляется, то мы по своей радости не без смущения узнаем, что нам этого хотелось, например смерти близкого родственника, после которого мы получаем наследство. И даже то, чего мы, собственно, боимся, мы иногда не знаем, потому что у нас не хватает мужества довести это до ясного сознания. Часто мы находимся в полном заблуждении даже относительно истинных мотивов того, почему мы делаем одно или не делаем другого, пока, наконец, какая-нибудь случайность не откроет нам тайну и мы не узнаем, что принимавшееся нами за мотив не было им, а мотив был на самом деле другим; но мы не хотели в этом сознаться, так как он далеко не отвечает тому хорошему мнению, которое мы имеем о самих себе. Например, мы отказываемся от какого-нибудь поступка, как нам
172
думается, по чисто моральным
основаниям; а спустя некоторое время узнаем, что нас просто удерживал страх,
ибо тот же самый поступок мы совершаем, лишь только проходит всякая опасность.
В отдельных случаях это заходит так далеко, что мы даже и не догадываемся об
истинном мотиве своих поступков и считаем себя неспособными поддаться
воздействию подобного мотива, и тем не менее именно он, этот мотив, и вызвал
наш поступок. Между прочим, все сказанное служит подтверждением и уяснением
правила Ларошфуко: «l’amour-propre
est plus habile que le plus habile h
А если бы, как это думали все философы, наше истинное
существо составлял интеллект и решения воли были бы простым результатом познания,
то решающее значение для нашей моральной ценности имел бы лишь тот
мотив, который кажется нам основанием поступка, аналогично тому, как
решающим моментом является в этике намерение, а не результат. Но тогда, собственно,
не могло бы существовать разницы между мнимым и действительным мотивом.
Все приведенные здесь случаи, для которых всякий внимательный человек подберет аналогии в себе самом, показывают, что интеллект до такой степени чужд воле, что она порою даже мистифицирует его; ибо интеллект хотя и дает воле мотивы, но в секретную лабораторию ее решений не проникает. Хотя он и доверенный воли, но доверенный, который не все знает. Подтверждением этого служит еще и тот факт, едва ли не всякому известный из самонаблюдения, что интеллект иногда не совсем доверяет воле. А именно: после того как мы примем то или другое важное решение, которое, как таковое, представляет собой только обещание, данное волей интеллекту, у нас в душе остается легкое, неосознанное сомнение в том, вполне ли серьезно наше намерение, не поколеблемся ли мы, не отступим ли при его осуществлении, будет ли у нас достаточно твердости и выдержки, для того чтобы его выполнить. Поэтому необходимо само дело, поступок, для того чтобы мы сами убедились в искренности нашего замысла.
Все эти факты свидетельствуют о полном отличии воли от интеллекта, о примате воли и подчиненном положении интеллекта.
4) Интеллект устает, воля неутомима. Продолжительная умственная работа вызывает утомление мозга, как утомляются руки после долгой физической работы. Всякое познание связано с напряжением, между тем как воление есть наша собственная сущность, проявления которой протекают безо всякого усилия и полностью сами собой. Поэтому когда наша воля сильно взволнована, как это бывает при всех аффектах, т. е. в гневе, страхе, вожделении, печали и т. д., и от нас в это время требуют познания, например, с целью упорядочения мотивов этих аффектов, то усилие, которое мы должны произвести для этого, свидетельствует о переходе от изначальной, естественной и самопроизвольной деятельности к производной, опосредованной и принудительной. Ибо только
173
воля есть αὐτόματος* и потому ἀκάματος καὶ ἀγήπατος
ᾒματα πάντα**. Только она добровольно действует — часто слишком рано и слишком сильно
— и не знает устали. Грудные младенцы, едва обнаруживающие первый слабый след
интеллекта, уже полны своеволия: необузданным, бесцельным криком и буйством они
выказывают переполняющий их порыв воли, между тем как их воление еще не имеет
объекта, т. е. они хотят, сами не зная, чего хотят. На это же
обстоятельство указывает и Кабанис, замечая: « Toutes ces passions, qui se succedent d’une
manière si rapide, [et]se peignent avec tant de naïveté, sur
le visage mobile des enfants.
Tandis que les faibles muscles de leurs bras et de leurs jambes savent encore è
peine former quelques mouvements indecis, les muscles de la face expriment déjè
par des mouvements distincts presque toute la suite des affections générales
propres a la nature humaine: et l’observateur attentif reconnait facilement
dans ce tableau les traits caractéristiques de l’h
Напротив, интеллект развивается медленно, параллельно формированию мозга и созреванию всего организма, которые являются его условиями, потому что он представляет собой лишь соматическую функцию. Так как мозг уже на седьмом году жизни человека достигает своего полного объема, то дети с этого возраста и становятся так поразительно понятливы, любознательны и разумны. Но затем наступает половая зрелость; она дает мозгу как бы опору или резонатор и сразу поднимает интеллект на новую ступень, как бы на целую октаву, в соответствии с тем, что она понижает, тоже на октаву, голос юноши. Но зато появляющиеся вместе с ней животные страсти и вожделения противодействуют разумности, которая царила прежде, и это противодействие все усиливается. О неутомимости воли свидетельствует, далее, тот изъян, который в большей или меньшей степени свойствен почти всем людям от природы и может быть устранен только образованием: это опрометчивость. Она состоит в том, что воля преждевременно принимается за свое дело, между тем как этот чисто активный и исполнительный момент должен наступать лишь после того, как момент исследующий и обсуждающий, т. е. познание, полностью окончит свое дело. В действительности люди редко дожидаются этого времени. Едва мы на скорую руку нахватаем у познания несколько скудных и разрозненных данных касательно обстоятельств того или иного дела или наступившего события, или сообщенного нам чужого мнения, как из глубины нашего духа сейчас же без приглашения появляется всегда готовая и вечно неутомимая воля, принимает формы ужаса, страха, надежды, радости, вожделения, зависти, печали, ревности, гнева, бешенства и побуждает нас к слишком скорым словам или поступкам, за которыми по большей
174
части следует раскаяние, после того как время покажет, что гегемон-интеллект даже и наполовину не успел закончить своего дела, не успел понять данные обстоятельства, обсудить их взаимную связь, принять целесообразное решение, так как воля, не дожидаясь всего этого, задолго до своего срока, выскочила вперед с криком: «Теперь очередь за мной!» — и тотчас же принялась действовать, не встретив себе отпора со стороны интеллекта, который является лишь рабом и крепостным воли, а не αυτοματος, подобно ей, и не действует собственными силами и по собственному побуждению, так что воля без труда отталкивает его в сторону и по одному ее знаку он становится тише воды, ниже травы, между тем как он сам только ценою крайнего напряжения едва способен добиться хотя бы короткой паузы с ее стороны, чтобы сказать и свое слово. Вот почему так редки люди (они почти исключительно встречаются лишь среди испанцев, турок и, конечно, англичан), которые даже при самых волнующих обстоятельствах не теряют головы, нисколько не смутившись, продолжают разбираться в положении дела и там, где другие на их месте давно уже были бы вне себя, con mucho sosiego* задают следующий вопрос; конечно, это совсем не то, что безразличие многих немцев и голландцев, основанное на флегматизме и тупости. Неподражаемо воспроизводил эту славную черту характера Иффланд в «Бенжовском», в роли казацкого гетмана: когда заговорщики завлекли его в свой шатер и приставили ему к голове ружье в знак того, что при малейшем крике курок будет спущен, Иффланд обычно дул в дуло ружья, для того чтобы проверить, заряжено ли оно. Из десяти вещей, которые огорчают нас, девять потеряли бы эту способность, если бы мы основательно поняли их, из их причин, и вследствие этого поняли их необходимость и истинную природу; и это удавалось бы нам гораздо чаще, если бы только мы делали их предметом своего обсуждения раньше, чем предметом горячности и досады. Ибо что для горячего коня узда и удила, то для воли в человеке — интеллект: этой узде в виде поучений, увещеваний, образования и т. д. должна она повиноваться, ибо сама по себе она представляет собой столь же дикий, неукротимый порыв, как и та сила, которая проявляется в низвергающемся водопаде, и мы знаем даже, что в своей глубочайшей основе она тождественна с нею. В крайнем гневе, в опьянении, в отчаянии она закусывает удила, несет и отдается своей изначальной природе. В mania sine delirio** она совсем теряет узду и удила и самым явственным образом показывает свою изначальную сущность, обнаруживая, что интеллект так же отличен от нее, как узда от коня; в этом состоянии она походит также на часы, у которых вынули определенный винт и которые поэтому не умолкая[186] жужжат.
Таким образом, и с этой точки зрения воля оказывается чем-то первичным и поэтому метафизическим, тогда как интеллект представляет собой момент вторичный и физический. В качестве такового этот момент, как и все физическое, подчинен vis inertiae*** и, следовательно,
175
приходит в действие лишь тогда, когда его побудит к этому нечто другое, а именно воля, которая царит над ним, направляет его, поощряет к усилию, словом, сообщает ему ту деятельность, которая первоначально ему присуща. Поэтому он при первой возможности охотно предается отдыху и часто оказывается ленивым и нерасположенным к делу; а продолжительное напряжение утомляет его до полного отупения, истощает его, как истощается вольтов столб от многократных ударов. Вот почему всякая продолжительная умственная работа требует перерывов и отдыха; иначе возникают тупость и неспособность, конечно, на первых порах только временные. Если же в таком отдыхе интеллекту отказывают надолго, если его чрезмерно и беспрестанно напрягают, то в результате появляется хроническое отупение, которое в старости может перейти в полное умственное бессилие, когда человек впадает в детство, в слабоумие и безумие. Не старости самой по себе, а продолжительному и тираническому переутомлению интеллекта, или мозга, следует приписывать появление этих несчастий в последние годы человеческой жизни. Именно этим объясняется то, что Свифт сошел с ума, Кант впал в детство, Вальтер Скотт, Вордсворт, Соути и многие minorum getnium* отупели и ослабли в своих умственных способностях. Гёте до конца дней своих сохранил ясность ума, всю энергию и силу своего духа, потому что, будучи светским человеком и придворным, он никогда не принуждал себя к умственным занятиям. То же самое надо сказать о Виланде, и о Кнебеле, который дожил до девяносто одного года, о Вольтере. Все это доказывает лишь то, до какой степени интеллект представляет собой нечто производное, физическое, простое орудие. Именно поэтому он и нуждается, в продолжение почти трети своей жизни, в полном прекращении своей деятельности во время сна, т. е. в отдыхе мозга, функцией которого он является и который поэтому так же предшествует ему во времени, как желудок — пищеварению, или физическое тело — получаемому толчку, и вместе с которым он в старости вянет и иссякает. Не то воля: как вещь в себе, она никогда не ленится, абсолютно неутомима; ее деятельность — это ее сущность, она никогда не перестает хотеть, и когда ее во время глубокого сна покидает интеллект и она поэтому не может действовать вовне, согласно мотивам, то ее деятельность проявляется в виде жизненной силы, и она тем лучше, без помехи, обеспечивает внутреннюю экономию организма и как vis naturae medicatrix** приводит в порядок случайные расстройства. Ибо воля, в противоположность интеллекту, не есть функция тела, а наоборот, тело — ее функция; поэтому она ordine rerum*** предшествует телу как его метафизический субстрат, как бытие в себе его явления. Свою неутомимость она на время жизни сообщает сердцу, этому primum mobile**** организма, которое оттого и сделалось ее символом и синонимом. Не исчезает она и в старости, все еще продолжая хотеть того, чего хотела, и даже становится тверже и непреклоннее, чем она была в юности, становится более непримиримой, своенравной и непослушной,
176
потому что интеллект в эту пору менее восприимчив, и подступиться к ней можно только в том случае, если воспользоваться его слабостью.
Общая слабость и несовершенство интеллекта, проявляющиеся в виде безрассудства, ограниченности, извращенности и глупости большинства людей, тоже были бы совершенно необъяснимы, если бы интеллект, как это думали до сих пор все философы, был не вторичным и привходящим моментом, не простым орудием, а непосредственной и изначальной сущностью так называемой души, или вообще внутреннего человека. Разве изначальная сущность могла бы так часто ошибаться и заблуждаться в отправлении своей непосредственной и специфической функции? Действительно изначальное в человеческом сознании, воление всегда действует с совершенством: каждое существо желает неустанно, сильно и решительно. Принимать же имморальное в воле за ее недостаток было бы глубоко ошибочно: на самом деле мораль имеет такой источник, который, собственно, лежит уже за гранью природы, и потому она, мораль, противоречит тому, что говорит природа. Именно поэтому мораль и является совершенной противоположностью естественной воле, которая сама по себе безусловно эгоистична; и если идти до конца по пути морали, то это в конце концов приведет к уничтожению воли. По этому вопросу я отсылаю к четвертой книге и к моему конкурсному сочинению «Об основании морали».
5) То, что воля составляет в человеке реальное и существенное, а интеллект — только вторичное, обусловленное, порожденное, — это видно также из следующего: интеллект лишь до тех пор может исполнять свою функцию совершенно чисто и правильно, пока воля молчит и делает передышку; всякое же заметное волнение с ее стороны эту функцию нарушает, и результат последней от ее вмешательства искажается; между тем обратного не бывает, и интеллект не мешает подобным же образом воле. Так, месяц не может светить, когда на небе солнце; но солнцу месяц не мешает.
От сильного испуга мы часто до такой степени теряем рассудительность, что впадаем в столбняк или же делаем самые нелепые вещи, например во время пожара бросаемся прямо в огонь. В гневе мы не знаем того, что делаем, и еще больше — того, что говорим. Ревность (ее потому и называют слепой) лишает нас способности взвешивать чужие аргументы или даже находить и сопоставлять аргументы собственные. Радость делает нас неразумными, неосмотрительными и дерзкими; почти так же действует и вожделение. Страх мешает нам увидеть и употребить те средства спасения, которые еще существуют и часто находятся под рукой. Поэтому для преодоления неожиданных опасностей, как и для борьбы с противниками и врагами, самые важные орудия — это хладнокровие и присутствие духа. Первое состоит в безмолвии воли, которое позволяло бы действовать интеллекту; последнее заключается в спокойной работе интеллекта под натиском воздействующих на волю событий; таким образом, первое служит условием последнего, и оба находятся между собой в близком родстве, встречаются редко и всегда бывают лишь относительными. Но преимущества, которые они дают, все-таки неоценимы, потому что они делают возможным пользование интеллектом как раз в те моменты, когда в нем есть наибольшая нужда,
177
и тем самым обеспечивают решительное превосходство. Кто не обладает ими, тот лишь впоследствии, когда надлежащий момент уже упущен, начинает понимать, что надо было сделать или сказать. А о людях, которые впадают в аффект, т. е. воля которых так сильно возбуждена, что нарушает чистоту функции интеллекта, — о таких людях очень метко говорят, что они обезоружены: точное знание обстоятельств и отношений действительно является нашим оборонительным и наступательным оружием в борьбе с вещами и людьми. В этом смысле и говорит Бальтасар Грасиан: «es la passión enemiga declarada de la cordura» (страсть — отъявленный враг благоразумия). Если бы интеллект не был чем-то от воли совершенно отличным, если бы, как и думали ранее, познание и воление были в основе своей одним и тем же, равноизначальными функциями некоторой безусловно простой сущности, то вместе с возбуждением и усилением воли — в чем и состоит аффект — должен был бы усиливаться и интеллект; между тем в действительности он, как мы это видели, чувствует себя тогда стесненным и подавленным, отчего древние и называли аффект animi perturbatio*. В действительности интеллект подобен зеркальной поверхности воды, а сама вода подобна воле, потрясение которой тотчас же уничтожает чистоту этого зеркала и отчетливость появляющихся в нем образов. Организм — это сама воля, это воплощенная, т. е. объективно созерцаемая в мозгу, воля; поэтому под влиянием радостных и вообще (всех) могучих аффектов усиливаются и ускоряются некоторые из его функций, такие, как дыхание, кровообращение, выделение желчи, сила мышц. Интеллект же — это просто функция мозга, который, как паразит, питается и поддерживается организмом; поэтому каждое потрясение воли, а вместе с ней и организма, должно нарушать или парализовать самостоятельную и чуждую всяким другим потребностям, кроме потребности в отдыхе и питании, функцию мозга.
Это разрушительное влияние деятельности воли на интеллект можно проследить не только в потрясениях, обусловленных аффектами, но также и в некоторых других, более постепенных и потому более устойчивых искажениях мышления нашими склонностями. Надежда заставляет нас считать вероятным и близким то, чего мы желаем, а страх — то, чего мы опасаемся; и та и другой преувеличивают свой объект. Платон (по Элиану, V, Н., 13,28) прекрасно назвал надежду сновидением бодрствующего. Сущность ее заключается в том, что воля принуждает своего слугу, интеллект, — в тех случаях, когда он не в силах доставить ей желаемое, — по крайней мере нарисовать перед нею образ этого желаемого и вообще взять на себя роль утешителя по отношению к своей госпоже; она хочет, чтобы он, подобно няне, ублажающей ребенка, тешил ее сказками и придавал им видимость правдоподобия; при этом интеллект должен насиловать свою собственную природу, стремящуюся к истине, и заставлять себя, вопреки своим же законам, считать истинными такие вещи, которые ни истинны, ни вероятны и часто едва ли возможны, только для того, чтобы на время унять, успокоить и убаюкать беспокойную и необузданную волю. Здесь ясно видно, кто — господин и кто слуга.
178
Вероятно, многие замечали, что когда какое-нибудь важное для них дело допускает несколько исходов и когда они выражают его в форме, как им кажется, полного разделительного суждения, то окончательный результат часто получается все-таки совершенно иным и для них совершенно неожиданным; но, быть может, не все обратили внимание на то, что в подобных случаях этот результат почти всегда оказывается самым неблагоприятным для них. Это объясняется тем, что в то время как интеллект воображал, будто он сделал полный обзор всех возможностей, на самом деле наиболее дурная из них осталась для него совершенно незамеченной, ибо воля как бы прикрыла ее рукою, т. е. настолько овладела интеллектом, что он даже и не способен был предусмотреть худший случай, хотя последний и был самым вероятным из всех: ведь именно он и осуществился. С другой стороны, в натурах абсолютно меланхолических или умудренных опытом происходит обратный процесс: здесь опасение играет ту роль, которая там принадлежала надежде. Первый же признак какой-нибудь опасности немедленно повергает людей подобного склада в беспричинный страх. А когда интеллект начинает исследовать дело, то его отвергают как некомпетентного судью и обманщика-софиста, потому что верят здесь сердцу, трепет которого принимают за настоящий аргумент в пользу реальности и значительности грозящей опасности. Интеллект тогда не смеет даже искать противоположные, утешительные доводы, которые он скоро увидел бы, если бы его предоставили самому себе, нет, такие натуры заставляют его сейчас же рисовать перед ними самый несчастливый исход, даже если сам интеллект считает его маловероятным:
Such as we know is false, yet
dread in sooth,
Beacausc the worst is ever
nearest truth
(Byron, «Lara». C. 1)*.
Любовь и ненависть полностью искажают наше суждение: в своих врагах мы не видим ничего, кроме недостатков, в своих любимцах видим одни только достоинства, и даже их недостатки кажутся нам милыми. Подобную же тайную власть над нашими суждениями имеет и наша выгода, какого бы характера она ни была: то, что отвечает ей, сейчас же представляется нам и справедливым, и честным, и разумным; то, что противоречит ей, мы вполне искренне считаем несправедливым и отвратительным или же нецелесообразным и нелепым. Именно отсюда и ведут свое происхождение столь многочисленные предрассудки — сословные, профессиональные, национальные, сектантские, вероисповедальные. Однажды принятая гипотеза придает нам рысью зоркость по отношению ко всему, что ее подтверждает, и делает нас слепыми по отношению ко всему, что ей противоречит. То, что противостоит нашей партии, нашему замыслу, нашему желанию, нашей надежде, — всего этого мы часто не в состоянии даже понять и постичь, между тем как для всех других оно совершенно ясно; наоборот, все то, что в указанных
179
отношениях благоприятно для нас, уже
издали бросается нам в глаза. Что противно сердцу, того не допускает голова.
Некоторых заблуждений мы крепко придерживаемся в течение всей жизни и
уклоняемся от проверки их оснований только в силу не осознаваемого нами самими страха,
как бы не обнаружить, что мы долго верили в ложь и столь часто утверждали ее.
Так, мистификации наших склонностей каждый день ослепляют и подкупают наш
интеллект. Это прекрасно выразил Бэкон Веруламский в следующих словах: «Intellectus
luminis sicci non est, sed recipit infusionem a voluntate et affectibus:
id quod generat ad quod vult scientias: quod enim mavult h
Мелким и курьезным, но разительным примером той непосредственной и тайной власти, которую воля имеет над интеллектом, может служить следующее наблюдение: при счете мы гораздо чаще просчитываемся в свою пользу, чем себе в убыток, и притом безо всякого дурного умысла, а просто в силу бессознательной склонности уменьшать свой дебет и увеличивать свой кредит.
Сюда же, наконец, относится и тот факт, что когда спрашивают у кого-нибудь совета, то малейший умысел советчика обычно берет верх над его умом, как бы велик он ни был; и там, где мы предполагаем наличие первого, нет основания думать, что советчиком руководит последний. В сколь малой степени можно ожидать даже и от таких людей, которые во всех остальных отношениях честны, полной искренности в обстоятельствах, где так или иначе замешаны их собственные интересы, об этом можно судить уже по тому, что мы часто обманываем самих себя, когда нас подкупает надежда, или ослепляет боязнь, или терзает подозрение, или ласкает тщеславие, или обольщает какая-нибудь гипотеза, или когда ближайшая мелкая цель заслоняет более значительную, но и более отдаленную цель: во всех этих случаях мы видим непосредственное и неосознаваемое отрицательное влияние воли на интеллект. Нечего поэтому удивляться, что когда спрашивают совета, то воля спрашиваемого непосредственно диктует ответ, прежде чем вопрос успеет проникнуть на форум его суждения.
180
Я скажу здесь лишь еще несколько слов о том, что служит предметом обстоятельного рассмотрения в следующей книге. Самое совершенное познание, т. е. чисто объективное или гениальное постижение мира, обусловлено столь глубоким безмолвием воли, что пока оно, такое постижение, длится, даже индивидуальность исчезает из сознания и от человека остается лишь чистый субъект познания, который представляет собой коррелят идеи.
Подтверждаемое всеми этими фактами разрушительное влияние воли на интеллект и, с другой стороны, чувствительность и хрупкость последнего, вследствие которых он сейчас же теряет способность к правильным операциям, лишь только воля так или иначе приходит в движение, — все это служит для нас новым доказательством того, что воля представляет собой корень нашего существа и действует со стихийной мощью, тогда как интеллект, в качестве момента привходящего и многообразно обусловленного, может действовать лишь вторично и обусловленным образом.
Описанным нами омрачению и расстройству, которые воля вносит в познание, не соответствует никакое непосредственное замешательство, которое познание вносило бы в волю, и мы не можем составить себе даже понятия о чем-нибудь подобном. То, что ложно понятые мотивы вводят волю в заблуждение, — этого никто не признает таким замешательством, ибо это ошибка интеллекта в его собственной функции, совершенная исключительно в его пределах, и ее влияние на волю весьма опосредованно. На первый взгляд можно, пожалуй, принять за подобное влияние интеллекта на волю нерешительность, при которой, благодаря состязанию мотивов, предъявляемых воле интеллектом, воля успокаивается, т. е. встречает себе препятствие. Но при ближайшем рассмотрении становится вполне ясно, что причина этой задержки заключается не в деятельности интеллекта как таковой, но исключительно в опосредованных ею внешних предметах, которые в этом случае находятся к заинтересованной здесь воле именно в таком отношении, что с почти одинаковой силой увлекают ее в разные стороны: эта подлинная причина только действует через интеллект, как через среду мотивов, хотя, конечно, лишь при том условии, если он достаточно острый, чтобы правильно воспринимать объекты и их многообразные отношения. Нерешительность как черта характера обусловлена в такой же степени свойствами воли, как и интеллекта. Крайне ограниченным людям она, конечно, не свойственна, потому что их слабый рассудок, с одной стороны, не позволяет им открывать в вещах столько многообразных свойств и отношений; а с другой стороны, он у них так мало приспособлен к усилию, которого требует обдумывание и размышление о вещах и о вероятных последствиях каждого шага, что они предпочитают решаться на известный поступок немедленно, согласно первому впечатлению или в соответствии с каким-нибудь простым правилом поведения. Обратное происходит у людей, одаренных сильным рассудком; и если к этому у них присоединяется и нежная заботливость о собственном благе, т. е. очень чувствительный эгоизм, который избегает всяких неудобств и волнений, то это и вызывает у них на каждом шагу известную робость, а потому и нерешительность. Таким образом, эта
181
черта свидетельствует вовсе не о слабости интеллекта, а о недостатке мужества. Впрочем, самые выдающиеся умы так быстро и уверенно пробегают весь ряд отношений и их возможное развитие, что благодаря этому, если только их поддерживает известная сила духа, они достигают той быстрой решимости и твердости, которая позволяет им играть выдающуюся роль в мировых делах, коль скоро время и обстоятельства благоприятны для этого.
Единственную решительную и непосредственную задержку и препону встречает себе воля со стороны интеллекта лишь в том совершенно исключительном случае, который является результатом ненормального преобладания интеллекта, иными словами, высокой одаренности, которую называют гением. Последняя решительно препятствует энергии характера, а следовательно, и решительности в поступках. Поэтому вовсе не истинно великие люди оказываются теми историческими деятелями, которые, умея руководить и править массой человечества, выступают борцами в мировых событиях: нет, для этого пригодны люди с гораздо более ограниченным умом, но с большей твердостью, решительностью и устойчивостью воли, которые не могли бы даже возникнуть вместе с очень высоким интеллектом. При наличии последнего интеллект просто мешает воле.
6) В противовес описанным помехам и препятствиям, которые интеллект встречает со стороны воли, я покажу сейчас с помощью нескольких примеров то, как, наоборот, функции интеллекта иногда получают от воли побудительный толчок, поощрение и усиление, для того чтобы и на этом факте убедиться в первичности воли и во вторичности интеллекта и для того чтобы стало ясно, что последний играет по отношению к первой роль орудия.
Сильный мотив, например страстное желание или крайняя нужда, иной раз поднимает интеллект на весьма значительную ступень, на что раньше мы никогда не считали его способным. Трудные обстоятельства, вынуждающие нас к некоторым поступкам, развивают в нас совершенно новые таланты, зародыши которых оставались для нас скрытыми и на которые мы не считали себя способными. Рассудок самого тупого человека становится острым, когда дело идет о заветных объектах его воления: с большою тонкостью он подмечает, учитывает и различает самые мелкие обстоятельства, имеющие отношение к его желаниям и страхам. Этим преимущественно и объясняется хитрость глупцов, которая так часто поражает нас. Справедливо поэтому говорит Исайя: «vexatio dat intellectum»*; это изречение стало пословицей, которой родственна немецкая поговорка: «Нужда — мать искусств» («die Not ist die Mutter der Kunste»), — исключая, впрочем, изящные искусства, ибо зерно каждого из их подлинных творений, т. е. концепция, должно вытекать из совершенно безвольного и поэтому чисто объективного созерцания. Даже у животных возможности рассудка значительно возрастают под влиянием опасности, так что в трудных обстоятельствах они делают такие вещи, которые приводят нас в изумление; например, почти все они понимают, что безопаснее не бежать, когда их, как они
182
думают, не видят: поэтому заяц тихо ложится в борозду и позволяет охотнику пройти вплотную рядом с собой; поэтому насекомые, когда им нельзя скрыться, притворяются мертвыми, и т. д. Подробнее можно ознакомиться с этим явлением по специальной истории самосовершенствования волка под давлением трудностей его положения в цивилизованной Европе; ее можно найти во втором письме отличной книги: Leroy, «Lettres sur l’intelligence et la perfectibilite des animaux»*. Сразу после этого, в третьем письме, идет описание хорошей школы, пройденной лисицей: это животное, находясь в столь же трудном положении, имеет гораздо меньшие физические силы, которые возмещаются у него более острым рассудком; но последний, только благодаря постоянной борьбе, во-первых, с нуждой, а во-вторых, с опасностью, т. е. под давлением воли, достигает той высокой степени тонкости, которая характерна для лисицы, в особенности старой. Во всех этих процессах совершенствования интеллекта воля играет роль всадника, который пришпоривает лошадь и тем самым заставляет ее выходить за естественные пределы ее сил.
Под натиском воли улучшается и память. Даже когда она вообще слаба, она полностью удерживает все то, что имеет ценность для преобладающей страсти человека. Влюбленный не забудет ни одного удобного случая для свидания, честолюбец — ни малейшего обстоятельства, которое может содействовать его планам; скупой никогда не забудет понесенной утраты, гордый человек никогда не забудет испытанного им оскорбления, тщеславный человек запомнит любое слово хвалы и самое ничтожное отличие, выпавшее на его долю. И это тоже распространяется на животных: лошадь останавливается перед постоялым двором, в котором она когда-то получила корм; у собак — отличная память на все те обстоятельства, моменты и места, когда и где ей выпадали лакомые кусочки, а у лисиц — на те различные укромные местечки, в которых они прячут свою добычу.
Путем самонаблюдения можно открыть в этой области и более тонкие черты. Иногда, если мне что-нибудь помешало, у меня может совсем выпасть из головы то, о чем я только что думал, или даже то, какое известие только что дошло до моего слуха. Но если забытое обстоятельство имело для меня хотя бы отдаленный личный интерес, то во мне остается отзвук впечатления, которое оно, благодаря этому, произвело на волю: а именно, я продолжаю точно осознавать, насколько приятно или неприятно оно подействовало на меня, и даже каким особым образом это произошло, — т. е. причинило ли оно мне, хотя в слабой степени, боль, испугало ли оно меня, или огорчило, или опечалило, или же вызвало противоположные этим настроения. Следовательно, после того как сама вещь исчезла для меня, в моей памяти сохраняется только ее отношение к моей воле, и часто оно становится путеводной нитью, с помощью которой можно вернуться к самой вещи. Аналогичным образом действует на нас иногда облик человека: мы в общих чертах припоминаем, что имели с ними дело, не зная в то же время, где, когда и что это было и кто он такой; между тем его облик
183
довольно точно воскрешает то ощущение, которое когда-то вызывали в нас отношения с ним; мы припоминаем, было ли оно приятно или неприятно, а также какую оно имело степень и какого было характера; таким образом, память сохранила здесь только отголосок воли, но не то, что его[187] породило. То, что лежит в основе этого процесса, можно назвать памятью сердца: она гораздо интимнее, чем память головы. Но в сущности связь обеих очень тесна, и если глубоко вдуматься во все это, то окажется, что память вообще нуждается в опоре воли, к которой она могла бы прикрепиться, или, лучше сказать, ей нужна некоторая нить, на которую нанизывались бы воспоминания и которая крепко удерживала бы их вместе; оказывается, что воля есть как бы почва, на которой вырастают отдельные воспоминания и без которой они не могли бы сохраняться; поэтому оказывается, что в чистом интеллекте, т. е. у существа только познающего и совершенно безвольного, нельзя даже представить себе памяти. Таким образом, описанное выше улучшение памяти под влиянием господствующей страсти представляет собой только более высокую степень того, что происходит при каждом запоминании и припоминании, так как основой и условием последних всегда является воля. Следовательно, и на этих примерах видно, насколько воля глубже укоренена в нас, чем интеллект. Подтверждением этого могут служить также и следующие факты.
Интеллект часто подчиняется воле: например, когда мы хотим что-нибудь вспомнить и после некоторого усилия это нам удается или когда мы хотим что-нибудь тщательно и всесторонне обдумать, и т. п. Иногда же интеллект отказывает воле в повиновении, например когда мы тщетно пытаемся на чем-нибудь сосредоточиться или напрасно требуем у памяти вернуть то, что мы ей когда-то доверили: в подобных случаях гнев воли против интеллекта служит ясным показателем их взаимных соотношений и существующего между ними различия. Бывает даже и так, что мучимый этим гневом интеллект иногда лишь через несколько часов, а то и на следующее утро, совсем неожиданно и несвоевременно, услужливо доставляет то, чего от него требовали. Что же касается воли, то она, собственно, никогда не подчиняется интеллекту, и последний является только министром этого суверена: он делает ей различные предложения, а воля уже сама избирает то, что соответствует ее сущности, хотя при этом она скована необходимостью, потому что эта сущность всегда неизменна и непоколебима, а мотивы теперь налицо. Вот почему невозможна такая этика, которая формировала бы и улучшала саму волю. Ведь каждое учение действует только на познание; между тем последнее никогда не определяет саму волю, т. е. основной характер воления, а определяет только его применение к данным обстоятельствам. Прогресс познания может модифицировать поступки лишь настолько, насколько точнее он определяет для воли объекты, подлежащие ее выбору, и позволяет ей более правильно судить о них; благодаря этому воля более точно определяет свое отношение к вещам, более ясно видит, чего она хочет, и вследствие этого становится менее подверженной ошибкам при выборе. Но над самим волением, над его главной направленностью или основной максимой интеллект не имеет власти. Думать, что познание действительно и коренным образом
184
определяет волю, — это все равно что думать, будто фонарь, который носит с собой ночной пешеход, является primum mobile* его шагов. Тот, кто, наученный опытом или просвещенный другим лицом, с горечью заметит в своем характере какой-нибудь существенный недостаток, возможно, примет твердое и добросовестное решение исправиться и избавиться от дурной черты; и тем не менее при первом же удобном случае недостаток снова проявится. Опять раскаяние, опять решение, опять неудача… После того как это случится несколько раз, человек поймет, что он не может исправиться и что его недостаток коренится в самой его природе и личности и даже составляет с ними единое целое. Он, пожалуй, начнет тогда осуждать и проклинать свою природу и личность и испытает мучительное чувство, которое может дойти до угрызений совести, но свою природу и личность он изменить не в силах. Здесь мы ясно видим различие того, что осуждает, от того, что осуждается: мы видим, что первое, как чисто теоретическая способность, указует и намечает похвальный и желательный путь в жизни, а второе между тем, реальное и неизменное, наперекор первому, идет совершенно иным путем; и мы видим, что первое остается при своих бессильных жалобах на природу второго, с которым оно, именно благодаря этим сетованиям, опять-таки отождествляется. Различие между волей и интеллектом проявляется здесь очень отчетливо. При этом выясняется, что воля — нечто более сильное, неукротимое, неизменное, примитивное и в то же время существенное, то, в чем вся суть и заключается; между тем как интеллект скорбит о ее ошибках и не находит никакого утешения в правильности познания как своей собственной функции. Интеллект, таким образом, оказывается чем-то совершенно второстепенным: с одной стороны, он — зритель чужих деяний, которые он сопровождает бессильным одобрением и порицанием; с другой стороны, он повинуется внешним определениям, поскольку, наученный опытом, намечает и изменяет свои предписания. Особо говорится об этом в моих «Парергах» (т. 2, § 118).
Поэтому, сравнивая характер нашего мышления в разные возрасты жизни, мы видим странное смешение постоянства и изменчивости. С одной стороны, моральные наклонности зрелого мужа и старца остаются теми же, какие были и у отрока; а с другой стороны, многое делается для него столь чуждым, что он больше не узнает себя и удивляется, как это он мог прежде так поступать или говорить. В первую половину жизни сегодняшний день по большей части смеется над днем вчерашним и даже презрительно смотрит на него сверху вниз; во второй же половине, наоборот, он со все большей и большей завистью оглядывается на него. Но если всмотреться глубже, то мы найдем, что изменялся интеллект со своими функциями понимания и познания, которые, ежедневно усваивая извне новый материал, дают в результате постоянно изменяющуюся систему мыслей; к тому же и сам интеллект совершенствуется и слабеет вместе с расцветом и увяданием организма. Неизменным же моментом сознания оказывается именно его основа, воля, т. е. склонности, страсти, аффекты, характер, причем все же необходимо принять в расчет те модификации, которые зависят от физической способности к наслажде-
185
нию и, следовательно, от возраста человека. Так, например, жажда чувственных наслаждений в отроческом возрасте проявляется в виде любви к сластям, в юношеском и зрелом возрасте она принимает характер сладострастия, у стариков она опять превращается в сластолюбие.
7) Если бы, согласно общераспространенному взгляду, воля вырастала из познания как его результат или продукт, то там, где есть много воли, должно было бы существовать и много знания, понимания, ума. На самом же деле это далеко не так: наоборот, во многих людях мы встречаем сильную, т. е. решительную, отважную, стойкую, непреклонную, своенравную и страстную волю в соединении с очень слабым и несостоятельным рассудком; и как раз этим они иногда приводят в отчаяние тех, кто имеет с ними дело, так как воля подобных людей остается недоступной ни для каких доводов и представлений, и к ней нельзя подступиться, словно она застряла в каком-то мешке и оттуда выражает свое слепое желание. Животные, обладая подчас сильной и упрямой волей, имеют еще меньший рассудок; наконец, растения обладают одной только волей, без всякого познания.
Если бы воление проистекало только из познания, то наш гнев в каждом данном случае должен был бы точно соответствовать своему поводу или, по крайней мере, нашему пониманию последнего, так как и он, гнев, был бы не чем иным, как результатом происходящего в данное время познания. На самом же деле подобное соответствие возникает очень редко; наоборот, гнев по большей части бывает значительно большим, чем его повод. Наши ярость и бешенство, этот furor brevis*, часто разыгрываются по заведомо ничтожным поводам, относительно которых невозможно ошибиться, и напоминают буйство злого демона, который был заперт в клетку и ждал только случая вырваться на свободу, — и вот теперь он ликует, найдя этот случай. Это было бы невозможно, если бы основой нашего существа было нечто познающее, а воление было бы простым результатом познания; в самом деле, как могло бы появиться в результате то, чего не содержалось в его элементах? Ведь заключение не может содержать в себе больше того, что есть в посылках. Таким образом, воля и здесь выступает как существо, которое совершенно отлично от познания и прибегает к его услугам только для своих сношений с внешним миром, а во всем остальном следует законам своей собственной природы, не получал от внешнего мира ничего, кроме повода.
Интеллект, в качестве простого орудия воли так же отличается от нее, как молот от кузнеца. Пока в беседе действует один только интеллект, беседа остается холодной, точно сам человек и не участвует в ней. В таком случае мы не можем себя скомпрометировать, а разве только осрамиться. Лишь тогда, когда в игру вступает воля, действительно появляется сам человек, и тогда беседа становится теплой, а часто жаркой. Жизненную теплоту всегда приписывают воле; наоборот, о рассудке говорят холодный, или выражаются так: подвергнуть что-нибудь
186
холодному анализу, т. е. помыслить что-нибудь без влияния воли. Поэтому пытаться обернуть это отношение и признать волю орудием интеллекта — это все равно что считать кузнеца орудием молота.
Нет ничего досаднее, чем если мы, оспаривая мнение какого-нибудь человека с помощью доводов и рассуждений и прилагая всяческие усилия к тому, чтобы убедить его, в уверенности, что мы имеем дело только с его рассудком, — замечаем, наконец, что он не хочет понимать и что мы, таким образом, имеем дело с его волей, которая не воспринимает истину и намеренно прибегает к недоразумениям, уловкам и софизмам, под прикрытием рассудка и его мнимого непонимания. В таких условиях подступиться к человеку, конечно, нельзя, ибо доказательства и доводы, направленные против воли, подобны ударам китайской тени, направленным против какого-нибудь твердого тела. Отсюда и столь употребительное выражение: «Stat pro ratione voluntas»*. Подтверждений сказанного достаточно в повседневной жизни. Но, к сожалению, они встречаются и в области науки. Признания самых важных истин и самых редких человеческих творений бесполезно ожидать от тех, кто почему-либо заинтересован в том, чтобы не дать им хода, потому ли, что такие истины и творения опровергают то, чему эти люди сами ежедневно учат, или потому, что эти учителя не имеют права пользоваться ими и применять в своем преподавании, или, наконец, при отсутствии первых двух оснований, уже потому, что лозунгом посредственности во все времена будет: «Si quelqu’un excelle parmi nous, qu’il aille exceller ailleurs»**, — как Гельвеций премило передает изречение эфесцев в пятой книге «Тусхуланских бесед» Цицерона (гл. 36); или, как гласит изречение абиссинца Фита Лрари: «Бриллиант среди кварцев не в чести». Следовательно, тот, кто от этой всегда многочисленной толпы ждет справедливой оценки своих трудов, сильно разочаруется и, быть может, на первых порах даже и не поймет ее образа действий, пока, наконец, и он не догадается, что, в то время как он взывал к познанию, в действительности имел дело с волей, т. е. был в описанном выше положении и, собственно говоря, был подобен тому, кто предлагает свое дело такому суду, все члены которого подкуплены. Впрочем, в отдельных случаях он будет иметь самое неопровержимое доказательство того, что ему противостояла не способность понимания людей, а их воля, именно в тех случаях, когда то один, то другой из его противников решится на плагиат. Тогда он с изумлением увидит, какие они тонкие ценители, какое у них верное чутье на чужие заслуги и как хорошо они умеют извлекать у другого все лучшее, подобно воробьям, которые никогда не пропустят самые спелые вишни…
Обратное описанному здесь сопротивлению, которое воля победоносно оказывает познанию, происходит тогда, когда человек, излагая свои доводы и доказательства, имеет волю собеседников на своей стороне; о, тогда все немедля понимают и соглашаются, тогда все аргументы неотразимы и дело сейчас же становится ясным как день! Это хорошо
187
знают ораторы. Как в одном, так и в другом случае воля оказывается чем-то изначально могущественным, против которого интеллект бессилен.
8) А теперь рассмотрим индивидуальные особенности, т. е.
преимущества и недостатки, с одной
стороны, воли и характера, а с другой —
интеллекта, для того чтобы и на примере их отношений друг к другу, и их относительной ценности прояснить
полное различие этих двух основных способностей. История и опыт учат, что обе
они выступают совершенно независимо одна от другой. То, что высшие качества ума
нелегко встретить в сочетании с такими же качествами характера, это вполне
объяснимо исключительно большой редкостью тех и других; между тем
противоположные им черты представляют собой самое обычное явление, отчего их
сочетание встречается сплошь и рядом. Встретив выдающийся ум, обычно никогда не
делают вывод о наличии доброй воли, как и наоборот; с их противоположностями
дело обстоит точно так же: каждый беспристрастный человек принимает все это как
совершенно самостоятельные качества, наличие которых, каждого в отдельности, выясняется
на опыте. Большая ограниченность ума может сочетаться с большой добротою
сердца, и я не думаю, что Бальтасар Грасиан («El Discrete», p. 406) был прав, говоря: «No ay simple, que no sea malicioso»
(«Нет такого дурака, который не был бы зол»), хотя в его пользу и говорит
испанская поговорка: «Nunca
la necedad anduvo sin malicia» («Никогда глупость не ходит без злобы»).
Возможно, впрочем, что некоторые глупцы становятся злыми по той же причине, что
и горбуны, — из-за горечи от того оскорбления, которое им нанесла природа: мечтая
при благоприятных обстоятельствах возместить тайными кознями недостаток
рассудка, они ищут в этом кратковременный триумф. Отсюда» между прочим,
становится понятным и то, почему почти каждый легко озлобляется при встрече с
выдающимся умом. С другой стороны, глупцы часто слывут особенно
добросердечными; однако это так редко подтверждается, что я долго удивлялся,
каким образом они могли приобрести подобную славу, пока, наконец, смею думать,
не нашел разгадки этого явления в следующем обстоятельстве. Каждый, повинуясь
какому-то тайному влечению, для ближайшего общения охотнее всего выбирает
такого человека, которого он несколько превосходит по уму, ибо лишь с таким он
чувствует себя уютно, ведь, по Гоббсу, «
188
a man exasperates most people more, than by displaying a superior ability of brilliancy in conversation. They seem pleased at the time; but their envy makes them curse him at their hearts» (Boswell; aet. anno 74)*. Для того чтобы еще более беспощадно вывести на свет эту истину, всеми столь тщательно скрываемую, я приведу о ней слова Мерка, знаменитого друга юности Гете, из его рассказа «Линдор»: «Природа и образование одарили его талантами, и они привели к тому, что в обществе он почти всегда оставлял далеко за собой почтенных собеседников. Если слушатели в момент отрады, которую дает общение с замечательным человеком, и мирятся с этими преимуществами, не истолковывая их сейчас же как прямую обиду для себя, то все же от встречи с подобным лицом у них остается известное впечатление, которое, если оно повторяется часто, может иметь в будущем серьезные и неприятные последствия для того, кто в нем повинен. Не всякий сознательно мотает себе на ус, что он когда-то был оскорблен этим человеком; но когда последний делает успехи в жизни, всякий не без удовольствия молчаливо становится ему поперек дороги». Таким образом, значительное умственное превосходство изолирует больше, чем что-либо другое, и порождает ненависть, по крайней мере тихую. Противоположностью этого является та любовь, которую повсюду находят глупцы; ведь иной только у них и может найти то, чего он должен искать в силу упомянутого выше закона своей природы. Впрочем, в истинной причине этой симпатии к ограниченным людям никто не признается даже самому себе, не говоря уже о других; поэтому, разыскав благовидный предлог для нее, всякий припишет своему избраннику особую доброту сердца, хотя в действительности она, как мы уже сказали, в высшей степени редко и лишь случайно встречается рядом с умственной ограниченностью.
Итак, неразумие вовсе не благоприятствует доброте характера и не родственно ей. Но, с другой стороны, нельзя утверждать и того, что значительный ум благоприятствует ей: напротив, еще ни один крупный злодей не был лишен его. И даже самые выдающиеся интеллектуальные достоинства могут сочетаться с величайшим нравственным убожеством. Примером этого явился Бэкон Веруламский: неблагодарный, властолюбивый, злобный и низкий, он в конце концов зашел так далеко, что в качестве лорда-канцлера и высшего судьи королевства при решении гражданских процессов часто брал взятки; будучи обвинен пэрами, он признал себя виновным, был изгнан ими из палаты лордов и приговорен к штрафу в сорок тысяч фунтов стерлингов и заключению в Тауэр (см. рецензию на новое издание сочинений Бэкона в «Edinburgh Review», август, 1837). Вот почему Поп и называет его «the wisest, brightest, meanest of mankind» («Essay on man», IV, 282)*. Аналогичный пример являет собой историк Гвиччардини, о котором Розини в своих приложе-
189
ниях к его историческому роману «Луиза Строцци», почерпнутых из достоверных современных источников — «Notizie storiche»*, — говорит:
«Da coloro, che
pongono l'ingegno e il sapere al di sopra di tutte le umane qualita, questo u
Когда мы говорим о каком-нибудь человеке: «У него хорошее сердце, хотя и дурная голова», а о другом человеке: «У него очень хорошая голова, но дурное сердце», — то всякий чувствует, что в первом случае похвала значительно перевешивает упрек, а во втором — наоборот. Подобно этому, когда кто-нибудь совершит дурное дело, то и его друзья, и он сам всегда стараются свалить вину с воли на интеллект, и ошибки сердца выдать за ошибки ума[188]. Дурные поступки они назовут заблуждениями и скажут, что это было простое неразумие, необдуманность, легкомыслие, глупость; в крайнем случае они сошлются и на пароксизм, внезапное умопомрачение, а если речь идет о тяжком преступлении, то даже и на сумасшествие, лишь бы только снять вину с воли. Точно так же и мы сами, вызвав несчастный случай или причинив ущерб, будем очень охотно перед собой и перед другими жаловаться на свою stultitia***, лишь бы только избежать упрека в malitia****. Точно так же и два одинаково несправедливых приговора судьи все-таки бесконечно различны, в зависимости от того, ошибся ли судья или же был подкуплен. Все это в достаточной мере показывает, что только воля составляет действительное и существенное в человеке, его ядро, между тем как интеллект является только ее орудием, которое может, пожалуй, иметь и некоторые изъяны, не задевая этим самой воли. Обвинение в неразумии решительно ничего не значит перед моральным судом, наоборот, здесь оно дает даже преимущества. Точно так же и во всех мирских судах, для того чтобы освободить преступника от всякого наказания, достаточно перенести вину с его воли на его интеллект, доказав, что он действовал, находясь под влиянием непреодолимого заблуждения или умопомрачения: в таком случае на человеке остается столь же мало вины, как если бы он нечаянно оступился. Я обстоятельно разъяснил это в приложении к моему конкурсному сочинению «О свободе воли» — статье «Об интеллектуальной свободе», к которой я и отсылаю читателей, для того чтобы здесь не повторяться.
В случае неудачи какого-нибудь задуманного предприятия люди всегда ссылаются на свою добрую волю: в ней, мол, недостатка не было[189]. Этим они думают оградить то существенное, за что они, собственно, и отвечают, — свое подлинное Я; наоборот, недостаток своих способ-
190
ностей они рассматривают просто как отсутствие пригодного инструмента.
Если кто-нибудь глуп, то его оправдывают тем, что он здесь ничего изменить не может, но попробуйте оправдать этим того, кто зол, — и вас осмеют. Между тем и то и другое дано от рождения. Это доказывает, что действительный человек — это воля, между тем как интеллект — только ее орудие.
Таким образом, то, в чем усматривают нечто, зависящее от нашей власти, т. е. обнаружение нашего подлинного существа, и за что нас делают ответственными, это — только наше воление. Вот почему нелепо и несправедливо требовать от нас объяснений по поводу наших верований, т. е. нашего познания, ибо несмотря на то что они господствуют в нас, мы вынуждены рассматривать их как нечто такое, над чем мы совершенно не властны, как не властны над процессами внешнего мира. Следовательно, и отсюда явствует, что только воля составляет внутреннее и подлинное в человеке, между тем как интеллект со своими операциями, которые происходят так же закономерно, как и процессы внешнего мира, имеет по отношению к воле значение чего-то внешнего, простого орудия.
В высоких умственных способностях люди всегда усматривали дар природы или богов; вот почему эти способности всегда и называли дарами, даровитостью, ingenii dotes, gifts (a man highly gifted)*[190] и видели в них нечто от самого человека отличное, ниспосланное ему чьей-то милостью. На моральные же преимущества никогда так не смотрели, хотя и они даны от рождения; наоборот, в них видели нечто, исходящее от самого человека, принадлежащее ему по существу и составляющее его истинное Я.[191] Отсюда еще раз следует, что воля — действительная сущность человека, между тем как интеллект представляет собой нечто второстепенное, орудие, придаток.
В соответствии с этим все религии сулят в потусторонней жизни, в вечности, награду за достоинства воли, или сердца, и ни одна религия не обещает ее за преимущества головы, рассудка. Добродетель ожидает своей награды в том мире; ум надеется на нее в этом: гений не ждет ее ни там, ни здесь: он сам — своя собственная награда. Таким образом, воля — это вечный элемент человека, интеллект же — временный.
Союзы, связи и общение между людьми, как правило, основаны на тех отношениях, которые касаются воли, и редко на тех, которые касаются интеллекта: первый род сообществ можно назвать материальным, второй — формальным. К первой категории относятся семейные и родственные союзы, а кроме того, все те связи, которые опираются на какую-нибудь общую цель или интерес, например профессиональный, сословный, корпоративный, партийный, деловой и т. п. В таких союзах вся суть заключается только в убеждениях и намерениях союзников, а в их интеллектуальных способностях и образовании может наблюдаться величайшее разнообразие. Вот почему каждый не только может жить в мире и единении с каждым, но и, для обоюдного блага, вместе действовать и находиться в союзе. И брак — это союз сердец, а не умов.
191
Но иначе дело обстоит с чисто формальным сообществом, которое имеет своей целью только обмен мыслями: он требует определенного равенства интеллектуальных способностей и образования. Значительные различия в этом отношении создают между людьми непреодолимую пропасть: она отделяет, например, великий ум от глупца, ученого от мужика, придворного от матроса. Столь разнородные существа должны поэтому прилагать известные усилия, для того чтобы понять друг друга, поскольку речь идет о передаче мыслей, представлений и взглядов. Тем не менее между ними может существовать тесная материальная дружба, и они могут быть верными союзниками, заговорщиками, поручителями. Ибо во всем, что касается одной только воли — а сюда относятся дружба, вражда, честность, верность, обман и предательство, — во всем этом они совершенно однородны и сделаны из одного теста; ни ум, ни образование не вносят сюда никакого различия; мало того, необразованный человек нередко может в этом отношении пристыдить ученого, матрос царедворца. Ибо одни и те же добродетели и пороки, аффекты и страсти уживаются с самыми различными степенями образования, и, хотя и несколько модифицированные в своих проявлениях, они очень скоро узнают друг друга в самых разнородных индивидах, причем люди одинакового склада сходятся между собой, а люди противоположных характеров становятся врагами.
Блестящие умственные качества вызывают удивление, но не симпатию: последняя остается на долю нравственных качеств, характера. В друзья себе всякий охотнее изберет человека порядочного, доброго и просто даже любезного, сговорчивого и мягкого, нежели человека только даровитого. Последний вынужден будет уступить честь и место даже такому лицу, у которого найдутся незначительные, случайные, внешние качества, отвечающие симпатиям другого. Только тот, кто сам одарен, пожелает себе общества даровитого; но его дружба будет ориентироваться на моральные качества, ибо на них зиждется та действительная оценка, которую он дает людям и в силу которой единственная хорошая черта характера покрывает и затмевает все крупные недостатки ума. Испытанная доброта чужого характера делает нас терпеливыми и снисходительными по отношению к серьезным слабостям ума, как и по отношению к тупой и ребячливой природе старости. Глубоко благородный характер, при полном отсутствии интеллектуальных достоинств и образования, представляет собой нечто совершенное и самодовлеющее, тогда как величайший ум, отягощенный моральными пороками, неизбежно вызовет порицание. Ибо как факелы и фейерверки бледнеют и меркнут перед солнцем, так ум, даже гений, равно как и красота, тонут и темнеют в лучах сердечной доброты. А там, где последняя достигает высокой степени, она может настолько возместить названные качества, что людям стыдно будет замечать их отсутствие[192]. Даже самый ограниченный ум и поразительное уродство, коль скоро им сопутствует необычайная доброта сердца, как бы преображаются, и их осеняет красота высшего порядка[193], потому что теперь из них говорит такая мудрость, перед которой должна умолкнуть всякая другая. Ибо доброта сердца — это трансцендентное качество; она относится к порядку вещей, выходящему за пределы этой жизни, и несоизмерима ни
192
с каким другим совершенством. Там, где она проявляется в высшей степени, она расширяет сердце настолько, что оно объемлет мир и все принимает в себя, ничего не оставляя вовне, так как добрый человек отождествляет все существа с самим собой. И доброта порождает тогда и по отношению к другим то беспредельное благоволение, которое всякий обыкновенно питает лишь к самому себе. Такой человек неспособен разгневаться; и даже когда его собственные интеллектуальные и физические недостатки вызывают у других злую насмешку и глумление, он в глубине сердца шлет упреки самому себе за то, что дал повод к таким суждениям и, совершенно не насилуя себя, продолжает с любовью относиться к этим людям в доверчивой надежде, что они отрешатся от своего заблуждения по отношению к нему и в нем тоже узнают самих себя. Что в сравнении с этим остроумие и гениальность? Что — Бэкон Веруламский?[194]
К тому же выводу, который мы получили здесь из рассмотрения
нашей оценки других, нас склоняет и оценка собственного Я. До какой
степени испытываемая нами моральная самоудовлетворенность отлична от
самоудовлетворенности интеллектуальной! Первая возникает у нас тогда, когда,
оглядываясь на свою прошлую жизнь, мы видим, что мы не отступали и от тяжких
жертв, для того чтобы хранить честь и верность, что иным мы оказывали помощь,
другим прощали, что мы лучше относились к людям, чем они к нам, и потому имеем
право сказать вместе с королем Лиром: «Я не так перед другими грешен,
как другие — передо мной»10; особенно полным
бывает это довольство собой, когда в нашем воспоминании сияет какой-нибудь
благородный поступок. Глубокая серьезность будет сопутствовать той тихой
радости, которую вызовет у нас такой итог нашей жизни; и если мы убедимся при
этом, что другие остаются в данном отношении позади нас, то это не повергнет
нас в ликование, скорее мы будем сожалеть об этом и искренне пожелаем, чтобы
все они были такими же, как мы. Насколько иначе действует сознание нашего
интеллектуального превосходства! Основным тоном этого сознания является,
собственно говоря, приведенное выше изречение Гоббса: «Omnis animi voluptas,
И если мы, обратившись к внешнему миру, вспомним, что vita brevis, ars longa**[195], и подумаем, как были унесены смертью величайшие и пре-
193
краснейшие умы, часто именно в тот момент, когда они едва-едва достигли вершины своих дарований, а равно и великие ученые, как только они успели найти какой-нибудь глубокий принцип своей науки, — если мы подумаем об этом, то и здесь найдем подтверждение того, что жизнь имеет не интеллектуальные, а моральные смысл и цель.
Коренное различие между духовными и моральными качествами проявляется, наконец, и в том, что интеллект испытывает с течением времени крайне важные изменения, между тем как воля и характер остаются незатронутыми временем. Новорожденный совсем не может использовать свой рассудок, но в течение первых двух месяцев научается этому, обретя созерцание и восприятие вещей во внешнем мире; этот процесс я подробнее описал в своем трактате «О зрении и цвете», с. 10 второго издания. За этим первым и важнейшим шагом следует гораздо более медленное — по большей части, только на третьем году — формирование разума, вплоть до появления речи, а тем самым и мышления[196]. Тем не менее раннее детство неизбежно отдано на произвол дурачествам и глупости, прежде всего потому, что мозг не обладает еще физической законченностью, которой он и по величине, и по развитию достигает лишь на седьмом году[197]. Но, кроме того, для энергичной деятельности ему нужен еще антагонизм половой системы, и потому такая деятельность начинается лишь в период половой зрелости. Однако она сообщает интеллекту лишь простую способность к физическому развитию; само же развитие может быть достигнуто только путем упражнения, опыта и обучения. Поэтому, как только дух освобождается от детской глупости, он попадает в сети бесчисленных заблуждений, предрассудков, химер — иногда самых нелепых и поразительных; и он упорно держится за них, пока опыт мало-помалу не отучит его от них, а некоторые незаметно исчезнут сами[198]; но все это совершается лишь на протяжении многих лет, так что хотя мы и признаем человека совершеннолетним сразу же после того, как ему исполнится двадцать лет, но полная зрелость приходит лишь к сорока годам[199]. Между тем пока это формирование психики, опирающееся на внешнюю помощь, находится еще в периоде развития, внутренняя физическая энергия мозга уже начинает истощаться[200]. А именно последняя в силу своей зависимости от притока крови и воздействия пульсации на мозг, а через это и от преобладания артериальной системы над венозной, равно и благодаря свежей нежности мозговых волокон, наконец, еще и в силу энергии половой системы — достигает своего настоящего кульминационного пункта приблизительно на тридцатом году человеческой жизни; уже после тридцати пяти лет можно заметить легкое ослабление мозговой энергии, и оно становится все большим и большим вследствие постепенно возникающего преобладания венозной системы над артериальной, как и вследствие того, что вещество мозговых волокон становится все более твердым и хрупким. Это ослабление было бы еще более заметно, если бы, с другой стороны, ему не противодействовало то совершенствование психики, которое приобретается упражнением, опытом, приростом знаний и навыком в пользовании ими; к счастью, такой антагонизм длится вплоть до поздней старости, и в это время мозг все более и более уподобляется обыгранному инструменту. И все-таки ослабление первоначальной, всецело основан-
194
ной на органических условиях энергии интеллекта прогрессирует все больше и больше, оно идет медленно, но зато и безостановочно: способность к первичному схватыванию, фантазия, пластичность, память — все это заметно слабеет, и человек шаг за шагом отступает назад и впадает в болтливую, беспамятную, наполовину бессознательную и, наконец, совершенно ребячливую старость.
Не то — воля: на нее не распространяется весь этот процесс изменения, роста и движения, с начала и до конца она остается неизменной. Волению не надо учиться, как познаванию; нет, оно полноценно с самого начала. Новорожденный делает бурные движения, выходит из себя и кричит, он сильнейшим образом желает, несмотря на то что еще не знает, чего он желает. Ибо среда мотивов, интеллект, у него еще совсем не развита: воля находится во тьме по отношению к внешнему миру, где существуют ее объекты, и, словно пленник, в бешенстве бьется о стены и решетки своей темницы. Но мало-помалу рассветает, и скоро вырисовываются как основные черты общечеловеческого воления, так и наличная в каждом данном случае индивидуальная их модификация. Будущий характер сначала проявляется только в слабых и колеблющихся очертаниях, вследствие достаточной помощи со стороны интеллекта, который должен предъявлять характеру мотивы; но для внимательного наблюдателя присутствие последнего вполне ясно, и скоро оно делается несомненным. Обнаруживаются черты характера, которые потом остаются на всю жизнь: раскрываются главные направления воли, легко возбудимые аффекты, господствующие страсти. Поэтому события школьной жизни обычно так относятся к событиям дальнейшего жизненного пути, как тот немой пролог, который в «Гамлете» предшествует драме во дворце и пантомимически возвещает ее содержание, относится к самой этой драме. Но никогда нельзя подобным же образом из умственных способностей мальчика выводить прогноз его будущих дарований: напротив, ingenia praecoda*, вундеркинды, обыкновенно превращаются в тупиц; настоящий же гений часто бывает в детстве тугодумом и постигает с трудом, — именно потому, что постигает глубоко. Этим и объясняется то, что всякий, смеясь и без смущения, рассказывает о дурачествах и глупостях, которые он говорил и делал ребенком; например, Гёте сообщает нам, как он выбросил однажды в окно всю кухонную посуду («Dichtung und Wahrheit», Bd. I, S. 712): ведь каждый понимает, что все это относится только к преходящему[201]. Наоборот, дурные черты, злые и лукавые поступки юности ни один умный человек не отдаст на всеобщее позорище, ибо он чувствует, что они все еще служат свидетельством нынешнего его характера[202]. Мне рассказывали, что краниоскоп и антрополог Галль, когда ему предстояло завязать сношения с каким-нибудь еще неизвестным человеком, наводил его на разговор о годах и поступках его юности, для того чтобы, насколько возможно, понять отсюда черты его характера, — ибо он и теперь должен оставаться тем же самым. Вот почему, в то время как мы равнодушно и даже с улыбкой удовольствия оглядываемся на глупости и неразумие наших юношеских лет, дурные черты нашего характера, относящиеся к тому же
195
возрасту, и совершенные тогда злые и неблаговидные деяния стоят перед нами неизгладимым укором даже в поздней старости и тяготят нашу совесть[203].
И подобно тому как характер с самого начала появляется в готовом виде, так он и остается до поздней старости неизмененным. Натиск старости, который мало-помалу поглощает интеллектуальные силы, оставляет моральные качества нетронутыми. За доброту сердца мы все еще любим и уважаем старика, хотя его голова обнаруживает уже такие недостатки, которые начинают возвращать его к состоянию детства. Кротость, терпение, честность, правдивость, бескорыстие, человеколюбие и т. п. сохраняются в течение всей жизни и не погибают от старческой слабости: в каждое светлое мгновение дряхлого старика они выступают безо всякого ущерба, как солнце из зимних облаков. С другой стороны, и злоба, коварство, алчность, жесткосердие, лживость, эгоизм и низость всякого рода тоже остаются в полной сохранности до самой старости. Мы не поверим, мы осмеем того, кто нам скажет: «В прежние годы я был злым негодяем, а теперь стал честным и благородным человеком». Вальтер Скотт в своих «Nigels fortunes»* очень хорошо показал на примере старого ростовщика, как неутолимая скупость, эгоизм и несправедливость находятся еще в полном цвету, подобно ядовитым растениям осени, и бурно проявляются даже после того, как интеллект уже впал в детство. Отдельные изменения, которые происходят в наших склонностях, — это те, которые являются непосредственным результатом упадка наших физических сил, а с ними и способности к наслаждению: так, сладострастие уступает место обжорству, любовь к роскоши — скупости, тщеславие — честолюбию; так, человек, который, прежде чем у него выросла борода, приклеивал себе фальшивую, впоследствии будет красить свою поседевшую бороду. Таким образом, в то время как все органические способности, мускульная сила, внешние чувства, память, остроумие, рассудок, гениальность изнашиваются и в старости притупляются, — воля одна пребывает нетронутой и неизменной: стремительность и направление желаний остаются теми же. Мало того, в некоторых отношениях воля в старости проявляется еще сильнее: например, в привязанности к жизни, которая, как известно, увеличивается; затем в настойчивости и упорном сохранении того, чем воля однажды завладела, т. е. в упрямстве; объясняется это тем, что восприимчивость интеллекта к другим впечатлениям, а вместе с ней и впечатлительность воли к притоку мотивов слабеют, отсюда непримиримость гнева и ненависти у старых людей:
The ioung man's wrath is like
light straw on fire;
But Like red-hot steel is the
oldman's ire.
(Old Ballad)**
196
Из всех этих соображений для серьезного наблюдателя становится очевидным, что в то время как интеллект должен проходить длинный ряд последовательных изменений, а потом, как и все физическое, клониться к упадку, воля не принимает участия в этом процессе, за тем лишь исключением, что в начале своего поприща она вынуждена бороться с несовершенством своего орудия — интеллекта, а в конце — с его же изношенностью; но сама она появляется как нечто готовое и пребывает неизменной, не подчиняясь законам времени и происходящего в нем возникновения и уничтожения. В этом сказывается то, что она есть нечто метафизическое, а не принадлежащее к миру явлений.
9) Общераспространенные и для всех понятные выражения сердце и голова имеют свой источник в верном чувстве того основного различия, о котором здесь идет речь; оттого-то они столь метки и выразительны и существуют во всех языках. «Nee cor nec caput habet»*, — говорит Сенека об императоре Клавдии («Ludus de morte Claudii Caesaris», с. 8)**. Сердце, primum mobile животной жизни, с полным правом признали символом и даже синонимом воли как первичного ядра нашего явления — в противоположность интеллекту, который прямо отождествляют с головой. Все то, что в широком смысле слова относится к области воли — желания, страсть, радость, боль, доброта, злоба, все то, что понимают под душой или чувством, и то, что Гомер называет φιλον ητορ***, — все это приписывается сердцу. Вот почему и говорят: у него дурное сердце; он принимает это дело близко к сердцу; это исходит у него от сердца; это было для него ударом в сердце; это разрывает ему сердце; у него сердце обливается кровью; сердце трепещет от радости; кто может заглянуть в сердце человека?; это терзает, мучит, разбивает, возвышает, трогает сердце; он добр сердцем; он жестокосерд, бессердечен, неустрашим сердцем, робок сердцем и т. д. Но по преимуществу сердечными делами, affaires de coeur, называются любовные отношения, так как половой инстинкт служит фокусом воли и выбор удовлетворяющего его объекта составляет главную заботу естественного человеческого воления; причину этого я разъясню в обстоятельной главе своих дополнений к нашей четвертой книге. Байрон в «Дон-Жуане» (песнь 11, строфа 34) смеется над тем, что у дам любовь — дело ума, а не сердца. Не то голова: это слово означает все то, что относится к познанию. Отсюда выражения: человек с головой, умная голова, светлая голова, плохая голова, потерять голову, сохранить голову и т. д. Сердце и голова исчерпывают всего человека. Но голова — это всегда нечто вторичное, производное, ибо она не центр, а высший цвет тела. Когда умирает герой, бальзамируют его сердце, а не мозг; наоборот, мы охотно сохраняем череп поэта, художника и философа. Так, в Acadèmia di S. Luca**** в Риме сохранялся череп Рафаэля (впрочем, недавно была доказана его неподлинность). В Стокгольме в 1820 г. продавали с аукциона череп Картезия*****.
197
До некоторой степени ощущение истинного соотношения между волей, интеллектом, жизнью отражается и в латинском языке. Интеллект по-латыни — mens (νους); воля же — animus, что происходит от anima, которое, в свою очередь, произошло от ανεμος Anima — это сама жизнь, дыхание, ψυχη; animus же — это животворящее начало и вместе с тем воля, субъект склонностей, замыслов, страстей и аффектов; отсюда выражения: «est mihi animus», «fert animus» («мне хочется»), а также animi causa и т. д.; это — греческое ϑυμος, т. е. душа, а не голова. Animi perturbatio — это аффект; mentis perturbatio означало бы умопомешательство. Предикат immortalisa* прилагается к animus, а не к mens. Все это — общее правило, которое выясняется из множества соответствующих мест; хотя, естественно, при столь близком родстве понятий встречаются и случаи смешения этих слов. Под словом ψυχη греки, по-видимому, мыслили преимущественно и первоначально жизненную силу, животворящее начало, откуда и возникло предчувствие того, что оно должно быть чем-то метафизическим и, следовательно, в противоположность телу, не подверженным смерти. Это доказывают, между прочим, сохранившиеся у Стобея[204] изыскания об отношении между νους и ψυχη (Ed., Lib. I, с. 51, § 7, 8).
10) На чем основано тождество личности? Не на материи тела: она спустя несколько лет совершенно меняется. Не на форме тела: она меняется в целом и во всех частях, кроме выражения глаз, по которому и можно еще узнать человека спустя многие годы, — это доказывает, что, несмотря на все перемены, которые производит в человеке время, все-таки в нем остается еще нечто, временем совершенно не затрагиваемое: это именно то, в чем мы вновь узнаем его через большие промежутки времени и находим все того же человека. Таким же образом мы узнаем и самих себя: в самом деле, сколь бы старыми мы ни становились, в глубине души мы чувствуем себя точно такими же, какими были и раньше, в молодости и даже еще в детстве. Это неизменное и всегда тождественное себе, не стареющее вместе со всем другим, и есть ядро нашего существа, которое находится вне времени. Существует мнение, что тождество личности основывается на тождестве сознания. Но если под таким тождеством понимать просто цепь воспоминаний о пройденном жизненном пути, то ее недостаточно. Конечно, о своей прошлой жизни мы знаем больше, чем о каком-нибудь давно прочитанном романе, но все-таки знаем лишь очень немногое. Главные факты и наиболее интересные сцены запечатлелись в памяти; но что касается всего остального, то на одно событие, которое мы запомнили, приходятся тысячи забытых. И чем старее мы становимся, тем бесследнее все исчезает. Глубокая старость, болезнь, поражение мозга, безумие могут совершенно отнять у нас память. Но тождество личности от этого не теряется. Оно зиждется на тождественной себе воле и на неизменном характере последней. И она же, воля, придает неизменность выражению наших глаз. В сердце обретается человек, а не в голове. Правда, вследствие нашего отношения к внешнему миру мы привыкли считать своей подлинной самостью субъект познания, познающее Я, которое к вечеру
198
устает, исчезает во сне, а поутру просыпается с обновленными силами и сияет лучезарнее. Но это Я в действительности только функция мозга, а вовсе не сама подлинная наша личность. Наше истинное Я, ядро нашего существа заключается в том, что находится за познающим Я и, собственно, не ведает ничего другого, кроме желания и нежелания, удовлетворения и неудовлетворенности со всеми относящимися сюда модификациями, которые зовутся чувствами, аффектами и страстями. Именно оно создает все другое, оно не засыпает, когда спит последнее, и остается невредимым, когда последнее исчезает вместе со смертью. Наоборот, все то, что относится к сфере познания, обречено на забвение; даже поступки, имеющие моральную значимость, мы иногда не в силах припомнить вполне отчетливо спустя многие годы, и мы уже не знаем точно и в подробностях, как мы поступали в тех или других критических обстоятельствах нашей жизни. Но сам характер, о котором поступки лишь свидетельствуют, — его мы не можем забыть: он всегда совершенно таков же, каким был и раньше. Сама воля, взятая в своей обособленности, устойчива: только она одна неизменна, неразрушима, не стареет — не в физическом, а в метафизическом смысле, она не относится к явлению, а представляет собой само являющееся. Выше, в 15-й главе, я показал, что на воле основывается и тождество сознания, насколько оно вообще существует; теперь, следовательно, я могу не останавливаться больше на этом пункте.
11) Аристотель в своей книге о сравнении вещей, достойных желания, между прочим, говорит: «Жить хорошо — лучше, чем жить» (βε’λτον τοῦ ζῆν τὸ εὐ ζῆν, Top. III, 2). Отсюда, с помощью двойной контрапозиции, можно сделать такой вывод: не жить лучше, чем жить дурно. Это для интеллекта несомненно, и тем не менее большинство предпочитает жить очень дурно, чем совсем не жить. Причина этой привязанности к жизни не может заключаться в объекте привязанности, потому что жизнь, как мы показали в четвертой книге, — это, в сущности, беспрерывное страдание или, по крайней мере, как это будет показано ниже, в 28-й главе, предприятие, не покрывающее своих издержек[205]. Следовательно, привязанность к жизни может иметь свое основание только в своем субъекте. Но это основание лежит не в интеллекте, и любовь к жизни не есть результат размышления и вообще не дело выбора: нет, желание жить есть нечто само собой понятное, оно — prius* самого интеллекта. Мы сами — воля к жизни, и поэтому мы должны жить — хорошо ли, дурно ли. Только тем, что эта привязанность к жизни, ее не стоящей, имеет всецело априорный, а не апостериорный характер, — только этим и объясняется присущий всему живому необыкновенный страх смерти, описанный Ларошфуко с редким прямодушием и наивностью в его последнем «Размышлении»; на этом страхе зиждется в конечном счете то впечатление, которое производят на нас трагедии и героические подвиги и которое исчезло бы, если бы мы оценивали жизнь только по ее объективной ценности. На этот же несказанный horror mortis** опирается и то излюбленное положение ординарных
199
людей, что всякий, налагающий на себя руки, непременно помешан; с другой стороны, он же, этот horror, лежит и в основе того удивления и даже преклонения, которые всякий раз вызывает такой поступок даже у людей мыслящих, ибо самоубийство настолько противоречит природе всего живущего, что тот, кто был в силах решиться на него, невольно возбуждает в нас уважение, и мы находим даже некоторое успокоение в том, что в крайнем и худшем случае для нас действительно открыт подобный исход, — в чем можно было бы сомневаться, если бы это не подтверждалось в опыте. Ибо самоубийство исходит из решения, принятого интеллектом; между тем наше желание жить prius интеллекта. Таким образом, и это соображение, подробно развитое в 28-й главе, подтверждает примат воли в самосознании.
12) С другой стороны, ничто так ясно не доказывает вторичной, зависимой, обусловленной природы интеллекта, как периодическая приостановка его деятельности. Во время глубокого сна совершенно прекращаются все функции познания и представления. Но само ядро нашего существа, его метафизическое начало, которое органические функции необходимо предполагают как свое primum mobile, — оно никогда не смеет остановиться под страхом прекращения жизни, да оно и не нуждается в отдыхе, как нечто метафизическое и, следовательно, бестелесное. Вот почему те философы, которые этим метафизическим ядром признавали некоторую душу, т. е. изначально и по самому естеству своему познающую сущность, вынуждены были утверждать, что эта душа в своей представляющей и познающей деятельности совершенно неутомима и, следовательно, продолжает ее даже во время самого глубокого сна, но только, проснувшись, не помнит об этом. Однако ложность такого утверждения сделалась ясной, как только, в результате открытий Канта, упомянутую душу отбросили в сторону. Действительно, сон и пробуждение самым ясным образом показывают непредубежденному уму, что познание — вторичная и обусловленная организмом функция, такая же, как и всякая другая. Неутомимо одно только сердце[206], потому что его биение и циркуляция крови не обусловлены непосредственно нервами, а сами представляют собой как раз изначальное обнаружение воли. Да и все другие физиологические функции, управляемые ганглиенозными нервами, которые имеют лишь очень косвенную и отдаленную связь с мозгом, — все такие функции продолжаются во сне, хотя секреции происходят медленнее; даже биение сердца, ввиду его зависимости от дыхания, обусловленного церебральной системой (medulla oblongata*), немного замедляется вместе с последним. Желудок, может быть, наиболее деятелен во время сна; это следует приписать его особой, обусловливающей взаимные задержки согласованности с мозгом, теперь остающимся без дела. Только мозг, а вместе с ним и познание полностью отдыхает в глубоком сне. Ибо он представляет собой только министерство внешних дел, как ганглиенозная система — министерство дел внутренних. Мозг с его функцией познания есть не что иное, как часовой, поставленный волей ради ее внешних целей, и этот часовой сверху, из сторожевой будки, т. е. головы, через окна внешних чувств озирает всю округу, прислушивается, откуда грозит беда и где можно ожидать
200
хорошего, и обо всем доносит воле, а воля уже отдает соответствующие распоряжения. Этот часовой, как и всякий, кто находится на действительной службе, пребывает в состоянии напряженности и усилия. Вот почему он рад, когда, отбыв свое дежурство, получает отпуск, как и всякий караульный рад смениться. Этот отпуск — погружение в сон; оттого оно так сладко и приятно для нас и мы охотно предаемся ему. Наоборот, мы не любим, когда нас будят, потому что это неожиданно зовет часового опять на его пост, и после благодетельного сокращения сердца снова наступает его тягостное расширение, — опять интеллект уходит служить воле. Между тем, если бы так называемая душа изначально и от рождения была существом познающим, как это думают упомянутые философы, то, пробуждаясь, она должна была бы, наоборот, чувствовать себя хорошо, как рыба, возвращенная реке. Во время сна, когда продолжается только вегетативная жизнь, воля одна действует согласно своей изначальной природе и сущности, без помех извне, без отвлечения ее сил на деятельность мозга и напряженную работу познания, которые являются самой трудной органической функцией, но для организма служат только средством, а не целью; поэтому во сне вся сила воли направлена на восстановление и, где требуется, на поправку организма. Всякое исцеление и все благодетельные кризисы происходят во время сна, потому что vis naturae medicatrix* лишь тогда свободно действует, когда она освобождена от бремени функции познания. Эмбрион, которому надо еще образовать для себя само тело, спит поэтому беспрерывно, да и новорожденный спит большую часть своего времени. В этом смысле и Будрах («Физиология», т. III, с. 484) совершенно правильно считает сон изначальным состоянием.
По отношению к самому мозгу я более точно объясняю себе необходимость сна с помощью гипотезы, которая впервые установлена, кажется, в книге Ноймана «О болезнях человека», 1834, т. 4, § 216. Она состоит в следующем: питание мозга, т. е. обновление его субстанции на основе крови, не может происходить во время бодрствования потому, что столь возвышенная органическая функция познания и мышления нарушалась бы или совсем уничтожалась столь низкой и материальной функцией питания. Этим объясняется то, что сон — не чисто отрицательное состояние, не простая пауза в деятельности мозга, но и обнаруживает вместе с тем положительный характер. Последний проявляется уже в том, что между сном и бодрствованием существует не простое различие в степени, но есть определенная граница: она при погружении в сон дает о себе знать сновидениями, которые совершенно не соответствуют только что мелькавшим у нас мыслям. Дальнейшее подтверждение этого можно видеть в том, что когда нам снится что-нибудь страшное, мы тщетно стараемся крикнуть, или отразить нападение, или стряхнуть с себя сон; как будто соединительное звено между мозгом и двигательными нервами, или между большим и малым мозгом (как регулятором движений), исчезло: мозг остается в своей изолированности, и сон как бы держит нас железными когтями. Наконец, положительный характер сна виден и из того, что для последнего требуется известная степень силы, — чрезмерное утомление, как и природная слабость,
201
мешают нам овладеть им, capere s
202
ся тем, что летом меньше спится; ибо чем глубже мы спали, тем бодрее мы потом, тем более мы возбуждены или «пробуждены». Впрочем, из-за этого не следует удлинять время сна больше, чем нужно, ибо в таком случае он потеряет в интенсивности, т. е. в глубине и крепости то, что выигрывает в экстенсивности и, следовательно, выродится в пустую трату времени. Это же имеет в виду и Гете (во второй части «Фауста»), говоря про утреннюю дремоту: «Сон — скорлупа: отбрось ее прочь».
Таким образом, феномен сна особенно ясно подтверждает, что сознание, восприятие, познавание, мышление — все это в нас не изначальное, а обусловленное и производное состояние. Это — роскошь природы, и притом роскошь крайняя, и поэтому чем дальше природа заходит в этой роскоши, тем меньше в состоянии поддерживать ее без перерывов. Это — продукт, цветок мозговой нервной системы, которая сама, как паразит, питается за счет остального организма. Мы видим здесь связь также и с тем фактом, который я описал в третьей книге своего сочинения, — с тем факсом, что познание тем чище и совершеннее, чем больше оно освобождено и обособлено от воли, а в этом состоянии возникает чисто объективное, эстетическое постижение мира, подобно тому как экстракт бывает тем чище, чем больше он изолирован от того, из чего он извлечен, и чем лучше он очищен от всякого осадка. Противоположное показывает воля, самым непосредственным обнаружением которой является вся органическая жизнь и, прежде всего, неутомимое сердце.
Это последнее соображение уже близко к теме следующей главы, к которой оно поэтому и является
переходом; здесь же следует сделать только
следующее замечание. В состоянии магнетического сомнамбулизма сознание удваивается: возникают два
познавательных ряда, причем каждый
из них сам по себе является внутренне связным, но друг от друга они совершенно отделены: бодрствующее
сознание ничего не ведает о
сознании сомнамбулическом. Но воля в обоих ‹состояниях сознания› сохраняет один и тот же характер и
остается безусловно тождественной: в
обоих она проявляется в одних и тех же симпатиях и антипатиях. Ибо удвоиться может функция, но не
внутренняя сущность.
Глава 20*
Объективация воли в
животном организме
Под объективацией я понимаю самозапечатление в реальном мире тел. Но сам этот мир, как я обстоятельно показал в первой книге и ее приложениях, всецело обусловлен познающим субъектом, т. е. интеллектом, и, следовательно, вне познания совершенно немыслим как таковой, ибо он прежде всего — только созерцаемое представление и, в качестве такового, феномен мозга. Устраните этот мир, и останется вещь в себе. То, что она есть воля, — тема моей второй книги, и прежде всего это доказывается на примере человеческого и животного организма.
203
Познание внешнего мира можно охарактеризовать и как сознание других вещей, в противоположность самосознанию. После того как мы нашли в самосознании волю в качестве его подлинного объекта или материала, теперь мы с той же целью рассмотрим сознание других вещей, т. е. объективное познание. И здесь я выдвигаю следующий тезис: что в самосознании, т. е. субъективно, есть интеллект, то в сознании других вещей, т. е. объективно, предстает в виде мозга; и что в самосознании, т. е. субъективно, есть воля, то в сознании других вещей предстает в виде целостного организма.
К доказательствам, которые я привел для этого тезиса во второй книге настоящего произведения, равно как и в первых двух главах трактата «О воле в природе», я присоединю еще следующие дополнения и разъяснения.
Для обоснования первой части приведенного тезиса наиболее важное сделано уже в предшествующей главе, так как на примерах необходимости сна, изменений, обусловленных старостью, и различий анатомического строения я показал там, что интеллект, как вторичный по своей природе, всецело зависит от одного-единственного органа — мозга, функцией которого он является, подобно тому как хватание является функцией руки, и что он, следовательно, представляет собой момент физический, аналогичный пищеварению, а не метафизический, как воля. Как для хорошего пищеварения нужен здоровый, крепкий желудок, а атлету нужны мускулистые, сильные руки, так выдающийся интеллект требует необычайно развитого, хорошо построенного, замечательного по тонкости своих тканей и оживленного энергичной пульсацией мозга. Наоборот, свойства воли не зависят ни от какого органа и ни по какому органу нельзя их прогнозировать. Величайшая ошибка френологии Галля заключается в том, что он и для моральных качеств ‹в качестве их носителя› устанавливает органы мозга. Поражения головы, связанные с потерей мозгового вещества, действуют по большей части очень вредно на интеллект: они влекут за собой полное или частичное слабоумие или утрату речи — навсегда или на время (иногда, впрочем, из нескольких знакомых языков больной забывает лишь один, иногда же — только собственные имена); болезни головы влекут за собой и потерю других ранее находившихся в распоряжении больного знаний и т. п.[209] Напротив, не известно ни одного случая, чтобы после такого рода несчастья произошла какая-нибудь перемена в характере человека, чтобы та или другая личность стала хуже или лучше, чтобы она утратила какие-нибудь склонности и страсти или же приобрела новые, — этого не бывает никогда. Ибо воля имеет свое место не в мозгу, и кроме того, она, как начало метафизическое, — prius мозга, а с ним и всего тела, и поэтому не изменяется от тех или других повреждений мозга. Проведенный Спалланцани и воспроизведенный Вольтером[210] опыт показал*, что
204
улитка, у которой отрезают голову, остается живой и через несколько недель у нее вырастает новая голова вместе с чувствительными рожками, отчего у нее восстанавливаются сознание и представление, между тем как раньше животное демонстрировало лишь неупорядоченные движения, которые обнаруживали в нем только слепую волю. Таким образом, и здесь воля оказывается субстанцией, которая пребывает неизменной, между тем как интеллект обусловлен своим органом, как изменчивая акциденция. Интеллект можно назвать регулятором воли.
Кажется, Тидеман впервые сравнил церебральную нервную систему с паразитом (Журнал физиологии Тидемана и Тревирануса, т. I, с. 62). Сравнение очень меткое, потому что мозг вместе с прилегающим к нему спинным мозгом и нервами как бы привит к организму и им питается, с своей стороны не делая непосредственно ничего для поддержания экономии последнего; вот почему жизнь может существовать и без мозга, как это бывает у лишенных мозга уродцев или у черепах, которые с отрезанной головой продолжают жить еще три недели, при этом, однако, должна быть пощажена medulla oblongata, как орган дыхания. Даже курица, у которой Флуранс отрезал весь большой мозг, жила еще в течение десяти месяцев и успешно развивалась[211]. Наконец, и у человека разрушение мозга ведет к смерти не прямо, а через посредство легких и затем сердца (Bichat. Sur la vie et la mort, part. II, art. 11, § 1*). С другой стороны, мозг руководит отношениями к внешнему миру: только в этом заключаются его обязанности, и этим уплачивает он свой долг питающему его организму, так как существование последнего обусловлено отношениями к миру внешнему. Вот почему мозг, единственный из всех органов, нуждается во сне: ведь его деятельность совершенно отделена от его воспроизведения — первая только поглощает силы и вещество, последнее обеспечивается всем остальным организмом, как его кормилицей; таким образом, ввиду того что деятельность мозга ничего не дает для его восстановления, она истощается, и лишь тогда, когда она останавливается, во время сна, питание мозга совершается беспрепятственно.
Вторая часть приведенного выше тезиса нуждается в обстоятельном разъяснении — даже после всего, что я уже говорил об этом в указанных сочинениях.
Уже выше, в главе 18, я показал, что вещь в себе, которая должна лежать в основе всякого явления — значит, и нашего собственного, — в самосознании сбрасывает с себя одну из форм своего явления, пространство, и сохраняет лишь другую, время; поэтому вещь в себе обнаруживает здесь себя более непосредственно, чем где бы то ни было, и мы, по самому неприкрытому из ее проявлений, называем ее волей. Но в одном только времени не может представать устойчивая субстанция, каковой и является материя, потому что подобная субстанция, как я показал в § 4 первого тома, становится возможной только благодаря тесному объединению пространства и времени. Вот почему в самосознании воля не воспринимается как пребывающий субстрат своих побуждений, т. е. не созерцается как устойчивая субстанция: только ее отдельные
205
акты, движения и состояния, а именно решения, желания и аффекты, — только они познаются непосредственно, хотя и не наглядно, в последовательном порядке и лишь до тех пор, покуда они длятся. Таким образом, познание воли в самосознании представляет собой не созерцание воли, а совершенно непосредственное восприятие ее последовательных побуждений. Наоборот, для того познания, которое обращено вовне, опосредовано внешними чувствами и осуществляется в рассудке, которое наряду со временем имеет своей формой и пространство, теснейшим образом соединяя их причинной функцией рассудка, благодаря чему это познание и становится созерцанием, — для такого познания то же самое, что во внутреннем непосредственном восприятии постигается как воля, в созерцании предстает как органическое тело, отдельные движения которого наглядно представляют акты индивидуально данной воли, а органы и формы наглядно представляют ее неизменные стремления и основной характер; даже его страдание и благополучие суть совершенно непосредственные аффекты самой этой воли.
Прежде всего мы убеждаемся в этом тождестве тела и воли, наблюдая их отдельные акты, ибо в них то, что в самосознании познается как непосредственный и реальный волевой акт, одновременно и нераздельно проявляется внешним образом как движение тела, и каждый видит, как благодаря мгновенно появляющимся мотивам столь же мгновенно принимаемые решения его воли немедленно выражаются в соответствующем количестве движений его тела — с такой же точностью, с какой эти движения отражаются в тенях, отбрасываемых телом; отсюда у непредубежденного человека самым естественным образом возникает понимание того, что его тело — только внешнее проявление его воли, т. е. тот способ, которым в его созерцающем интеллекте предстает его воля, другими словами, что это — сама его воля в форме представления. Только в том случае, если насильственно уклоняться от этого непосредственного и простого указания, лишь тогда можно некоторое время удивляться, как чуду, действиям нашего тела; это удивление объясняется тем, что между волевым актом и движением тела действительно нет причинной связи: ведь они непосредственно тождественны, и их кажущееся различие вытекает единственно из того, что здесь одно и то же воспринимается в двух разных модусах познания — внутреннем и внешнем. Действительное воление неотделимо от действия, и волевой акт в узком смысле — это лишь такой, который отмечен действием. Простые же решения воли до своего осуществления — это просто намерения, не больше, и потому они являются делом интеллекта; как таковые, они имеют свое место исключительно в мозгу и представляют собой не что иное, как законченные подсчеты относительной силы различных противостоящих друг другу мотивов, вот почему они отличаются большой вероятностью, но не непогрешимостью. В самом деле, они могут оказаться ложными не только в силу изменений обстоятельств дела, но и потому, что оценка соответствующего воздействия мотивов на волю могла быть ошибочной, что обнаруживается тогда, когда поступок оказывается не соответствующим намерению; именно поэтому и нельзя ручаться за успех какого бы то ни было плана до его осуществления. Таким образом, только в реальном поступке действует сама воля, т. е.
206
в мускульных актах, следовательно, в
раздражимости; таким образом, в ней объективируется подлинная воля.
Большой мозг — это место мотивов, где благодаря этим мотивам воля становится
произволением, т. е. точнее определяется именно через мотивы. Эти мотивы —
представления, которые в связи с внешними раздражениями органов чувств возникают
посредством функций мозга и перерабатываются в понятия, а затем и в решения.
Когда дело доходит до реального акта воли, эти мотивы, лабораторией которых
является большой мозг, действуют через посредство мозжечка на спинной мозг и на
исходящие от него двигательные нервы, которые действуют затем на мускулы, но
лишь в качестве раздражителей их возбудимости, потому что и
гальванические, и химические, и даже механические раздражения могут производить
в мускулах такое же сокращение, которое вызывает в них двигательный нерв. Таким
образом, то, что в мозгу было мотивом, действует, когда оно через нервы
достигает мускула, как простое раздражение. Чувствительность сама по
себе совершенно неспособна сократить мускул; это в состоянии сделать только сам
мускул, и его способность к этому называется возбудимостью, или раздражимостью;
она — исключительное свойство мускула, как чувствительность — исключительное
свойство нерва. Последний дает, правда, мускулу повод для его
сокращения, но это вовсе не он тем или иным механическим способом сокращает мускул:
нет, это происходит исключительно вследствие раздражимости, которая
является собственной способностью мускула. Рассматриваемая извне, она
представляет собой некоторое qualitatas occulta*,
и только самосознание раскрывает в
ней волю. В описанную здесь вкратце причинную цепь, которая начинается воздействием внешнего мотива и
кончается сокращением мускула,
воля не привходит, словно какое-то последнее звено, но представляет собой метафизический субстрат
раздражимости мускула; она, таким
образом, играет здесь ту самую роль, какую в любой физической или химической причинной цепи играют лежащие в основе данного процесса таинственные силы
природы, которые, как таковые, сами
не входят как звенья в причинную цепь, а сообщают всем звеньям последней способность действия, — как я обстоятельно
показал это в § 26 первого тома.
Поэтому такую же таинственную силу природы
мы должны были бы принимать и за основу мускульного сокращения, если бы такая сила не раскрывалась
перед нами посредством совершенно другого
источника познания, самосознания, в качестве воли. Вот почему, как мы выше сказали, наши собственные
мускульные движения, если исходить
из воли, представляются нам чудом, ибо, хотя от внешнего мотива вплоть до
мускульного движения тянется строгая цепь причинности, сама воля не входит в нее в качестве звена, но, как
метафизический субстрат
возможности воздействия на мускулы со стороны мозга и нерва, лежит в основе каждого данного мускульного движения, — таким образом, последнее представляет собой,
собственно, не действие воли,
а ее проявление. В качестве такового это движение выступает в мире представления, совершенно
отличном от воли самой по себе, формой
которого является закон причинности; вследствие чего, если
207
исходить из воли, это движение приобретает в свете внимательного размышления видимость чуда, но для более глубокого исследования дает самое непосредственное подтверждение той великой истины, что все выступающее в явлении как тело и его деятельность само по себе есть воля. Если, например, двигательный нерв, ведущий к моей руке, перерезан, то моя воля не может больше двигать ею. Это, однако, объясняется не тем, что рука перестала быть, как и всякая другая часть моего тела, объектностью, простой видимостью моей воли или, другими словами, что исчезла ее раздражимость: нет, это объясняется тем, что воздействие мотива, вследствие которого я только и могу двинуть своей рукою, не может дойти до последней и подействовать в качестве раздражения на ее мускулы, так как путь от мозга к ней прерван. Таким образом, моя воля в этом члене моего тела только уклонилась от воздействия со стороны мотива. Непосредственно воля объективируется в раздражимости, а не в чувствительности.
Для того чтобы предупредить в этом важном пункте все недоразумения, в особенности такие, которые исходят от чисто эмпирически практикуемой физиологии, я более обстоятельно опишу весь разбираемый нами процесс.
Мое учение гласит, что все тело — это сама воля, предстающая в созерцании мозга и, следовательно, принявшая его познавательные формы. Отсюда следует, что воля в равной мере присутствует во всем теле, что можно и доказать, потому что органические функции не менее, чем животные, представляют собой ее дело. Но как же примирить с этим то, что произвольные движения, эти бесспорнейшие обнаружения воли, все-таки явно исходят из мозга и лишь затем, через спинной мозг, доходят до нервных стволов, которые, наконец, приводят в движение члены и паралич или перерезание которых уничтожают поэтому возможность произвольного движения? Не следует ли отсюда, что воля, как и интеллект, имеет свое место исключительно в мозгу и, как и интеллект, есть простая функция мозга?
Но это не так: все тело есть и остается явлением воли в созерцании, т. е. самой волей, объективно созерцаемой благодаря функциям мозга. Упомянутый же процесс, в случае волевых актов, основывается на том, что воля, которая, согласно моему учению, обнаруживается в каждом явлении природы, в том числе и в растительной и неорганической, выступает в человеческом и животном теле как воля сознательная, а сознание по существу своему есть нечто единое и цельное и всегда требует поэтому ‹наличия› центрального пункта единения. Необходимость сознания, как я уже часто говорил, вызвана тем, что вследствие повышения сложности организма и связанных с ним более разнообразных его потребностей акты его воли должны направляться мотивами, а не простыми раздражениями, как на более низких ступенях. Вот ради этого воля и должна была явиться здесь, в животном организме, снабженной познающим сознанием, т. е. интеллектом, как средой и местом мотивов. Этот интеллект, если рассматривать его сам по себе, объективно, предстает как мозг, вместе с относящимся к нему аппаратом, т. е. спинным мозгом и нервами. Именно в нем, в связи с внешними впечатлениями, возникают представления, которые становятся мотивами для
208
воли. В разумном интеллекте они, сверх того, подвергаются еще более обширной переработке с помощью рефлексии и рассуждения. Очевидно, такой интеллект прежде всего должен объединить все свои впечатления, наряду с их переработкой в его функциях, — все равно, в простое ли созерцание или же в понятие — в одном пункте, который становится как бы фокусом всех лучей интеллекта, для того чтобы образовалось то единство сознания, которое представляет собой теоретическое Я, носителя всего сознания, где оно предстает тождественным с Я волящим, простой познавательной функцией которого оно является. Этот пункт единства сознания, или теоретическое Я, и есть синтетическое единство апперцепции Канта14, на которое все представления нанизываются, как жемчуг на нить, и благодаря которому «я мыслю», как нить жемчужного ожерелья, «должно сопровождать все наши представления»*. Итак, сборный пункт мотивов, где происходит их вхождение в единый фокус сознания, — это мозг. Здесь, в сознании, лишенном разума, они только созерцаются, а в сознании разумном проясняются понятиями, т. е. впервые мыслятся и подвергаются сравнению in abstracto; затем воля, сообразно своему индивидуальному и неизменному характеру, оценивает их, и так возникает решение, которое отныне, посредством мозжечка, спинного мозга и нервных стволов, приводит в движение внешние члены. Ибо хотя и в последних воля присутствует совершенно непосредственно, так как они суть только ее проявление, тем не менее там, где она должна руководствоваться мотивами или даже размышлением, она нуждается в таком аппарате для восприятия и переработки представлений в подобные мотивы, соответственно чему ее акты и принимают здесь характер решений, подобно тому как для питания крови хилусом необходимы желудок и кишки, в которых этот хилус подготавливается и затем, уже в качестве такового, притекает к ней через ductus thoracicus**, играющий здесь такую же роль, какую там играет спинной мозг. В самом простом и общем виде это можно выразить следующим образом: воля непосредственно присутствует во всех мышечных волокнах всего тела как раздражимость, как непрерывное стремление к деятельности вообще. Но когда этому стремлению надлежит реализоваться, т. е. проявиться в качестве движения, то оно, это движение, как таковое, должно принять то или другое направление; направление же это должно быть чем-нибудь определено, т. е. оно нуждается в чем-то направляющем, а это и есть нервная система. Ибо для простой раздражимости, которая присутствует в мускульном волокне и сама по себе есть чистая воля, — для нее все направления безразличны; поэтому она и не определяется никаким направлением, и ведет себя как тело, которое равномерно тянут во все стороны: оно остается неподвижным. Когда же в качестве мотива привходит (при рефлекторных движениях — в качестве раздражения) деятельность нервов, тогда сила стремления, т. е. раздражимость, принимает определенное направление и производит движения. Но внешние акты воли, которые не нуждаются в мотивах (значит, и в переработке простых раздражений в представления мозга, откуда и возникают моти-
209
вы), а следуют непосредственно за раздражениями, преимущественно внутренними, — такие акты представляют собой рефлексы, исходящие только из спинного мозга, каковы, например, спазмы и судороги, где воля действует без участия (головного) мозга. Аналогичным образом осуществляет воля и органическую жизнь — опять-таки согласно с первыми раздражениями, которые исходят не от мозга. В каждом мускуле воля проявляется как раздражимость и, следовательно, сама в состоянии сокращать этот мускул — но только вообще; для того же, чтобы в каждый данный момент воспоследовало определенное сокращение, нужна, как и всюду, известная причина, которой здесь должно быть раздражение. Его всегда дает нерв, который проходит через мускул. Если этот нерв связан с мозгом, то сокращение представляет собой сознательный волевой акт, т. е. происходит согласно тем мотивам, которые, вследствие внешнего воздействия, образовались в мозгу в качестве представлений. Если же нерв связан не с мозгом, а с sympathicus maximus*, то сокращение непроизвольно и бессознательно, т. е. представляет собой акт, служащий органической жизни, и нервное раздражение, вызывающее его, обуславливается внутренним воздействием, например давлением принятой пищи на желудок, или желудочного раствора на кишечник, или притока крови к стенкам сердца: это раздражение тогда есть или пищеварение, или motus peristalticus**, или сердцебиение и т. д.
Если же мы сделаем еще один шаг назад в отслеживании этого процесса, то найдем, что мускулы являются продуктом крови и результатом ее сгущения, до известной степени они даже представляют собой лишь отвердевшую, как бы свернувшуюся или кристаллизованную кровь, так как они воспринимают в себя почти неизменным волокнистое вещество (фибрин, стог) и его красящее вещество (Бурдах, Физиология, т. V, с. 686). Но силу, образовавшую из крови мускул, не следует считать отличной от той, которая впоследствии, как раздражимость, приводит его в движение в соответствии с импульсом нервного раздражения, поставляемого мозгом: тогда она является самосознанию в качестве того, что мы называем волей. Кроме того, о существовании тесной связи между кровью и раздражимостью свидетельствует и то обстоятельство, что там, где вследствие недостаточности малого кругооборота крови часть крови возвращается к сердцу неокисленной, раздражимость тотчас же становится необычайно слабой, как это бывает у лягушкообразных. Движение крови, как и движение мускула, самостоятельно и первично; оно не нуждается, подобно раздражимости, в воздействии нервов и не зависит даже от сердца, как это наиболее ясно показывает обратное течение крови через вены к сердцу, потому что здесь, в противоположность течению артериальному, в движение ее приводит не vis a tergo***; да и все другие механические объяснения, как, например, то, которое ссылается на всасывающую силу правого сердечного желудочка, здесь совершенно недостаточны (см. «Физиологию» Бурдаха, т. 4, § 763 и Реш
210
«О значении крови», с. 11 и сл.).
Интересно наблюдать, как французы, которые не признают ничего, кроме
механических сил, спорят между собой, не имея достаточных аргументов ни с одной
из сторон: Биша объясняет обратное движение крови через вены давлением
стенок капиллярных сосудов, а Мажанди продолжением воздействия импульса сердца
(«Précis de physiologie» par
Magendie, vol. 2, p. 389)*. То,
что движение крови не зависит и от нервной системы, по крайней мере церебральной,
— это доказывают те эмбрионы, которые (согласно «Физиологии» Мюллера)
лишены головного и спинного мозга и все-таки обладают кровообращением. И Флуранс
также говорит: «Le mouvement du
coeur, pris en soi, et abstraction faite de tout ce qui n’est pas essentiellement
lui, c
Сами сосуды были образованы кровью, так как в яйце она появляется раньше, чем они, и на самом деле они представляют собой только ее добровольно избранные, затем проложенные, наконец, постепенно сгустившиеся и замкнувшиеся пути, как этому учил уже Каспар Вольф («Теория генерации», § 30—35). Точно так же и неотделимая от движения крови деятельность сердца, хотя она и вызывается потребностью посылать кровь в легкие, все-таки первична, потому что она не зависит от нервной системы и чувствительности, как это обстоятельно показывает Бурдах. «В сердце, — говорит он, — наряду с максимумом раздражимости дан минимум чувствительности» (1·с., § 769). Сердце в одинаковой степени принадлежит и мускульной системе, и системе кровеносной, или сосудистой, — из чего еще раз явствует, что обе системы состоят в близком родстве друг с другом и даже составляют одно целое. А так как метафизическим субстратом той силы, которая приводит в движение мускул, т. е. раздражимости, является воля, то последняя должна быть и субстратом той силы, которая лежит в основе движения и образования крови и благодаря которой возник сам мускул. Направление артерий определяет к тому же форму и величину всех членов тела, следовательно,
211
и вся форма тела определяется движением крови. Таким образом, кровь, подобно тому как она питает все органы тела, их же, в качестве основной жидкости организма, первоначально сама и создала из себя и сформировала; и питание органов, которое, как известно, составляет главную функцию крови, есть только продолжение этого первоначального творчества. Все это основательно и прекрасно изложено в упомянутом выше произведении Рёша «О значении крови», 1839. Он показывает, что кровь — это изначально жизненное ‹начало› и источник как существования, так и питания всех частей тела, что из нее выделились все органы, а с ними, для управления их функциями, и нервная система, которая отчасти как пластическое начало регулирует и направляет жизнь отдельных органов изнутри, отчасти же, как начало церебральное, руководит их отношениями с внешним миром. «Кровь, — говорит он на с. 25, — была одновременно плотью и нервом, и в тот самый миг, когда из нее выделился мускул, нерв, точно так же определившийся, обособился от плоти». При этом само собой разумеется, что кровь, прежде чем из нее выделились твердые частицы, имела несколько другие свойства, чем после этого: как определяет ее Рёш, она представляла собой тогда хаотическую, живую, слизистую первожидкость, подобную органической эмульсии, в которой implicite содержались все позднейшие элементы; даже красный цвет она не имела с самого начала. Это устраняет возражение, которое можно было бы извлечь из того факта, что головной и спинной мозг начинают развиваться прежде, чем становится заметной циркуляция крови, и прежде чем образуется сердце. В этом же смысле говорит и Шульц («Система циркуляции», с. 297): «Мы не думаем, что взгляд Баумгартнена, согласно которому нервная система образуется раньше, чем кровь, может быть оправдан; ведь возникновение крови он связывает лишь с образованием пузырьков, между тем как кровь в форме чистой плазмы появляется уже значительно раньше — в эмбрионе и в царстве животных». Ведь не принимает же никогда красного цвета кровь беспозвоночных животных, однако мы не отрицаем ее существования у них, как это делал Аристотель. Достойно замечания, что, по сообщению Юстина Кернера («История двух сомнамбул», с. 78), одна в высшей степени ясновидящая сомнамбула сказала: «Я так глубоко погрузилась в себя, как это никому из людей еще не удавалось: мне кажется, сила моей земной жизни имеет свое начало в крови, вследствие чего эта сила, протекая в жилах, через нервы передается всему телу, но самую благородную долю крови она передает высшему органу, мозгу».
Все это показывает, что воля наиболее непосредственным образом объективируется в крови, которая изначально создает и формирует организм, придает ему совершенство благодаря росту и затем постоянно поддерживает его, регулярно обновляя все и восстанавливая в исключительных случаях пораженные органы. Первым продуктом крови являются ее собственные сосуды, а также мускулы, в раздражимости которых воля являет себя самосознанию; таким же продуктом предстает и сердце, которое, будучи одновременно и сосудом, и мускулом, является поэтому истинным центром и priraum mobile всего тела. Но для индивидуальной жизни и существования во внешнем мире воля нуждается еще в двух вспомогательных системах: во-первых, в такой, которая направляла бы
212
и упорядочивала ее внутреннюю и
внешнюю деятельность и, во-вторых, в такой, которая постоянно
возобновляла бы состав крови, т. е. воле нужны руководитель и кормилец.
Вот почему она и создает для себя нервную и кишечную системы, и таким образом к
functiones vitales*, которые
являются самыми первыми и существенными для организма, в качестве
вспомогательных присоединяются functiones animales и functiones naturales**. Итак, в нервной системе воля
объективируется лишь опосредованно и вторично именно потому, что эта система
выступает как простой вспомогательный орган, или аппарат, при посредстве которого
воле становятся известны те частью внутренние, частью внешние побуждения, по
поводу которых она должна проявить себя сообразно своим целям: внутренние
воспринимает пластическая нервная система, т. е. симпатический нерв,
cerebrum abd
213
Маршаллом Холлом, рефлективных движениях, каковы чихание, зевота, рвота, вторая стадия глотания и многое другое. Сама воля присутствует во всем организме, так как последний — это лишь ее видимость; нервная же система присутствует всюду только для того, чтобы делать возможной определенную направленность волевой деятельности, путем контроля над последней, чтобы служить для воли как бы зеркалом, в котором она должна видеть, что делает, подобно тому как мы пользуемся же зеркалом во время бритья. Благодаря этому внутри организма образуются маленькие чувствилища, ганглии, — для специфических и оттого простых отправлений; главное же чувствилище, головной мозг, — это большой искусный аппарат для сложных и многосторонних отправлений, относящихся к внешнему миру, который беспрестанно и неравномерно изменяется. Где в организме нервные нити сливаются в ганглии, там до известной степени образуется замкнутое в себе, особое животное, которое благодаря ганглию обладает подобием слабого познания, сфера которого, однако, ограничена теми органами, откуда эти нервы непосредственно исходят. Но то, что побуждает эти части тела осуществлять такое квазипознание, — конечно же воля, и мы даже не в состоянии мыслить это как-нибудь иначе. На этом основана vita propria* каждого органа, как и то, что мы замечаем у насекомых (которые вместо спинного мозга имеют двойной нервный ствол с ганглиями, равномерно отстоящими друг от друга): у них каждая часть после отделения от головы и остального туловища способна жить еще в течение целого дня; на этом же, наконец, основаны, в последней инстанции, и немотивированные мозгом акты, т. е. инстинкт и творческое влечение. Маршалл Холл, об открытии которым рефлективных движений я упомянул выше, тем самым создал, собственно говоря, теорию непроизвольных движений. Последние — это отчасти движения нормальные, или физиологические: сюда относятся замыкание входных и выходных отверстий тела, т. е. sphincteres vesicae et ani** (идущих от нервов спинного мозга), движение век во время сна (идущее от пятой нервной пары), larinx*** (идущее от nervus vagus****, когда через нее проходит пища или в нее грозит вторгнуться угольная кислота); затем глотание, начиная от гортани; далее зевота, чихание, дыхание — во сне всецело, в бодрственном состоянии — отчасти; наконец, эрекция, извержение семени, а также зачатие и мн. др. Отчасти же к непроизвольным движениям относятся и ненормальные и патологические явления: заикание, икота, рвота, всякого рода судороги и конвульсии, особенно при эпилепсии, столбняке, водобоязни и других болезнях; наконец, вызываемые гальваническим или иным раздражением, не сопровождаемые чувством и сознанием содрогания парализованных, т. е. лишенных связи с мозгом, членов, а также содрогания обезглавленных животных, наконец, все движения и акты родившихся без мозга детей. Всякая судорога — это возмущение нервов отдельных членов против суверенитета мозга; нор-
214
мальные же рефлексы это легитимная автократия подчиненных властей. Таким образом, все эти движения непроизвольны, потому что они исходят не от мозга и потому совершаются не в соответствии с мотивами, а в силу простых раздражений. Вызывающие их раздражения доходят только до спинного мозга, или до medulla oblongata, а оттуда непосредственно исходит та реакция, которая вызывает движение. В таком же отношении, какое существует между головным мозгом, с одной стороны, и мотивом и поступком — с другой, находится спинной мозг к упомянутым непроизвольным движениям, и что для головного мозга есть sentient and voluntary nerv, то для спинного мозга — incident and motor nerv*. То, что как в первых движениях, так и в последних настоящим двигателем является воля, — это тем явственнее бросается в глаза, что непроизвольно двигающиеся мускулы по большей части суть те же самые, которые, при других обстоятельствах, получают движение от мозга, а именно в тех произвольных актах, где их primum mobile внутренне известен нам, в самосознании, как воля. Замечательная книга Маршалла Холла «On the diseases of the nervous system»** чрезвычайно полезна для прояснения различия между произволом и волей и для подтверждения истинности моей основной теории.
Для того чтобы наглядно пояснить все сказанное здесь, припомним теперь, как совершается возникновение такого организма, которое наиболее доступно для нашего наблюдения. Кто создает цыпленка в яйце? Может быть, какое-то извне приходящее и проникающее сквозь скорлупу колдовство? О, нет! Цыпленок создает себя сам, и та же самая сила, которая создает и завершает это в высшей степени сложное, глубоко продуманное и целесообразное творение, — эта же сила, когда последнее готово, разбивает скорлупу и затем, под именем воли, производит внешние действия цыпленка. Делать одновременно и то и другое эта сила не могла: занимаясь прежде созиданием организма, она не заботилась ни о чем внешнем. Но когда организм готов, начинается эта внешняя забота, под руководством мозга и его щупалец, внешних чувств: мозг и чувства представляют собой заранее приспособленное для этой цели орудие, служба которого начинается лишь тогда, когда он пробуждается в самосознании в качестве интеллекта, который является фонарем для шагов воли, ее ἠγεμονικόν*** и в то же время является носителем объективного внешнего мира, как ни ограничен горизонт этого мира в сознании цыпленка. Но то, что курица, при посредстве этого органа, в состоянии производить во внешнем мире, — это, как опосредованное вторичным, бесконечно ниже того, на что она была способна в своем первоначальном состоянии, когда она создавала себя сама.
Выше мы признали церебральную нервную систему вспомогательным органом воли, в котором последняя поэтому объективируется во вторую очередь. Таким образом, подобно тому как церебральная система, хотя и не вторгаясь непосредственно в круг жизненных функций
215
организма, а только регулируя его отношения к внешнему миру, имеет все-таки своей опорой организм и в награду за свои услуги получает от него питание, и подобно тому как церебральная или животная жизнь является, следовательно, продуктом органической жизни, так мозг и его функция, познание, т. е. интеллект, косвенным и производным образом относятся к проявлению воли: и в мозге объективируется воля, а именно воля к восприятию внешнего мира, т. е. воля к познанию. Поэтому, как ни велико и существенно в нас различие между волением и познанием, все-таки последним субстратом обоих остается одно и то же: это — воля как внутренняя сущность всякого явления; познание же, интеллект, который в самосознании безусловно предстает как нечто вторичное, надо рассматривать не только как акциденцию воли, но и как ее произведение, а значит, хотя и окольным путем, но и его все-таки надо сводить к той же воле. Подобно тому как физиологически интеллект оказывается функцией определенного органа тела, так метафизически в нем надо видеть произведение воли, объективацией или очевидностью которой служит все тело. Итак, воля к познанию, рассматриваемая с объективной точки зрения, это — мозг; как воля к ходьбе, рассматриваемая с объективной точки зрения, это — нога; воля к схватыванию — рука, воля к пищеварению — желудок, к деторождению — половые органы и т. д. Разумеется, вся эта объективация в конечном счете существует только для мозга, как его созерцание: в нем воля предстает как органическое тело. Но поскольку мозг познает, постольку он сам не познается: он — познающее, субъект всякого познания. Поскольку же он, в объективном созерцании, т. е. в сознании других вещей, следовательно, вторичным образом, познается, постольку он, как орган тела, относится к объективации воли. Ибо весь этот процесс есть самопознание воли; он исходит из нее и возвращается к ней, представляет собой то, что Кант назвал явлением, в противоположность вещи в себе. Таким образом, то, что познается, что становится представлением, это — воля, и это представление есть то, что мы называем телом, которое, как протяженное в пространстве и движущееся во времени, существует только благодаря функциям мозга, т. е. только в последнем. Наоборот, то, что познает, что имеет упомянутое представление, это — мозг, который, однако, сам себя не познает, но только сознает себя в качестве интеллекта, т. е. познающего, следовательно, осознает себя лишь субъективно. То, что, рассматриваемое изнутри, есть познавательная способность, — это же самое, рассматриваемое извне, есть мозг. Этот мозг есть часть всего тела, так как сам он относится к объективациям воли — именно в нем объективируется ее воление познавать, ее обращение к внешнему миру. Поэтому мозг, а с ним и интеллект непосредственно обусловлены телом, а последнее, в свою очередь, обусловлено мозгом, но лишь опосредованно, поскольку оно пространственно и имеет физическую природу, поскольку оно существует в мире созерцания, а не в себе, не как воля. Целое, таким образом, — это в конечном счете воля, которая становится представлением для самой себя, и эта воля есть то единство, которое мы выражаем посредством слова «Я». Сам мозг, поскольку он представляем, т. е. в сознании других вещей, вторично, — - сам мозг есть лишь представление. Но сам по себе и поскольку он представляет, он есть
216
воля, ибо последняя ·— это реальный субстрат всех явлений: ее воление познавать объективируется в виде мозга и его функций.
Подобие, правда, не совершенное, но до некоторой степени
проясняющее сущность явления «человек»,
как мы ее здесь рассматриваем, можно
видеть в вольтовом столбе: металлы вместе с жидкостью — это тело; химический акт, лежащий в основе
всего данного процесса, — это воля, а
возникающее отсюда электрическое напряжение, которое вызывает удар и искру, — это интеллект. Но —
В патологии за последнее время утвердилась, наконец, физиатрическая
теория, согласно которой сами болезни представляют собой целительный процесс природы, который она начинает
для того, чтобы расстройство, возникшее
так или иначе в организме, устранить путем
преодоления причин этого расстройства, причем природа в решающем бою, в кризисе, либо одерживает победу
и достигает своей цели, либо терпит
поражение. Всю свою рациональность это объяснение приобретает только с учетом нашей точки зрения,
которая позволяет усматривать в
жизненной силе, выступающей здесь в качестве vis naturae medicatrix**, волю;
последняя при нормальном состоянии тела лежит в основе всех органических функций, а при появлении
какого-нибудь расстройства, грозящего
всему ее произведению, облекается диктаторской властью, для того чтобы путем чрезвычайных мероприятий и совершенно
необычных операций (болезнь)
подавить возмутившиеся силы и все вернуть
в прежнюю колею. Говорить же, как это часто делает Брандис в тех местах своей книги «О применении холода»,
которые я привел в первом отделе
моего трактата «О воле в природе», что болеет сама воля, — это грубое недопонимание. Когда я думаю об
этом и вместе с тем вспоминаю, что
Брандис в своей более ранней книге «О жизненной силе» (1795), не обнаруживает ни малейшего понимания
того, что эта жизненная сила сама
по себе — воля, а, наоборот, на с. 13 говорит: «Невозможно, чтобы жизненная сила была той сущностью,
которую мы познаем только посредством
своего сознания, так как большинство движений происходит помимо нашего сознания. Утверждение, будто эта сущность, единственным известным нам признаком
которой является сознание, действует
на тело и без сознания, по меньшей мере вполне произвольно и не доказано», — и на с. 14: «Мне
кажется, что возражения Галлера против
мнения, будто всякое живое движение — действие души, неопровержимы»; — когда я вспоминаю далее, что свою
книгу «О применении холода», где
воля внезапно и так решительно выступает в качестве жизненной силы, эту книгу он написал семидесяти лет от роду, в
возрасте, когда ни у кого еще не
появлялись оригинальные мысли и принципы,
когда я, кроме того, принимаю во внимание, что он пользуется как раз моими выражениями «воля» и «представление»,
а не гораздо более употребительными
терминами «вожделеющая и познавательная способности», тогда я, в противоположность своему прежнему взгляду, прихожу к убеждению, что свою основную мысль он
заимствовал у меня и с обычной для
современных представителей ученого мира добросове-
217
стностью умолчал об этом. Подробнее об этом см. во втором издании моей книги «О воле в природе», с. 14.
Нет ничего, что было бы более полезным для подтверждения и прояснения того тезиса, который занимает нас в настоящей главе, чем заслуженно знаменитая книга Биша «Sur la vie et la mort». Мои воззрения и его поддерживают друг друга, так как его взгляды представляют собой физиологический комментарий к моим, а последние — философский комментарий к его теориям, и лучше всего нас можно понять, если читать обоих вместе. В особенности я имею здесь в виду первую половину его сочинения, озаглавленную «Recherches physiologiques sur la vie»*. В основу своих рассуждений он кладет противоположность между органической и животной жизнью, соответствующую моей противоположности между волей и интеллектом. Кто вникает не в слова, а в смысл, тот не будет недоумевать по поводу того, что Биша приписывает волю животной жизни; ибо он, как это обычно бывает, понимает под волей только сознательное произволение, которое, разумеется, исходит от мозга, где оно, однако, как я это показал выше, представляет собой не действительное воление, а только обдумывание и взвешивание мотивов, итог или вывод которого в конце концов является волевым актом. Все то, что я приписываю воле в действительном смысле этого слова, Биша причисляет к органической жизни, и все, что я понимаю как интеллект, для него оказывается животной жизнью. Последняя имеет у него свое местопребывание исключительно в мозгу с его придатками, а жизнь органическая рассеяна во всем остальном организме. Та полная противоположность, которую он устанавливает между обоими видами жизни, соответствует той противоположности, которая существует у меня между волей и интеллектом. Как анатом и физиолог, он исходит при этом из объективного, т. е. из сознания других вещей; я же, как философ, исхожу из субъективного, т. е. из самосознания, и отрадно видеть, как мы оба, подобно двум голосам в дуэте, соблюдаем гармонический унисон, хотя каждый из нас и говорит нечто иное. Поэтому тот, кто желает понять меня, пусть читает Биша; а кто желает понять его глубже, чем он сам себя понимал, пусть читает меня. Так, Биша в 4-й главе показывает нам, что органическая жизнь раньше начинается и позже угасает, чем жизнь животная, и так как последняя остается без дела и во время сна, то первая имеет, следовательно, почти двойную продолжительность; затем в главах 8-й и 9-й он утверждает, что органическая жизнь творит все в совершенстве, сразу и самостоятельно, между тем как жизнь животная нуждается в долгом упражнении и воспитании. Но интереснее всего то, как он в 6-й главе доказывает, что животная жизнь всецело ограничена интеллектуальными операциями и оттого протекает холодно и безучастно, тогда как аффекты и страсти имеют свое место в органической жизни, хотя побуждения к ним и лежат в животной, т. е. церебральной, жизни. Здесь у него идут десять чудесных строк, которые я позволю себе переписать целиком: «Il est sans doute étonnant, que les passions n’ayent jamais leur terme ni leur origine dans les divers organes de la vie animale; qu’au contraire les parties servant aux fonctions internes, soient
218
constamment affectees par elles, et même les déterminent
suivant l’etat ou elles se trouvent. Tel est cependant ce que la stricte
observation nous prouve. Je dis d’abord que l’effet de toute espèce de
passion, constamment étranger à la vie animale, est de faire naître
un changement, une altération quelconque dans la vie organique»*. Затем он показывает, как гнев действует
на кровообращение и биение сердца,
как действует на этот же процесс радость и, наконец,
страх. Далее он говорит о том, как упомянутые и родственные душевные волнения влияют на легкие,
желудок, кишечник, печень, железы и
поджелудочную железу, как скорбь ослабляет питание, и как животная, т. е. мозговая, жизнь,
остается незатронутой всем этим и спокойно продолжает
свое течение. Он ссылается и на то, что мы для обозначения интеллектуальных операций указываем рукою на голову, между тем как эту же руку кладем на сердце
и грудь, когда хотим выразить свою
любовь, радость, печаль и ненависть. Биша замечает, что дурным актером был бы тот, кто, говоря о своей тоске, показывал бы
на свою голову, а говоря о своем
умственном напряжении, показывал бы на свое
сердце. Он подчеркивает и тот факт, что, в то время как ученые помещают так называемую душу в голове,
народ хорошо чувствует разницу между
интеллектом и состояниями воли и всегда обозначает ее правильными выражениями, например он говорит о дельной, умной, толковой голове, и наоборот: доброе
сердце, нежное сердце или «гнев кипит в моих жилах, волнует мою желчь, от
радости я весь дрожу, ревность отравляет мне кровь» и т. д. «Les chants sont le langage des passions, de la vie
organique, c
219
тера он объясняет тем, что
только животная жизнь, т. е. функция мозга, подчинена воздействию воспитания, упражнения, образования и
привычки, между тем как моральный
характер относится к жизни органической, не подверженной внешним изменениям, т. е. к жизни всех
остальных органов. Я не могу
удержаться, чтобы не привести здесь соответствующей цитаты (глава 9, § 2). « Telle
est donc la grande différence des deux vies de ranimai (между
церебральной или животной и органической жизнью) par rapport a l’inégalité
de perfection des divers systèmes de fonctions, dont chacune résulte;
savoir, que dans l'une la préd
220
может себе представить, как велика была моя радость, когда я встретился с этими убеждениями, которые он получил в совершенно другой области и которые являются как бы проверкой моих собственных взглядов.
Специфическим подтверждением той истины, что организм — простая видимость воли, служит еще и следующий факт: укус собаки, кошки, петуха, а также, вероятно, и других животных, когда они находятся в сильнейшей ярости, может оказаться смертельным, укус собаки может даже вызвать у человека водобоязнь, даже если сама собака и не является бешеной и не сделалась такой и впоследствии. Ибо крайняя ярость это не что иное, как самое решительное и страстное желание уничтожить его объект, и проявляется это в том, что слюна мгновенно приобретает в таких случаях губительную, до известной степени магическую силу, свидетельствуя этим, что воля и организм в действительности едины. Этот же вывод следует и из того факта, что сильное раздражение может сразу же придать материнскому молоку такие вредные свойства, что младенец тут же умирает в судорогах (Мост. «О симпатических средствах», с. 16).
Примечания к
сказанному о Биша́
Как я выше показал, Биша глубоко заглянул в человеческую природу и вследствие этого высказал замечательные мысли, которые принадлежат к самому глубокому, что есть во всей французской литературе. Зато теперь, шестьдесят лет спустя, вдруг появился господин Флуранс, выступил против него в своем сочинении «De la vie et de l’intelligence»* и имел бесстыдство без дальних рассуждений провозгласить ложным все, что Биша открыл в этой важной и особенно хорошо знакомой ему области. И что же выдвигает он против Биша? Противоположные доводы? Нет, голословные противоположные утверждения** и автори-
221
теты, притом столь же несостоятельные, сколь и диковинные: а именно Картезия и Галля! Господин Флуранс, видите ли, исповедует картезианскую веру, и для него, даже в 1858 г., Декарт — «le philosophe par exellence»*. Спору нет, Картезий — великий человек, но только в качестве пионера. В совокупности же его догм нет ни одного истинного слова, и в наши дни ссылаться на них как на авторитет просто смешно. Ибо в XIX столетии картезианец в философии — то же, чем был бы сегодня последователь Птолемея в астрономии или последователь Шталя в химии. Для господина же Флуранса догматы Картезия — символ веры. Картезий учил: «les volontés sont des pensées»**, следовательно, это так и на самом деле, даже если каждый в глубине души сознает, что воление и мышление отличаются друг от друга, как черное от белого, — что и дало мне возможность выше, в девятнадцатой главе, все это основательно и подробно изложить и прояснить, причем я всецело опирался на опыт. Но главное, согласно Картезию, этому оракулу господина Флуранса, существуют две коренным образом различные субстанции, тело и душа: следовательно, говорит господин Флуранс как правоверный картезианец: «Le premier point est de separer, meme par le mots, ce qui est du corps de ce qui est de l’ame»*** (I, 72). Он поучает нас далее, что эта «ame reside uniquement et exclusivement dans le cerveau»**** (II, 137), откуда она, согласно одному месту у Картезия, посылает «spiritus animales»*****, точно курьеров, к мускулам; сама же она может подвергаться воздействию только со стороны мозга, поэтому страсти имеют свое обиталище (siège) в сердце, которое изменяется ими, но место свое (place) они имеют в мозгу. Да, именно так действительно говорит оракул г. Флуранса, для которого все эти речи столь назидательны, что он даже два раза (I, 33 и II, 135) молитвенно повторяет их ради вящего и верного посрамления невежды Биша, который не знает ни души, ни тела, а знает только чисто животную и органическую жизнь и которого он снисходительно поучает, что надо основательно различать те части, в которых страсти имеют свое обиталище (siègent), от тех, которые они аффицируют. Таким образом получается, что страсти действуют в одном месте, между тем как сами они находятся в другом. Правда, телесные вещи действуют обычно только там, где они находятся, но, конечно, с такого рода имматериальной душой дело может обстоять и иначе. Однако что, собственно, имеют в виду Флуранс и его оракул, различая «place» и «siege», «sieger» и «affecter»? Основная ошибка господина Флуранса и его Картезия вытекает, собственно, из того, что мотивы или поводы к страстям, которые как представления находятся, конечно, в интеллекте, т. е. в мозгу, они смешивают с самими страстями, кото-
222
рые, как волевые движения, находятся во всем теле, а оно (как мы знаем) есть сама созерцаемая воля.
Второй авторитет г. Флуранса, это, как я сказал, — Галль.
В начале этой двадцатой главы (и притом уже в предыдущем издании) я сказал: «Величайшая
ошибка френологии Галля заключается в том, что он и для моральных качеств
пытается найти органы мозга». Но именно то, что я отвергаю и осуждаю, служит
для г. Флуранса предметом хвалы и удивления, — ведь он в сердце своем
запечатлел «les volontés sont
les pensées» Картезия. Вот почему он и говорит на с. 144: «Le premier service que Gall a rendu
à la physiologie (?) a été de rammener le moral à
l’intellectuel, et de faire voir que les facultés morales et les facultés
intellectuelles sont des facultés du même ordre, et de les placer
toutes, autant les unes que les autres, uniquement et exclusivement dans le
cerveau»*. До
известной степени вся моя философия, в особенности же девятнадцатая глава
настоящего тома, заключается в опровержении этой основной ошибки. Господин же Флуранс
не устает восхвалять именно эту ошибку как великую истину, а Галля — как ее
первого глашатая. Например, на с. 147: «Si j’en étais à classer les services que nous a rendu Gall,
je dirais que le premier a été de rammener les qualités
morales au cerveau». — На с 153: «Le cerveau seul est l’organe de l’âme, et de l’âme
dans toute la plenitude de ses fonctions» (как видим, картезианская
простая душа все еще скрывается за этим в качестве сути дела); «il est le siege de toutes les facultés
morales, c
223
ния. Вот Биша своей глубокой и продуманной мыслью и осветил здесь одну из таких истин, до которых никогда не подняться господину Флурансу со всеми его экспериментальными стараниями, даже если он, в качестве правоверного и последовательного картезианца, замучит до смерти еще сотни животных. Но ему бы следовало вовремя спохватиться и дальше не идти. А та дерзость и самодовольство, которые порождает лишь связанное с незаконным тщеславием поверхностное отношение к делу и с которым г. Флуранс собирается, однако, посредством голословных отрицаний, убеждений старых баб и ссылок на пустые авторитеты опровергнуть такого мыслителя, как Биша, и не только опровергнуть его, но и указать этому сверчку свой шесток, поучить его уму-разуму и чуть ли не высмеять его, — эта дерзость и самодовольство имеют свой источник в самом характере Академии с ее креслами, восседая на которых разные господа, величающие друг друга «illustres confrères»*, не могут не считать себя равными высшим из людей, не могут не признавать себя оракулами и сообразно этому изрекать приговоры: «Се истина, а се ложь». Это заставляет меня и дает мне право открыто сказать, что действительно выдающиеся и привилегированные умы, которые время от времени рождаются для просвещения других и к которым несомненно принадлежит Биша, таковы «Божьей милостью» и поэтому относятся к Академиям (где они большей частью занимают сорок первое кресло) и к их illustres confrères так же, как принцы крови относятся к бесчисленным, из черни выбираемым представителям народа. Вот почему некоторый тайный страх (a secret awe) должен был бы удерживать господ академиков (которых всегда можно получать гуртом) от выпадов против подобных умов, кроме разве тех случаев, когда и академики в состоянии будут предъявить самые основательные доводы, а не голословные отрицания и ссылки на placita**
Картезия, что в наши дни просто смешно.
Глава 21
Ретроспективный взгляд и общие соображения
Если бы, как это показано в двух предыдущих главах, интеллект не был по своей природе чем-то вторичным, то все, что происходит без его помощи, т. е. без вмешательства представления, как, например, зачатие, развитие и сохранение организма, исцеление ран, восстановление или замена пораженных частей, целительный кризис при болезнях, создания инстинкта творчества у животных, инстинктивное творчество вообще, — все это не превосходило бы столь бесконечно по своему совершенству то, что творится с помощью интеллекта, т. е. все сознательные и преднамеренные дела и произведения человека, которые по сравнению с первыми — просто халтура. Вообще, природа означает все то, что творит,
224
действует, создает без посредничества интеллекта. То, что оно тождественно с тем, что мы находим в себе как волю, — это и является общей темой настоящей второй книги, а также и сочинения «О воле в природе». Возможность этого фундаментального познания основана на том, что упомянутая сила в нас непосредственно освещена интеллектом, который выступает здесь как самосознание; иначе мы так же не могли бы познать ее внутри себя, как не можем познать ее вне себя, и силы природы навеки остались бы для нас непостижимыми. Мы должны мысленно устранить помощь интеллекта, если желаем постичь саму сущность воли в себе и тем самым, насколько это возможно, проникнуть в недра природы.
Именно поэтому, замечу кстати, моим прямым антиподом среди философов является Анаксагор: ибо он произвольно принял за первое и изначальное, из которого происходит все, некий νοῦς, некий интеллект, нечто представляющее, и он считается первым, кто выдвинул такой взгляд. Согласно этому взгляду, мир в простом представлении должен был существовать раньше, чем сам по себе; в то время как у меня в основе реальности вещей лежит лишенная познания воля, и развитие этих вещей должно уже значительно продвинуться вперед, чтобы, наконец, в сознании животного возникли представление и интеллект, — так что у меня мышление появляется в самом конце. Впрочем, по свидетельству Аристотеля (Metaph. I, 4), Анаксагор сам не очень-то знал, что ему делать со своим νοῦς; он только установил его, да так и оставил, как изображение святого у дверей храма, не пользуясь им в своих объяснениях развития природы — разве что в крайних случаях, за неимением другого выхода.
Всякая физикотеология представляет собой развитие той ошибки, которая противоположна высказанной в начале этой главы истине и которая гласит, будто самый совершенный способ возникновения вещей — это опосредованный каким-нибудь интеллектом. Именно поэтому физикотеология и преграждает путь ко всякому более глубокому постижению природы.
Со времен Сократа и вплоть до наших дней главным предметом беспрерывных споров между философами является то ens rationis*, которое называют душою. Мы видим, что большинство утверждает ее бессмертие, т. е. ее метафизическую сущность; другие же, опираясь на факты, неопровержимо свидетельствующие о полной зависимости интеллекта от физических органов, упорно придерживаются противоположного мнения. Эта душа всеми и прежде всего принимается за нечто безусловно простое, так как именно отсюда выводят ее метафизическую сущность, ее нематериальность и бессмертие, хотя последнее вовсе и не вытекает неизбежно из этой простоты: в самом деле, хотя разрушение какого-нибудь оформленного тела мы можем мыслить только в виде распадения на его составные части, но отсюда еще не следует, что разрушение какой-нибудь простой сущности, о которой мы не имеем ни малейшего понятия, не может происходить каким-либо другим способом, например в виде постепенного исчезновения. Я же исхожу из того, что устраняю предполагаемую простоту нашего субъективно сознава-
225
емого существа, или Я, доказывая, что те проявления, из которых выводили эту простоту, имеют два совершенно различных источника; что интеллект, несомненно, обусловлен физически, представляет собой функцию материального органа и поэтому зависит от последнего и без него так же невозможен, как невозможно хватание без руки; что он, таким образом, относится к простому явлению и, следовательно, разделяет его судьбу, между тем как воля, не связанная ни с каким особым органом, а пребывающая всюду, везде есть истинное движущее и образующее начало, т. е. условие всего организма, и составляет на деле метафизический субстрат всей совокупности явлений, следовательно, не ее posterius*, как интеллект, а ее prius** так что эта совокупность зависит от воли, а не воля от нее. Тело же низводится мною даже до степени простого представления, так как оно есть только способ, которым в созерцании интеллекта, или мозга, представляется воля. А воля, которая во всех предшествующих системах, как бы ни различались они между собой в других отношениях, играла роль одного из последних моментов, у меня является самым первым началом. Интеллект как простая функция мозга[214] погибает вместе с телом; совсем не такова участь воли. Эта гетерогенность интеллекта и воли, наряду с вторичной природой интеллекта, объясняет, почему человек в глубине своего самосознания чувствует себя вечным и неразрушимым, но при этом не может иметь никакого воспоминания, ни a parte ante, ни a parte post***, которое бы выходило за пределы его жизни. Я не хочу предварять здесь разъяснение истинной неразрушимости нашего существа (которое нашло себе место в четвертой книге), но желал лишь наметить тот пункт, к которому это разъяснение примыкает.
А то, что, употребляя несомненно одностороннее, но с нашей точки зрения правильное выражение, мы называем тело простым представлением, — это объясняется вот чем: бытие в пространстве, как протяженное, и во времени, как изменяющееся, а в том и другом ближе определяемое причинной связью, — такое бытие возможно только в представлении, на формах которого основаны все названные определения, т. е. оно возможно в мозгу, где подобное бытие выступает как объективное, т. е. чуждое нам. Вот почему даже наше собственное тело может обладать такого рода бытием только в некотором мозгу. Ибо познание, которое я имею о своем теле как о чем-то протяженном, наполняющем пространство и подвижном только опосредованно: оно — образ в моем мозгу, который возникает с помощью внешних чувств и рассудка. Непосредственно тело дано мне исключительно в мускульных движениях и в страдании или удовольствии, которые прежде всего и непосредственно относятся к воле. Из сочетания же этих двух различных способов, которыми я познаю свое собственное тело, следует затем дальнейший вывод, что и все другие вещи, тоже обладающие описанным объективным бытием, которое прежде всего есть только в моем мозгу, не существуют поэтому вне мозга и сами по себе тоже должны быть в конечном счете именно тем, что самосознанию открывается как воля.
226
Глава 22*
Объективное рассмотрение интеллекта
Есть два совершенно различных способа рассматривать интеллект. Они зависят от различия точек зрения. Но как это различие ни противополагает их друг другу, они все-таки должны быть приведены к согласию. Первый способ — субъективный. Он исходит из внутреннего и, принимая сознание как нечто данное, показывает нам, при посредстве какого механизма представляется в нем мир и как он строится в нем из материалов, доставляемых чувствами и рассудком. Создателем этого способа рассмотрения надо считать Локка; Кант довел его до несравненно более высокой степени совершенства, и этому способу посвящена также и наша первая книга вместе с дополнениями к ней.
Противоположен этому методу рассмотрения интеллекта метод объективный.
Он исходит из внешнего, своим предметом выбирает не собственное сознание,
а данных во внешнем опыте, сознающих себя и мир существ, и затем исследует, в
каком отношении находится их интеллект к их прочим свойствам, в силу чего он
стал возможен, в силу чего он стал необходим и что он им дает. Точка зрения при
этом способе — эмпирическая: мир и находящиеся в нем животные существа
принимаются как данные безусловно; именно этот мир и эти существа являются
здесь исходным пунктом. Такой метод, следовательно, прежде всего зоологический,
анатомический, физиологический; он становится философским только в том случае,
если соединяется с первым методом и усваивает более высокую точку зрения. Той
основой, которая до сих пор существует для этого метода, мы обязаны зоотомам и
физиологам, преимущественно французским. Здесь нужно в первую очередь назвать Кабаниса,
замечательное сочинение которого «Des
rapports du physique au moral de l’h
Хотя к этому способу рассмотрения относится уже все то, что я говорил о жизни и деятельности мозга в двух предшествующих главах; хотя ему же посвящены в моем трактате о воле в природе все разъясне-
227
ния под рубрикой «Физиология растений», а также и часть пояснений, находящихся под рубрикой «Сравнительная анатомия», тем не менее далеко не лишним будет нижеследующее общее изложение его результатов.
Для того чтобы наглядно представить себе резкий контраст, существующий между двумя противопоставленными выше взглядами на интеллект, надо проникнуть в самый корень вещей и понять следующее: то, что один способ рассмотрения непосредственно принимает как осмысленное мышление и живое созерцание и делает своим материалом, для другого является не чем иным, как физиологической функцией одного из внутренних органов, т. е. мозга; мало того, следует понять, что мы вправе утверждать, что весь объективный мир, как ни безграничен он в пространстве, как ни бесконечен он во времени, как ни непостижим он в своем совершенстве, есть, собственно говоря, только некоторое движение или возбуждение студенистого вещества в черепе. И мы с изумлением спрашиваем: что же такое этот мозг, функция которого создает подобный феномен всех феноменов? Что такое материя, которая может быть настолько рафинирована и потенцирована, что становится подобным студенистым веществом, раздражение нескольких частиц которого становится условием и носителем существования целого объективного мира? Страх перед такими вопросами привел к гипостазированию простой субстанции некоторой нематериальной души, которая всего лишь обитает в мозгу. Мы же без всякого страха говорим: и эта студенистая масса, как и всякая растительная или животная часть организма, представляет собой органическое образование, подобное всем другим, менее значительным ее родственникам, живущим в более дурном обиталище — в головах наших неразумных братьев, вплоть до низшего из них, едва способного к восприятию; и все-таки эта органическая студенистая масса — конечный продукт природы, уже предполагающий все остальные. Но сам по себе и вне представления мозг, как и все другое, есть воля. Ибо существовать для другого значит быть представленным; бытие в себе — воление. Именно этим и объясняется, почему чисто объективным путем мы никогда не доходим до ядра вещей, и когда мы пытаемся найти это ядро извне и эмпирически, оно всегда в наших руках вновь обращается в нечто внешнее, — сердцевина дерева, как и его кора, сердце животного, как и его шкура, зародышевая кожица и желток яйца, как и его скорлупа. Наоборот, на субъективном пути ядро вещей доступно для нас в любой момент: мы прежде всего находим его в самих себе как волю и, руководствуясь нитью аналогии с нашим собственным существом, можем разгадать загадку прочих существ; мы понимаем, что бытие в себе, как таковое, независимо от его познаваемости, т. е. от его представления в том или ином интеллекте, мыслимо только в качестве воления.
Возвращаясь в объективном понимании интеллекта сколь возможно дальше, мы найдем, что необходимость или потребность познания вообще вытекает из множественности и раздельного бытия существ, т. е. из индивидуации. В самом деле: представим себе, что есть только одно-единственное существо; тогда оно не будет нуждаться ни в каком познании, ибо нет ничего, что было бы отлично от него самого и чье
228
существование поэтому оно должно было бы воспринимать в себя лишь опосредованно, через познание, т. е. в образе и понятии. Оно само было бы уже все во всем, и ему, таким образом, ничего не оставалось бы познавать, т. е. не оставалось бы ничего чуждого, что могло бы быть воспринято как предмет, объект. Но в условиях множественности существ каждый индивид находится в изолированном от всех остальных состоянии, и отсюда вытекает необходимость познания. Нервная система, с помощью которой животный индивид начинает осознавать прежде всего самого себя, ограничена его кожей, и все-таки, возвысившись в мозгу до интеллекта, она переступает эту границу, благодаря своей познавательной форме причинности, и так для нее возникает созерцание в качестве сознания других вещей, в качестве образа сущностей, находящихся в пространстве и времени и изменяющихся согласно причинности. В этом смысле было бы правильнее сказать, что «только различное познается различным», чем, как говорит Эмпедокл, «только подобное — подобным»: эта последняя фраза шатка и многозначна, хотя возможны и такие точки зрения, с которых она представляется истинной; такова, например, точка зрения Гельвеция, который столь же верно, сколь и прекрасно замечает: «Il n’y a que l’esprit qui sente l’esprit: c’est une corde qui ne frémit qu’à l’unison»*, — что соответствует ксенофановскому «sapientem esse oportet eum, qui sapientem agniturus sit»** и что таит в себе большую сердечную боль.
Но, с другой стороны, мы знаем, что и, наоборот, множественность однородного становится возможной только благодаря времени и пространству, т. е. формам нашего познания. Пространство возникает лишь тогда, когда познающий субъект смотрит вовне: оно — тот способ, каким субъект воспринимает нечто как отличное от него самого. Но мы только что видели, что познание вообще обусловлено множественностью и различием. Следовательно, познание и множественность, или индивидуация, неразрывно связаны между собой, так как они обусловливают друг друга. Отсюда можно сделать заключение, что по ту сторону явления, во внутренней сущности всех вещей, которой время и пространство, а следовательно, и множественность должны быть чужды, не может быть и познания***. Таким образом, «познание вещей в себе» в строжайшем смысле этого слова было бы невозможно уже потому, что там, где начинается внутренняя сущность вещей, кончается познание, и всякое познание по самому существу своему распространяется только на явления. Ибо оно вытекает из ограничения, которое делает его необходимым именно для того, чтобы раздвинуть эти границы.
С объективной точки зрения мозг является цветением организма; поэтому вершины своего развития он достигает лишь там, где организм поднимается на высшую ступень совершенства и сложности. Но в предыдущей главе мы узнали, что организм — объективация воли; поэтому и мозг, как его часть, должен тоже относиться к этой объективации.
229
Далее, из того, что организм представляет собой только видимость воли и следовательно, в себе есть сама эта воля, —· из этого я вывел, что всякое аффицирование организма одновременно и непосредственно аффицирует и волю, т. е. ощущается как приятное или болезненное. Но при более высоком развитии нервной системы, в силу повышения чувствительности, появляется возможность того, что в более благородных, т. е. объективных, органах чувств (зрение, слух) ощущаются свойственные им, в высшей степени нежные аффекты, которые, однако, сами по себе и непосредственно не возбуждают волю, т. е. не являются приятными или болезненными, и что таким образом они, эти состояния, проникают в сознание как сами по себе безразличные, просто воспринятые ощущения. В мозгу же это повышение чувствительности достигает такой значительной степени, что вслед за полученными в органах чувств впечатлениями наступает даже такая реакция, которая исходит не непосредственно от воли, а представляет собой главным образом спонтанно проявляющуюся функцию рассудка, обеспечивающую переход от непосредственно воспринятого чувственного ощущения к его причине, вследствие чего, благодаря тому, что мозг одновременно создает при этом и форму пространства, и возникает созерцание какого-нибудь внешнего объекта. Поэтому ту точку, где от ощущения на сетчатке, которое является еще только простым возбуждением тела, а вместе с ним и воли, рассудок делает переход к причине этого ощущения, которую он посредством своей формы пространства проецирует как нечто внешнее и отличное от собственной личности, — эту точку можно рассматривать как границу между миром как волей и миром как представлением или как место рождения этого последнего. У человека же эта спонтанность деятельности мозга, в конечном счете приобретенная, конечно, все от той же воли, выходит за пределы простого созерцания и непосредственного постижения каузальных отношений, — к образованию из этих созерцаний абстрактных понятий и к оперированию с последними, т. е. к мышлению, в котором и заключается разум человека. Мысли поэтому дальше всего отстоят от аффектов тела, которые, ввиду того что тело — объективация воли, могут, даже в органах чувств, усилившись, сейчас же перейти в боль. Ввиду сказанного представление и мысль можно рассматривать и как расцвет воли, поскольку они вытекают из высшего совершенства и развития организма, который сам по себе и вне представления есть воля. Конечно, в моем объяснении существование тела предполагает мир представления, поскольку и оно, тело, как физический предмет или реальный объект, существует только в представлении, а с другой стороны, само представление в такой же степени предполагает тело, так как оно, представление, возникает только благодаря функции одного из органов последнего. То же, что лежит в основе всех явлений, единственно само по себе сущее и изначальное в них, — это исключительно воля, ибо это именно она, благодаря указанному процессу, принимает форму представления, т. е. вступает во вторичное существование предметного мира, или в познаваемость.
Философы до Канта, за немногими исключениями, подходили к объяснению процесса нашего познания с обратной стороны. Дело в том, что исходным пунктом для них служила так называемая душа, сущность,
230
внутренняя природа и подлинная функция которой заключается де в мышлении и при этом в мышлении чисто абстрактном, мышлении при помощи голых понятий, которые тем полнее принадлежат ей, чем больше они отстоят от всякого созерцания (здесь я попрошу обратиться к примечанию в конце § 6 моего конкурсного сочинения «Об основе морали»). Эта душа, если верить философам, каким-то непостижимым образом попала в тело, где чистота ее мышления сталкивается с одними только помехами — уже со стороны чувственных ощущений и созерцаний, а еще более со стороны вожделений, возбуждаемых последними, наконец, со стороны аффектов и страстей, в которые они развиваются; между тем как свой собственный и изначальный элемент этой души есть чистое абстрактное мышление, отдаваясь которому она имеет своими объектами одни только universalia, врожденные ‹общие› понятия и æternas veritates*, а все созерцаемое оставляет далеко за собой. Отсюда и ведет свое начало то презрение, с которым еще и теперь профессора философии упоминают о «чувственности» и «чувственном», признавая их даже главным источником безнравственного; между тем как на самом деле именно чувства, порождая в союзе с априорными функциями интеллекта созерцание, являются чистым и невинным источником всех наших знаний, из которого все наше мышление только и получает свое содержание. Поистине, можно было бы подумать, что эти господа под чувственностью всегда понимают только мнимое шестое чувство французов. И вот таким образом в процессе познания самый последний его продукт, абстрактное мышление, делали первым и изначальным и тем самым, как я уже сказал, выворачивали все наизнанку. Так как, согласно моей теории, интеллект возникает из организма, а тем самым из воли и, следовательно, без нее не мог бы существовать, то без нее он не находил бы себе никакого материала и занятия, ибо все познаваемое — это только объективация воли.
Впрочем, не только созерцание внешнего мира или сознание других вещей обусловлено мозгом и его функциями, но и самосознание. Воля сама по себе бессознательна и остается таковой в большинстве своих проявлений. Должен появиться вторичный мир представления, для того чтобы она стала осознавать себя, подобно тому как свет делается видимым только благодаря отражающим его телам, иначе же — бесплодно теряется во тьме. Так как воля для постижения своих отношений к внешнему миру создает в животном индивиде мозг, то лишь в последнем и возникает сознание собственной самости, посредством субъекта познания, который воспринимает вещи как существующие, а Я — как волящее. Чувствительность в мозгу усиливается до самой высокой степени; но, будучи рассеянной по разным его частям, она должна прежде всего собрать воедино все лучи своей деятельности, как бы сосредоточить их в одном фокусе, который, однако, находится не снаружи, как в вогнутых зеркалах, а внутри, как в зеркалах выпуклых: именно этой фокусной точкой описывает она линию времени, на которой, следовательно, и должно являться все, что она представляет себе, и которая служит первой и самой существенной формой всякого познания, или
231
формой внутреннего чувства. Этот фокус всей деятельности мозга в ее целостности и есть то, что Кант назвал синтетическим единством апперцепции; лишь благодаря ей воля начинает сознавать саму себя, потому что этот фокус деятельности мозга, или познающее, воспринимает себя как тождественное своей собственной основе, из которой он вырос, т. е. водящему, и так возникает Я. Однако этот фокус мозговой деятельности сначала остается только субъектом познания и в качестве такового способен быть лишь холодным и безучастным зрителем, простым кормчим и советником воли, а также, не сообразуясь с нею, равнодушно к ее радостям и страданиям, воспринимать внешний мир чисто объективным образом. Но как только он обращается к внутреннему, он тотчас же познает как основу собственного явления волю и поэтому сливается с нею в сознание некоторого Я. Этот фокус мозговой деятельности (или субъект познания) как неделимая точка является, правда, чем-то простым, но отсюда еще вовсе не следует, что он — субстанция (душа): нет, он только состояние. То, чье состояние есть он сам, он может познать лишь косвенно, как бы в отражении; но прекращение состояния нельзя рассматривать как уничтожение того, чьим состоянием он является, это познающее и осознанное Я относится к воле, которая служит основой его явления, как образ в фокусе вогнутого зеркала к самому зеркалу, и подобно такому изображению обладает лишь условной, даже, собственно говоря, мнимой реальностью. Будучи далеко не безусловно первым (как учил, например, Фихте), это Я, в сущности, третично, потому что оно предполагает организм, а организм — волю.
Я признаю, что все сказанное здесь — это лишь образ и сравнение, отчасти же гипотеза, но ведь мы и стоим у такого предела, до которого едва долетает мысль, не говоря уже о доказательствах. Я прошу поэтому сравнить сказанное с тем, что я обстоятельно изложил по данному предмету в двадцатой главе.
Хотя, таким образом, сущность в себе каждого существования заключается в его воле и познание вместе с сознанием привходит лишь позже, как вторичный момент, на более высоких ступенях явления, мы видим все-таки, что различие, которое наличие и различные степени сознания и интеллекта устанавливают между одним существом и другим, это различие чрезвычайно велико и чревато последствиями. Субъективное бытие растения мы должны представлять себе как слабую аналогию и простую тень удовольствия и неудовольствия: и даже в этой, чрезвычайно слабой степени растение знает только о себе и ни о чем вне себя. Напротив, уже ближайшее к нему, низшее животное, благодаря своим более развитым и точнее дифференцированным потребностям, вынуждено распространять сферу своего бытия за границу своего тела. Это осуществляется через познание; животное обладает смутным восприятием своего ближайшего окружения, из которого вырастают для него, в целях самосохранения, мотивы его поступков. Таким образом, возникает среда мотивов, и это — объективно существующий во времени и пространстве мир, мир как представление, сколь бы слабым, тусклым и едва освещенным ни был этот первый и низший его экземпляр. Но он вырисовывается все явственнее и явственнее, все дальше и все глубже, в той же мере, в какой в восходящем ряду животных организмов все
232
совершеннее и совершеннее делается мозг. Но это восхождение в развитии мозга, т. е. интеллекта и ясности представления, на каждой из этих все более высоких ступеней есть результат возвышения и усложнения потребностей этих проявлений воли. Потребности всегда должны вначале дать повод для этого, потому что без нужды природа (т. е. объективизирующаяся в ней воля) не создает ничего, и уж конечно она не станет без нужды создавать труднейшее из своих творений — более совершенный мозг: таков lex parsimoniae natura nihil agit frustra et nihil facit supervacaneum*. Каждое животное она снабдила такими органами, которые необходимы для его сохранения, таким оружием, которое необходимо для предстоящей ему борьбы, как я это подробно изложил в своем сочинении «О воле в природе», под рубрикой «Сравнительная анатомия». И, руководствуясь тем же критерием, она наделила каждое животное важнейшим из органов, обращенных вовне: мозгом с его функцией — интеллектом. Поэтому чем сложнее становилась, в силу более высокого развития, организация какого-нибудь животного, тем разнообразнее и специфичнее делались и его потребности, а следовательно — тем труднее и труднее было давать им удовлетворение, тем более зависело это от случайности. Таким образом, возникла нужда в более широком кругозоре, в более точном восприятии, в более правильном различении вещей внешнего мира во всех его обстоятельствах и соотношениях. Вот почему мы видим, что способности представления и ее инструменты — мозг, нервы и органы чувств, становятся тем совершеннее, чем выше мы поднимаемся по лестнице животного царства; и в той мере, в какой развивается мозговая система, внешний мир предстает перед сознанием все отчетливее, многостороннее, полнее. Восприятие этого мира требует теперь все больше и больше внимания, и в конце концов это доходит до такой степени, что отношение этого восприятия к воле иногда должно на миг выпускаться из поля зрения, для того чтобы оно происходило еще чище и правильнее. Полностью это проявляется лишь в человеке: только у него происходит чистое обособление познания от воления. Это — важный пункт, и я касаюсь его здесь только для того, чтобы обозначить его место и вернуться к нему в дальнейшем изложении.
Но и этот последний шаг в развитии и усовершенствовании мозга, а следовательно, и в усилении познавательных способностей природа делает, как и все прочее, только вследствие усложнения потребностей, т. е. ради воли. То, к чему она стремится и чего достигает в человеке, по существу не более того, что является ее целью и в животном, а именно питание и размножение. Но в силу организации человека средства, необходимые для достижения этой цели, настолько разрослись, усложнились и специфицировались, что для достижения этой цели необходимо было несравненно более значительное повышение уровня интеллекта, чем это было на всех предшествующих ступенях, или, по крайней мере, такое повышение оказалось легчайшим средством для достижения названной цели. Но так как интеллект, по своему существу, представляет
233
собой орудие в высшей степени многосторонней применимости и так как он одинаково пригоден для самых разнородных целей, то природа, верная своему духу бережливости, могла бы вполне удовлетворить им одним все разросшиеся потребности: поэтому она и оставила человека без одежды, без естественных оборонительных или наступательных орудий, со сравнительно слабой мускулатурой, с большой хрупкостью и малой устойчивостью против неблагоприятных влияний и лишений, оставила его, положившись на это единственное орудие, наряду с которым, как наследие от непосредственно предшествующей человеку ступени — обезьяны, она сохранила еще только руки. Но благодаря этому преобладанию интеллекта не только бесконечно расширилось восприятие мотивов, их разнообразие и вообще горизонт целей, но также чрезвычайно усилилась и отчетливость, с которой воля сознает саму себя; это произошло благодаря появившейся ясности всего сознания, которая, опираясь на способность к абстрактному познанию, доходит уже до полной разумности. Между тем в силу этого, а равно и в силу неизбежной для носителя столь высокого интеллекта усиления воли у человека произошло усиление и всех аффектов, и даже стали возможны страсти, которых животное, собственно, не знает. Ибо сила воли равномерно возрастает вместе с повышением уровня интеллекта именно потому, что оно, собственно говоря, всегда вытекает из возвышения потребностей и настоятельных требований воли; кроме того, воля и интеллект поддерживают друг друга. Сила характера связана с большей энергией биения сердца и кровообращения, которая физически активизирует деятельность мозга. С другой стороны, ясность интеллекта, благодаря более живому восприятию внешних обстоятельств, усиливает вызванные ей аффекты. Поэтому, например, молодые телята без сопротивления дают себя уложить в повозку и везти куда угодно; молодые же львы, когда их разлучают с матерью, все время остаются неспокойными и с утра до вечера беспрестанно рыкают; дети же в таком положении кричали и мучились бы до полусмерти. Живость и порывистость обезьян находятся в точном соответствии с их уже очень развитым интеллектом. Именно это взаимное соотношение воли и интеллекта является причиной того, что человек вообще способен переносить гораздо большие страдания, чем животное, но зато ему доступны и большие радости от удовлетворенных и отрадных аффектов. Так, повышенный уровень интеллекта делает для него скуку чувствительнее, чем для животного, но зато этот же интеллект, если он индивидуально очень совершенен, становится для него неиссякаемым источником развлечений. В целом проявление воли в человеке так относится к проявлению воли в животном высших пород, как полный тон к его квинте, взятой ниже на две-три октавы. Но и между животными различных видов различия в интеллекте и потому в сознании велики и бесконечно разнообразны. Простой аналог сознания, наличие которого мы должны признать уже у растения, приблизительно так же относится к еще более смутной субъективной сущности любого неорганического тела, как сознание низшего животного — к упомянутому квазисознанию растения. Бесчисленные градации и оттенки на шкале сознания можно наглядно представить себе в виде различных скоростей, которые имеют неодинаково отдаленные от центра точки вращающегося круга. Но самый точный и, как учит наша третья книга, естественный образ этой
234
градации представляет собой гамма, во всем ее объеме, начиная от самого низшего, еле внятного звука и до самого высокого. И то, что определяет степень бытия какого-нибудь существа, это и есть степень сознания. Ибо всякое непосредственное бытие есть бытие субъективное: объективное бытие существует в сознании другого, значит, только для этого другого сознания и тем самым совершенно опосредованно. По степени сознания существа столь же различаются между собой, сколь равны они по своей воле, потому что воля — это общее им всем.
Но то различие, которое мы установили между растением и животным и между разными видами животных, существует еще и между человеком и человеком. И здесь вторичное, интеллект, в силу зависящей от него ясности сознания и отчетливости познания, также обосновывает фундаментальное и необозримо великое различие во всем способе бытия людей, а тем самым — и в степени последнего. Чем выше поднялось сознание в своем развитии, тем отчетливее и согласованнее мысли, тем яснее созерцания, тем глубже ощущения. Все приобретает большую глубину: умиление, скорбь, радость и горе. Ординарные плоские люди даже не способны к истинной радости, глухо и темно протекает их жизнь. В то время как для одного его сознание, в скудном восприятии внешнего мира, воспроизводит только его собственное существование и мотивы, которые должны быть восприняты в целях самосохранения и развлечения, для другого это camera obscura, в которой отражается макрокосм:
Чувствует
мастер: в назначенный срок
В
мозгу его вызрел некий мирок,
Дышит,
живет, спешит отделиться,
От
своего создателя удалиться18.
То различие во всем способе существования, которое устанавливают между человеком и человеком предельные точки на шкале интеллектуальных способностей, — это различие так велико, что в сравнении с ним различие между королем и поденщиком кажется ничтожным. И здесь, как и у животных разных пород, можно подметить связь между силой воли и высотой интеллекта. Условием гениальности является страстный темперамент, и гений-флегматик немыслим: нам кажется, что у тех, кого природа хочет наделить таким непомерно высоким интеллектом, какой присущ гению, должна присутствовать необычайно сильная, т. е. мощно желающая, воля; с чисто же физиологической точки зрения на это указывает большая энергия, с которой артерии головы приводят мозг в движение и увеличивают его тонус. Правда, количество, качество и форма мозга сами представляют собой другое и несравненно более редкое условие гениальности. С другой стороны, флегматики в большинстве случаев имеют очень посредственные умственные способности. Вот почему северные, холоднокровные и флегматичные народы в общем заметно уступают в умственном отношении народам южным, живым и страстным, хотя, как очень тонко заметил Бэкон*, уж если северянин
235
одарен природой, он может достигнуть такой высоты, до которой никогда не подняться южанину. Вот почему столь же нелепо, сколь и обычно для сравнения умственных способностей у разных наций брать масштабом их великие умы: ведь это значит обосновывать правило исключениями. Наоборот, надо судить по большинству, по массе каждой нации, ибо одна ласточка не делает весны.
Здесь следует также отметить, что именно страстность, которая является условием гения, будучи связана с его живым постижением вещей, — эта страстность в практической жизни, где в игру вступает воля, особенно при неожиданных событиях, влечет за собой такое возбуждение аффектов, что оно затрудняет и запутывает деятельность интеллекта, между тем как флегматик и при таких обстоятельствах полностью использует свои умственные силы, хотя и гораздо более слабые, и достигает несравненно большего, чем это доступно самому великому гению. Таким образом, страстный темперамент благоприятствует изначальным свойствам интеллекта, флегматический же темперамент — применению последнего. Оттого настоящий гений способен на одни лишь теоретические дела, в которых он — господин своего времени и где можно ждать, т. е. именно в той сфере, где воля совершенно бездействует и ни одна волна не омрачает светлого зеркала миросозерцания; наоборот, для практической жизни гений непригоден и бесполезен и поэтому в большинстве случаев несчастен. Таким и задуман «Тассо» у Гете. И как истинная гениальность зиждется на абсолютной силе интеллекта, которая должна быть куплена ценою соответствующей ей чрезмерной страстности духа, так значительное превосходство в практической жизни, создающее полководцев и государственных мужей, опирается на относительную силу интеллекта, т. е. на такую высшую степень его, которая может быть достигнута без слишком большой возбудимости аффектов и слишком большой страстности характера и поэтому может сохранять устойчивость даже в самых бурных событиях. Здесь достаточно твердой воли и непоколебимости духа при наличии дельного и тонкого рассудка, а все, что выходит за эти пределы, приносит вред, ибо слишком большое развитие интеллекта препятствует твердости характера и решимости воли. Вот почему в практической сфере выдающиеся люди не так необычны и встречаются во сто раз чаще, нежели в теоретической: великие полководцы и великие министры появляются в каждую эпоху, коль скоро их деятельности благоприятствуют внешние обстоятельства. Наоборот, великие поэты и философы заставляют себя ждать целые столетия; но человечество может довольствоваться и этим столь редким появлением таких людей, ибо их творения остаются и существуют не только для настоящего, как дела практиков.
Вполне отвечает вышеупомянутому закону бережливости природы и то, что выдающиеся духовные способности она вообще дарит очень и очень немногим, а гениальность — только как редчайшее из всех своих исключений; огромную же массу человеческого рода она снабжает умственными способностями лишь настолько, насколько это необходимо для сохранения особей и рода. Ибо великие и, благодаря самому их удовлетворению, беспрестанно расширяющиеся потребности человечества де-
236
лают неизбежным то, что значительно большая его часть проводит свою жизнь в грубом физическом и совершенно механическом труде, — на что же таким людям пригодились бы живой дух, пылкая фантазия, утонченный рассудок, проницательность и остроумие? Все это только сделало бы их непригодными и несчастными. Вот отчего природа наименее расточительно обошлась с самым драгоценным из своих созданий. Для того чтобы уберечься от несправедливых оценок, мы должны были бы, с этой точки зрения, вообще умерить свои требования к порождениям человеческого духа; например, ученых, которые в большинстве случаев делаются учеными в силу чисто внешних поводов, нам следует рассматривать прежде всего как людей, которых природа, собственно говоря, предназначала к земледелию; даже и профессоров философии следовало бы мерить подобной же меркой, тогда мы обнаружили бы, что их произведения отвечают всем справедливым требованиям.
Обращает на себя внимание то, что на юге, где жизненные нужды меньше тяготеют над человечеством и оставляют больше досуга, сейчас же становятся живее и тоньше и умственные способности даже у массы.
В физиологическом отношении замечательно то, что перевес массы головного мозга над массой мозга спинного и нервов, который, согласно остроумному открытию Земмеринга, является истинным и ближайшим мерилом уровня интеллекта как у различных пород животных, так и у человеческих индивидов, — этот перевес одновременно увеличивает и непосредственную подвижность и гибкость членов, ибо в силу большой неравномерности данного соотношения зависимость всех двигательных нервов от мозга становится гораздо большей, а к этому присоединяется еще и то, что качественное совершенство большого мозга находится в связи с совершенством мозжечка, этого ближайшего регулятора движений. Благодаря этим двум причинам все произвольные движения приобретают большую легкость, быстроту и ловкость, и вследствие фиксации исходного пункта всякой активности возникает то, что Лихтенберг хвалит в Гаррике: «Казалось, что он присутствует в каждом мускуле своего тела». Поэтому физическая неповоротливость указывает и на неповоротливость в ходе мыслей и наряду с вялостью в чертах лица и тупостью взгляда служит признаком бездарности — как у отдельных индивидов, так и у целых наций. Другим симптомом указанного физиологического соотношения является тот факт, что многие люди, как только их беседа со спутником начинает приобретать сколько-нибудь связный характер, сейчас же поневоле перестают ходить: когда их мозгу предстоит связать несколько мыслей, у него не оказывается уже сил для того, чтобы посредством моторных нервов удерживать ноги в движении, до такой степени у этих людей всего дано в обрез.
Все это объективное рассмотрение интеллекта и его источника показывает, что его назначение — постигать те цели, достижение которых обеспечивает индивидуальную жизнь и размножение, и что вовсе не его дело — отражать независимую от познающего сущность в себе вещей и мира. Чем для растения является восприимчивость к свету, вследствие которой оно направляет к нему свой рост, тем же по своему характеру является познание животного и даже человека, хотя по степени оно
237
усилено в той же мере, в какой это необходимо для потребностей каждого из данных существ. У всех них восприятие остается лишь уяснением своих отношений к другим вещам и отнюдь не предназначено для того, чтобы еще раз являть сознанию познающего подлинную, безусловно реальную сущность этих вещей. Напротив, интеллект, как ведущий свое происхождение от воли, и предназначен только для служения последней, т. е. для восприятия мотивов: к этому он приспособлен и, следовательно, направленность его — чисто практическая. Это остается в силе и тогда, когда метафизическое значение жизни мы понимаем как этическое, ибо и в этом смысле человек познает только ради своих поступков. Такая познавательная способность, существующая исключительно ради практических целей, всегда будет, в силу своей природы, постигать только взаимные отношения вещей, а не их собственную внутреннюю сущность. Принимать же комплекс этих отношений за безусловную и самостоятельную сущность мира, а тот способ, которым они предстают перед нами согласно преформированным[215] в мозгу законам, считать вечными законами бытия всех вещей и на этом основании строить онтологию, космологию и теологию, — в этом, собственно, и заключалась та древнейшая и коренная ошибка, которой положило конец учение Канта. Таким образом, наше объективное и оттого преимущественно физиологическое рассмотрение интеллекта идет навстречу его трансцендентальному рассмотрению и даже, в известном смысле, входит в него как априорное усмотрение, так как наше рассмотрение, с внешней по отношению к кантовской точки зрения, позволяет нам генетически и потому как необходимое познать то, что Кант, исходя из фактов сознания, показывает лишь фактически. Ибо в результате нашего объективного рассмотрения интеллекта мир как представление, расположенный в пространстве и времени и закономерно развивающийся по строгому правилу причинности, — этот мир оказывается прежде всего лишь физиологическим феноменом, функцией мозга, который выполняет ее, хотя и воспринимая как поводы некоторые внешние раздражения, но по собственным своим законам. Поэтому заранее ясно, что все происходящее в самой этой функции, а следовательно, через нее и для нее ни в коем случае не следует принимать за свойство независимо от нее существующих и совершенно от нее отличных вещей в себе: нет, прежде всего это является характерной формой самой данной функции, которая может подвергаться лишь очень второстепенным модификациям со стороны того, что существует совершенно независимо от нее и что в качестве раздражения приводит ее в движение. И подобно тому как Локк, вследствие этого, все, что через ощущение привходит в восприятие, приписывал органам чувств, для того чтобы отказать в этом вещам в себе, так Кант, с тем же намерением и продолжая тот же путь, доказал, что все, благодаря чему возможно подлинное созерцание, т. е. пространство, время и причинность, представляет собой функцию мозга, — хоть он и воздерживался от употребления этого физиологического выражения, к которому, однако, нас неизбежно приводит теперь наш способ рассмотрения, исходящий из противоположной, реальной стороны. Кант на своем аналитическом пути пришел к тому результату, что все познаваемое нами — только явление. Что, собственно, означает это
238
загадочное выражение, становится
ясным из нашего объективного и генетического рассмотрения интеллекта: это —
мотивы для целей индивидуальной воли, как они представляются в созданном ею
ради этого интеллекте (который сам объективно является в виде мозга), —
мотивы, которые, насколько возможно проследить их сцепление, будучи поняты и
связаны между собой, дают в своей совокупности объективно существующий во
времени и пространстве мир, который я называю миром как представление. С нашей
точки зрения, исчезает и та странность, которая возникает в кантовском
учении: ведь здесь создается впечатление, что интеллект прямо предназначен для
того, чтобы вводить нас в заблуждение; в самом деле, интеллект, по Канту,
вместо вещей, каковы они сами по себе, познает одни только явления, которые и
влекут его к паралогизмам и необоснованным гипостазированиям, посредством «софистики
не людей, а самого чистого разума, от которой даже самый мудрый из людей не в
состоянии отделаться, и разве только после больших усилий может остеречься от
заблуждений, но не в силах избавиться от непрестанно дразнящей его и
насмехающейся над ним видимости»19. Ибо данное
здесь объективное рассмотрение интеллекта, содержащее и его генезис, делает
понятным, во-первых, то, что он, будучи предназначен исключительно для
практических целей, является лишь средой мотивов и, следовательно,
исполняет свое предназначение, коль скоро правильно их представляет; а
во-вторых, и то, что если мы собираемся из комплекса и закономерности
объективно предстающих при этом перед нами явлений сконструировать сущность
вещей в себе, то делаем это на собственный страх и риск. В самом деле: мы
убедились, что та изначально бессознательная и во мраке действующая внутренняя
сила природы, которая, достигнув самосознания, снимает перед ним свой покров и
оказывается волей, — эта сила достигает такой ступени лишь благодаря тому,
что производит животный мозг и его функцию — познание, вслед за чем в этом
мозгу и возникает феномен созерцаемого мира. А отсюда ясно, что если мы этот
простой феномен мозга с неизменно присущей его функциям закономерностью
провозгласим существующей независимо от него, до него и после него объективной
и внутренней сущностью мира и вещей, то мы очевидно сделаем скачок, на который
ничто не дает нам права. Из этого mundus phaen
239
он есть, таким образом, только плоскостная сила, привязан к поверхности вещей и схватывает одни лишь species transitivas*, а не истинную их сущность. Этим и объясняется то, что мы не можем целиком понять и постичь ни одной вещи, даже самой простой и ничтожной: в ней всегда остается нечто совершенно для нас необъяснимое.
Именно потому, что интеллект является продуктом природы и поэтому рассчитан только на достижение ее целей, христианские мистики очень метко назвали его «светом природы» и указали ему его границы, ибо природа — объект, только для которого он и служит субъектом. В основании этого выражения лежит уже, собственно, та мысль, из которой возникла «Критика чистого разума». Если непосредственным путем, т. е. прямым и некритическим применением интеллекта и его указаний, мы не можем понять мир и, размышляя о нем, только все глубже и глубже запутываемся в неразрешимых противоречиях, то это объясняется тем, что интеллект, т. е. само познание, уже есть нечто вторичное, не более чем продукт, вызванный развитием сущности мира, который, следовательно, существовал и до появления интеллекта, предшествовал ему, — и интеллект появился напоследок, как прорыв к свету из темной глубины лишенного познания стремления, сущность которого в возникающем благодаря этому прорыву самосознании предстает как воля. То, что предшествует познанию как его условие, то, благодаря чему оно только и становится возможным, т. е. его собственная основа, не может быть непосредственно схвачено познанием, как глаз не может видеть сам себя. Познание имеет дело только с проявляющимися на поверхности вещей отношениями между одной сущностью и другой, и оно может иметь с ними дело только посредством аппарата интеллекта, т. е. его форм — пространства, времени, причинности. Именно потому, что мир создал себя без помощи познания, вся его сущность не растворяется в познании, и последнее всегда уже предполагает существование мира, а поэтому источник этого бытия не находится в области познания. Итак, познание ограничено отношениями между существующим и вследствие этого достаточно для индивидуальной воли, для служения которой оно только и возникло. Ибо интеллект, как было показано, обусловлен природой, находится в ней, принадлежит к ней и поэтому не может противостоять ей как нечто совершенно чуждое, для того чтобы таким образом принять в себя всю ее сущность вполне объективно и целиком. В лучшем случае он может понять все в природе, но не саму природу — по крайней мере непосредственно.
Как ни обескураживающе для метафизики это существенное ограничение интеллекта, вытекающее из его свойств и происхождения, оно имеет, однако, и другую, очень утешительную сторону. А именно: оно отнимает у непосредственных проявлений природы их безусловную значимость, в утверждении которой состоит настоящий натурализм. Поэтому, хотя природа и являет нам все живущее как исходящее из ничего и после эфемерного существования опять уходящее навеки в ничто; хотя природа, по-видимому, тешит себя тем, что беспрестанно созидает снова и снова, для того чтобы иметь возможность беспрестанно разрушать,
240
и не в силах сотворить ничего устойчивого; хотя, таким образом, единственным непреходящим началом мы должны считать материю, которая, не возникая и не исчезая, все рождает из своего лона, так что и само ее имя, кажется, произошло от mater rerum*, а наряду с ней, как отца вещей, мы должны признать форму, которая, будучи столь же мимолетной, сколь постоянна материя, меняется каждое мгновение и может сохраняться лишь до тех пор, пока она, как паразит, цепляется за материю (то к одной, то к другой ее части), но тотчас же погибает, как только теряет эту опору (мы видим это на примере палеотериев и ихтиозавров); хотя все это и так, и мы должны принимать это как непосредственное и истинное откровение природы, тем не менее, ввиду указанного выше происхождения интеллекта и вытекающих отсюда его свойств, мы можем не признавать за этим откровением безусловную истину, но только совершенно условную, которую Кант метко охарактеризовал в качестве таковой, назвав ее явлением в противоположность вещи в себе.
Если, несмотря на это существенное ограничение интеллекта, возможно все-таки окольным путем, а именно с помощью глубокой рефлексии и искусного сочетания вовне направленного объективного познания с данными самосознания, — если, говорю я, возможно все-таки достичь известного понимания мира и сущности вещей, то это понимание всегда будет весьма ограниченным, совершенно опосредованным и относительным. Это будет параболический[216] перевод в формы познания, т. е. некоторое quadam prodire tenus**, которое непременно будет оставлять нерешенными еще множество проблем[217]. Напротив, основной ошибкой старого, разрушенного Кантом догматизма во всех его формах было то, что он исходил прямо из познания, т. е. из мира как представления, для того чтобы из его законов вывести и построить сущее вообще, причем этот мир представления, вместе с его законами, он принимал за нечто безусловно данное и абсолютно реальное, между тем как на самом деле все существование этого мира в самой своей основе относительно и представляет собой простой результат или феномен лежащей в его основе сущности в себе; другими словами, эта ошибка догматизма состояла в том, что он строил онтологию там, где имел материал только для дианойологии. Субъективно обусловленный и поэтому решительно имманентный, т. е. непригодный для трансцендентного употребления, характер познания Кант раскрыл исходя из собственной его закономерности, вот почему свое учение он весьма метко назвал критикой разума. Он достиг этого отчасти тем, что указал на значительный и повсеместный априорный элемент всякого познания, который, в качестве безусловно субъективного, искажает всякую объективность; отчасти же тем, что якобы показал, будто основоположения познания, взятого в чисто объективном смысле, если проследить их до конца, приводят к противоречиям. Но он поторопился признать, что вне объективного познания, т. е. вне мира как представления, нам ничего не дано, кроме, быть может, совести, из которой он построил то немногое, что еще осталось у него от
241
метафизики, т. е. моральную теологию; впрочем, он приписал ей исключительно практическое, а вовсе не теоретическое значение. Он упустил из виду, что, хотя объективное познание, или мир как представление, бесспорно не дает нам ничего, кроме явлений с их феноменальной связью и регрессом, тем не менее наше собственное существо по необходимости принадлежит и к миру вещей в себе, так как именно в нем должно оно иметь свои корни, и поэтому, пусть эти корни и нельзя извлечь на свет Божий, некоторые данные все же должны быть постижимы, и они позволяют прояснить связь мира явлений с внутренней сущностью вещей. Здесь, таким образом, лежит тот путь, по которому я прошел далее Канта и проведенной им границы, оставаясь при этом все время на почве рефлексии, т. е. правдивости, и не прибегая к тем шарлатанским ссылкам на интеллектуальное созерцание, или абсолютное мышление, которые характерны для периода псевдофилософии между Кантом и мною. Кант, доказывая недостаточность разумного познания для постижения сущности мира, исходил из познания как некоторого факта, предлагаемого нашим сознанием, и в этом смысле действовал a posteriori. Я же, как в этой главе, так и в своем сочинении «О воле в природе», старался показать, что представляет собой познание по своему существу и происхождению; я показал, что оно есть нечто вторичное, предназначенное для достижения индивидуальных целей, откуда следует, что оно и должно быть недостаточным для постижения сущности мира; таким образом, я в этом смысле достиг той же цели a priori. Но ничего нельзя понять полностью и в совершенстве, пока не обойдешь данный предмет вокруг и не вернешься к исходной точке с другой стороны; поэтому и здесь, постигая эту важную и фундаментальную истину, мы должны идти не только от интеллекта к познанию мира, как это сделал Кант, но и, как пытаюсь я, от предпосылки о существовании мира к интеллекту. Тогда это в широком смысле слова физиологическое исследование послужит дополнением к идеологическому, как говорят французы, или, правильнее, трансцендентальному.
Выше, для того чтобы не прерывать нить изложения, я воздержался от разъяснения одного затронутого мною пункта — а именно следующего: по мере того как в восходящем ряду животных интеллект все более и более развивается и принимает все более совершенный характер, познание все явственнее отделяется от воления и тем самым становится чище. Все существенное об этом можно найти в моем сочинении «О воле в природе» под рубрикой «Физиология растений», к которой я, чтобы не повторяться, и отсылаю читателя, ограничиваясь здесь лишь несколькими дополнительными замечаниями.
Так как растение не обладает ни раздражимостью, ни чувствительностью и воля объективируется в нем лишь как пластичность или способность к воспроизведению, то у него нет ни мускулов, ни нервов. На низшей ступени животного царства, у зоофитов, а именно у полипов, мы не можем еще заметить ясного разграничения этих двух элементов, но предполагаем их наличие, хотя бы и в слитном состоянии, ибо мы воспринимаем у этих зоофитов такие движения, которые совершаются не в силу простых раздражений, как это бывает у растений, а на основе мотивов, т. е. вследствие известного восприятия, — почему мы и счита-
242
ем подобные существа животными. Но в той мере, в какой в восходящем ряду животных нервная и мускульная системы все явственнее отделяются друг от друга, пока первая у позвоночных и совершеннее всего в человеке не разделится на органическую и церебральную нервные системы, а последняя, в свою очередь, не возрастет до степени чрезвычайно сложного аппарата большого мозга и мозжечка, продолговатого и спинного мозга, нервов головного и спинного мозга, чувствительных и двигательных нервных узлов (причем только большой мозг вместе с примыкающими к нему чувствительными нервами и задними ганглиями спинномозговой системы предназначен для восприятия мотивов из внешнего мира, а все остальные части служат лишь для передачи этих мотивов мускулам, в которых непосредственно проявляется воля), — в этой же мере все явственнее отделяется в сознании мотив от волевого акта, который он вызывает, т. е. представление от воли; благодаря этому объективность сознания все увеличивается, потому что представления предстают в нем все отчетливее и чище. Но оба эти разграничения, собственно говоря, представляют собой одно — то, которое мы рассмотрели здесь с двух сторон: а именно с объективной и субъективной, или—сначала в сознании других вещей, а затем в самосознании. На степени этого разграничения основаны, в самом конечном счете, различия и градации интеллектуальных способностей — как между разными видами животных, так и между человеческими индивидами: эта степень представляет собой, таким образом, мерило интеллектуального совершенства для этих существ. Ибо ясность сознания внешнего мира, т. е. объективность созерцания, зависит от нее. В приведенном выше месте я показал, что животное воспринимает вещи лишь постольку, поскольку они являются мотивами для его воли, и что даже самые понятливые животные едва переходят эту границу, ибо их интеллект еще слишком крепко привязан к воле, из которой он вырос. Наоборот, даже самый тупой человек воспринимает вещи уже до некоторой степени объективно, познавая в них не только то, что имеет отношение к нему самому, но и нечто из того, что они представляют собой по отношению к самим себе и к другим вещам. Но лишь у очень немногих людей это доходит до такой степени, что они оказываются в состоянии исследовать и обсуждать какую-нибудь вещь чисто объективно: нет, «я должен это сделать, я должен это сказать, я должен этому поверить» — вот цель, к которой всегда стремится по прямой линии их мышление и в которой их рассудок находит себе желанный покой. Ибо для слабой головы мыслить так же невыносимо, как для слабой руки поднимать тяжесть: вот почему и та и другая спешат отдохнуть. Объективность познания, прежде всего созерцательного, имеет бесчисленные степени, которые обусловлены энергией интеллекта и его автономностью по отношению к воле; высшая из них — гений: у него постижение внешнего мира столь чисто и объективно, что перед ним в единичных вещах непосредственно раскрывается нечто большее, чем они сами, а именно сущность всего их рода, т. е. их идея в платоновском смысле; объясняется это тем, что в данном случае воля совершенно исчезает из сознания. Здесь мы дошли до того пункта, где наше исследование, исходящее из физиологических принципов, примыкает к предмету нашей третьей книги, т. е. к метафизике прекрасного, где я обстоятельно рассматриваю подлинное
243
эстетическое восприятие, которое в своих более высоких степенях свойственно только гению как состояние чистого, т. е. совершенно безвольного и потому вполне объективного, познания. В силу сказанного возрастание уровня интеллекта, от самого смутного сознания животного до сознания человеческого, представляет собой прогрессирующее освобождение интеллекта от воли, которое в полном виде происходит у гения, но только в виде исключения. Вот почему гениальность и можно определить как высшую степень объективности познания. Столь редко встречающееся условие гениальности — это значительно большая мера интеллекта по сравнению с той, которая требуется для служения образующей ее основу воле; следовательно, только этот освобождающийся избыток и есть то, что действительно познает мир, т. е. постигает его вполне объективно, и сообразно с этим предается творчеству, художественному вымыслу и размышлению.
Глава 23*
Об объективации воли в лишенной познания природе
Понять то, что воля, которую мы находим внутри себя, не вытекает из познания, как это утверждала вся предшествующая философия, и не является простой модификацией последнего, т. е. чем-то вторичным, производным и, как само познание, обусловленным мозгом, что она, наоборот, есть prius познания, ядро нашего существа и та самая исконная сила, которая творит и сохраняет животное тело, осуществляя как бессознательные, так и сознательные функции последнего, — вот первый шаг к познанию основы моей метафизики. До сих пор многим кажется парадоксом то, что воля в себе есть нечто лишенное познания, тем не менее уже схоласты видели это и понимали; так, чрезвычайно сведущий в их философии Юлий Цезарь Ванини (эта знаменитая жертва фанатизма и ярости попов) в своем «Amphitheatro», p. 181 говорит: «Voluntas potentia coeca est, ex scholasticorum opinione»**. И далее, понять то, что та же воля распускает в растении почку, для того чтобы образовать из нее лист и цветок; что правильная форма кристалла — только застывший след ее мгновенного порыва, что она вообще — истинное и единственное αὐτόματον*** в подлинном смысле этого слова, что она лежит в основе и всех сил неорганической природы, играет и творит во всех ее многообразных проявлениях, придает силу ее законам и даже в самом грубом веществе позволяет познать себя как тяжесть; понять это — значит сделать второй шаг к пониманию основы моей философии, шаг, опосредованный дальнейшей рефлексией. Но самым грубым из всех недоразумений было бы думать, что здесь речь идет только о слове для обозначения неизвестной величины: напротив, мы говорим, быть может, о реальнейшем из всех реальных знаний, которое в данном случае
244
выражает язык. Ибо то совершенно недоступное нашему непосредственному познанию и потому, в сущности, чуждое нам и неизвестное, что мы обозначаем словами сила природы, мы сводим к тому, что известно нам самым точным и самым близким образом, но что непосредственно доступно нам только в нашем собственном существе и поэтому с него должно быть перенесено на другие явления. Согласиться с моим взглядом — это значит понять, что внутреннее и изначальное во всех, даже самых разнородных изменениях и движениях тел по своей сущности тождественно; но что мы имеем при этом только одну возможность познать его ближе, непосредственно, а именно в движениях нашего собственного тела, и поэтому мы должны назвать его волей. Согласиться с моим взглядом — это значит понять, что когда та сила, которая действует в природе, представая в явлениях, все более и более совершенных, поднимается на такую высоту, где на нее непосредственно падает свет познания, т. е. где она сознает саму себя, она оказывается волей, тем, что нам известно лучше всего и потому ничем не может быть объяснено, само дает объяснение всему остальному. Она, таким образом, вещь в себе, насколько вообще последняя может быть открыта познанием. Следовательно, она — то, что так или иначе должно обнаруживаться в каждой вещи в мире, ибо она — сущность мира и ядро всех явлений.
Так как мое сочинение «О воле в природе» специально посвящено предмету этой главы и, кроме того, в ней приведены свидетельства непредвзятых эмпириков в пользу этого главного пункта моего учения, то мне остается только сделать здесь еще несколько дополнительных замечаний к сказанному там, замечаний, которые поэтому будут носить несколько фрагментарный характер.
Итак, прежде всего по отношению к жизни растений я хочу обратить внимание на две замечательные первые главы трактата Аристотеля о растениях. Самое интересное в них — это, как часто бывает у Аристотеля, приводимые им мнения более ранних и более глубокомысленных философов. Мы узнаем, что Анаксагор и Эмпедокл совершенно правильно учили, что движение роста растений совершается в силу присущего им вожделения (ἐπιϑυμία) и что эти философы приписывали им также радость и боль, т. е. ощущения; а Платон признавал за ними только вожделение, причем именно из-за их сильного влечения к питанию (ср. «Тимей», с. 403, Bip.). Аристотель же, верный своему обычному методу, скользит по поверхности вещей, руководствуется отдельными признаками и, придерживаясь понятий, закрепленных ходячими выражениями, утверждает, что без ощущения не может быть и вожделения, а ощущением-де растения не обладают; но как явствует из путаницы его высказываний, он сам находится в серьезном затруднении, пока, наконец, и здесь не вступает в силу известное правило: «Коль скоро недочет в понятиях случится, их можно словом ловко заменить»20, — именно словом ϑρεπτικόν, способность питания, — ее, дескать, растения имеют, т. е. имеют часть так называемой души, в соответствии с его излюбленной классификаций: anima vegetativa, sensitiva et intellectiva*. Но ведь это не
245
что иное, как схоластическая quidditas*[218], и означает: «plantae nutriuntur, quia habent facultatem nutritivam»**; таким образом, перед нами здесь дурная замена того более глубокого исследования, которое Аристотель критикует у своих предшественников. Мы видим далее, во второй главе аристотелевского трактата, что Эмпедокл признавал за растениями даже сексуальность[219]; это Аристотель тоже критикует, скрывая за общими принципами скудость своих фактических сведений, — за такими принципами, как, например, то, что растения не могут иметь оба пола одновременно, потому что в таком случае они были бы совершеннее, чем животные.
При помощи совершенно аналогичного приема он вытеснил правильную астрономическую систему мира, принадлежавшую пифагорейцам, и своими нелепыми принципами, которые он изложил особенно в книгах «De coelo»***, дал повод для системы Птолемея, вследствие чего человечество снова лишилось почти на 2000 лет уже найденной истины величайшего значения.
Не могу отказать себе в удовольствии привести мнение одного замечательного биолога нашей эпохи, которое вполне совпадает с нашей теорией. Г. Р. Тревиранус в своей книге «Статьи с разъяснением явлений и законов органической жизни», 1832, т. 2, ч. I, с. 49, говорит следующее: «Но можно представить себе такую форму жизни, при которой действие внешнего на внутреннее вызывает одни только чувства удовольствия и неудовольствия, а как их следствие — вожделения. Такой формой является жизнь растений. В более высоких формах животной жизни внешнее ощущается как нечто объективное». Устами Тревирануса здесь говорит чистое и непредубежденное понимание природы; и он так же мало осознает метафизическую важность своего высказывания, как и то contradictio in adjecto****, которое заключается в понятии «нечто, ощущаемое как объективное», — он даже пространно разъясняет это понятие. Он не знает, что всякое ощущение по существу своему субъективно, а все объективное есть созерцание, т. е. продукт рассудка. Но все это нисколько не умаляет истинности и важности его высказывания.
В самом деле, та истина, что воля может существовать и без познания, становится очевидной и, можно сказать, осязаемой при взгляде на жизнь растений. Ибо здесь перед нами ярко выраженное стремление, определяемое потребностями, подверженное многообразным модификациям и приспосабливающееся к многообразию обстоятельств, но всему этому познание явно не сопутствует. И именно потому, что растение лишено познания, оно, с полной невинностью, гордо выставляет напоказ свои половые органы: оно ничего об этом не знает. Но как только в ряду существ появляется познание, эти органы переносятся в сокровенное место. Человек же, у которого это проявляется в меньшей мере, прячет их намеренно, он стыдится своих половых органов.
Прежде всего, таким образом, тождественна с волей жизненная сила, но и все другие силы природы тождественны с ней, хотя это и менее
246
очевидно. Если поэтому во все времена мы встречаем более или менее отчетливое признание того, что в основе растительной жизни лежит некоторое вожделение, т. е. некоторая воля, то, наоборот, сведение сил неорганической природы к той же основе встречается настолько же реже, насколько большей является отдаленность последних от нашего собственного существа.
Действительно, граница между органическим и неорганическим — самая четкая во всей природе и, быть может, единственная, которая не допускает переходов, так что здесь мы, по-видимому, встречаемся с исключением из закона «natura non facit saltus»*. Если некоторые кристаллы по внешнему виду и сходны с растениями, то все-таки между самым ничтожным лишаем, между самой жалкой плесенью и всем неорганическим сохраняется коренная, существенная разница. В неорганическом теле существенное и постоянное, то, на чем основано его тождество и цельность, — это вещество, материя; несущественное же и изменчивое в нем, — это форма. В органическом же теле как раз наоборот: именно в постоянной смене вещества при устойчивости формы заключается его жизнь, т. е. его существование как органического. Его сущность и его тождество состоят, таким образом, исключительно в его форме. Поэтому сохранность неорганического тела зависит от покоя и замкнутости от внешних влияний; только при этих условиях оно может существовать, и если они соблюдены полностью, то подобное тело будет существовать бесконечно. Существование же и сохранность органического тела, наоборот, зависят от беспрерывного движения и постоянного восприятия внешних влияний: как только последние иссякают и движение в теле останавливается, оно умирает и тем самым перестает быть органическим, хотя следы прежнего организма некоторое время еще удерживаются в нем. Вот почему столь излюбленные в наше время толки о том, что все неорганическое и даже земной шар одарены жизнью и что последний, как и планетная система, является организмом, — подобные толки совершенно несостоятельны. Только органическому подобает предикат жизни. Всякий же организм органичен целиком и полностью, он таков во всех своих частях и нигде эти части, даже в своих мельчайших атомах, не представляют собой агрегата неорганических элементов. Следовательно, если бы Земля была организмом, то все горы и скалы и все внутренние части ее массы должны были бы представлять собой организм, и таким образом, собственно, не существовало бы ничего неорганического, так что само понятие о нем должно было бы исчезнуть.
Но то, что проявление всякой воли столь же независимо от жизни и организации, как и от познания, и что, следовательно, неорганическое имеет тоже волю, обнаружения которой составляют все его необъяснимые далее основные свойства, — в этом заключается существенный пункт моего учения, хотя следы такой мысли у моих предшественников можно найти гораздо реже, чем следы мысли о воле у растений, в которых воля, однако, тоже еще не сопровождается познанием.
В образовании кристалла мы видим еще только как бы стремление и попытку жить, но до этого, однако, дело не доходит, ибо жидкость, из
247
которой он, подобно живому существу, состоит в момент такого движения, не заключена в кожу, как это всегда бывает у живых существ, и он поэтому не имеет ни сосудов, в которых это движение могло бы продолжаться, ни чего-либо другого, что отделяло бы его от внешнего мира. Вот почему отвердевание сразу же останавливает то моментальное движение, от которого остается лишь след в виде кристалла.
И в основе «Избирательного сродства» Гете лежит, как показывает само заглавие, хотя и бессознательно для автора, та мысль, что воля, составляющая базис нашего существа, есть та самая воля, которая проявляется уже в низших, неорганических явлениях, — так что закономерность обоих явлений обнаруживает полную аналогию.
Механика и астрономия показывают нам, в сущности, как ведет себя эта воля, — поскольку она, на низшей ступени своего проявления, выступает лишь в качестве тяжести, жесткости и инерции. Гидравлика показывает нам то же самое в той сфере, где жесткость отпадает, и вещество, ставшее текучим, необузданно предается своей преобладающей страсти — тяжести. В этом смысле гидравлику можно считать описанием характера воды, ибо она показывает нам те обнаружения воли, к которым вода побуждается тяжестью: так как у всех неиндивидуальных существ нет, наряду с родовым характером, еще и характера частного, то эти обнаружения воли всегда точно соответствуют внешним влияниям, и поэтому, подмеченные в наблюдении за водой, они легко могут быть сведены к устойчивым основным чертам, именуемым законами, которые точно указывают, как вода, благодаря своей тяжести, при безусловной подвижности своих частей и отсутствии эластичности, будет вести себя во всех разнообразных обстоятельствах. Как вода тяжестью приводится к состоянию покоя, об этом учит гидростатика; как вода приводится в движение, об этом учит гидродинамика, которая при этом должна принимать во внимание те препятствия, которые воле воды ставит сила притяжения частиц; обе дисциплины вместе образуют гидравлику.
Точно так же химия учит нас, как ведет себя воля, когда внутренние свойства веществ, приведенных в состояние текучести, получают благодаря этому свободу проявления, и как начинается это поразительное тяготение и отталкивание, соединение и разъединение, удаление от одного, чтобы захватить другое (о чем свидетельствует любой химический осадок); и все это мы называем избирательным сродством21, — выражение, всецело заимствованное их сферы сознательной воли.
Анатомия же и физиология показывают нам, как ведет себя воля, для того чтобы произвести и на некоторое время сохранить феномен жизни.
Поэт, наконец, показывает нам, как ведет себя воля под влиянием мотивов и рефлексий. Поэтому он рисует ее по большей части в самом совершенном из ее проявлений — в разумных существах, которые обладают индивидуальным характером; их действия и страдания он показывает нам в форме драмы, эпоса, романа и т. д. Чем более правильными и естественными удаются ему эти характеры, тем больше его слава; вот почему выше всех поэтов Шекспир. Изложенная здесь точка зрения по существу своему соответствует тому духу, в котором занимался естественными науками Гете и за который он их любил, хотя in
248
abstracto он и не сознавал этого. Мне это известно не столько из его сочинений, сколько из его личных бесед со мною.
Рассматривая волю там, где никто не отрицает ее присутствия,
т. е. в познающих существах, мы повсюду обнаруживаем, в качестве основного
ее устремления, стремление каждого существа к самосохранению; «
В неорганической природе воля прежде всего объективируется в общих силах и лишь через их посредство — в феноменах отдельных вещей, феноменах, вызываемых причинами. Отношение между причиной, силой природы и волей, как вещью в себе, я в достаточной мере прояснил в § 26 первого тома. Из сказанного там явствует, что метафизика никогда не встает поперек пути физике, но только подхватывает нить там, где физика ее выпускает, а именно в пункте объяснения изначальных сил, где всякое причинное объяснение находит свою границу. Лишь здесь начинается метафизическое объяснение, исходящее из воли как вещи в себе. Во всяком физическом феномене, во всяком изменении материальных вещей необходимо прежде всего указать его причину, которая представляет собой столь же частичное, непосредственно предшествующее ему изменение; затем следует найти ту изначальную силу природы, благодаря которой данная причина способна была оказать свое действие; и только потом следует познавать волю как внутреннюю сущность этой силы, в противоположность ее проявлению. Но она столь же непосредственно
249
проявляется в падении камня, как и в действии человека: разница только в том, что отдельное ее проявление во втором случае вызывается мотивом, а в первом — механически действующей причиной, например удалением опоры из-под камня; в обоих случаях это проявление одинаково необходимо, но только во втором оно опирается на индивидуальный характер, а в первом — на общую силу природы. Эту тождественность существенных черт можно подметить даже с помощью чувств. Например, присмотритесь внимательно к выведенному из равновесия телу, которое благодаря особенностям своей формы долго качается туда и сюда, пока не найдет свой центр тяжести: вы невольно увидите перед собой некий проблеск жизни и непосредственно почувствуете, что и здесь действует нечто, аналогичное основе жизни. Это, конечно, общая сила природы, которая, однако, сама по себе, будучи тождественной с волей, в данном случае становится как бы душой очень короткой квазижизни. Таким образом, то, что тождественно в двух крайних точках явления жизни, здесь слегка открывается даже непосредственному созерцанию и вызывает в нас такое чувство, что и в данном случае непосредственно проявляется нечто совершенно изначальное, познаваемое нами только в актах нашей собственной воли.
Совершенно иным и замечательным образом можно достичь интуитивного познания того, как существует и действует воля в неорганической природе, если углубиться в проблему трех тел и, следовательно, более подробным и специальным образом изучить движение Луны вокруг Земли. Вследствие различных комбинаций, которые влечет за собой постоянное изменение взаимного расположения этих трех мировых тел, движение Луны то ускоряется, то замедляется, и она приближается к Земле то больше, то меньше, причем в перигелии Земли это, в свою очередь, происходит иначе, нежели в ее афелии: все это вместе вызывает в движении Луны такую неравномерность, что оно действительно представляется каким-то капризом и даже третий закон Кеплера теряет здесь свою неизменную силу, так как Луна за одинаковые промежутки времени описывает неодинаковые площади. Анализ этого движения составляет малую и законченную главу небесной механики, которая от механики земной возвышенно отличается отсутствием всякого толчка и давления, т. е. кажущейся нам столь понятной vis a ter go*, а равно и отсутствием действительного падения: небесная механика не знает, кроме vis inertiae**, иной движущей и направляющей силы, кроме тяготения, этого появляющегося из собственной глубины тел стремления к соединению. Если в этом данном случае наглядно представить себе во всех подробностях действие этих тел, то мы явно и непосредственно узнаем в движущей здесь силе именно то, что в самосознании дано нам как воля. Ибо перемены в движении Земли и Луны, обусловленные тем, что какая-нибудь одна из них благодаря своему положению то в большей, то в меньшей степени подвергается влиянию Солнца, — эти перемены имеют явную аналогию с тем влиянием, которое вновь появляющиеся мотивы оказывают на нашу волю, и с теми модификациями нашего поведения, которые возникают в результате этого влияния.
250
Пояснительным примером иного рода может служить здесь следующее. Либих («Химия в применении к земледелию», с. 501) говорит: «Если влажную медь вынести на воздух, который содержит в себе угольную кислоту, то в силу контакта с этой кислотой сродство металла с кислородом воздуха увеличивается до такой степени, что они соединяются друг с другом, и поверхность меди покрывается зеленой, углекислой медной окисью. Между тем два тела, способные соединяться в тот момент, когда они соприкасаются между собой, принимают противоположные заряды электричества. Поэтому если привести медь в соприкосновение с железом, то вследствие возбуждения особого заряда электричества способность меди вступать в соединение с кислородом исчезает, и медь даже при описанных выше условиях остается чистой». Это явление известное, и оно важно в технике. Я напоминаю о нем дня того, чтобы сказать, что воля меди, отвлеченная и занятая электрической противоположностью к железу, упускает здесь представляющийся ей случай проявить свое химическое сродство с кислородом и угольной кислотой. Она, следовательно, действует здесь точно так же, как и воля в таком человеке, который отказывается от некоторого поступка, который он был бы склонен совершить в иных условиях, для того чтобы совершить другой поступок, к которому его побуждает более сильный мотив.
В первом томе я показал, что силы природы лежат вне цепи причин и действий, так как они-то и составляют непременное условие и метафизическую основу последних, и что они поэтому вечны и вездесущи, т. е. независимы от времени и пространства. Даже в той неоспоримой истине, что сущность всякой причины как таковой заключается в том, что она и во все будущие времена будет производить такое же действие, как и теперь, — ив этой истине уже содержится мысль, что в причине есть нечто независимое от течения времени, нечто, находящееся вне всякого времени, а это нечто и есть раскрывающаяся в причине сила природы. Имея в виду бессилие времени в противоположность силам природы, можно до известной степени даже эмпирическим и фактическим путем убедиться в чистой идеальности этой формы нашего созерцания. Если, например, та или другая планета какой-нибудь внешней причиной приведена во вращательное движение, то оно будет длиться бесконечно, если только его не прекратит какая-нибудь другая, новая причина. Этого не могло бы быть, если бы время было чем-то самостоятельным и имело бы объективное, реальное существование: в таком случае и оно должно было бы оказывать некоторое влияние на весь этот процесс. Итак, мы видим здесь, с одной стороны, силы природы, которые раскрываются в этом вращательном движении, и если оно однажды было начато, то они продолжают его без конца, сами не ведая ни утомления, ни смерти, — вечные или вневременные и, следовательно, безусловно реальные и существующие в себе; а с другой стороны, мы видим время как нечто, заключающееся только в том способе, каким мы воспринимаем указанное явление, потому что над самим этим явлением время не имеет никакой власти и не влияет на него, ибо что не действует, то и не существует. Мы имеем естественную склонность всякое явление природы объяснять по возможности механически; несомненно, это так, пото-
251
му, что механика опирается на
наименьшее количество изначальных и потому необъяснимых сил, а с другой
стороны, заключает в себе много такого, что познается a priori, т. е. покоится
на формах нашего интеллекта и как таковое влечет за собой высшую степень
ясности и понятности. Впрочем, Кант в своих «Метафизических основах
естествознания» свел саму механическую действенность к динамической. Но применение
гипотезы механического объяснения к тому, что лежит за пределами бесспорно механического,
к чему относится уже, например, акустика, — совершенно неоправданно, и я ни за
что не поверю, что когда-нибудь можно будет объяснить механически хотя бы самое
простое химическое соединение или даже различие трех агрегатных состояний, не
говоря уже о свойствах света, теплоты и электричества. Последние всегда будут доступны
только динамическому объяснению, т. е. такому, которое выводит явления из
первоначальных сил, совершенно отличных от сил толчка, давления, тяжести и т.
д. и, таким образом, представляющих собой силы высшего порядка, т. е.
более отчетливые объективации той воли, которая обнаруживается во всех вещах
мира. Я придерживаюсь того взгляда, что свет не есть ни эманация, ни вибрация;
обе эти гипотезы сродни той, которая прозрачность объясняет порами и
очевидная несостоятельность которой служит доказательством того, что свет не
подчиняется механическим законам. Для того чтобы самым непосредственным образом
убедиться в этом, надо только посмотреть на следующую картину: ураган все гнет,
опрокидывает и рассеивает на своем пути, а солнечный луч, прорвав завесу
облаков, более незыблемо и мощно, чем скала, покоится среди этого смятения;
недвижимо стоит он, словно призрак, и самой своей мощью совершенно непосредственно
свидетельствует нам о своей принадлежности к иному миропорядку, нежели
механический. Что же касается конструирования света из молекул и атомов, то эти
попытки, исходящие от французов, представляют собой возмутительную нелепость.
Кричащим выражением последней, как и нелепости всей атомистики вообще, является
помещенная в апрельской книге «
252
ные замки. Это является результатом того, что они в своем стремлении избежать метафизики очень отстали в ней, и она скверно представлена у них г. Кузеном, который, при всех своих добрых намерениях, поверхностен и весьма скудно одарен способностью суждения. Недавно испытав влияние Кондильяка, французы до сих пор, в сущности, остаются еще последователями Локка. Вот почему вещь в себе — это для них, собственно говоря, материя, основными свойствами которой — непроницаемостью, формой, плотностью и иными primary qualities* в конечном счете объясняется все в мире: прямо они этого не говорят, но исходят из молчаливо допускаемой предпосылки, что материя может быть приводима в движение только механическими силами. В Германии учение Канта надолго устранило нелепости атомистики и полностью механической физики; правда, в настоящий момент эти взгляды начинают свирепствовать и у нас — результат введенных Гегелем поверхностности, грубости и невежества!.. Между тем нельзя отрицать и того, что не только очевидное существование свойства пористости физических тел, но и два особых учения новой физики содействовали, по-видимому, торжеству атомистической нелепости: во-первых, кристаллография Гаюи, сводящая всякий кристалл к его основной форме, которая представляет собой нечто последнее, но лишь относительно неделимое; во-вторых, учение Берцелиуса о химических атомах, которые, впрочем, являются простыми выражениями химических соотношений, т. е. чисто арифметическими величинами, и в сущности представляют собой не что иное, как простые жетоны для счета. Что же касается тезиса второй кантовской антиномии, защищающего атомы, хотя и выдвинутого лишь в диалектических целях, то он, как я показал в своей критике философии Канта, представляет собой чистый софизм, и наш рассудок сам по себе отнюдь не ведет нас с неизбежностью к допущению атомов. В самом деле: точно так же, как я не должен происходящее на моих глазах медленное, но постоянное и равномерное движение тела мыслить как состоящее из бесчисленных, абсолютно быстрых, но все-таки раздельных движений, прерываемых таким же количеством абсолютно коротких моментов покоя, но наоборот, я хорошо знаю, что хотя брошенный камень летит медленнее, чем выпущенная из ружья пуля, но при этом на своем пути не останавливается ни на мгновение, точно так же я не должен представлять себе массу какого-нибудь тела состоящей из атомов и промежутков между ними, т. е. из абсолютно плотного и абсолютно пустого: нет, оба эти явления (движение и массу тела) я без всякого труда воспринимаю как постоянные continua**, одна из которых равномерно наполняет время, а другая — пространство. И как при этом одно движение может быть все-таки быстрее другого, т. е. за одинаковое время пробегать большее пространство, так и одно тело может иметь больший удельный вес, т. е. в одинаковом пространстве заключать больше материи; разница в обоих случаях зависит, таким образом, от интенсивности действующей силы, ибо Кант (следуя Пристли) совершенно правильно свел материю к силам. Но даже если и не принимать
253
указанной здесь аналогии и упорно настаивать на том, что разница удельного веса всегда может иметь свое основание только в пористости тел, то ведь и эта гипотеза вовсе еще не приводит к теории атомов, а только склоняет нас к допущению совершенно плотной и неравномерно распределенной в различных телах материи, которая поэтому там, где ее уже не разделяли бы никакие поры, хотя и не поддавалась бы дальнейшему сжатию, но все-таки оставалась бы, как и наполняемое ею пространство, до бесконечности делимой, ибо из того обстоятельства, что она была бы лишена пор, вовсе еще не следовало бы, что ни одна возможная сила не в состоянии устранить непрерывность ее пространственных частей. Ибо утверждать, что такое устранение вообще возможно только путем расширения уже существующих пространственных промежутков, было бы совершенно произвольно.
Атомистика основывается именно на указанных двух феноменах, т. е. на различии удельных весов тел и на различии их сжимаемости; и то и другое легко объясняется этой гипотезой. Но в таком случае оба эти явления должны были бы всегда присутствовать в равной мере, между тем это далеко не так. В самом деле, вода, например, имеет гораздо меньший удельный вес, чем все металлы в собственном смысле, следовательно, она должна была бы иметь меньше атомов и больше пустых промежутков и таким образом она должна была бы быть очень сжимаемой, между тем она почти совершенно несжимаема.
Защита атомистики могла бы быть успешной, если бы ее сторонники, исходя из факта пористости тел, рассуждали приблизительно следующим образом: все тела имеют поры, значит, их имеют и все части какого-нибудь тела; если бы это продолжалось до бесконечности, то в конце концов от тела не осталось бы ничего, кроме пор. Опровержение было бы следующим: действительно, остаток надо мыслить не имеющим пор и, следовательно, абсолютно плотным; но это еще не значит, что он состоит из абсолютно неделимых частиц, атомов; остаток должен быть абсолютно несжимаемым, но не абсолютно неделимым, — полагать иное значило бы утверждать, что делить какое-нибудь тело можно только посредством проникновения в его поры, а это совершенно не доказано. Если же все-таки допустить это, то мы хотя и получим атомы, т. е. абсолютно неделимые тела, или тела с таким плотным сцеплением их пространственных частей, что никакая сила не в состоянии будет их разделить, но в таком случае подобные тела можно признавать как большими, так и малыми, и атом мог бы оказаться величиною с быка, если бы только он был способен противостоять любому возможному натиску.
Если представить себе два совершенно разнородных тела, полностью лишенных всех пор давлением, например молотками и пульверизацией, то был бы одинаковым их удельный вес? Вот что было бы критерием динамики.
254
О материи
Нам приходилось уже говорить о материи в дополнениях к первому тому, в четвертой главе, при анализе a priori осознаваемой нами части нашего познания. Но тогда мы могли рассмотреть ее лишь с одной точки зрения, потому что имели в виду только ее отношение к формам интеллекта, а не к вещи в себе; поэтому мы исследовали ее лишь с субъективной стороны, т. е. в той мере, в какой она есть наше представление, и не касались ее объективной стороны, т. е. того, что она есть сама по себе. При рассмотрении этой первой стороны дела мы пришли к выводу, что она — объективно воспринимаемая, однако не определяемая более точно деятельность вообще; поэтому в приложенной к указанной главе таблице наших априорных знаний она занимает место причинности. Ибо материальное — это действующее (действительное) вообще и независимо от специфического рода действия. Именно поэтому материя, только как таковая, является предметом не созерцания, а только мышления, и, таким образом, есть, собственно говоря, абстракция: в созерцании же она появляется только в связи с формой и свойствами, как тело, т. е. как совершенно определенный род действования. Только благодаря тому, что мы абстрагируемся от этого ближайшего определения, мы и можем мыслить материю как таковую, т. е. отдельно от формы и качества. Следовательно, под материей мы понимаем действование просто и вообще, т. е. действенность in abstracto. Точнее определенное действование мы мыслим как акциденцию материи: но лишь благодаря этому материя становится созерцаемой, т. е. предстает в качестве тела и объекта опыта. Что же касается чистой материи, которая, как я показал в своей «Критике кантовской философии», только и составляет действительное и законное содержание понятия субстанции, то это сама причинность, мыслимая объективно, т. е. как существующая в пространстве и поэтому наполняющая его. Таким образом, вся сущность материи заключается в действовании; только посредством него она наполняет пространство и пребывает во времени; она целиком и полностью — чистая причинность. Поэтому там, где происходит действие, есть и материя, и материальное — это действующее вообще. Но сама причинность есть форма нашего рассудка, ибо она, как и пространство и время, осознается нами a priori. Следовательно, постольку и в этих пределах материя тоже относится к формальной части нашего познания и поэтому является связанной с пространством и временем, а следовательно, объективированной, т. е. воспринимаемой как нечто наполняющее пространство, формой рассудка, а именно самой причинностью. (Подробнее эта теория изложена во втором издании моего трактата «О законе основания», с. 77.) Но поэтому материя, собственно, — еще не предмет, а условие опыта, как и сам чистый рассудок, функцией которого она в этом смысле является. Вот почему чистая материя только постигается нами в понятии, но не созерцается; она входит непременным составным элементом во всякий внешний опыт, но ни в каком опыте не может быть дана; мы ее только мыслим — и мыслим
255
как нечто абсолютно косное, бездейственное, бесформенное, бескачественное, но в то же время служащее носителем всех форм, свойств и действий. Поэтому материя есть пребывающий субстрат всех преходящих явлений, т. е. всех обнаружений сил природы и всех живых существ, — субстрат, который неизбежно создают формы нашего интеллекта, в котором мир предстает перед нами как представление. Поскольку она есть такой субстрат и поскольку она возникла из форм интеллекта, материя к самим этим явлениям относится совершенно индифферентно, т. е. она одинаково готова быть носителем как той, так и другой силы природы, если только, согласно руководящей нити причинности, появились необходимые для этого условия, между тем как сама она, именно потому, что ее существование, собственно говоря, только формально, т. е. коренится в интеллекте, — сама она должна быть мыслима как нечто безусловно пребывающее и постоянное во всей этой смене, как нечто безначальное и бесконечное во времени. Этим и объясняется то, почему мы никак не можем отказаться от мысли, что все можно сделать из всего, например золото из свинца: ведь для этого нужно только найти и осуществить те промежуточные состояния, которые сама по себе безразличная материя должна пройти на указанном пути. A priori же никогда нельзя понять, почему та самая материя, которая теперь является носителем качества свинца, не может стать когда-нибудь носителем качества золота. От априорных созерцаний в собственном смысле материя, которая есть лишь нечто априорно мыслимое, отличается, правда, тем, что ее можно и совсем устранить из мысли, между тем как этого никогда нельзя сделать с пространством и временем; но это означает лишь то, что мы можем представлять себе пространство и время и без материи. Ибо коль скоро материя вошла уже в них и поэтому мыслится как наличное, мы уже совершенно не в состоянии устранить ее из своей мысли, т. е. представить себе ее как исчезнувшую и уничтоженную: нет, мы можем представлять ее себе только перенесенной в другие пространства; в этом отношении, следовательно, она столь же нераздельно связана с нашей познавательной способностью, как и сами пространство и время. Но то различие, что материю при этом надо предварительно мыслить каким-либо образом как существующую, указывает на то, что она не в такой безусловной и полной степени принадлежит к формальной части нашего познания, как пространство и время, но содержит в себе вместе с тем и некоторые элементы, данные лишь a posteriori. Она на деле — соединительное звено между эмпирической частью нашего познания и частью чистой и априорной, а тем самым — своеобразный краеугольный камень мира опыта.
Только там, где заканчиваются все высказывания a priori, т. е. в полностью эмпирической части нашего познания тел, следовательно, в сфере их форм, качеств и определенного способа действия, — только там раскрывается та воля, которую мы уже познали и определили как внутреннюю сущность вещей. Но эти формы и качества всегда проявляются лишь как свойства и обнаружения именно той материи, бытие и сущность которой основываются на субъективных формах нашего интеллекта, т. е. они становятся видимыми только в ней и поэтому через нее. Ибо все, что предстает перед нами, есть не что иное, как действую-
256
щая строго определенным образом материя. Из внутренних и далее необъяснимых свойств такой материи вытекают все определенные способы действия данных тел; и все-таки сама материя никогда не воспринимается нами, а воспринимаются только те действия и лежащие в их основе определенные свойства, после выделения которых нами неизбежно примысливается материя как некий остаток; ибо, согласно приведенным выше соображениям, она есть сама объективированная причинность. Вследствие этого материя есть то, посредством чего воля, которая составляет внутреннюю сущность вещей, становится воспринимаемой, делается наглядной, видимой. В этом смысле материя — простая видимость воли, или связь между миром как волей и миром как представлением. К миру как представлению она относится постольку, поскольку она является продуктом функций интеллекта; к миру как воле она относится постольку, поскольку то, что раскрывается во всех материальных сущностях, т. е. явлениях, есть воля. Поэтому всякий объект как вещь в себе есть воля, а как явление — материя. Если бы мы могли лишить данную нам материю a priori присущих ей свойств, т. е. всех форм нашего созерцания и схватывания, то у нас осталась бы вещь в себе — именно то, что посредством этих форм выступает в материи как чисто эмпирическое; но и материя тогда не являлась бы уже в качестве чего-то протяженного и действующего, другими словами, мы имели бы тогда перед собой уже не материю, а волю. Именно эта вещь в себе, или воля, становясь явлением, т. е. облекаясь в формы нашего интеллекта, представляется нам как материя, т. е. как невидимый сам по себе, но необходимо предполагаемый носитель свойств, которые только через него и становятся видимы; в этом смысле материя — видимость воли. Вот почему Плотин и Джордано Бруно были правы не только в своем, но и в нашем смысле, когда они, как я уже упомянул в 4-й главе, высказывали парадоксальные утверждения, что материя сама непротяженна и, следовательно, бестелесна. Ибо протяженность дается материи пространством, а оно — форма нашего созерцания; телесность же состоит в действовании, которое основывается на причинности, т. е. опять-таки на форме нашего рассудка. Всякое же определенное свойство, т. е. все эмпирическое в материи и даже сама тяжесть, основывается на том, что становится видимым только через посредство материи — на вещи в себе, воле. Тяжесть, однако, есть самая низшая ступень объективации воли; поэтому она проявляется в любой материи без исключения, следовательно, неотделима от материи вообще. Но именно потому, что она уже есть обнаружение воли, она относится к познанию апостериорному, а не априорному. Поэтому материю без тяжести мы еще, в крайнем случае, можем себе представить; но нельзя себе представить материи без протяженности, без силы отталкивания и без устойчивости, ибо в таком случае она не была бы непроницаема, следовательно, не наполняла бы пространства и не имела бы действенности; между тем именно в действовании, т. е. в причинности вообще, заключается сущность материи как таковой, а причинность основывается на априорной форме нашего рассудка и поэтому ее нельзя устранить из мысли. Материя, таким образом, — это сама воля, но уже не сама по себе, а лишь поскольку она созерцается, т. е. принимает форму объективного
257
представления; следовательно, то, что объективно есть материя, субъективно есть воля. В полном соответствии с этим находится то, что, как показано выше, наше тело — это объектность воли на той или другой из ее ступеней. Как только воля предстает перед объективным познанием, она облекается в интуитивные формы интеллекта — время, пространство и причинность; но в этих формах она тотчас же предстает как некоторый материальный объект. Мы можем представить себе форму без материи, но не наоборот, ибо материя, лишенная формы, была бы самой волей, а последняя становится объективной только благодаря тому, что приспосабливается к способу созерцания нашего интеллекта, следовательно, принимает известную форму. Пространство — это форма созерцания материи, потому что оно является содержимым чистой формы, а материя может являться только в известной форме.
Поскольку воля становится объективной, т. е. переходит в представление, материя являет собою общий субстрат этой объективации, или, скорее, саму объективацию, взятую in abstracto, т. е. независимо от всякой формы. Материя, следовательно, — это видимость воли вообще, тогда как характер ее определенных явлений находит свое выражение в известной форме и качестве. Поэтому то, что в явлении, т. е. для представления, — материя, то само по себе — воля. Поэтому к ней в условиях опыта и созерцания применимо все то, что применимо к воле самой по себе, и все отношения и свойства воли материя воспроизводит во временном образе. Соответственно она — вещество созерцаемого мира, как воля — сущность в себе всех вещей. Образы бесчисленны, материя едина, подобно тому как и воля едина во всех своих объективациях. Подобно тому как последняя никогда не объективируется как нечто общее, т. е. как воля вообще, а всегда объективируется как нечто отдельное и особенное, т. е. в особых условиях и с определенным характером, так и материя никогда не является просто как таковая, а всегда в связи с той или иной формой и качеством. В явлении, или объективации воли, она репрезентирует волю в ее цельности, ее саму, которая во всем едина, как едина материя во всех телах. Подобно тому как воля — сокровеннейшее ядро всех являющихся существ, так материя — субстанция, которая остается и пребывает по устранении всех акциденций. Так же, как воля есть то, что безусловно неразрушимо во всем существующем, так материя есть то, что не преходит[220] во времени и остается неизменным при всех изменениях. То, что материя сама по себе, т. е. отдельно от формы, не может быть предметом созерцания или представления, объясняется следующим: сама по себе и как чисто субстанциальное начало физических тел она есть, собственно говоря, сама воля; последняя же не может быть объективно воспринимаема или созерцаема сама по себе, но лишь при совокупности известных условий представления, т. е. исключительно как явление; а в этих условиях воля тотчас же предстает перед нами в виде физического тела, т. е. как материя, облеченная в формы и свойства. Форма же обусловлена пространством, а свойства, или действенность, — - причинностью: и форма, и свойства, таким образом, основаны на функциях интеллекта. Материя без них была бы самой вещью в себе, т. е. самой волей. Только поэтому, как я сказал, Плотин и Джордано Бруно и могли совершенно объективным
258
путем прийти к высказыванию, что материя в себе для себя непротяженна, следовательно, непространственна, следовательно, бестелесна.
Поскольку материя, таким образом, есть видимость воли, а каждая сила сама по себе есть воля, ни одна сила не может проявиться без материального субстрата, и наоборот, ни одно тело не может существовать без присущих ему сил, которые и образуют его свойства. Вот почему всякое тело и есть соединение материи и формы, которое называется веществом. Сила и вещество неразделимы, потому что в основе они едины; ведь и сама материя, как показал Кант, дана нам только в виде союза двух сил — расширения и притяжения. Между силой и веществом нет, следовательно, противоположности: наоборот, они абсолютно едины.
Приведенные ходом нашего рассуждения к этой точке зрения и к метафизическому взгляду на материю, мы без всяких колебаний признаем, что нельзя осмысленно искать временное происхождение форм, образов или видов где-нибудь еще, кроме материи. Именно из нее они должны были некогда вырваться, так как материя — простая видимость воли, которая составляет сущность в себе всех явлений. Когда воля становится явлением, т. е. объективно представляется интеллектом, тогда материя, как ее видимость, облекается, посредством функций интеллекта, в определенную форму. Поэтому схоласты говорили: «materia appetit formam»*. Нельзя сомневаться в том, что происхождение всех видов живых существ было именно таким: иным его никак невозможно представить. Но происходит ли и теперь еще, когда пути к воспроизведению уже существующих видов открыты и с безграничной заботливостью и усердием поддерживаются и охраняются природой, происходит ли и теперь еще generatio aequivoca**, это можно решить только на основе опыта, тем более что веским аргументом против нее является закон «natura nihil facit frustra»*** и указание на способы нормального размножения. И все-таки, невзирая на новейшие возражения, я считаю generatio aequivoca на очень низких ступенях в высшей степени вероятной, и прежде всего у внутренних и накожных паразитов, в особенности у таких, которые появляются в результате особого истощения животных организмов. Я думаю так потому, что условия, благоприятные для жизни этих существ, встречаются лишь в виде исключения; следовательно, их порода не может размножаться нормальным путем и всегда должна возникать сызнова, когда представляется для этого удобный повод. Поэтому, как только в результате известных хронических болезней или худосочия наступают благоприятные для жизни паразитов условия — сами собой и без яйца возникают, в зависимости от характера этих условий, pediculus capitis, или pubis, или corporis****, каким бы сложным ни было строение этих насекомых; ибо гниение какого-нибудь живого животного тела дает материал и почву для более высоких порождений, чем гниение сена в воде, порождающее одних только инфузорий. Или предпочтительнее гипотеза, что и яйца паразитов посто-
259
янно носятся в воздухе, полные надежд на жизнь? (Страшно и подумать об этом!) Но вспомним о phtiriasis*, встречающемся еще и теперь.
Аналогичный случай замечается тогда, когда благодаря особым обстоятельствам
возникают такие условия, благоприятные для жизни определенного вида, которые до
тех пор были в данной местности неизвестны. Так, Огюст Сент-Илер в
Бразилии после пожара, уничтожившего девственный лес, едва охладел пепел, нашел
множество выросших из него растений такого вида, который раньше нигде
поблизости не находили. А в самое недавнее время адмирал Пти-Туар в «Academie
des scienes» сделал сообщение о том, что на вновь образующихся коралловых островах
в Полинезии в одном месте постепенно оседает почва, и она то бывает сухою, то
покрывается водой; так вот, лишь только она поднимается, ею сейчас же
овладевает растительная жизнь, производя деревья, которые составляют исключительное
достояние этих островов («C
Наше изумление при мысли о возникновении форм из материи аналогично, в сущности, изумлению дикаря, который в первый раз видит
260
зеркало и удивляется своему собственному образу, смотрящему на него оттуда. Ибо наша собственная сущность — это воля, чьей простой видимостью является материя, которая, однако, никогда не выступает иначе, как вместе с видимым, т. е. под оболочкой формы и свойств, и поэтому никогда не воспринимается непосредственно, а всегда только примысливается, как то, что во всех вещах при всем разнообразии свойств и форм есть одно и то же, как то, что именно и представляет собой их субстанциальное начало в подлинном смысле этого слова. Именно потому материя и есть скорее метафизический, чем чисто физический принцип объяснения вещей, и выводить из нее все сущности — это действительно значит объяснять их из очень таинственного начала; не согласится с этим взглядом лишь тот, кто смешивает ощупывание вещей с их пониманием. На самом деле материя ни в коем случае не есть последнее и исчерпывающее объяснение вещей; но ‹источник› происхождения во времени как неорганических форм, так и органических существ бесспорно нужно искать в материи. И все-таки, по-видимому, первоначальное созидание органических форм, произведение самих родов почти столь же трудно дается природе, сколь трудно нам это понять: на это указывает замечаемая повсюду чрезмерная заботливость ее о сохранении уже существующих родов. Однако на современной поверхности нашей планеты воля к жизни прошла шкалу своей объективации трижды и каждый раз совершенно независимо от другого, в разных модуляциях, но зато и с очень различными степенями совершенства и полноты. В самом деле: Старый Свет, Америка и Австралия имеют, как известно, свою особую, самобытную и совершенно отличную от двух других фауну. На каждом из этих трех великих материков виды животных совсем иные; но так как все эти три части принадлежат одной и той же планете, то они все-таки сохраняют между собой полную аналогию и обнаруживают параллельные черты, поэтому genera* их по большей части одни и те же. В Австралии эту аналогию можно проследить лишь очень неполно, ибо фауна этого материка весьма бедна млекопитающими и не имеет ни хищных животных, ни обезьян; напротив, между Старым Светом и Америкой аналогия очевидна, и притом так, что в области млекопитающих Америка всегда уступает первому, а в области птиц и пресмыкающихся сохраняет перед ним преимущество. Так, хотя у нее лучшие кондоры, попугаи, разнообразные колибри и большая часть лягушковых, но зато, например, вместо слона она имеет только тапира, вместо льва — пуму, вместо тигра — ягуара, вместо верблюда — ламу и вместо настоящих обезьян — только мартышек. Уже этот последний пробел заставляет думать, что в Америке природа не могла подняться до человека, ибо переход к человеку даже от ближайшей к нему ступени, от шимпанзе и орангутана или понго, еще безмерно велик. В соответствии с этим три человеческие расы, равноизначальность которых не подлежит сомнению как по физиологическим, так и по лингвистическим основаниям, — - кавказская, монгольская и эфиопская — существуют во всей чистоте только в Старом Свете; Америка же населена смешанными монгольскими племенами, которые
261
подверглись изменениям под влиянием климатических условий и которые, вероятно, перешли туда из Азии. На той земной поверхности, которая непосредственно предшествовала нынешней, природа местами поднималась уже до обезьяны, но до человека не дошла.
С этой точки зрения, к которой привел наш анализ и которая позволяет нам усматривать в материи непосредственную видимость проявляющейся во всех предметах воли и даже, если руководствоваться чисто физическим объяснением причинно-временного характера, признавать в ней начало вещей, — с этой точки зрения легко возникает вопрос, нельзя и в самой философии исходить как из объективной, так и из субъективной стороны и поэтому выдвигать в качестве фундаментальной истины такое положение: «Нет вообще ничего» кроме материи и присущих ей сил». Но легко сказать — «присущие силы»; необходимо, однако, вспомнить при этом, что допущение таких сил сводит всякое объяснение к совершенно непостижимому чуду, в которое это объяснение и упирается, с которого, собственно, оно и должно начинать: ведь несомненно, что таким чудом поистине является всякая определенная и необъяснимая сила природы, лежащая в основе разнородных действий какого-нибудь неорганического тела, таким чудом не в большей степени является и обнаруживающаяся в каждом органическом существе жизненная сила, как я это обстоятельно показал в 17-й главе, доказав, что физику никогда нельзя возводить на престол метафизики — именно потому, что она оставляет совершенно незатронутыми как упомянутое допущение, так и многие другие, и этим заранее отказывается дать конечное объяснение вещей. Далее, я должен напомнить здесь приведенное мною в конце 1-й главы доказательство недопустимости материализма, поскольку он, как я там выразился, является философией субъекта, который в своих расчетах забывает о самом себе. Все эти истины основываются на том, что все объективное, все внешнее, всегда будучи только воспринимаемым, познаваемым, всегда остается только косвенным и производным и поэтому вообще никогда не может стать последним основанием объяснения вещей, или исходным пунктом философии. Ибо она необходимо требует, чтобы ее исходным пунктом было нечто совершенно непосредственное, а таким непосредственным бесспорно является только то, что дано самосознанию, внутреннее, субъективное. Вот почему и надо считать выдающейся заслугой Картезия то, что он первым сделал исходным пунктом философии самосознание. По этому пути с тех пор и пошли истинные философы, особенно Локк, Беркли и Кант — каждый на свой лад, и шли они все дальше и дальше; благодаря их исследованиям я нашел в самосознании и использовал не один, а два совершенно различных вида данностей непосредственного познания — представление и волю, комбинированное применение которых позволяет философии продвинуться вперед в такой же мере, в какой при решении алгебраической задачи можно достигнуть большего успеха, если нам известны не одна, а две величины.
Таким образом, неизбежная ложь материализма состоит прежде всего в том, что он исходит из некоторого petitio principii*, которое при
262
ближайшем рассмотрении оказывается πρῶτον φεῦος*, а именно из предположения, что материя есть нечто прямо и безусловно данное, нечто, существующее независимо от познания субъекта, т. е., собственно говоря, некоторая вещь в себе. Материализм приписывает материи (а следовательно, и ее предпосылкам — времени и пространству) абсолютное, т. е. независимое от воспринимающего субъекта существование, и в этом его основная ошибка. Кроме того, если только он желает быть честным, он должен оставить необъясненными присущие данным материям, т. е. веществам, свойства, раскрывающиеся в последних силы природы и, наконец, жизненную силу, — как необъяснимые qualitates occultas** материи, и исходить должен из них; так в действительности и поступают физика и физиология, потому что они и не выражают притязаний на то, чтобы дать конечное объяснение вещей. Но именно дня того чтобы избежать этой необходимости, материализм, по крайней мере до сих пор, действует нечестно: он в сущности отвергает все эти изначальные силы, притворно и мнимо сводя их все, а в конце концов и жизненную силу, к чисто механической действенности материи, т. е. к проявлениям непроницаемости, формы, сцепления частиц, силы удара, инерции, тяжести и т. д., а в этих свойствах, конечно, меньше всего необъяснимого, потому что они отчасти основаны на чем-то a priori известном, т. е. на формах нашего собственного интеллекта, которые служат принципом всякой понятности. Между тем интеллект, как условие всякого объекта, а следовательно, и всей совокупности явлений, материализм совершенно игнорирует. Его цель — свести все качественное к чисто количественному, и поэтому первое он относит просто к форме, в противоположность собственно материи: на долю последней он из собственно эмпирических свойств оставляет одну лишь тяжесть, так как она уже сама по себе представляет нечто количественное, т. е. является единственной мерой количества материи. Этот путь неминуемо приводит его к фикции атомов, которые становятся тем материалом, из которого он мнит построить столь таинственные проявления всех изначальных сил. Но при этом он уже имеет дело, собственно говоря, не с эмпирически данным, а с такой материей, которую in rerum natura*** найти нельзя и которая скорее представляет собою не что иное, как абстракцию от действительной материи, с такой материей, которая безусловно не должна иметь никаких иных свойств, кроме механических, а подобные свойства, за исключением тяжести, потому так легко сконструировать a priori, что они основываются на формах пространства, времени и причинности, т. е. на нашем интеллекте; таким образом, из этих жалких материалов должен строить материализм свои воздушные замки.
При этом он неизбежно становится атомизмом, как это уже и случилось с ним в годы его детства, у Левкиппа и Демокрита, и как это происходит с ним и теперь, ибо он от старости снова впал в детство; так это у французов, потому что они никогда не знали философии Канта, так
263
это у немцев, потому что они философию
Канта забыли. И во втором своем детстве материализм чудит еще больше, нежели в
первом: он утверждает, что не только твердые тела состоят из атомов, но
и жидкие — вода, даже воздух, газы, свет, который, мол, представляет
собой колебание какого-то совершенно гипотетического и никем не доказанного эфира,
состоящего из атомов, различная скорость которых является причиной цветов, —
гипотеза, которая так же, как некогда гипотеза семи цветов Ньютона, исходит из
совершенно произвольной и насильственно проводимой аналогии с музыкой. Поистине
надо отличаться неслыханным легковерием, чтобы дать себя убедить, будто от
бесконечного разнообразия окрашенных поверхностей в нашем пестром мире исходят
бесконечно разнообразные колебания эфира, которые могут беспрерывно, каждое в
особом темпе, двигаться во всех направлениях, перекрещиваться между собой, не
только не мешая друг другу, но, напротив, этой сутолокой и путаницей создавая
глубоко спокойное зрелище светлой природы и искусства. «Credat Judaeus Apella!»*. Бесспорно, природа света — для нас
тайна; но лучше сознаться в этом, чем скверными теориями заграждать себе путь к
будущему знанию. То, что свет — нечто совсем иное, нежели чисто механическое
движение, колебание или вибрация и дрожь, и даже то, что он представляет собой
нечто вещественное, доказывают уже его химические эффекты, замечательный ряд
которых демонстрировал недавно перед Academie des sciences Шевроль,
показав воздействие солнечного света на различные окрашенные вещества. Самое
интересное из этих явлений — то, что белый бумажный сверток, подвергнувшийся
воздействию солнечного света, производит такие же самые действия даже после
того, как он шесть месяцев пролежит в плотно закупоренной жестяной трубке: что
же, неужели вибрация на полгода прекращается, а затем a tempo** начинается снова? («C
Но если фантазии шеллинговской натурфилософии и ее последователей были все-таки по большей части талантливы, блестящи или, по крайней мере, остроумны, то фантазии атомистов представляют собою тяжеловесное, плоское, жалкое и грубое порождение таких умов, которые, во-первых, неспособны мыслить никакой иной реальности, кроме
264
вымышленной бескачественной материи, являющейся к тому же абсолютным объектом, т. е. объектом без субъекта, и которые, во-вторых, неспособны мыслить никакой деятельности, кроме движения и толчка; подобную реальность и подобную деятельность только и может понять атомист, и он a priori предполагает, что к ним все сводится, так как они — его вещь в себе. И вот жизненную силу атомисты сводят к силам химическим (которые они с коварной целью и незаконно называют молекулярными силами), а все процессы неорганической жизни сводят к механизму, т. е. к толчку и противодействию. И если верить им, то в конце концов весь мир со своими вещами представляет собой не что иное, как механическую игрушку, подобную тем, которые с помощью рычагов, колес и песка изображают либо горный рудник, либо сельское предприятие. Источник зла в том, что обильная работа рук при экспериментировании сделала ненужной работу головы, мышление. И функции последнего берут на себя тигель и вольтов столб, — отсюда глубокое отвращение ко всякой философии.
Но можно придать делу иной оборот и сказать: материализм, такой, каким он был до сих пор, терпел неудачу только потому, что он недостаточно знал ту материю, из которой думал сконструировать мир, и поэтому вместо нее имел дело с каким-то бескачественным чучелом, подменившим ее собою; а если бы он исходил из действительной и эмпирически данной материи (т. е. из вещества или, скорее, веществ), снабженной, как это на самом деле и есть, всеми физическими, химическими, электрическими, а также самопроизвольно из нее самой рождающими жизнь свойствами, т. е. если бы он за исходную точку брал истинную mater rerum, из темного лона которой проистекают все явления и формы, чтобы когда-нибудь опять ввергнуться в него, то из этой материи, целиком понятой и исчерпывающе познанной, можно было бы сконструировать такой мир, которого материализму не пришлось бы стыдиться. Совершенно верно. Но только весь фокус состоял бы тогда в том, что quaesita* материализм выдавал бы за data**: ведь он по видимости брал бы как данное одну лишь чистую материю, а на самом деле таким данным и исходной точкой для дальнейших выводов ему служили бы все те таинственные силы природы, которые присущи материи или, правильнее сказать, которые благодаря ей делаются видимыми для нас; иными словами, это был бы прием, почти тождественный с тем, когда под блюдом разумеют и все то, что лежит на нем. Ибо, действительно, материя для нашего познания — это только вместилище качеств и сил природы, которые являются ее акциденциями; и именно потому, что я свел последние к воле, я и называю материю простой видимостью воли. Если же лишить материю всех этих свойств, то от нее останется нечто бескачественное, caput mortuum***, из которого, если оставаться честным, ничто не сделаешь. А если все эти свойства за нею, как указано, сохранить, то мы совершим замаскированное petitio principii, заранее выдав искомое за данное. И то, что получится в резуль-
265
тате этого,
будет уже не материализм в собственном смысле, а простой натурализм,
т. е. абсолютная физика, которая, как я показал в упомянутой уже
главе 17, никогда не может заменить метафизику, потому что она приступает к
делу лишь после принятия многих предпосылок, следовательно, даже и не пытается
объяснить вещи до конца. Поэтому чистый материализм по существу своему
опирается на одни лишь qualitates occultae, за пределы которых не выйдешь
никаким иным путем, кроме того, который избрал я; т. е. надо призвать на помощь
субъективный источник познания, что, разумеется, выводит на дальнюю и трудную окольную
дорогу метафизики, так как уже предполагает законченный анализ самосознания и
данных в нем интеллекта и воли. Между тем исходить из объективного, в
основе которого лежит такое ясное и понятное внешнее созерцание, — это
для человека столь естественно и удобно, что натурализм и вытекающий из
него (так как сам он не исчерпывает вопроса) материализм являются такими
системами, к которым созерцающий разум по необходимости обращается прежде
всего; вот почему уже в самом начале истории философии мы встречаем натурализм,
в системах ионийских философов, а после него — материализм, в учении Левкиппа и
Демокрита; да и впоследствии обе эти системы время от времени возрождаются.
Глава 25
Трансцендентные размышления о воле как вещи в себе
Уже чисто эмпирическое изучение природы, начиная от самого простого и необходимого проявления какой-нибудь общей силы природы и вплоть до жизни и сознания человека, везде обнаруживает градацию и постепенность и не знает иных границ, кроме относительных и в большинстве случаев неустойчивых. Если глубже поразмыслить об этом, то мы скоро придем к убеждению, что во всех этих явлениях внутренняя сущность, то, что здесь раскрывается и является, есть нечто единое, выступающее все отчетливее и отчетливее, и, следовательно, то, что обнаруживается в миллионах бесконечно различных форм и таким образом создает из нашего мира пестрое и причудливое зрелище без начала и конца, есть единое существо, которое прячется за всеми этими масками и так хорошо носит свою личину, что не узнает самого себя и часто обращается с собой не очень-то мягко. Вот почему великое учение о ἒν καί π͂αν* рано возникло как на Востоке, так и на Западе и наперекор всем возражениям прочно утвердилось или, по крайней мере, обновлялось вновь и вновь. Но мы теперь уже более глубоко проникли в эту тайну, потому что все предшествующее привело нас к убеждению, что там, где этой, в основе всех явлений лежащей сущности в каком-нибудь одном из ее проявлений придано познающее сознание, которое, направленное вовнутрь, становится самосознанием, — там эта
266
сущность представляется последнему как то столь знакомое и столь таинственное, что обозначается словом воля. Поэтому эту универсальную основную сущность всех явлений мы и назвали, по тому ее обнаружению, в котором она дает себя в самом несокрытом виде, — волей, словом, которым мы обозначили, следовательно, вовсе не какой-то неведомый X, а наоборот, именно то, что, по крайней мере с одной стороны, бесконечно лучше известно и ближе нам, чем все остальное.
Припомним теперь одну истину, которую я подробнее и основательнее всего доказал в своем конкурсном сочинении «О свободе воли», а именно ту, что в силу не знающего исключений закона причинности действия или поступки всех существ этого мира постоянно следуют за вызывающими их причинами со строгой необходимостью; и в этом отношении безразлично, вызовут ли подобное действие причины в более узком смысле слова, или раздражения, или, наконец, мотивы, потому что различие это касается лишь степени восприимчивости разнородных существ. Не следует создавать себе в этом отношении никаких иллюзий: закон причинности не знает исключений, ему с одинаковой строгостью подчинено все, начиная от движения пылинки в солнечном луче и кончая обдуманным действием человека. Поэтому никогда в рамках происходящего в мире ни одна пылинка не могла в своем движении описать другой линии, кроме той, которую она описала, и ни один человек не мог поступить иначе, чем он поступил; нет истины более достоверной, нежели та, что все, что совершается, как великое, так и малое, совершается с полной необходимостью. Вследствие этого в каждый данный момент времени общее состояние всех вещей строго и точно определяется непосредственно предшествовавшим ему состоянием, и так далее, и так далее — в любой точке временного потока, сколь бы бесконечно ни была она удалена в прошлое или будущее. Следовательно, течение мира подобно ходу часов, однажды собранных и заведенных; и с этой неоспоримой точки зрения мир — простая машина, назначения которой мы не знаем. И если бы даже, совершенно незаконным образом и, собственно говоря, вопреки всякой мыслимости и ее законам, мы допустили бы какую-нибудь первую причину, то по существу ничего от этого не изменилось бы. Ибо произвольно принятое первое состояние вещей при своем возникновении неизбежно определило бы и установило непосредственно следующее за ним — как в крупных, так и в мелких его чертах; следующее состояние определило бы новое, и так далее, и так далее, per sæcula sæculorum*, ибо причинная цепь с ее не знающей исключений строгостью — эти железные узы необходимости и судьбы — неминуемо и бесповоротно порождает каждое явление таким, каково оно есть. Вся разница сводилась бы здесь к тому, что при одной гипотезе мир был бы для нас раз и навсегда заведенным часовым механизмом, а при другой — perpetuum mobile; необходимость же самого процесса оставалась бы прежней. Что действия человека не могут составлять здесь исключения, это я неопровержимо доказал в упомянутой конкурсной работе: там я выяснил, что они всякий раз со строгой необходимостью вытекают из двух факторов — характера данной личности и появляющихся мотивов:
267
характер врожден и неизменен, появление мотивов с необходимостью вызывает, по нити причинности, строго определенный ход развития мира.
Таким образом, с известной точки зрения, от которой безусловно нельзя отрешиться, потому что ее устанавливают объективно и a priori обязательные мировые законы, — с этой точки зрения мир со всем, что в нем находится, представляет собой бесцельную и оттого непонятную игру какой-то вечной необходимости, непостижимой и неумолимой ἀνἀγκη*. То, что отталкивает и даже возмущает в этом неизбежном и неопровержимом мировоззрении, может быть основательно устранено только одной гипотезой, а именно той, что всякое существо в мире, будучи, с одной стороны, явлением и в качестве такового будучи необходимо определено законами явлений, с другой стороны, в себе есть воля, и к тому же воля свободная, ибо всякая необходимость возникает исключительно в силу таких форм, которые всецело относятся к явлению, а именно в силу закона основания в его различных видах; а подобной воле непременно должна быть присуща и aseitas**, потому что она в качестве свободной, т. е. в качестве вещи в себе, неподчиненной закону основания, не может зависеть ни от чего другого не только в своей деятельности, но и в своем бытии и сущности. Только эта гипотеза устанавливает столько свободы, сколько необходимо для того, чтобы составить противовес неминуемо строгой необходимости, которая царит в происходящем в мире. Итак, у нас, собственно говоря, есть только следующий выбор: или видеть в мире простую, в силу необходимости действующую машину, или внутренней сущностью последней признать некую свободную волю, обнаружениями которой являются не непосредственные действия вещей, но прежде всего их бытие и сущность. Такая свобода поэтому трансцендентальна и столь же совместима с эмпирической необходимостью, как трансцендентальная идеальность явлений совместима с их эмпирической реальностью. То, что лишь при предположении свободы поступок человека, несмотря на необходимость, с которой он вытекает из характера и мотивов, является его собственным поступком, — это я выяснил в сочинении «О свободе воли», но именно это и придает сущности человека характер aseitatis. И это соотношение между свободой и необходимостью имеет силу и для всех вещей в мире. Принципы строжайшей, добросовестно и неумолимо проведенной необходимости и совершеннейшей, до всемогущества доходящей свободы должны быть введены в философию вместе и одновременно; но без ущерба для истины это можно сделать только тогда, когда всю необходимость мы относим к действию и поведению (operari), а всю свободу — к бытию и сущности (esse). Тем самым разрешается загадка, которая лишь потому стара как мир, что до сих пор поступали как раз наоборот и всегда искали свободу в operari, а необходимость в esse. Я же говорю: всякая сущность без исключения действует со строгой необходимостью, но существует она и есть то, что она есть, в силу своей свободы. У меня, таким образом, свободы и необходимости не больше
268
и не меньше, чем в любой из прежних систем; хотя и может показаться, что этой свободы и необходимости у меня или больше, или меньше — в зависимости от того, в чем увидят камень преткновения: в том ли, что я приписываю волю таким процессам природы, которые до сих пор объяснялись, исходя из чистой необходимости, или в том, что я за мотивацией признаю такую же строгую необходимость, как и за механической причинностью. У меня свобода и необходимость только поменялись своими местами: первую я отнес к esse, вторую ограничил operari.
Короче говоря, детерминизм стоит прочно; вот уже полтора тысячелетия, как многие тщетно стараются поколебать его, влекомые известными сомнениями, которые осознают, но еще не смеют назвать полным именем. Но, согласно детерминизму, мир оказывается игрой марионеток, которые приводятся в движение ниточками (мотивами), — и неизвестно даже, для чьей утехи это делается: если в этой кукольной пьесе есть план, то режиссером ее является фатум, а если нет, то слепая необходимость. От этого абсурда нет другого спасения, кроме признания того, что уже само бытие и сущность всех вещей есть проявление какой-то действительно свободной воли, которая именно в них сама и узнает себя, — потому что ее действия и поступки от необходимости спасти нельзя. Для того чтобы уберечь свободу от судьбы или случая, необходимо перенести ее из деятельности в сущность.
Поэтому как необходимость присуща только явлению, а не вещи в себе, т. е. истинной сущности мира, так только явлению присуща и множественность. Это я достаточно выяснил в § 25 первого тома. Мне остается добавить здесь лишь несколько соображений, подтверждающих и разъясняющих эту истину.
Каждый совершенно непосредственно познает только одну сущность — свою собственную волю в самосознании. Все же другое мы познаем лишь опосредованно и судим о нем по аналогии с волей, и эту аналогию каждый из нас проводит тем дальше, чем глубже его мысль. Уже это обстоятельство в своей глубочайшей основе вытекает из того, что, собственно говоря, есть только одна сущность: иллюзия множественности (Майя), обусловленная формами внешнего, объективного постижения не могла проникнуть во внутреннее, естественное сознание, и поэтому оно всегда преднаходит только одну сущность.
Когда мы задумаемся о бесконечно дивном совершенстве творений природы, которое проявляется даже в последних и мельчайших организмах, например в оплодотворяющих органах растений или во внутренней структуре насекомых, и осуществляется с такой беспредельной заботливостью и таким неутомимым усердием, точно данное создание природы представляет собою ее единственное творение, на которое поэтому она и могла обратить все свое искусство и силу; когда мы увидим, однако, что это совершенство бесконечное число раз повторяется в каждом из бесчисленных индивидов каждого рода и нисколько не меньше заботливости потрачено на него в тех организмах, которые обитают где-нибудь в самом одиноком и заброшенном уголке, куда не проникал еще ничей глаз; когда мы углубимся как можно дальше в связь частей любого организма и ни разу не встретим там ничего простого и предельного и уж подавно ничего неорганического; когда мы с изумлением
269
задумаемся о целесообразности всех частей организма, которой обязано своим существованием целое и благодаря которой всякое живое существо само по себе есть нечто совершенное; когда мы вспомним при этом, что каждый из этих шедевров, даже существующих очень недолго, уже бессчетное число раз воспроизводился снова и снова, и тем не менее всякий единичный представитель своего вида, всякое насекомое, всякий цветок, всякий лист появляются столь же тщательно созданными, как созданы были первые экземпляры всех этих существ, так что природа не утомляется, никогда не работает как попало, но всегда терпеливой рукой мастера выполняет свое последнее произведение так же, как и первое, — тогда мы поймем, во-первых, что всякое человеческое искусство не только по степени, но и по характеру своему совершенно отлично от творчества природы и что, во-вторых, действующая первосила, natura naturans*, в каждом из своих бесчисленных созданий, как в самом малом, так и в самом великом, как в последнем, так и в первом, непосредственно присутствует вся и нераздельно, — откуда следует, что она, как таковая и сама по себе, не знает пространства и времени. Когда мы подумаем, далее, что создание этих вершин художественного творчества природе совершенно ничего не стоит, что она с непостижимой расточительностью производит миллионы организмов, которые не достигают зрелости, и беспощадно отдает всякое живое существо на произвол разнообразных и многочисленных случайностей; что, с другой стороны, при благоприятном стечении обстоятельств или руководимая преднамеренной деятельностью человека, она охотно производит миллионы экземпляров какого-нибудь рода там, где ранее давала только один экземпляр, и, следовательно, миллионы их стоят ей не дороже, чем один, — то и это приведет нас к мысли, что множественность вещей имеет свои корни в способе познания субъекта, но чужда вещи в себе, т. е. внутренней, раскрывающейся в этой множественности изначальной силе; что, следовательно, пространство и время, на которых основывается возможность всякой множественности, представляют собою только формы нашего созерцания; что даже эта совершенно непостижимая художественность структуры и присоединяющееся к ней безоглядное расточение созданий в своей основе проистекают лишь из нашего способа понимать вещи, ибо простое и неделимое изначальное стремление воли, как вещи в себе, когда оно предстает в нашем церебральном познании в виде объекта, должно являться нам как искусное сцепление отдельных частей, которое с необычайным совершенством согласовано в систему взаимных средств и целей.
Это лежащее по ту сторону явлений единство той воли, в которой мы познали сущность в себе мира явлений, есть единство метафизическое, и, следовательно, познание его трансцендентно, т. е. не основано на функциях нашего интеллекта и, собственно говоря, посредством них неосуществимо. Вот почему оно, это единство, и разверзает перед мыслью такую бездну, глубина которой не позволяет достичь ясного и связного понимания: нет, в нее можно бросать лишь отдельные взгляды, которые, каждый в отдельности, подмечают единство воли то в одном, то в дру-
270
гом соотношении вещей, то в субъективном, то в объективном, а отсюда опять возникают новые проблемы, которые я и не берусь решать полностью; я ссылаюсь на принцип «est quadara prodire tenus»*, более озабоченный тем, чтобы не сказать чего-нибудь ложного или произвольно вымышленного, нежели тем, чтобы дать обо всем полный отчет, даже подвергаясь опасности представить здесь лишь отрывочные наброски.
Если вспомнить и ясно продумать столь проницательную, впервые предложенную Кантом, а затем и Лапласом теорию возникновения системы планет, теорию, в правильности которой едва ли можно сомневаться, то мы увидим, что самые низменные, грубые и слепые силы природы, связанные самой жесткой закономерностью, своей междоусобной борьбой из-за одной и той же данной материи и случайными последствиями этой борьбы создают главный остов мира, т. е. будущего целесообразно устроенного жилища бесчисленных живых существ, — создают его как систему гармонии и порядка, которой мы удивляемся тем больше, чем точнее и лучше начинаем ее понимать. Так, например, когда мы видим, что каждая планета, обладая определенной скоростью, может утвердиться только в том месте, которое она действительно занимает, так как если бы она приблизилась к солнцу, то должна была бы на него упасть, а если бы отдалилась от него, то унеслась бы в пространство; как и наоборот, если принять за нечто данное ее место, то она может оставаться на нем, только обладая своей теперешней скоростью, а не какой-либо иной, ибо при большей скорости она унеслась бы прочь, а при меньшей должна была бы упасть на солнце, так что, следовательно, каждой определенной скорости некоторой планеты соответствует только одно определенное место, и разрешается эта проблема так, что та самая физическая, необходимо и слепо действующая причина, которая указует планете ее место, в то же время именно благодаря этому сообщает ей и точно соответствующую только этому месту скорость — в силу закона природы, согласно которому скорость вращающегося тела увеличивается в той мере, в какой его орбита уменьшается; когда мы постигаем, что всей этой системе обеспечена бесконечная устойчивость вследствие того, что все неизбежно возникающие препятствия, которые одна планета встречает в своем движении со стороны другой, со временем опять уравновешиваются, подобно тому как иррациональность во времени обращения Юпитера и Сатурна относительно друг друга не позволяет их взаимным пертурбациям повторяться в одном и том же месте (что сделало бы их опасными) и ведет к тому, что, возникая каждый раз в ином месте и изредка, эти пертурбации должны сами себя уничтожать, словно диссонансы в музыке, которые разрешаются в гармонию. Эти соображения раскрывают перед нами такую целесообразность и такое совершенство, на которые только способен самый свободный произвол, руководимый проницательнейшим рассудком и тончайшим расчетом. И тем не менее, придерживаясь руководящей нити столь хорошо продуманной и столь точно просчитанной лапласовской космогонии, мы не можем отрешиться от мысли, что совершенно слепые силы природы, действуя согласно ее неизменным
271
законам, своим конфликтом и в преднамеренной игре друг с другом просто не могли сотворить ничего иного, кроме именно этой конструкции мира, которая так похожа на создание чрезмерно усложненной комбинации. Вместо того чтобы, подобно Анаксагору, привлекать для объяснения мира в качестве вспомогательного средства какую-то известную нам только из природы животных и рассчитанную только на ее цели некую интеллигенцию[221], которая будто бы пришла извне и коварно воспользовалась уже существующими и данными силами природы и их законами, для того чтобы осуществить свои собственные, последним, собственно говоря, чуждые цели, — вместо этого мы уже в самых элементарных силах природы познаем все ту же единую волю, которая находит в них свое первое выражение, и, уже в нем стремясь к своей цели, посредством самих изначальных законов этих сил работает для осуществления своего конечного замысла, которому вследствие этого необходимо должно служить и соответствовать все, что совершается по слепым законам природы; впрочем, иначе и быть не может, ибо все материальное — не что иное, как именно проявление, видимость, объектность воли к жизни, которая едина. Таким образом, уже самые элементарные силы природы одушевлены той самой волей, которая потом в индивидуальных существах, одаренных интеллектом, удивляется своим собственным творениям, как лунатик утром удивляется тому, что он сделал во сне, или, вернее, как человек, который поражается своему собственному изображению в зеркале. Доказанное здесь единство случайного и преднамеренного, необходимого и свободного, единство, в силу которого самые слепые, но основанные на общих законах природы случаи являются как бы клавишами, на которых мировой дух играет свои полные смысла мелодии, — это, как я сказал, разверзает перед мыслью целую бездну, в которую даже и философия бросает лишь отдельные лучи, не будучи в силах озарить ее полным светом.
А теперь приведу в этой связи одно субъективное соображение, которому я, однако, могу придать еще меньше отчетливости, нежели только что изложенному объективному, так как я смогу его выразить только через образ и сравнение.
Почему наше сознание тем яснее и отчетливее, чем дальше простирается оно вовне, так что наибольшей ясности оно достигает в чувственном созерцании, которое наполовину относится уже к внешним вещам? И почему оно становится темнее, когда обращается вовнутрь, а в самой глубине приводит нас к полной тьме, в которой прекращается всякое познание? Потому, отвечаю я, что сознание предполагает индивидуальность, а она относится уже к сфере простого явления, так как она, в качестве множественности однородного, обусловлена формами явления — временем и пространством. Напротив, наш внутренний мир коренится в том, что уже не явление, а вещь в себе, куда поэтому формы явления не проникают; вследствие этого в нем отсутствуют главные условия индивидуальности, а с нею исчезает и отчетливое сознание. В этой коренной точке бытия уничтожается различие существ, как уничтожается различие радиусов в центре шара; и как в шаре поверхность возникает вследствие того, что радиусы оканчиваются и отламываются, так и сознание возможно только там, где сущность в себе
272
переходит в явление; благодаря
формам этого явления становится возможной отдельная индивидуальность, на
которой основывается сознание; поэтому оно и ограничено явлениями. Поэтому все
отчетливое и понятное в нашем сознании всегда находится только на внешней стороне
этой поверхности шара. Но как только мы от этой поверхности совершенно удалимся,
сознание покидает нас: так это бывает во сне, в смерти, до известной степени и
при магнетическом и магическом воздействии, ибо все это — и сон, и смерть, и
магнетизм — проходит через центр. Но именно потому, что отчетливое сознание,
как обусловленное поверхностью шара, не направлено к центру, оно познает других
индивидов хотя и однородными с собой, но не тождественными, каковы они сами по
себе. Бессмертие индивида можно сравнить с передвижением какой-нибудь точки
данной поверхности по касательной, а бессмертие, обусловленное вечностью
сущности в себе всех явлений, можно сравнить с возвращением этой точки по
радиусу к центру, простым расширением которого является поверхность. Воля как
вещь в себе дана полностью и нераздельно в каждом существе, подобно тому как
центр является интегрирующей частью каждого радиуса: в то время как
периферический конец этого радиуса вместе с поверхностью, которая представляет время
и его содержание, находится в состоянии быстрейшего вращения, другой конец, в
центре, т. е. там, где пребывает вечность, остается в глубочайшем покое,
ибо центр — это та точка, в которой восходящая половина не отличается от
нисходящей. Поэтому в Бхагавад-Гите говорится: «Haud distributum animantibus,
et quasi distributum tarnen insidens animantiumque sustentaculum id
cognoscendum edax et rursus genitale» (lect. 13,16, vers. Schlegel)*.
Конечно, мы прибегаем здесь к мистическому образному языку, но это —
единственный язык, на котором еще можно хоть что-нибудь сказать по поводу этой
совершенно трансцендентной темы. Приведем же здесь еще одно сравнение и
представим себе человека в образе animal c
273
совершается toto
genere*, отлично от всякого другого,
обусловленного influxus physicus**, потому
что оно есть подлинное actio in distans***,
которое хотя и осуществляет воля, исходящая от отдельного индивида, но
осуществляет в своем метафизическом качестве как вездесущий субстрат всей
природы. Можно также сказать, что, подобно тому как от ее изначальной
творческой силы, которая в существующих формах природы уже сделала свое дело и
в них погасла, подобно тому как от нее иногда и в виде исключения все-таки
остается слабый след в виде generatio æquivoca, так и от ее
первоначального всемогущества, которое осуществляется в созидании и сохранении
организмов и в этом исчерпывает себя, может все-таки, в виде исключения,
сохраняться некоторый избыток действенности, и проявляется он в таком
магическом влиянии. В своей «Воле в природе» я обстоятельно говорил об этом
магическом свойстве воли и поэтому охотно заканчиваю на этом рассуждения, которые
могут опираться лишь на недостоверные факты, но факты, которые все-таки нельзя
совершенно игнорировать или отрицать.
Глава
26****
По поводу телеологии
Всепроникающая и рассчитанная на сохранение каждого существа целесообразность органической природы, наряду с согласованностью органической и неорганической природы, ни в одну философскую систему не войдет так непринужденно, как в такую, которая за основу существования каждого природного существа принимает некую волю, которая, следовательно, раскрывает свою сущность и стремления не только в действиях, но уже и в самой форме являющегося организма. На то, в каком отношении к этому пункту находится весь ход моих мыслей, я только намекнул в предшествующей главе, потому что я уже говорил об этом в вышеуказанном месте первого тома, особенно же ясно и подробно — в своей «Воле в природе» под рубрикой «Сравнительная анатомия». К этому примыкают также и следующие разъяснения.
То глубокое изумление, которое обычно овладевает нами при созерцании бесконечной целесообразности строения органических существ, в сущности своей покоится на естественном, но все-таки неверном предположении, что поскольку взаимная согласованность частей друг с другом, с организмом как целым, и с его целями во внешнем мире постигается и оценивается нами с помощью познания, т. е. путем представления, то и возникла она тем же путем, — другими словами, мы думаем, что поскольку эта согласованность существует для интеллекта, то и создана она была посредством интеллекта. Действительно, мы можем осуществить что-нибудь планомерное и закономерное, каким является, например, всякий кристалл, только по определенному плану
274
и закону; точно так же и целесообразное мы можем осуществлять только в соответствии с определенным понятием цели; но отсюда вовсе не следует, что мы имеем право переносить эту нашу ограниченность на природу, которая сама есть prius всякого интеллекта и творчество которой, как уже сказано в предыдущей главе, самим своим типом отличается от нашего творчества. То, что нам кажется в ней столь целесообразным и обдуманным, она осуществляет без всякого размышления и без понятия о цели, так как действует без представления, которое по своему происхождению имеет совершенно вторичный характер. Рассмотрим сначала то, что только правильно, но еще не целесообразно. Шесть равных и под равными углами расходящихся радиусов снежинки не отмерены в соответствии с каким-то предварительным познанием: нет, именно простой порыв изначальной воли предстает таким образом перед познанием, когда оно появляется. И как воля создает здесь правильную фигуру без математики, так и фигуру органическую и в высшей степени целесообразно организованную она создает без физиологии. Правильная форма в пространстве существует только для созерцания, формой которого и является пространство; точно так же целесообразность организма существует только для познающего разума, мышление которого связано с понятиями цели и средства. Если бы мы могли когда-нибудь непосредственно взглянуть на деятельность природы, то мы должны были бы признать, что упомянутое выше телеологическое изумление аналогично тому, которое испытал упоминаемый Кантом (при объяснении смешного) дикарь, когда он увидел, как из только что открытой бутылки пива вырвалась брызжущая пена: дикарь сказал при этом, его удивляет не то, что оттуда вышло, а то, как можно было это туда втиснуть30. Но не так ли рассуждаем и мы, заранее полагая, что целесообразность продуктов природы вошла в нее тем же путем, каким она для нас оттуда выходит? Вот почему наше телеологическое изумление можно сравнить еще и с тем изумлением, какое возбуждали в некоторых людях первые произведения типографского искусства: эти люди исходили из предположения, что они видят перед собою работу пера, и поэтому для ее объяснения прибегали к гипотезе о помощи дьявола. Ибо, еще раз повторяю, не что иное, как наш собственный интеллект создает множественность и различие органов и их функций, — создает тем, что посредством своих собственных форм — пространства, времени и причинности — воспринимает как объект тот в себе метафизический и неделимый волевой акт, который воплощается в явлении какого-нибудь животного; и создав эту множественность, сам же интеллект изумляется потом полной согласованности и гармонии органов и функций, исходящей из первоначального единства: он, таким образом, в известном смысле удивляется своему собственному произведению.
Когда мы погружаемся в созерцание невыразимо и бесконечно искусного строения какого-нибудь животного, будь то даже самое обыкновенное насекомое, и удивляемся ему, и если внезапно нам приходит в голову мысль, что именно этот чрезвычайно искусно созданный и чрезвычайно сложный организм природа ежедневно в тысячах экземпляров обрекает на разрушение, отдавая его на произвол случая, алчности животных и капризов человека, то эта безумная расточительность приводит нас
275
в изумление. Но это изумление основывается на амфиболии понятий31, так как здесь мы имеем в виду произведения человеческого искусства, которые создаются при посредстве интеллекта и благодаря овладению чуждым и непокорным материалом, которые, следовательно, стоят большого труда. Природе же ее создания, как бы ни были они искусны, не стоят никакого усилия, ибо здесь желание творить есть уже само творение: ведь организм, как я уже сказал, — это не что иное, как актуализирующееся в мозгу зримое обнаружение наличной здесь воли.
Ввиду указанного свойства органических существ, телеология, как предположение о целесообразности каждого органа, является вполне надежной путеводной нитью при рассмотрении всей органической природы; но для метафизических целей при таком объяснении природы, которое выходит за пределы возможного опыта, она может играть лишь второстепенную и вспомогательную роль, подтверждая принципы, обоснованные иным путем, ибо здесь сама целесообразность принадлежит к числу тех проблем, которые нуждаются в объяснении и решении. Поэтому когда мы находим у какого-нибудь животного такой орган, назначение которого для нас непонятно, то мы все же не имеем права на предположение, будто природа создала его бесцельно, в шутку или из простого каприза. Правда, нечто подобное мыслимо, если исходить из предположения Анаксагора, что природа получила свою организацию от некоего упорядочивающего разума, который в качестве таковою служил какому-то чуждому произволу; но ничего подобного нельзя себе вообразить, если исходить из предположения, что внутренняя (т. е. находящаяся вне нашего представления) сущность всякого организма — это исключительно его собственная воля; ибо с этой точки зрения существование каждой части обусловлено тем, что она тем или иным образом служит лежащей в основании данного организма воле, выражает и осуществляет какое-нибудь ее стремление, следовательно, так или иначе способствует сохранению данного организма. Ибо кроме проявляющейся в организме воли и условий внешнего мира, в которых он добровольно взялся жить и на борьбу с которыми рассчитаны поэтому уже весь его облик и строение, кроме этой воли и этих условий ничто не могло иметь на него влияния, ничто не могло определить его форму и органы, никакой произвол, ничей каприз. Поэтому все должно быть в нем целесообразно, и оттого путеводной нитью для понимания органической природы являются конечные причины (causæ finales), как для понимания природы неорганической такой нитью служат причины действующие (causæ efficientes). Этим объясняется то, что когда в анатомии или зоологии мы встречаемся с каким-нибудь органом, назначение которого для нас непонятно, то наш рассудок испытывает замешательство, подобное тому, которое у физика вызывает действие, причина которого остается для него скрытой; но мы всегда предполагаем в качестве необходимых как эту причину действия, так и это назначение органа, и поэтому продолжаем их искать, хотя часто эти поиски оказываются совершенно бесплодными. Так, например, дело обстоит с селезенкой, о назначении которой не прекращают придумывать гипотезы, пока, наконец, не окажется верной какая-нибудь одна из них. Так же обстоит дело и с большими спиралеобразными зубами бабируссы, с рогообраз-
276
ными отростками некоторых гусениц и т. п. И отрицательные случаи обсуждаются нами по тому же правилу, например, тот факт, что в столь однородном вообще классе, как ящеры, у некоторых видов есть такой важный орган, как мочевой пузырь, а у других его нет; или тот факт, что дельфины и некоторые родственные им китообразные совершенно лишены обонятельных нервов, между тем как остальные китообразные и даже рыбы имеют их: для этого тоже должно существовать свое определяющее основание.
Отдельные действительные исключения из этого общего закона целесообразности в органической природе были, конечно, найдены, причем с большим изумлением; но и к этим исключительным явлениям применим закон: exceptio firmat regulam*, потому что они допускают иное объяснение. Сюда относятся те факты, что головастики жабы пипы снабжены хвостом и жабрами, хотя, в противоположность всем другим головастикам, они проходят свою метаморфозу не плавая, а на спине матери; что самец кенгуру имеет зачаток той кости, которая у самки поддерживает сумку; что и у самцов млекопитающих есть соски; что mus typhlus, разновидность крысы, имеет глаза, хотя и чрезвычайно крошечные, без отверстия для них на наружной коже, которая, будучи покрыта волосами, закрывает их; что аппенинский крот, как и две рыбы, murena cæcilia и gastrobranchus cæcus, находятся в таком же положении, равно как и proteus anguinus. Эти редкие и поразительные исключения из столь непоколебимого вообще закона природы, эти противоречия, в которые она впадает сама с собой, должны объясняться той внутренней связью, которой объединены между собой ее разнородные явления — в силу единства того, что в них является; вследствие этой связи природа в одном своем продукте должна намечать известный орган только потому, что другой ее продукт, связанный с первым, его действительно имеет. Вот почему у самца есть рудимент такого органа, который реально существует у самки. И как в этих случаях различие полов не может изменить тип вида, так сохраняется и тип целого семейства, например лягушковых, даже там, где для отдельных видов (пипа) один из его признаков становится излишним. Еще меньше может природа уничтожить совершенно бесследно такой признак (например, глаза), который характерен для типа целого отряда (vertebrata**), — только из-за того, что этот признак как излишний мог бы отсутствовать в каком-нибудь из частных видов (mus typhlus): даже в этих случаях природа должна — по крайней мере, рудиментарно — наметить то, что она сполна осуществляет во всех остальных случаях.
Исходя из этого, можно до определенной степени понять даже
то, на чем основана та, особенно подробно выясненная Ричардом Оуэном в
его «Ostéologie c
277
ветствие в плавниках кита, череп птицы в яйце имеет ровно столько же костей, сколько и череп человеческого плода, и т. д. Все это указывает на принцип, независимый от телеологии, — - принцип, который служит, однако, тем фундаментом, на котором она возводит свои здания, служит заранее данным материалом для ее творчества; это именно то, что Жоффруа Сент-Илер определяет как «анатомический элемент». Это — «unité de plan»*, первоосновный тип высшего царства животных, как бы произвольно избранная тональность, исходя из которой природа начинает свою игру.
Разницу между действующей причиной (causa effiæns) и причиной конечной (causa finalis) правильно отметил уже Аристотель (De part, anim. I, 1) в следующих словах: «Duo sunt causae modi: alter cuius gratia et alter e necessitate; ac potissimum utrumque eruere oportet»**. Действующая причина — это та, через которую нечто есть; конечная причина — та, ради которой нечто есть; явление, подлежащее объяснению, имеет, во времени, первую причину позади себя, вторую — перед собой. Только в самопроизвольных действиях животных существ обе эти причины непосредственно совпадают друг с другом, потому что здесь конечная причина, цель, выступает в качестве мотива, последний же всегда является истинной и подлинной причиной действия, той причиной, которая это действие производит, тем изменением, которое ему предшествует и необходимо его вызывает и без которого оно не могло бы произойти, — как я это доказал в своем конкурсном сочинении «О свободе». В самом деле: какое бы физиологически опосредующее звено ни находилось между волевым актом и движением тела, движущим началом всегда останется здесь, согласно общепринятому убеждению, именно воля; то же, что движет ее, это — извне привходящий мотив, т. е. causa finalis, которая, следовательно, выступает здесь в качестве causa efficientis. Кроме того, из предшествующего изложения мы знаем, что движение тела и волевой акт в сущности одно и то же, ибо это движение есть не что иное, как обнаружение воли в церебральном созерцании. Это совпадение causa finalis с действующей причиной следует считать прочно установленным фактом, в том единственном явлении, которое нам известно изнутри и которое поэтому навсегда останется нашим первофеноменом, ибо это совпадение неизбежно влечет нас к тому выводу, что по крайней мере в органической природе, для изучения которой необходимо руководствоваться конечными причинами, по крайней мере в этой природе формирующим началом служит воля. Действительно, конечную причину нельзя отчетливо помыслить иначе, как в виде поставленной нами себе цели, т. е. мотива. И когда мы вникаем в конечные причины, действующие в природе?, мы, для того чтобы выразить их трансцендентную сущность, должны, не боясь противоречия, смело сказать: конечная причина — это мотив, действующий на то или другое существо, которое его не осознает. Ибо несомненно, что гнезда термитов являются тем мотивом, который создал у муравьеда беззубые челюсти наряду с длин-
278
ным, нитевидным и липким языком; твердая скорлупа яйца, в которой находится птенец, несомненно является мотивом того рогообразного острия, которым снабжен его клюв для того, чтобы пробить эту скорлупу, и который птенец, по исполнении этого, отбрасывает как больше ему не нужный[222]. Точно так же законы отражения и преломления света являются мотивом того чрезвычайно искусного и сложного оптического аппарата, которым является человеческий глаз: в нем строго приспособлены к этим законам и прозрачность его роговой оболочки, и различная плотность трех его жидкостей, и форма его хрусталика, и черный цвет его chorioiides*, и чувствительность его сетчатки, и способность его зрачка к сужению, и его мускулатура. Но эти мотивы воздействовали еще до того, как они были восприняты, да, это именно так, хоть звучит это противоречиво. Ибо здесь — переход от физического к метафизическому. Но последнее мы познали в воле, поэтому мы и должны допустить, что воля, которая вытягивает хобот слона по направлению к какому-нибудь предмету, — это та же самая воля, которая создала и сформировала хобот, предвосхищая предметы.
Этому вполне соответствует то, что при изучении органической природы мы полностью основываемся на конечных причинах, повсюду ищем их и все объясняем из них; действующие же причины играют здесь совершенно подчиненную роль и признаются только орудиями первых, и мы скорее предполагаем их, чем действительно раскрываем, например при произвольном движении членов нашего тела, которое, по общему признанию, вызывается внешними мотивами. При объяснении физиологических функций мы еще ищем действующие причины, но по большей части бесплодно; при объяснении же возникновения органов мы их уже и не ищем, а довольствуемся одними конечными причинами; в лучшем случае у нас имеется здесь какой-нибудь общий принцип, вроде того, например, что чем больше орган, тем сильнее должна быть артерия, приводящая к нему кровь; но о действующих причинах в собственном смысле, которые создали, например, глаз, ухо, мозг, — о них мы решительно ничего не знаем. И даже при объяснении простых функций конечная причина гораздо важнее и больше относится к делу, чем причина действующая, поэтому когда нам известна только первая, то мы в основном чувствуем себя знающими и удовлетворенными, знание же одной действующей причины нам мало помогает. Если бы, например, действующую причину кровообращения мы действительно знали так, как на самом деле ее не знаем, а только стремимся знать, то это принесло бы нам мало пользы без знания причины конечной, а именно того факта, что кровь должна поступать в легкие для окисления и затем возвращаться для питания органов; между тем знание одной только конечной причины, даже помимо причины действующей, проливает здесь для нас яркий свет. Впрочем, я, как сказано выше, придерживаюсь того мнения, что кровообращение не имеет действующей причины в собственном смысле, а что воля действует здесь так же непосредственно, как и в мускульном движении, где ее определяют мотивы, переданные через нервы, и что здесь движение тоже вызывается непосредственно конечной причиной,
279
а именно необходимостью окисления крови в легких, необходимостью, которая в данном случае действует на кровь до известной степени как мотив, но при этом так, что посредничество познания при этом отсутствует, ибо здесь все происходит в недрах организма.
Так называемая метаморфоза растений, эта мимоходом брошенная
Каспаром Вольфом мысль, которую Гете, под столь гиперболическим названием,
в пышном и тяжеловесном изложении, выдает за собственное произведение, —
метаморфоза растений принадлежит к числу объяснений организма из действующих
причин, хотя она в сущности означает лишь то, что природа не начинает в
каждом из своих творений сначала и не создает из ничего, а как бы продолжает
писать в том же стиле, придерживается того, что уже существует, пользуется
прежними формами, развивая их и потенцируя, для того чтобы вести свое дело
дальше и дальше; так она действовала, например, при построении лестницы
животного царства, где строго соблюдается правило: «natura non fadt saltus, et
quod c
К преимуществам конечных причин относится и то, что между тем как всякая действующая причина в конечном счете основана всегда на чем-то непостижимом, т. е. на какой-нибудь силе природы, т. е. qualitas occulta, и поэтому может давать лишь относительное объяснение, тогда как причина конечная, в своей области, дает объяснение удовлетворительное и законченное. Разумеется, вполне удовлетворены мы лишь в том случае, когда знаем одновременно и вместе с тем каждую в отдельности, обе причины: и действующую, в терминологии Аристотеля — ἡ αὶτία ἐζ ἀνάγκης, и конечную, — ἡ χάριν του῀ βελτίονος*****; нас
280
поражает тогда их удивительное согласие или заговор, в силу которого лучшее появляется как совершенно необходимое, а необходимое — так, как если бы оно было только лучшим, а не необходимым; и тогда у нас возникает предчувствие того, что обе причины, как ни различны они по своему источнику, все-таки в корне своем, в сущности вещей в себе, связаны между собою. Но такое двойное знание редко достижимо: в органической природе — потому, что нам редко известна действующая причина; в неорганической потому, что остается проблематичной причина конечная. Поясню это двумя-тремя примерами, которые я смог найти в сфере моих физиологических познаний; возможно, физиологи заменят их другими примерами, более яркими и убедительными. Вошь негра черна. Конечная причина: для ее безопасности. Действующая причина: ее пищей служит черная rete Malpighi* негра. Чрезвычайно многообразная, огненно-живая окраска оперения у тропических птиц объясняется, хотя только в самых общих чертах, сильным воздействием света в тропиках; это — действующая причина данного явления. Конечную же причину я склонен видеть в том, что это блестящее оперение служит парадной формой, по которой особи столь бесчисленных там видов, часто принадлежащих одному и тому же роду, узнают друг друга, и каждый самец находит по нему свою самку. То же следует сказать и о бабочках различных поясов и широт. Замечено, что чахоточные женщины в последней стадии своей болезни легко беременеют и во время беременности болезнь у них затихает, а после родов опять усиливается и чаще всего приводит к смертельному исходу; замечено также, что чахоточные мужчины в последние годы своей жизни по большей части производят еще одного ребенка. Конечная причина здесь состоит в том, что природа, которая всюду столь озабочена сохранением вида, хочет поскорее возместить надвигающуюся утрату молодого индивида новым; действующая же причина здесь состоит в том, что в последнем периоде чахотки обнаруживается необыкновенное возбуждение нервной системы. Эта же конечная причина лежит в основе аналогичного феномена: муха, отравленная арсеником[223], по какому-то необъяснимому побуждению еще раз совокупляется и во время совокупления умирает (по: Окен, «Зачатие», с. 65). Конечная причина pubes** у обоих полов и mons Veneris*** у женщин заключается в стремлении к тому, чтобы даже у очень худощавых субъектов не ощущались во время совокупления ossa pubis****, которые иначе могли бы вызывать отвращение; действующую же причину надо видеть здесь в том, что повсюду, где слизистая оболочка переходит во внешнюю кожу, вблизи начинают расти волосы[224], и далее, в том, что голова и гениталии до известной степени представляют собою противоположные полюсы и оттого имеют некоторые соотношения и аналогии, к числу которых относятся и волосы. Той же действующей причиной объясняется и борода у мужчин; конечную же причину я здесь вижу в том, что патогномика, т. е. быстрая перемена в чертах лица, выдающая всякое внутреннее движение души, проявляется главным образом в дви-
281
жении губ и окружности рта; и вот
для того, чтобы эту патогномику, при некоторых переговорах или при какой-нибудь
неожиданности часто опасную, скрыть от испытующего взора противника, природа
(которая знает, что «h
Как я уже сказал, несомненно можно найти гораздо более
разительные примеры для доказательства того, что совершенно слепая деятельность
природы в конечном счете согласуется с ее, по-видимому, преднамеренной деятельностью,
или, по выражению Канта, механизм природы — с ее техникой; а это
указывает на то, что оба вида деятельности имеют свой общий источник по ту
сторону этого различия, т. е. в воле как вещи в себе. Весьма содействовало
бы прояснению этой точки зрения, если бы, например, можно было найти ту действующую
причину, которая гонит плавучий лес к безлесным полярным странам, или же ту причину,
которая материки нашей планеты сдвинула главным образом к северной ее половине;
конечную причину последнего явления надо видеть в том, что зима в данной половине,
совпадающая с перигелием, ускоряющим движение Земли, оказывается на восемь дней
короче, а потому и мягче. Но при рассмотрении неорганической природы
конечная причина всегда оказывается двусмысленной: обычно она, особенно когда найдена
причина действующая, заставляет нас сомневаться, не является ли она
просто субъективной иллюзией или видимостью, которая обусловлена нашей точкой
зрения. В этом отношении ее можно сравнить с некоторыми произведениями искусства,
например с грубыми мозаичными работами, с театральными декорациями или со
сложенным из грубых скал богом Апеннин в Пратолино близ Флоренции: все эти вещи
производят впечатление только издали, вблизи же исчезают, потому что вместо них
становится видимой действующая причина иллюзии; но эти фигуры и формы
все-таки существуют и вовсе не являются плодом нашего воображения. То же самое
претерпевают и конечные причины в неорганической природе, когда на сцене появляются
причины действующие. Люди с широким кругозором, быть может, позволят мне
прибавить, что так же обстоит дело и с разными
Впрочем, если бы кто-либо вздумал этой внешней целесообразностью, которая, как я сказал, всегда остается двусмысленной, злоупотребить ради физико-теологических доказательств, как это случается еще и по сей день, — правда, будем надеяться, только у англичан, — то в этой области можно будет найти и примеры in contranum***, т. е. в ней найдется достаточно ателеологии, для того чтобы разбить подобные попытки. Самым разительным из таких примеров является непригодность морской воды для питья, вследствие которой нигде человек не подвергается большей опасности умереть от жажды, как именно посреди великих водных масс своей планеты. «Зачем же морю быть соленым?» — спросите своего англичанина.
282
Если в неорганической природе конечные причины совсем отступают на второй план, так что объяснение, опирающееся только на них, уже не имеет силы, и непременно требуются причины действующие, то это находит себе основание в том, что объективирующаяся и в неорганической природе воля проявляется здесь уже не в индивидах, образующих одно самостоятельное целое, а в силах природы и их действии, вследствие чего цель и средство расходятся между собою слишком далеко, для того чтобы их взаимные отношения были ясны и чтобы в них можно было узнать обнаружение воли: до известной степени это проявляется уже в органической природе, а именно там, где целесообразность является внешней, т. е. где цель содержится в одном, а средство — в другом индивиде. Но и здесь целесообразность еще остается несомненной, пока оба индивида принадлежат к одному и тому же виду, и даже тогда она становится еще более очевидной. К этому классу целесообразного следует причислять прежде всего взаимную приспособленность половых органов у обоих полов, а кроме того, некоторые факторы, благоприятствующие оплодотворению; например, у lampyris noctiluca (светляков) только самец, который не светится, снабжен крыльями, для того чтобы он мог найти самку; бескрылая же самка, поскольку она появляется только по вечерам, наделена фосфорическим свечением, для того чтобы быть обнаруженной самцом. Впрочем, у lampyris Italica светятся оба пола — это составляет роскошь южной природы. Поразительный своей исключительностью пример этого рода телеологии являет сделанное Жоффруа Сент-Илером в последние годы его жизни прекрасное открытие внутреннего строения сосательного аппарата у китообразных. А именно: так как всякое сосание требует работы дыхания, то оно может происходить только в воздушной среде, а не под водой, между тем именно под водой, у сосков своей матери находится сосущий детеныш кита; так вот, для того чтобы преодолеть эту трудность, весь сосательный аппарат китообразных был модифицирован таким образом, что он превратился в орган инъекции и, вложенный в пасть детеныша, не требует от него сосания, а прямо впрыскивает ему молоко. Там же, где индивид, оказывающий другому серьезную помощь, принадлежит к совершенно иному виду существ и даже к иному царству природы, — там эта внешняя целесообразность представляется нам столь же сомнительной, как и в природе неорганической, даже если очевидно, что именно на этой целесообразности основано сохранение рода. Так это бывает у очень многих растений, оплодотворение которых происходит только с помощью насекомых, которые или приносят пыльцу на рыльце, или же пригибают тычинки к пестику: обыкновенный барбарис, многие виды ириса и aristolochia clematitis* совсем не могут оплодотворяться без помощи насекомых (Христиан Конрад Шпренгель. Разоблаченная тайна, 1793. — Вильденов. Очерк учения о травах, с. 353). В таком же положении находятся многие двубрачные, однобрачные и многобрачные, например огурцы и дыни. Взаимная поддержка, которую оказывают друг другу мир растений и мир животных, прекрасно изображена в обширной «Физиологии как опытной науке» Бурдаха (т. 1, § 263). Он очень верно
283
замечает: «Это не механическая
поправка и не средство, к которому прибегают в затруднении, как если бы природа
вчера, создавая растения, сделала ошибку, а сегодня пыталась исправить ее с помощью
насекомого: нет, в основе здесь лежит глубокая симпатия мира растений и мира животных.
И здесь должно обнаруживаться тождество обоих миров: оба они, дети одной
матери, должны существовать вместе и друг для друга». И далее: «Но и с неорганическим
миром мир органический объединяет такая же симпатия», — и т. д.
Подтверждением этого consensus naturæ*
служит также сообщенное во втором томе «Introduction into Ent
Три великих человека совершенно отвергли телеологию, или
объяснение из конечных причин, — и множество маленьких людей покорно за ними
последовали. Эти трое — Лукреций, Бэкон Веруламский и Спиноза.
Но у всех у них достаточно ясен сам источник отрицательного отношения к
телеологии: дело в том, что они считали ее неотделимой от спекулятивной
теологии, а перед ней они испытывали такой великий страх (правда, Бэкон благоразумно
старался скрывать это), что еще издалека сворачивали с ее пути. И даже Лейбниц
еще находился в плену у этого предрассудка: так, он с характерной наивностью,
как нечто само собою понятное, говорит в своем «Lettre à M. Nicaise » (Spinozæ Op. ed. Paulus, vol. 2, p. 672): «les causes finales, ou ce qui est la
même chose, la consideration de la sagesse divine dans l’ordre des
choses»*** (А дьявол? И он — même chose!). На той же точке
зрения стоят даже и современные англичане, Bridgewater-treatise-господа32,
лорд Брохэм и т. д.; и даже Р. Оуэн в своей «Osteologie c
284
незнание кантовской философии,
которое ныне, спустя 70 лет после ее появления,
поистине составляет для английских ученых позорное пятно; а само это незнание, в свою очередь,
объясняется — по крайней мере в главной своей части — пагубным
влиянием тех отвратительных английских попов,
для которых всякого рода оглупление — кровное дело, для того чтобы и впредь удерживать в состоянии самого
развращающего ханжества английскую
нацию, в других отношениях столь духовно развитую;
поэтому, воодушевляемые самым низким обскурантизмом, эти попы всеми силами борются против всякого развития человеческих знаний вообще; сильные как своими
интригами и связями, так и скандальным, безнаказанным
и увеличивающим народную нужду стяжательством, они распространяют свое влияние и на университетских ученых и писателей, которые поэтому (как,
например, Т. Браун
в своей книге «On cause and effect») прибегают ко
всякого рода недомолвкам и уверткам, лишь
бы только не стать, даже в малейшей степени, поперек дороги этому «холодному суеверию» (как Пюклер
очень метко назвал их религию) или
ходячим аргументам в его пользу.
Но три упомянутых великих человека жили задолго до рассвета кантовской философии, и страх перед
телеологией, ввиду его источника, для них
простителен: ведь даже Вольтер считал физико-теологическое доказательство неопровержимым. Но при ближайшем рассмотрении
их теорий выясняется следующее:
прежде всего, полемика Лукреция (IV, 824–858) против телеологии столь груба и наивна, что противоречит самой
себе и убеждает в противоположном.
Что же касается Бэкона (De augm. Scient. III, 4), то, во-первых, относительно применения (понятия) конечных причин он не делает никакого различия
между органической и неорганической природой
(а в нем-то и заключается вся суть) и в своих примерах смешивает их; а во-вторых, он изгоняет конечные причины из
физики в метафизику,—последняя же
для него, как и для многих еще и по сей день, тождественна со спекулятивной теологией. Таким образом, конечные причины он считает неотделимыми от нее
и даже упрекает Аристотеля за то,
что он, придав в своей системе такое большое значение конечным причинам, не связал их в то же время со
спекулятивной теологией (а я
именно за это вскоре буду особенно хвалить Аристотеля). Наконец, Спиноза (Eth. I, 36, appendix)
самым ясным образом показывает, что он отождествляет
телеологию с физико-теологией,
против которой он выступает со
всей резкостью; даже закон «natura nihil frustra agit»* он объясняет так: «hoc est, quod in usum h
285
finem nullum sibi praefixum habere
et
Большое преимущество перед этими философами нового времени имеет
Аристотель, который именно в данном пункте проявляет себя с самой блестящей
стороны. Он непредубежденно подходит к природе, не знает ни о какой
физикотеологии, ничего подобного ему и в голову не приходило, никогда не
задавался он вопросом, является ли мир чьей-нибудь поделкой; будучи свободен от
всего этого, он строит гипотезы о происхождении животных и людей, нисколько не
поддаваясь при этом физико-теологическому ходу мысли (De generat, anim. III,
11). Он всегда говорит «natura facit»***,
но никогда «natura facta est»****. Но после
добросовестного и прилежного изучения природы он нашел, что она всюду действует
целесообразно, и поэтому говорит: «Naturam nihil frustra facere cernimus»***** (De respir., с. 10), а в книгах «De
partibus animalium», представляющих собой сравнительную анатомию, он говорит так:
«Nihil supervacaneum, nihil frustra natura facit. Natura rei alicujus gratia
facit
286
ным образом высказывается он за телеологию в конце своих книг «De generatione animalium», где упрекает Демокрита за то, что он ее отрицал, т. е. именно за то, что Бэкон в своей предвзятости хвалит у последнего. Но особенно в «Physica», II, 8, р. 198, говорит Аристотель ex professo* о конечных причинах и предлагает их как верный принцип в изучении природы. И действительно, всякий сильный и правильный ум при изучении органической природы непременно придет к телеологии, но вовсе не к физикотеологии и не к порицаемой Спинозой антропо-телеологии, конечно, если только он не опутан предвзятыми мнениями. Что же касается Аристотеля вообще, я хотел бы обратить здесь внимание на то, что его учения в той мере, в какой они касаются неорганической природы, изобилуют ошибками и никуда не годятся, ибо в основных понятиях своей механики и физики он впадает в грубейшие заблуждения, — и это тем более непростительно, что уже его предшественники, пифагорейцы и Эмпедокл, стояли на правильном пути и высказывали гораздо лучшие взгляды: ведь имел же Эмпедокл, как это видно из второй книги Аристотеля «De cælo» (с. 1, р. 284), понятие о некоторой тангенциальной силе, противодействующей тяжести и возникающей в результате вращения, — понятие, которое Аристотель снова отверг. Но совершенно иное место занимает Аристотель в изучении природы органической: здесь — его область; здесь его богатые познания, его тонкая наблюдательность, а порою и глубокомыслие приводят нас в изумление. Так, — чтобы привести только один пример, — он уже понял антагонизм, в котором у жвачных находятся рога с зубами верхней челюсти и в силу которого последних нет там, где есть первые, и наоборот (De partib. anim., III. 2). Отсюда и его правильная оценка конечных причин.
Глава 27
Об инстинкте и влечении к творчеству
Кажется, что в творческих влечениях животных природа словно хотела дать в руки исследователю пояснительный комментарий к своим действиям, основанным на конечных причинах, и к вытекающей из них удивительной целесообразности своих органических созданий. Ибо эти влечения самым явственным образом показывают, что некоторые существа могут с величайшей решительностью и определенностью стремиться к такой цели, которой они не знают и о которой даже не имеют ни малейшего представления. Такой целью является, например, птичье гнездо, паутина, муравейник, столь искусно построенный пчелиный улей, удивительные сооружения термитов и т. д.; все это является целью, неведомой по крайней мере для тех животных индивидов, которые строят нечто подобное в первый раз, — ведь они не могут знать ни формы предстоящей стройки, ни ее назначения. Но точно таким же образом действует и организующая природа; вот почему в предыдущей
287
главе я и дал то парадоксальное объяснение конечной причины, что она представляет собой мотив, который действует, не будучи осознан. И подобно тому как во влечениях к творчеству действенным началом очевидно и бесспорно служит воля, так она же, несомненно, проявляется и в деятельности организующей природы.
Можно было бы сказать: воля животных существ приводится в движение двумя различными способами — либо мотивацией, либо инстинктом, т. е. либо извне, либо изнутри, в соответствии с внешним поводом или согласно внутреннему влечению; повод объясним, потому что он находится вовне, а влечение необъяснимо, потому что оно только внутренне. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что эта противоположность не так резка и даже в сущности сводится к различию в степени. А именно: мотив тоже действует только при условии наличия некоторого внутреннего влечения, т. е. определенных свойств воли, которые и называются ее характером; каждый мотив дает этому характеру только определенное направление, индивидуализирует его применительно к конкретному случаю. Точно так же и инстинкт, хотя он и представляет собой мощное влечение воли, не действует, подобно какой-то пружине, только лишь изнутри: нет, он выжидает необходимое для своего действия внешнее обстоятельство, которое определяет по крайней мере момент его обнаружения: таким внешним обстоятельством является для перелетных птиц время года, для птиц, которые строят гнезда, — совершившееся оплодотворение и предшествующее ему накопление материала для гнезда; для пчелы таким обстоятельством служит, в начале постройки, улей или дуплистое дерево, а для дальнейших сооружений — множество отдельных фактов; для паука — это удобный угол; для гусеницы — подходящий лист; для насекомого, кладущего яйца, — это в большинстве случаев строго определенное и часто странное место, где выползающие личинки могли бы сразу же найти себе пищу, и т. д. Отсюда следует, что в проявлении творческих влечений прежде всего обнаруживается инстинкт, а затем, во вторую очередь, и интеллект животных: инстинкт дает общее правило, интеллект — особенное применение: он отвечает за детали выполнения, и поэтому работа этих животных явно соответствует тем или иным обстоятельствам. На этом основании можно установить следующее различие между инстинктом и простым характером: инстинкт — это такой характер, который приводится в движение только совершенно особо определенным мотивом, отчего все вытекающие из него действия оказываются совершенно однородными; между тем характер, который имеет каждый вид животных и каждый человеческий индивид, хотя и представляет собой столь же устойчивое и неизменное свойство воли, может, однако, приводиться в движение самыми различными мотивами и приспосабливается к ним, отчего вытекающие из него действия по своим материальным определениям могут быть очень разнообразны, но при этом всегда будут носить отпечаток одного и того же характера, а потому выражать и показывать его в полной мере; таким образом, для познания этого характера материальная оболочка действия, в котором он проявляется, в сущности безразлична: поэтому инстинкт можно определить как чрезмерно односторонний и строго детерминированный характер. Из этих соображений
288
явствует, что, для того чтобы наша деятельность определялась исключительно одной мотивацией, необходима уже известная широта познавательного кругозора, т. е. полностью развитой интеллект; оттого это составляет достояние высших животных, в особенности же человека; между тем,[225] для того чтобы действия определялись инстинктом, требуется лишь такое количество интеллекта, которое необходимо для восприятия того единственного и особо определенного мотива, который становится исключительным поводом для проявления данного инстинкта; вот почему такая определяемость инстинктом встречается при крайне ограниченном познавательном кругозоре и поэтому, как правило, и в своей высшей степени встречается только у животных низших классов, а именно у насекомых. И поскольку действия этих животных нуждаются лишь в чрезвычайно простой и незначительной мотивации извне, то среда последней, т. е. интеллект или мозг, у них развита очень слабо, и в своих внешних действиях они по большей части направляются тем же, чем и во внутренних, совершающихся благодаря простым раздражениям[226] физиологическим функциям, т. е. системой ганглиев. Поэтому эта система у них преобладает: их главный нервный ствол, в форме двух нитей, образующих в каждом члене тела ганглий, который нередко по величине мало чем уступает головному мозгу, проходит под животом и, по Кювье, аналогичен не столько спинному мозгу, сколько большому симпатическому нерву. В силу всего этого инстинкт и подчиненность одной только мотивации находятся между собою в известном антагонизме, в результате которого первый находит свой maximum у насекомых, а вторая — у человека; между этими двумя крайностями находится восприимчивость остальных животных, богатая степенями, в зависимости от того, что более развито у данного животного — мозговая или ганглиенозная система. Именно потому, что инстинктивные действия и искусственные сооружения насекомых направляются преимущественно ганглиенозной системой, мы впадаем в нелепые ошибки, если пытаемся рассматривать и объяснять эту деятельность как исходящую исключительно от головного мозга: в таком случае мы используем неверный ключ. Это же обстоятельство придает действиям насекомых значительное сходство с действиями сомнамбулы: ведь и последние тоже объясняются тем, что руководство внешними действиями здесь вместо мозга берет на себя симпатический нерв; насекомые, таким образом, до известной степени — естественные сомнамбулы. Вещи, которые недоступны прямо, надо уяснять себе посредством аналогии, и только что приведенная аналогия сослужит нам очень большую службу, если мы воспользуемся тем фактом, который упоминает Кизер в своем «Теллуризме» (т. 2, с. 250): «Если магнетизер приказывает сомнамбуле совершить в бодрствующем состоянии определенное действие, то, проснувшись, она производит его, не помня, однако, о полученном приказании». Она, таким образом, чувствует, что ей необходимо совершить это действие, но не знает, собственно, почему. Бесспорно, это очень похоже на то, что происходит с насекомыми в процессе их инстинктивного творчества: молодой паук как бы чувствует, что он должен ткать свою паутину, хотя не знает и не понимает ее назначения. Мы вспоминаем при этом и о демоне Сократа, благодаря которому философ чувствовал, что ему нужно
289
отказаться от требуемого от него действия, хотя и не знал — почему: свое вещее сновидение, касающееся этого, он забывал. Аналогичные этому вполне достоверные факты встречаются и в наши дни, поэтому я напомню о них лишь в двух словах. Некто оставил за собою место на корабле; но когда последний должен был отчалить, наш пассажир, сам не зная почему, ни за что не хотел взойти на борт, — корабль потонул. Другой направлялся вместе с товарищами к пороховой башне; уже недалеко от нее он не захотел идти дальше и, объятый страхом, сам не зная почему, быстро повернул назад; башня взлетела на воздух. Третий, в океане, вечером, сам не зная почему, не захотел раздеться и улегся спать в одежде и сапогах, даже с очками на носу; вдруг ночью на корабле случился пожар, и наш пассажир[227] оказался одним из немногих, спасшихся в шлюпке. Все это — глухой отзвук забытых вещих сновидений и дает нам ключ к аналогичному пониманию интеллекта и творческих влечений.
С другой стороны, как мы сказали, эти влечения у насекомых проливают свет на деятельность бессознательной воли во внутренних процессах организма и в его образовании. В самом деле: без всякой натяжки можно видеть в муравейнике или пчелином улье отображение организма, выведенного на свет познания. В этом смысле Бурдах говорит («Физиология», т. II, с. 22): «Формирование и откладывание яиц является обязанностью матки, осеменение и забота о развитии — дело работниц; в первой как бы стал индивидом яичник, в последних — uterus*». Как в животном организме, так и в обществе насекомых vita propria** каждой части подчинена жизни целого, и забота о целом преобладает над заботой о собственном существовании: последнее желательно только в условном смысле, первое — безусловно; и поэтому в случае надобности отдельные особи приносятся в жертву целому, подобно тому как мы позволяем отнять какой-нибудь один орган, для того чтобы спасти все тело. Так, если шествию муравьев преграждает путь вода, то передние отважно бросаются в нее, пока из их трупов не образуется плотина для муравьев, оставшихся позади. Трутней, когда они становятся лишними, убивают. Две матки в одном улье должны, окруженные другими пчелами, бороться друг с другом, пока одна из них не погибнет. Муравьиная самка, покончив с функцией оплодотворения, сама откусывает себе крылья, которые теперь, в заботах об устройстве новой семьи, под землею только мешали бы ей (Kirby and Spence, vol. I). Подобно тому как печень не хочет ничего другого, кроме выделения желчи в интересах пищеварения, да и существовать она хочет только ради этой цели; как подобного же хочет и всякий другой орган, — так и пчела-работница не хочет ничего иного, как только собирать мед, выделять из него воск и строить ячейки для потомства матки; трутень хочет только оплодотворять, матка только и хочет что класть яйца: словом, все отдельные члены улья работают исключительно в интересах целого, которое только и является здесь безусловной целью — вполне аналогично членам организма. Разница здесь сводится лишь к тому, что в организме воля
290
действует совершенно слепо, в своем
первичном состоянии, между тем как в обществе насекомых все происходит уже при
свете познания, которому, однако, позволено оказывать решительное влияние
только в случайностях деталей, где оно, познание, имеет даже некоторую
возможность выбора и таким образом приносит свою пользу, приводя цель в
соответствие с обстоятельствами. Но к общей цели насекомые стремятся, не зная
ее, точно так же, как и действующая согласно конечным причинам органическая
природа; и не выбор средств в целом предоставляется здесь познанию, а только их
более точное упорядочение в частностях. Однако из-за этого деятельность
насекомых отнюдь не приобретает механического характера; это становится
особенно ясным, когда мы ставим на пути осуществления их стремлений различные
преграды. Например, гусеница заворачивается в листья, на зная цели этого действия;
но попробуйте разорвать ее покров, и она ловко зачинит его. Пчелы с самого
начала приспосабливают свою постройку к преднайденным обстоятельствам, и если
случится какая-либо невзгода или кто-нибудь попытается разрушить их улей, они
всегда найдут самый целесообразный и наиболее пригодный для данного случая
выход (Kirby and Spence, «Introduction
into ent
Аналогию этой помощи, оказываемой инстинкту, и этих улучшений продуктов влечения к творчеству, мы находим и в организме: это — целебная сила природы. Она не только рубцует раны, восстанавливая при этом костную и нервную массу, но даже, когда вследствие потери какой-нибудь ветки кровеносного сосуда или нерва прерывается сообщение между разными органами, открывает новое, расширяя другие сосу-
291
ды или нервы или даже создавая новые
ветви; она заменяет больной орган новым, одну функцию — другой; она при утрате
одного глаза обостряет другой и при утрате одного чувства обостряет все
остальные; и даже смертельное само по себе ранение кишечника она иногда
закрывает путем увеличения mesenterii или peritonaei*, — словом, она самым изобретательным
образом пытается устранить всякое повреждение и всякую помеху. Если же ущерб
совсем невозместим, она спешит ускорить смерть, и делает это тем быстрее, чем
выше и, следовательно, чувствительнее организм. Это имеет аналогию даже в
инстинкте насекомых: осы, которые в течение всего лета ценою больших усилий и
трудов прокармливают своих личинок добычей своих грабежей, в октябре, видя, что
их последнему поколению грозит голодная смерть, убивают их (Kirby and Spence,
vol. I, p. 374). Можно найти еще более странные и специфические аналогии,
например такую: когда самка шмеля (apis terrestris, b
Но еще и в другом отношении инстинкты и животная организация
проясняют друг друга: речь идет о том, что и там, и здесь наличествует предвосхищение
будущего. Благодаря инстинктам и творческим влечениям животные заботятся об
удовлетворении таких потребностей, которых они еще не чувствуют, и даже не
только своих личных, но и потребностей своего будущего потомства; они,
следовательно, работают ради цели, им еще неизвестной; и это, как я пояснил в
своей «Воле в природе» (с. 45, II изд.) на примере b
292
ведении о воле в природе под рубрикой «Сравнительная анатомия»). Все эти предвосхищения, проявляющиеся и в организации животных, можно было бы свести к понятию некоторого априорного знания, если бы в их основе вообще лежало какое-нибудь знание. Но это, как я показал, не так, и источник подобных предвосхищений лежит в чем-то более глубоком, нежели сфера познания, а именно в воле как вещи в себе, которая как таковая остается свободной и от форм познания; поэтому по отношению к ней время не имеет значения, и будущее для нее столь же близко, как и настоящее.
Глава 28*
Характеристика воли к жизни
Наша вторая книга завершается вопросом о цели и назначении той воли, которая оказалась внутренней сущностью всех вещей мира. Нижеследующие соображения, в которых предложена общая характеристика воли, могут послужить дополнением к ответу на упомянутый вопрос, данному там в общих чертах.
Подобная характеристика возможна потому, что внутренней сущностью мира мы признали нечто безусловно реальное и эмпирически данное. Наоборот, уже самое название «мировая душа», которым некоторые обозначали эту внутреннюю сущность, дает вместо этого всего лишь ens rationis**: ибо «душа» обозначает индивидуальное единство сознания, которое явно не относится к этой сущности; да и вообще понятие «душа», как гипостазирующее в нераздельном соединении познание и воление, и при том еще и как независимые от животной организации, не может быть оправдано, следовательно, и употреблять его нельзя. Это слово никогда не следовало бы произносить иначе, как в метафорическом смысле, ибо оно далеко не так невинно, как ψυχή или anima, которые означают «дыхание»[228].
Еще более непригодны термины пантеистов, вся философия которых состоит главным образом в том, что внутреннюю, неизвестную им сущность они титулуют «Богом», полагая, что делают этим нечто серьезное. Если верить им, то мир — какая-то теофания[229]. Но достаточно лишь взглянуть на этот мир, наполненный вечно нуждающимися существами, которые только тем и покупают свое кратковременное бытие, что пожирают друг друга, которые проводят свою жизнь в страхе и нужде и часто переносят ужасные страдания, пока смерть наконец не примет их в свои объятия: кто ясными глазами увидит это, тот согласится с Аристотелем, что «natura dæmonia est, non divina», «природа демонична, а не божественна» (De divin at., с. 2, p. 463), и должен будет признать, что лишь такой Бог согласился бы превратиться в мир, который терзал бы на самом деле дьявол. Я хорошо знаю, что мнимые
293
философы нашего столетия подражают Спинозе и в этом видят свое оправдание. Но у Спинозы были особые основания для того, чтобы так назвать свою единственную субстанцию и этим спасти если не саму суть, то по крайней мере слово. Костры Джордано Бруно и Ванини были еще свежи в памяти: ведь и эти мыслители были принесены в жертву тому Богу, во славу которого было пролито, без всякого сомнения, больше человеческой крови, чем на алтарях всех языческих богов обоих полушарий вместе. Если Спиноза называет поэтому мир Богом, то он поступает так же, как и Руссо, который в «Contrat social»* везде и неуклонно именует народ словом «le souverain»; это напоминает и то, как один государь, задумав упразднить в своей стране дворянство, пришел к мысли возвести в дворянское звание всех своих подданных, для того чтобы никто не лишился своих законных прав. Разумеется, мудрецы наших дней имеют для указанного наименования еще одну причину, которая, однако, ничуть не основательнее первой. Все они в своих философских изысканиях исходят не из мира или нашего сознания о нем, а из Бога[230] как чего-то данного и известного: он для них не quæsitum, а datum**. Если бы они были детьми, я бы разъяснил им, что это petitio principii***; но они это сами знают не хуже моего. Дело тут вот в чем: после того как Кант доказал, что путь прежнего, честного догматизма, путь от мира к Богу, не приводит к цели, — эти господа вообразили, что они нашли очень тонкий выход и ловко решили проблему. Да простит мне читатель будущей эпохи, что я беседую с ним о людях, которых он не знает.
Каждый взгляд на мир, объяснение которого и является задачей философа, подтверждает и свидетельствует, что воля к жизни — далеко не произвольное гипостазирование или пустое слово, а единственно верное выражение его сокровеннейшего существа. Все рвется и стремится к существованию, по возможности — к органическому, т. е. к жизни, и, где только возможно, к высшим ее ступеням: природа животных уже ясно показывает, что воля к жизни составляет основной тон ее сущности, единственно неизменное и безусловное свойство последней. Взгляните на этот универсальный порыв к жизни, на эту бесконечную готовность, легкость и роскошь, с которой воля к жизни, в миллионах форм, повсюду и во всякое мгновение неукротимо рвется к бытию — посредством оплодотворений и зародышей, а там, где последних нет, путем generatio æquivoca****[231], пользуясь для этого каждой возможностью, жадно и ревниво набрасываясь на всякое жизнеспособное вещество; и с другой стороны, бросьте взгляд на то отвратительное смятение и дикое возбуждение, которые охватывают ее, когда в одном из своих частных проявлений она должна исчезнуть из бытия, в особенности если это исчезновение совершается при ясном сознании. Тогда происходит нечто такое, словно вместе с этим единичным явлением должен навеки погибнуть весь мир, и все существо живой особи, которой угрожает небытие, сейчас же превращается в самое отчаянное сопротивление и противодействие смерти. Обратите, например, внимание на невероят-
294
ный ужас, который овладевает человеком, когда его жизни грозит опасность; на то, как быстро и серьезно начинает ему сочувствовать каждый посторонний свидетель; как безгранично общее ликование, если этот человек спасется. Подумайте о том леденящем ужасе, который овладевает каждым из нас, когда мы слышим о смертном приговоре, о том глубоком содрогании, с которым всякий смотрит на приготовления к его исполнению, о том разрывающем душу сострадании, которое объемлет нас при зрелище казни. Поневоле покажется, что все дело здесь не в сокращении на несколько лет пустой, печальной, отравленной всякими горестями и вечно неустойчивой жизни, что это бог знает какая важность, если человек на несколько лет раньше попадет туда, где ему, после эфемерного существования, суждено пробыть биллионы лет. Все эти факты с очевидностью показывают, что я имел полное право признать волю к жизни тем, что далее необъяснимо и само должно лежать в основе всякого объяснения, что эта воля далеко не пустой звук, как абсолют, бесконечное, идея и тому подобные выражения, но самое реальное из всего, что мы знаем, и даже ядро самой реальности.
Но когда мы, на время абстрагируясь от этой интерпретации, почерпнутой из нашего внутреннего мира, противопоставляем себе природу как нечто чуждое нам, для того чтобы объективно понять ее, то мы обнаруживаем, что, начиная со ступени органической жизни, она питает только один замысел — сохранение всех родов. Во имя этой цели она и творит — в безмерном избытке зародышей, в мощной напряженности полового инстинкта, в его готовности приспосабливаться ко всем обстоятельствам и поводам, вплоть до порождения гибридов, и в инстинктивной материнской любви, сила которой столь велика, что во многих видах животных она побеждает себялюбие, и мать жертвует своею жизнью, для того чтобы спасти жизнь детенышей. Индивид же имеет для природы лишь косвенную ценность — только постольку, поскольку он является средством для сохранения рода. Помимо этого бытие индивида для природы безразлично, и она даже сама ведет его к гибели, как только он перестает соответствовать указанной цели. Таким образом, ясно, для чего существует индивид; но для чего существует сам род? Вот вопрос, на который природа, если рассматривать ее только с объективной точки зрения, ответа не дает. Ибо тщетно пытались бы мы при взгляде на нее[232] раскрыть смысл этого неустанного стремления, этого неодолимого порыва к бытию, этой боязливой заботы о сохранении рода. Силы и время индивидов истощаются в напряженных усилиях поддержать собственную жизнь и жизнь потомства, и лишь едва-едва их хватает на это, а иногда их не хватает вообще. И если здесь остается порою избыток силы, а с нею и довольства, — а у единственной разумной породы и избыток познания, — то он слишком незначителен для того, чтобы в нем можно было видеть цель всех этих стараний природы. Если встать на чисто объективную точку зрения, как если бы все это нас не касалось, то дело принимает такой вид, будто природа заинтересована исключительно в том, чтобы не потерять ни одной из своих (платоновых) идей, т. е. пребывающих форм; будто в удачном изобретении и сочетании этих идей (для которого три предшествующих поколения животных на земной поверхности послужили пробой) она
295
нашла себе такое полное удовлетворение, что теперь у нее осталась одна только забота — как бы не погиб один из этих прекрасных замыслов, как бы не исчезла из временного и причинного ряда одна из этих пребывающих форм. Ибо индивиды сменяются, как вода в ручье, идеи же неизменны, как сам его поток, и лишь тогда они исчезнут, когда иссякнет вода. Только этот загадочный облик и являла бы нам природа, если бы она была нам известна только внешним образом, т. е. дана лишь объективно, и если бы мы считали, что, подобно тому как она воспринимается познанием, так из познания, т. е. в области представления, она и возникла, и что, следовательно, при ее разгадке нам следует держаться этой области. Но это не так, и нам бесспорно дано заглянуть в недра природы, ибо они суть не что иное, как наши собственные недра, где природа, достигнув самой высокой ступени, до какой только могла она подняться в своем творчестве, непосредственно, в самосознании, озаряется светом познания. И здесь нам являет себя воля как нечто toto genere отличное от представления, в котором прежде представала перед нами природа, развивая все свои идеи, и сразу же дает нам такую разгадку, которой мы никогда не могли бы найти на чисто объективном пути представления. Таким образом, субъективное здесь дает нам ключ к истолкованию объективного.
Для того чтобы познать, как нечто изначальное и безусловное, то непомерно могучее тяготение всех животных и людей к поддержанию и возможному продлению жизни, которое я для характеристики этого субъективного момента, или воли, описал выше, необходимо еще сделать для себя ясным, что это тяготение вовсе не является результатом какого-то объективного знания о ценности жизни, что оно вообще не зависит ни от какого познания: другими словами, все эти живые существа не влекутся к жизни спереди, а подталкиваются к ней сзади.
И если мы, имея это в виду, оглянемся прежде всего на бесконечные ряды животных и обратим внимание на огромное разнообразие их форм, которые принимают все новые и новые модификации, сообразно стихии и образу жизни каждой породы, и если мы подумаем в то же время, как недосягаемо искусно и одинаково совершенно во всех индивидах проявляется организация и строение животных существ, и какие невероятные затраты силы, ловкости, ума и энергии должно беспрестанно производить животное в течение всей своей жизни; если, глубже вникая в это, мы присмотримся, например, к неутомимому усердию бедных маленьких муравьев, к удивительному и разумному трудолюбию пчел, к тому, как один могильник (necrophorus vespillo) в два дня погребает крота, который в сорок раз превосходит его по величине, для того чтобы отложить в него свои яйца и обеспечить питание своему будущему потомству (Гледич. «Различные физико-ботанико-экономические труды», 3, 220); если мы вспомним при этом, что вообще жизнь большинства насекомых не представляет собою ничего другого, кроме непрерывной работы, совершаемой для того, чтобы приготовить корм и жилище для будущего поколения, которое возникнет из их яиц и которое, пожрав этот корм и обратившись в куколки, вступит в жизнь только для того, чтобы начать сызнова ту же самую работу; если мы подумаем, что и жизнь птиц большей частью уходит на их дальние и трудные
296
странствования, на постройку гнезд и кормление птенцов, которые сами в следующем году будут играть ту же роль, и что всё и всегда, таким образом, работает для будущего, которое затем оказывается банкротом, — если мы подумаем обо всем этом, то неизбежно перед нами встанет вопрос: какова же награда за все это старание и за все эти труды, где же та цель, которая встает перед животным в его неутомимой деятельности, короче говоря, что получается из этого, что достигается ценою этого животного существования, которое требует столь необозримых приспособлений? И в ответ на это нельзя будет указать ничего, кроме удовлетворения голода и полового инстинкта, а кроме того, еще нескольких мгновений удовольствия, которые время от времени выпадают на долю каждого животного индивида среди его бесконечных страданий и тягот. И если сопоставить оба эти момента — неописуемую сложность орудий, несказанное обилие средств и скудость того, что с их помощью преследуется и достигается, то невольно у нас зародится мысль, что жизнь — такое предприятие, доходы от которого далеко не покрывают его издержек. Заметнее всего это становится на примере некоторых животных, ведущих самый простой образ жизни. Посмотрите, например, на крота, этого неутомимого работника. Напряженно копать своими огромными лопатообразными лапами — вот занятие всей его жизни; постоянная ночь окружает его: и его глаза, находящиеся в зачаточном состоянии, нужны ему только для того, чтобы избегать света. Он один — подлинное animal осtumum*, а не кошки, совы и летучие мыши, которые видят ночью. Но что же покупает он ценою такой жизни, исполненной труда и лишенной радостей? Пищу и оплодотворение, т. е. одни только средства для того, чтобы продолжать все тот же печальный путь и начинать его сначала в новом индивиде. На таких примерах становится явным, что между напряжением и тяготами жизни и ее итогом, или выигрышем, нет соответствия. Жизнь зрячих животных благодаря сознанию наглядного мира, хотя оно у них полностью субъективно и ограничено воздействием мотивов, все-таки обретает некоторую видимость объективной ценности существования. Но слепой крот, при всей своей идеальной организации и неутомимой деятельности обреченный на смену голода и насыщения личинками насекомых, воочию показывает нам все несоответствие средств и целей. В этом отношении особенно поучительное зрелище являет собой животный мир, предоставленный самому себе, в странах без человеческого населения. Прекрасное изображение такого мира и его страданий, причиняемых ему самой природой, без всякого участия со стороны человека, дает Гумбольдт в своих «Картинах природы» (второе издание, с. 30 и сл.); на с. 44 он не упускает случая бросить взгляд и на подобное же страдание человечества, всегда и повсюду болеющего внутренним самораздвоением. Но в простой и ясной жизни животных заметнее тщета и ничтожество всего стремления к жизни. Разнообразие организаций, сложность средств, с помощью которых всякое животное приспосабливается к своей стихии и к своей добыче, образует здесь явный контраст с отсутствием какой бы то ни было устойчивой конечной цели; вместо этого мы видим только
297
минуты довольства, мимолетное
наслаждение, обусловленное лишениями, обильное и долговременное страдание,
постоянную борьбу, bellum
298
объективациях: лишь тогда мы поймем ее сущность и сущность мира, а не тогда, когда будем конструировать общие понятия и строить из них карточные домики. Для того чтобы постичь великое зрелище объективации воли к жизни и характер ее сущности, необходимы, разумеется, более точное рассмотрение, вдумчивость и большая обстоятельность, чем когда мы отделываемся от мира, прилагая к нему титул божества, или с плоскостью, свойственной только нашему немецкому отечеству, умеющему ею наслаждаться, объясняем, что это «идея в своем инобы-
299
тии», — ответ, в котором пошлость
моей эпохи в течение целых двадцати лет
находила себе несказанное удовлетворение. Конечно, согласно пантеизму или спинозизму, простыми пародиями
которых являются эти системы нашего
столетия, все это действительно вертится без конца, во веки веков. Ибо в пантеизме мир — это Бог, ens perfectissimum*, т. е. ничего лучшего и быть не может, ничего лучшего нельзя даже
представить себе. Нет нужды, следовательно,
и в избавлении от этого, а значит,
нет и самого искупления. Но зачем происходит вся эта трагикомедия, — этого нельзя понять даже в малейшей
степени, ибо она не имеет зрителей, и
сами актеры переносят бесконечные муки, лишь изредка испытывая скудные и чисто отрицательные наслаждения.
Если теперь бросить взгляд еще и на человеческий род, то вся картина окажется, правда, более сложной и приобретет некоторую серьезную окраску, но основной ее характер останется тем же. И здесь жизнь вовсе не представляется каким-то подарком для нашего удовольствия: нет, она — задача, урок, который надо отработать; и поэтому мы всюду видим, как в великом, так и в малом, всеобщую нужду, беспрерывный труд, постоянную суету, бесконечную борьбу, вынужденную деятельность, связанную с крайним напряжением всех физических и духовных сил. Миллионы людей, соединившись в народы, стремятся к общему благу» каждая отдельная личность заботится о благе собственном; но многие тысячи падают жертвами этого стремления. То безумная мечта, то хитроумная политика приводят их к войнам друг с другом, и тогда текут потоки пота и крови бесчисленных масс, для того чтобы реализовать замыслы отдельных личностей или искупить их ошибки. В мирное время процветают торговля и промышленность, делаются чудесные открытия и изобретения, переплываются моря, со всех концов Земли привозятся редкие яства, — и тысячи погибают в морских волнах. Все хлопочут, одни в мечтах, другие на деле, — суета неописуемая. Но где же конечная цель всего этого, в чем она? В том, чтобы на короткий промежуток времени сохранить эфемерных и страждущих индивидов, в самом счастливом случае дать им в удел сносную нужду и относительное отсутствие страданий, которое, впрочем, всегда подстерегает скука, и обеспечить продолжение этого рода и его деятельность. Ввиду этого явного несоответствия между трудом и вознаграждением, воля с этой точки зрения, взятая объективно, предстает как безумец, а субъективно — как безумие, которым объято все живущее, так что оно, в крайнем напряжении своих сил, стремится к чему-то такому, что не имеет никакой ценности. Но при более внимательном рассмотрении мы и здесь убедимся, что она — скорее какой-то слепой порыв, совершенно беспричинное и немотивированное влечение.
Как я показал в § 29 первого тома, закон мотивации распространяется только на отдельные поступки, а не на воление в целом и вообще. Этим и объясняется то, что когда мы рассматриваем человеческий род и его деятельность в целом и общем, то они уже не кажутся нам, как при созерцании его отдельных событий, игрой обычных марионеток, которыми двигают за ниточку: нет, с этой общей точки зрения человечество
300
предстает перед нами в виде таких марионеток, которые приводятся в движение внутренним часовым механизмом. Ибо если сравнить, как мы это сделали выше, неустанную, старательную и мучительную работу людей с тем, что они получают или что вообще могут когда-нибудь получить за нее, то указанное несоответствие делается очевидным и мы убеждаемся, что цель человеческих стремлений, взятая в качестве движущей силы, вовсе не может служить удовлетворительным объяснением для этого движения, для этой безостановочной суеты. В самом деле: что такое короткая отсрочка смерти, небольшое облегчение нужды, ослабление боли, мимолетное удовлетворение желаний — что все это в сравнении с такой частой победой всех этих зол и с неминуемой победой смерти? Какое значение могут иметь подобные приманки в качестве реальных побуждений для бесчисленного человеческого рода, который в своем вечном обновлении неустанно движется, волнуется, борется, страдает и осуществляет всю эту трагикомическую мировую историю и, что поразительнее всего, выдерживает это жалкое существование, насколько это возможно для каждого отдельного лица? Очевидно, все это останется необъяснимым, пока движущие причины мы будем искать вне действующих фигур и пока мы будем верить, что человечество стремится, в силу разумных соображений или чего-то аналогичного (подобного управляющим нитям), к тем благам, достижение которых должно служить ему соответствующей наградой за все его безустанные труды и муки. Нет, при таком взгляде на жизнь всякий давно бы сказал: «Le jeu ne vaut pas la chandelle»* и откланялся бы. Между тем каждый бережет и охраняет свою жизнь, словно это драгоценный залог, доверенный ему под тяжкую ответственность, — бережет и охраняет его среди бесконечных забот и обильных лишений, в которых и проходит вся его жизнь. Он не знает — для чего и зачем, не видит он и награды за это; он принял на веру ценность этого залога, не рассмотрев его как следует, и не знает, в чем она состоит. Поэтому я и сказал, что эти марионетки не приводятся в движение извне, но каждая из них носит в себе некий часовой механизм, благодаря которому и совершаются все ее движения. Это — воля к жизни, неутомимый механизм, неразумный порыв, имеющий свое достаточное основание не во внешнем мире. Она прочно удерживает отдельные особи на арене жизни и является primum mobile** их движений, между тем как внешние предметы, мотивы, определяют только их направление в каждом отдельном случае, — иначе не было бы никакого соответствия между причиной и действием. Ибо подобно тому как всякое обнаружение той или другой силы природы имеет известную причину, сама же эта сила причины не имеет, так и всякий отдельный акт воли имеет известный мотив, сама же воля вообще мотива не имеет; в сущности оба эти обстоятельства — одно и то же. Повсюду воля, как начало метафизическое, служит пограничным камнем всякого объяснения, и последнее за его пределы выйти не может. Эта проясненная нами изначальность и безусловность воли объясняет, почему человек больше всего на свете любит свое существование, исполненное нужды, страда-
301
ний, боли и страха, а в то же время и скуки, — существование, которое с чисто объективной точки зрения он должен был бы ненавидеть, и почему больше всего на свете он боится конца этой жизни, который, однако, является для него единственной достоверностью*. Поэтому нередко нам встречается изможденный и изнуренный старостью, нуждою и болезнями человек, который из глубины души молит нас о помощи, о том, чтобы продлить его существование, прекращение которого должно было бы казаться ему вполне желанным, если бы только определяющим моментом здесь служило объективное суждение. Но не оно решает здесь, а слепая воля как порыв к жизни, как наслаждение жизнью, как жизненная энергия, — то же, что заставляет расти и растение. Эту жизнерадостность можно сравнить с канатом, который — вообразим себе — протянут над кукольной сценой человеческого мира и на котором, привязанные незаметными ниточками, висят куклы: нам только кажется, будто они опираются на сцену (на объективную ценность жизни). И стоит этому канату ослабнуть, как кукла сейчас же сникает; если же он оборвется, то кукла неминуемо упадет, потому что на сцену она опиралась только по видимости. Другими словами: ослабление жизнерадостности сказывается в виде ипохондрии, сплина, меланхолии; ее полное иссякание выражается в склонности к самоубийству, которое в таком случае человек и совершает при самом незначительном и даже мнимом поводе, ибо он как бы нарочно ищет ссоры с самим собою, чтобы убить себя, как некоторые с подобной же целью ищут ссоры с другими людьми, а иногда, в критических случаях, к самоубийству прибегают даже безо всякого повода (подтверждение этого см. у Эскироля, «Des maladies mentales»**, 1838). То же самое надо сказать не только о жизнеспособности, но и о тех волнении и суете, которые ее наполняют. Они не есть нечто свободно избранное: всякий хотел бы предаться покою, но нужда и скука — вот те бичи, которые поддерживают волчок в постоянном движении. Вот почему и общая картина жизни, и каждый отдельный ее момент носят на себе отпечаток подневольности, и всякий человек, внутренне косный и жаждущий покоя, должен все-таки продвигаться дальше и дальше, подобно своей планете, которая лишь потому не падает на солнце, что этому мешает сила, влекущая ее дальше. Так все находится в беспрерывном напряжении и подневольном движении, и суета мира продолжается, употребляя выражение Аристотеля (De coelo, II, 13), «motu non naturali, sed violento»***. Это лишь кажется, будто людей влечет что-то, находящееся впереди них, на самом деле их подталкивает нечто сзади. Не жизнь манит их, а нужда толкает вперед. Закон мотивации — это, как и всякая причинность, только форма явления. Замечу попутно: именно здесь находится источник комического, бурлескного, гротескного, карикатурной стороны жизни: ибо, влекомый вперед против собственной воли, каждый упирается как только может, и борьба, которая возникает таким образом, нередко принимает забавный вид, как ни серьезно то страдание, которое здесь кроется.
302
Из всех этих соображений нам становится ясно, что воля к жизни не есть ни результат познания жизни, ни какое-то conclusio ex præmissis*, и вообще не есть нечто вторичное: скорее она есть первое и безусловное, предпосылка всех предпосылок, и именно поэтому то, из чего должна исходить философия; ибо не воля к жизни появляется благодаря миру, но мир — благодаря воле к жизни.
Мне вряд ли нужно упоминать о том, что соображения, которыми мы завершаем здесь вторую книгу, уже ясно указывают на подлинную тему четвертой книги, и мы даже могли бы прямо перейти к ней, если бы моя архитектоника не требовала вначале, в качестве второго рассмотрения мира как представления, ввести третью книгу с ее радостным содержанием, заключение которой, однако, вновь указывает в том же направлении.
Et is similis spectatori
est, quod ab
«Oupnekhat», vol. I, p. 304*.
Глава 29**
О познании идей
Интеллект, который до сих пор рассматривался нами в его первоначальном и естественном состоянии подчиненности воле, в третьей книге является перед нами таким, каков он бывает, когда освободится от этого подчинения; но при этом сейчас же следует заметить, что здесь идет речь не о продолжительном отпуске, а только о коротком, мимолетном, в виде исключения даруемом освобождении от службы воле. Так как я с достаточной подробностью говорил об этом в первом томе, то здесь мне остается сделать лишь несколько дополнительных замечаний.
Как я выяснил там в § 33, интеллект, находящийся на службе у воли, т. е. занятый своей естественной функцией, познает, собственно говоря, одни только отношения вещей: а именно прежде всего их отношения к самой той воле, которой он принадлежит, — в силу чего они становятся мотивами для последней; а затем, в интересах законченности этого знания, — и отношения вещей между собою. Это последнее знание получает некоторую широту и значительность только в человеческом интеллекте; а в интеллекте животном, даже там, где он достигает серьезного развития, это знание имеет очень тесные границы. Очевидно, познание отношений, в которых состоят друг к другу вещи, лишь опосредованно находится на службе у воли. Такое познание составляет переход к познаванию чисто объективному, от воли совершенно независимому: первое познание научно, между тем как это объективное познание художественно. Если мы непосредственно воспринимаем множество разнообразных отношений какого-нибудь объекта, то из них все явственнее выступает сущность последнего, постепенно выстраиваясь из одних только отношений, хотя сама по себе она от них совершенно отлична. При таком способе восприятия вещей зависимость интеллекта от воли одновременно становится все более опосредованной и слабеет. Если интеллект достаточно силен для того, чтобы достичь превосходства над
304
волей и совсем опустить отношения вещей к ней, для того чтобы вместо них воспринять выказывающуюся сквозь все отношения чисто объективную сущность какого-нибудь данного явления, то он отказывается как от службы воле, так и от восприятия одних только отношений, а потому, собственно говоря, и от восприятия всякой отдельной вещи как таковой. Тогда он парит свободно и уже не принадлежит никакой воле; в отдельной вещи познает он только существо и оттого весь ее род; следовательно, его объектом являются теперь идеи, в моем смысле, который совпадает с первоначальным, платоновским смыслом этого столь грубо искажаемого слова, иначе говоря, его объектом являются теперь пребывающие, неизменные, от временного бытия отдельных вещей независимые образы, species rerum*, которые собственно и составляют чисто объективный момент явлений. Постигнутая таким образом идея еще не есть, правда, сама сущность вещи в себе, — потому что она, эта идея, возникла из познания одних только отношений, но все же, как результат суммы всех отношений, она представляет собою истинный характер вещи, а следовательно, и полное выражение названной сущности, воспринимаемой созерцанием как объект и познаваемой не в отношении к какой-нибудь индивидуальной воле, а так, как она выказывается сама собою, чем и определяет все те свои отношения, которые до тех пор одни только и познавались. Идея — центральный пункт всех этих отношений и, вследствие этого, полное и совершенное явление, или, как я выразил это в тексте, адекватная объектность воли на этой ступени ее проявления. Даже форма и цвет, которые в интуитивном постижении идеи составляют непосредственный момент, — даже они, в сущности, относятся еще не к ней, а составляют лишь средство для ее выражения, потому что, строго говоря, пространство ей столь же чуждо, как и время. В этом смысле сказал уже неоплатоник Олимпиодор в своем комментарии к «Алкивиаду» Платона (Крейцерово издание Прокла и Олимпиодора, т. 2, с. 82): τὸ ειδος μεταδέδωκε μὲν της μυρφ͂ης τ͂η ὒλη ἀμερὲς δὲ ὂν μετέλαβεν ἐξ αὐτ͂ης το͂υ διαστατο͂υ, т. е. идея, сама по себе непротяженная, хотя и сообщила материи форму, но лишь от нее заимствовала протяженность.
Таким образом, идеи раскрывают еще не сущность саму по себе, а только объективный характер вещей, т. е.
все еще только явление, и даже
этот характер был бы нам непонятен, если бы внутренняя сущность вещей не была нам известна, по крайней мере в виде
смутного чувства, из другого
источника. Сама эта сущность не может быть понята из идей и вообще путем какого бы то ни было чисто объективного познания; поэтому она навеки оставалась
бы для нас тайной, если бы мы не
имели доступа к ней совершенно с другой стороны. Только потому, что всякое познающее существо есть
одновременно и индивид, а через это
и часть природы, — только потому для него и открыт доступ в недра последней: доступ этот находится в
самосознании человека, где сокровенное ядро
природы вещает о себе наиболее непосредственным образом и, как мы видим, проявляется как воля.
То, что рассматриваемое как чисто объективный образ, чистая
форма и потому как нечто стоящее
вне времени, как и вне всех отношений,
305
есть платонова идея, — это
самое, взятое эмпирически и во времени, есть species, или вид: последний, таким образом,
представляет собою эмпирический коррелят
идеи. Идея, в сущности, вечна, вид же бесконечно продолжается, хотя проявление его на какой-нибудь планете и
может угаснуть. Да и сами названия
идеи и вида переходят одно в другое: είδος,
species, вид. Идея — это species, но не genus*; вот почему species — создания природы,
между тем как genera — создания людей: они
представляют собою не больше, чем понятия. Species бывают naturales**,
но genera только logicæ***. Об
артефактах существуют не идеи, а
только понятия, т. е. genera logica, а их подвидами являются species logicæ. К тому, что
сказано мною об этом в § 41 первого тома,
я хотел бы прибавить еще, что, и по Аристотелю (Metaph., I, 9 и XIII,
5), платоники не признавали
существования идей артефактов, «ut d
Индивид имеет свои корни в роде, а время — в вечности; и как всякий индивид таков лишь потому, что он носит в себе сущность своего рода, так и временную продолжительность имеет он лишь потому, что он вместе с тем существует в вечности. Жизни рода я посвятил в следующей книге особую главу.
Различие между идеей и понятием я достаточно выяснил в § 49 первого тома. Сходство же между ними основывается на следующем. Изначальное и естественное единство всякой идеи, в обусловленном чувственностью и мозгом созерцании познающего индивида, раздробляется на множественность отдельных вещей. Но затем рефлексией разума это единство восстанавливается — однако лишь in abstracto, как понятие, universale*******, которое по своему объему, правда, равно идее, но облечено в совершенно другую форму, вследствие чего проигрывает в своей наглядности, а с нею и в полной определенности. В этом смысле (но ни в каком ином) и можно было бы, на языке схоластов[233],
306
называть идеи uniersalia ante rem*, а понятия — universalia post rem**; между теми и другими лежат отдельные вещи, познанием которых обладает и животное. Несомненно, реализм схоластов возник вследствие смешения платоновских идей, которым бесспорно может быть приписано объективное, реальное существование, так как они одновременно являются и родами, — с простыми понятиями, которым реалисты хотели придать такое существование, чем и вызвали победоносную оппозицию номинализма.
Глава 30***
О чистом субъекте познания
Для того чтобы воспринять какую-нибудь идею, для того чтобы она вошла в наше сознание, в нас должно произойти известное изменение, которое можно рассматривать и как некий акт самоотрицания, ибо оно состоит в том, что сознание вдруг совершенно отворачивается от собственной воли, т. е. совсем упускает из виду доверенный ему драгоценный залог и начинает смотреть на вещи так, как если бы они никогда и нисколько не могли касаться воли. Только в силу подобной перемены наше познание делается чистым зеркалом объективной сущности вещей. В основе всякого подлинного художественного произведения должно лежать как его источник обусловленное таким образом познание. Необходимая для этого перемена в субъекте не может исходить от воли, потому что она состоит именно в элиминации всякого воления, т. е. она не может быть актом произвола, не может зависеть от нашего вкуса и выбора. Напротив, она вытекает исключительно из временного перевеса, который получает интеллект над волей, или, говоря физиологически, из сильного возбуждения созерцательной деятельности мозга без всякого возбуждения склонностей или аффектов. Чтобы точнее разъяснить это, напомню, что наше сознание имеет две стороны: отчасти оно представляет[234] собою сознание нашего собственного я, которым служит воля; отчасти же оно — сознание других вещей, и как такое оно — прежде всего — созерцательное познание внешнего мира, постижение объектов. И чем больше выступает какая-нибудь одна из этих сторон совокупного познания, тем дальше отходит в тень другая. Вот почему сознание других вещей, т. е. созерцательное познание, тем совершеннее, т. е. объективнее, чем меньше мы осознаем при этом собственное Я. Здесь действительно возникает некоторый антагонизм: чем более мы сознаем объект, тем менее сознается нами субъект; и наоборот, чем больше овладевает сознанием субъект, тем слабее и несовершеннее становится наше созерцание внешнего мира. Состояние, необходимое для чистой субъективности созерцания, требует отчасти постоянных условий, отчасти временных: первые — это совершенство мозга и благоприятная для его деятельности физиологическая структура вообще; вторые же условия
307
нужны постольку, поскольку названному состоянию благоприятствует все, что повышает напряженность и восприимчивость мозговой нервной системы, но без возбуждения какой бы то ни было страсти. Не надо думать при этом о спиртных напитках или опиуме: нет, к таким условиям скорее относятся ночь, проведенная в спокойном сне, холодное купание и все то, что, успокаивая кровообращение и страстность, придает мозговой деятельности непринужденный перевес над волей. Эти нормальные средства стимулирования нервно-мозговой деятельности лучше всего содействуют — конечно, тем успешнее, чем развитее и энергичнее мозг вообще, — все большему и большему обособлению объекта от субъекта и, наконец, вызывают то состояние чистой объективности созерцания, которое само собой элиминирует волю из сознания и в котором все вещи стоят перед нами с особенной ясностью и отчетливостью, так что мы знаем почти только о них и почти ничего не знаем о себе; словом, все наше сознание тогда не представляет собою почти ничего, кроме среды, через которую созерцаемый объект проникает в мир как представление. Таким образом, до чистого, безвольного познания дело доходит тогда, когда сознание других вещей поднимается до такой высокой степени, что сознание собственного Я исчезает. Ибо лишь тогда мир воспринимается чисто объективно, когда мы перестаем сознавать, что принадлежим к нему; и все вещи кажутся нам тем прекраснее, чем больше мы сознаем только их и чем меньше мы сознаем самих себя. А так как всяческое страдание вытекает из воли, которая составляет наше действительное Я, то вместе с ослаблением этой стороны сознания одновременно уничтожается и всякая возможность страдания, отчего состояние чистой объективности созерцания глубоко благостно; поэтому я признал в нем один из двух элементов эстетического наслаждения. Но как только сознание собственного Я, или субъективности, т. е. воля, снова получает перевес, сейчас же возникает и соответственная степень недовольства или тревоги: первое возникает потому, что мы опять начинаем чувствовать свою телесность (организм, который сам по себе есть воля); последнее возникает потому, что воля, уже в духовном отношении, снова наполняет сознание желаниями, аффектами, страстями, заботами. Ибо воля как принцип субъективности всюду является противоположностью и даже антагонистом познания. Величайшая концентрация субъективности состоит в собственно волевом акте, в котором поэтому и дано нам самое ясное сознание нашего Я. Все другие возбуждения воли составляют лишь приготовления к нему: он сам представляет для субъективности то, что для электрического аппарата — появление искры. Всякое физическое ощущение — это, в сущности, возбуждение воли, и при этом чаще возбуждение noluntas*, чем voluntas**. Возбуждение последнего духовными средствами возникает посредством мотивов; здесь, таким образом, самой объективностью пробуждается и приводится в действие субъективность. Это бывает тогда, когда тот или другой объект воспринимается нами уже не чисто объективно, т. е. не безучастно, а возбуждает в нас, косвенно или
308
непосредственно, желание или отвращение, хотя бы только путем воспоминания; ибо в таком случае этот объект действует на нас уже как мотив в самом широком смысле этого слова.
Замечу при этом, что хотя отвлеченное мышление и чтение, которые связаны со словами, в широком смысле тоже относятся к сознанию других вещей, т. е. к объективному занятию духа, но относятся лишь косвенно, а именно через посредство понятий; а сами понятия — это искусственный продукт разума и уже потому только являются делом преднамеренности. Да и при всяком отвлеченном занятии ума воля служит руководителем, который, согласно своим видам, сообщает этому занятию известное направление и сосредоточивает на чем-нибудь одном внимание субъекта; вот почему такие занятия всегда связаны с некоторым напряжением, а оно предполагает деятельность воли. Итак, при этой форме духовной деятельности нет места для той полной объективности сознания, которая обусловливает и сопровождает эстетическое восприятие, т. е. познание идей.
В силу сказанного чистая объективность созерцания, благодаря которой познается уже не отдельная вещь как таковая, а идея всего ее рода, — эта объективность обусловлена тем, что мы сознаем уже не самих себя, а только созерцаемые предметы, т. е. собственное сознание остается лишь в качестве носителя объективного существования этих предметов. То, что затрудняет возникновение состояния и потому делает его редким, заключается в следующем: в нем акциденция (интеллект) как бы берет верх над субстанцией (волей) и подавляет ее, хотя бы лишь на короткое время. В этом и состоит аналогия и даже родство указанного состояния с тем отрицанием воли, о котором я говорю в конце следующей книги. Хотя познание, как я показал в предыдущей книге, выросло из воли и имеет свои корни в проявлении последней, т. е. в организме, тем не менее как раз воля и лишает его чистоты, подобно тому как пламя затемняется своим горючим материалом и его дымом. В этом — причина того, что чисто объективную сущность вещей, пронизывающие их идеи, мы можем воспринимать лишь тогда, когда мы сами ничем не заинтересованы в них, т. е. когда эти вещи не находятся ни в каком отношении к нашей воле. А отсюда уже вытекает и то, что идеи существ легче постигаются нами из художественных произведений, чем из действительности. Ибо то, что мы созерцаем только на картине или в поэтическом творении, стоит вне всякой возможности какого бы то ни было отношения к нашей воле, так как уже по самому своему характеру оно существует только для познания и непосредственно обращается только к нему. Наоборот, восприятие идей из действительности до некоторой степени предполагает отвлечение от собственной воли, возвышение над ее интересом, которое требует особой центробежной силы интеллекта. А последняя, в своей высокой степени и с некоторой продолжительностью, является достоянием одного только гения: ведь в том и заключается гениальность, что человеку дана бо́льшая мера познавательной силы, чем это необходимо для служения какой бы то ни было индивидуальной воле; и вот, избыток интеллекта освобождается и воспринимает мир безотносительно к воле. Таким образом, если произведение искусства столь облегчает для нас восприятие идей, в котором и состоит эстетичес-
309
кое наслаждение, то это объясняется не только тем, что искусство, выделяя существенное и отбрасывая несущественное, показывает нам вещи в более ясном и характерном свете, но в равной мере и тем, что полное безмолвие воли, необходимое для чисто объективного восприятия сущности вещей, вернее всего достигается в том случае, когда объект созерцания лежит совсем вне области таких вещей, которые могут иметь какое-нибудь отношение к воле, когда он, другими словами, представляет собою не что-либо реальное, а только образ. Это относится к произведениям не только изобразительного искусства, но точно так же и к поэзии: и ее действие на нас обусловливается безучастным, безвольным и оттого чисто объективным восприятием. Именно последнее делает в наших глазах созерцаемый предмет живописным, а события реальной жизни поэтическим[235], ибо только оно окутывает вещи действительного мира тем волшебным сиянием, которое в чувственно созерцаемых предметах мы называем живописным, а в предметах, созерцаемых только в воображении, — поэтическим. Когда поэты воспевают ясное утро, чудный вечер, тихую лунную ночь и т. п., то, неведомо для них, истинным предметом их восторга и песнопений служит чистый субъект познания, который пробуждается этими красотами природы и появление которого заставляет волю исчезнуть из сознания, отчего и наступает тот глубокий душевный покой, которого иным путем нельзя достигнуть в мире. Иначе как могли бы производить на нас столь отрадное и чарующее впечатление, например, следующие стихи:
Nox
erat et caelo fulgebat luna sereno
Inter
monora sidera*.
Далее, так как новизна и совершенная неизведанность предметов благоприятствует их бескорыстному, чисто объективному восприятию, то этим и объясняется, что на чужестранца или обыкновенного туриста производят впечатление живописных или поэтичных такие предметы, которые не способны оказывать подобного же действия на коренных жителей; так, например, на иных людей вид совсем незнакомого города часто производит удивительно приятное впечатление, которого он совсем не вызывает в постоянных его жителях, ибо впечатление это имеет свой источник в том, что путешествующий, не находясь в каких-либо отношениях к данному городу и его обитателям, созерцает его вполне объективно. На этом отчасти и основывается то наслаждение, с каким связаны путешествия. Здесь же, по-видимому, лежит объяснение и того приема, посредством которого авторы повествовательных или драматических произведений думают усилить впечатление тем, что переносят место действия в отдаленные времена и страны: из Германии — в Италию и Испанию, из Италии — в Германию, Польшу и даже Голландию.
Если совершенно объективное, очищенное от всякого желания, интуитивное восприятие является условием наслаждения эстетическими предметами, то тем в большей степени является оно условием их создания. Всякая хорошая картина, всякое истинно поэтическое творение
310
носят на себе отпечаток описанного настроения духа. Ибо только то, что вытекает из созерцания, и притом чисто объективного созерцания, или что непосредственно им вызывается, — только это содержит в себе живой зародыш, из которого могут вырасти оригинальные и истинные творения, и не только в изобразительных искусствах, но и в поэзии и даже в философии. Punctum saliens* каждого прекрасного творения, каждой великой и глубокой мысли — это чисто объективное созерцание. Но последнее непременно обусловливается полным безмолвием воли, которое обращает всего человека в чистый субъект познания. Прирожденным задатком к преобладанию такого состояния и является гениальность.
С исчезновением воли из сознания исчезает, собственно, и индивидуальность с ее страданиями и нуждой. Поэтому остающийся тогда чистый субъект познания я и описал как вечное мировое око, которое, хотя и с весьма различной степенью ясности, смотрит изо всех живых существ, чуждое их возникновению и уничтожению и таким образом тождественное самому себе, вечное и неизменное, является носителем мира пребывающих идей, т. е. адекватной объективности воли, между тем как индивидуальный субъект, омраченный в своем познании проистекающей из этой воли индивидуальностью, имеет своими объектами только отдельные вещи и преходит[236], как они. В указанном здесь смысле всякому человеку можно приписывать двоякое существование. Как воля и потому как индивид, он есть лишь нечто одно и исключительно это одно, что и дает ему вдоволь труда и страданий. Как существо, чье представление чисто объективно, он — чистый субъект познания, в сознании которого объективный мир только и имеет свое бытие; и как таковой он есть все вещи, поскольку он их созерцает, и в нем их бытие свободно от тягости и страданий. Это — его бытие, поскольку оно существует в его представлении: но здесь оно лишено воли. Поскольку же оно — воля, оно в нем не существует. Благо каждому в том состоянии, когда он есть все вещи; горе ему, когда он есть что-нибудь исключительно одно. Стоит только чисто объективно воспринять и сделать предметом описания любое состояние, любого человека, любую жизненную сцену, будь то описание кистью или словами, и они предстанут интересными, отрадными, достойными зависти, но если ты сам этот человек, если и тебя касается дело, тут уж (как часто говорят) черт бы это побрал все сразу. Оттого и говорит Гете:
То,
что в жизни досаждает,
Нас
в картине восхищает3.
В годы моей юности я пережил такой период, когда усердно пытался смотреть на себя и свои поступки со стороны и изображать их себе как нечто художественное, вероятно для того, чтобы я смог насладиться плодами этих поступков.
Так как приведенное соображение до меня никем еще не было высказано, то я для его разъяснения сделаю несколько замечаний психологического характера.
311
При непосредственном созерцании мира и жизни мы обыкновенно рассматриваем вещи только в их взаимоотношениях, т. е. в их относительном, а не абсолютном существе и бытии. Мы смотрим, например на дома, корабли, машины и т. п. с мыслью об их цели и пригодности для нее; мы смотрим на людей с мыслью об их отношении к нам, если только последнее существует, а затем начинаем думать об их отношении друг к другу: об их теперешней жизни и деятельности, об их сословии и занятии, обсуждая, скажем, их способности и т. д. В этом рассмотрении отношений можно пойти достаточно далеко, вплоть до самых отдаленных звеньев образуемой ими цепи: от этого оно выиграет в точности и широте, но ценность его и характер останутся теми же. Это будет все то же рассмотрение вещей в их отношениях и даже посредством их, т. е. по закону основания. Этому способу рассмотрения следует по большей части всякий человек: я думаю даже, что большинство людей вовсе и неспособны на иное отношение к миру. Когда же в виде исключения нам случается испытать мгновенный подъем интенсивности нашей интуитивной интеллигенции, то мы сейчас же видим вещи совсем другими глазами, потому что мы воспринимаем их теперь уже не в их отношениях, а такими, каковы они сами по себе, и внезапно кроме их относительного бытия постигаем и их абсолютное бытие. Всякая отдельная вещь сейчас же становится представителем всего своего рода, и мы воспринимаем теперь в существах то общее, что в них есть. То, что мы познаем таким образом, это — идеи вещей, а через них говорит нам мудрость более высокая, чем та, которая знает одни только отношения. И мы сами выходим тогда из области отношений и делаемся чистым субъектом познания. Вызывать в нас подобное исключительное состояние могут лишь внутренние физиологические процессы, которые очищают и повышают деятельность мозга до такой степени, что возникает этот неожиданный ее всплеск. С внешней стороны такое состояние обусловливается тем, что мы остаемся совершенно чужды к созерцаемой сцене, далеки от нее и абсолютно не принимаем в ней деятельного участия.
Для того чтобы убедиться, что чисто объективное и поэтому правильное восприятие вещей возможно лишь тогда, когда мы созерцаем их без всякого личного участия, т. е. при совершенном безмолвии воли, припомним, как сильно всякий аффект или страсть туманит и искажает познание и как всякая симпатия и антипатия коверкает, окрашивает и портит не говорю уже — наше суждение, но даже и первоначальное восприятие предметов. Вспомните, в каком радужном свете, с какой улыбкой смотрит на нас природа, когда мы осчастливлены какой-нибудь радостной вестью; вспомните, как мрачна и уныла эта самая природа, когда нас угнетает скорбь; вспомните, как даже бездушные вещи принимают в наших глазах ужасный облик, если они являются орудием какого-нибудь страшного для нас события, например эшафот, крепость, в которую меня привезли, ящик с хирургическими инструментами, экипаж, который должен увезти мою возлюбленную, и т. п.; даже числа, буквы, печати — все это может смотреть на нас зловещими глазами и производить впечатление каких-то ужасных чудовищ. Наоборот, люди и вещи, которые должны служить осуществлению наших желаний, сей-
312
час же принимают для нас милый и привлекательный вид, например горбатая старуха с любовным письмом, еврей с червонцами, веревочная лестница для побега и т. д. Подобно тому как здесь, при наличии ясно выраженной любви или отвращения, слишком очевидно то искажение, какое воля производит в представлении, лак, в меньшей степени, заметно оно и при восприятии всякого предмета, имеющего хотя бы отдаленное отношение к нашей воле, т. е. к нашим симпатиям и антипатиям. Лишь тогда, когда воля со своими интересами покидает сознание и интеллект начинает свободно следовать своим собственным законам и как чистый субъект отражать в себе объективный мир, не подталкиваемый при этом никаким волением, по собственному почину достигает, однако, крайней напряженности и энергии, — лишь тогда формы и краски вещей являются в своем настоящем и полном значении; таким образом, только подобное восприятие может служить источником истинных произведений искусства, неизменная ценность и постоянный успех которых вытекают именно из того, что они представляют одно чисто объективное в мире — то объективное, что лежит в основе различных субъективных и потому искаженных воззрений как нечто общее им всем, как единственно незыблемое и что просвечивает сквозь них как общая тема всех этих субъективных вариаций. Ибо несомненно, что расстилающаяся перед нашими глазами природа в разных головах представляется весьма различно и какой каждый ее видит, лишь такой и может воспроизводить ее, будь то кистью или резцом, в словах или мимикой на сцене. Только объективность делает художника художником; сама же она возможна лишь благодаря тому, что интеллект, отрешенный от своего корня — воли, отдается свободному парению, но в то же время действует в высшей степени энергично.
Юноше, созерцательный интеллект которого еще свеж и энергичен, природа часто представляется с совершенной объективностью и поэтому во всей своей красоте. Но отраду подобного зрелища иногда омрачает для него скорбная мысль, что все эти лежащие перед его глазами прекрасные вещи не находятся, однако, ни в каком личном отношении к нему, в силу которого они могли бы представлять для него интерес и радость: он ведь думает, что его жизнь сложится в виде какого-то интересного романа. «Вот за этой нависшей скалой должна бы поджидать меня на прекрасных конях компания друзей; у этого водопада хорошо бы отдыхать моей возлюбленной; это прекрасно освещенное здание, наверное, ее жилище, и это обвитое плющом окно должно бы быть окном ее комнаты, однако этот прекрасный мир для меня — пустыня» и т. д. Подобные меланхолические грезы юности, собственно, заключают в себе некоторое внутренне противоречивое требование. В самом деле: красота всех этих предметов покоится именно на чистой объективности, т. е. незаинтересованности их созерцания, и поэтому она сейчас же исчезла бы, лишь только они, как об этом страстно тоскует юноша, получили бы какое-нибудь отношение к его собственной воле, и вместе с нею испарилось бы все их очарование, которое ныне доставляет ему такое наслаждение, хотя и с некоторой примесью грусти. То же относится, впрочем, ко всякому возрасту и ко всякой вещи: красота ландшафта,
313
которая приводит нас в восхищение, исчезла бы для нас, если бы мы находились к нему в каких-нибудь личных отношениях, которые мы постоянно сознавали и помнили. Все прекрасно лишь до тех пор, покуда не касается нас. (Я говорю здесь не о любовной страсти, а об эстетическом наслаждении.) Жизнь никогда не бывает прекрасна: прекрасны только образы жизни, а именно в преображающем зеркале искусства и поэзии, особенно в юности, когда мы еще жизни не знаем. И не один юноша обрел бы себе великое успокоение, если бы его можно было убедить в этой истине.
Почему вид луны производит на нас такое благодатное, умиротворяющее и возвышающее впечатление? Потому что луна — предмет созерцания, а не желания:
На
что ж искать далеких звезд?
Для
неба их краса4.
Далее, она возвышенна, т. е. настраивает нас на возвышенный лад, ибо, свободная от всяких отношений к нам, вечно чуждая земным тревогам, она плывет в небесах и видит все, но ни в чем не принимает участия. Вот почему при взгляде на нее исчезает из сознания воля со своей вечной нуждой, и остается оно исключительно познающим. Быть может, к этому присоединяется еще чувство того, что созерцание луны разделяют с нами миллионы людей, индивидуальные особенности и отличия которых исчезают в этом созерцании, так что в нем они все представляют собой одно; это также усиливает впечатление возвышенного. Наконец, последнему способствует и то, что луна светит, но не греет; несомненно, в этом лежит причина того, что ее назвали целомудренной и отождествили с Дианой. Все это благотворное воздействие луны на дух мало-помалу делает ее другом нашего сердца, которым никогда не станет солнце: ему, как безмерно щедрому благодетелю, мы даже не в силах смотреть в лицо.
К тому, что я сказал в § 38 первого тома об эстетическом наслаждении, какое доставляют свет, отражение лучей и цвета, я прибавлю еще следующее замечание. Та совершенно непосредственная, чуждая мысли, но чуждая и имени радость, какую вызывают в нас цвета, восприятие которых обостряется от металлического блеска, а еще более от прозрачности, например в цветных окнах или, еще более, в облаках и их отражении при заходе солнца, — эта радость в конечном счете зиждется на том, что здесь самым легким образом, почти в силу физической необходимости, все наше существо отдается познанию, тогда как воля остается ничем не возбужденной; и оттого мы приходим в состояние чистого познания, хотя последнее и заключается здесь преимущественно в простом ощущении воздействий на ретину, которое, однако, будучи само по себе вполне свободно от боли и наслаждения, протекает без непосредственного возбуждения воли, т. е. принадлежит к области чистого познания.
314
Глава 31*
О гении
Чрезвычайная способность к тому виду познания, который я описал в двух предшествующих главах и из которого проистекают все истинные произведения искусств, поэзии и даже философии, — вот что, собственно, называется гениальностью. А так как она, эта способность, имеет своим предметом (платоновы) идеи, последние же воспринимаются не in abstracto, а лишь наглядно, то сущность гения должна заключаться в совершенстве и энергии созерцающего познания. Вот почему гениальными произведениями решительнее всего называют такие, которые непосредственно исходят из созерцания и на созерцание рассчитаны, — т. е. произведения изобразительных искусств, а затем поэзии, которая свои созерцания передает через посредство фантазии. И здесь уже заметна разница между гением и обыкновенным талантом: последний — это преимущество, которое скорее заключается в большей тонкости и остроте дискурсивного, чем интуитивного познания. Талантливый человек думает быстрее и правильнее других; гениальный же человек видит иной мир, нежели все остальные, хотя видит он его только потому, что глубже погружается в мир, лежащий и перед ними, так как в его голове последний рисуется объективнее[237], т. е. чище и явственнее.
Интеллект по своему назначению — только среда мотивов; поэтому на первых порах он не воспринимает в предметах ничего другого, кроме их отношений к воле — отношений прямых, косвенных, возможных. У животных, где дальше прямых отношений дело почти не заходит, указанная роль интеллекта наиболее очевидна: то, что не имеет отношения к их воле, для них не существует. Оттого мы и видим иногда с изумлением, что даже умные животные совсем не замечают чего-нибудь бросающегося в глаза, например не обнаруживают никакого удивления при явных переменах в нашей личности или в окружающей обстановке. У нормального человека сюда присоединяются еще косвенные и даже возможные только отношения к воле, сумма которых и составляет совокупность полезных для него знаний, но и здесь познание не выходит за пределы отношений. Вот почему в нормальной голове и не может возникнуть абсолютно чистый объективный образ вещей, ибо ее созерцательная сила, если только ее не поощряет и не приводит в движение воля, сейчас же утомляется и перестает работать, не имея достаточно энергии для того, чтобы, благодаря собственной эластичности, бесцельно отдаться чисто объективному восприятию мира. Там же, где это случается, где представляющая сила мозга дает такой избыток, что бесцельно возникает чистый, явственный, объективный образ внешнего мира, который бесполезен для намерений воли, а на высших ступенях своего развития даже мешает ей и может стать вредным, — там имеется уже по крайней мере задаток той аномалии, которая известна под именем гениальности, оно указывает на то, что здесь, по-видимому, начинает действовать нечто постороннее воле, т. е. настоящему Я,
315
появляется некоторый, извне приходящий гений. Но говоря без метафор: гениальность заключается в том, что познавательная способность получает значительно большее развитие, чем это необходимо воле, ради служения которой она, эта способность, первоначально только и возникла. Поэтому, строго говоря, физиология могла бы подобный избыток мозговой деятельности, а с нею и самого мозга, причислить до некоторой степени к monstris per excessum*, которые она, как известно, ставит в один ряд с monstris per defectum и monstris per situm mutatum**. Гениальность, таким образом, состоит в чрезмерном излишке интеллекта, который (излишек) может находить для себя применение только в том, чтобы направляться на общие начала бытия; этим он посвящает себя служению всему человеческому роду, между тем как нормальный интеллект служит отдельной личности. Для большей вразумительности можно сказать так: если нормальный человек состоит на ⅔ из воли и на ⅓ из интеллекта, то в гении, наоборот, ⅔ интеллекта и ⅓ воли. Это можно пояснить еще сравнением из химии: основание и кислота какой-нибудь средней соли различаются тем, что отношения радикала к кислороду в том и другой противоположны; именно основание, или щелочь, является таким потому, что в нем радикал имеет перевес над кислородом, а кислота является такой потому, что в ней перевес имеет кислород. В таком же точно отношении находятся между собою, в смысле воли и интеллекта, нормальный человек и гений. Отсюда вытекает коренная разница между ними, которая сказывается уже в самом их существе, складе и жизни, но в полном свете своем выступает в их творениях. Как отличие от приведенного химического примера можно было бы прибавить еще, что, в то время как диаметральная противоположность химических веществ становится причиной сильнейшего избирательного сродства между ними и их взаимного притяжения, в человеческом роде скорее встречается обыкновенно прямо противоположное.
Ближайшее проявление такого избытка познавательной силы сказывается по большей части в самом первоначальном и основном познании, т. е. созерцательном, и обусловливает воспроизведение последнего в образе: так рождается художник и скульптор. У них, следовательно, путь от гениального восприятия до художественного произведения — самый короткий; поэтому форма, в которой проявляются здесь гений и его деятельность, наиболее проста, и описать ее легче всего. И тем не менее именно здесь лежит источник, из которого ведут свое начало все истинные произведения каждого искусства, равно как и поэзии, и даже философии, хотя в последних творческий процесс уже не так прост[238].
Вспомним полученный в первой книге вывод, что всякое созерцание имеет интеллектуальный, а не чисто чувственный характер. Если сопоставить с этим выводом предложенные здесь соображения и в то же время по справедливости принять во внимание, что философия прошлого столетия называла способность созерцательного познания «низшей
316
силой души», то мы должны будем признать, что Аделунг, который должен был говорить языком своего времени и который считал гениальность «заметной степенью низших сил души», выражался не так нелепо, как это думает Жан Поль в своей «Приготовительной школе эстетики» и не заслуживает тех злых сарказмов, какие расточает ему последний5. Вообще, как ни велики достоинства названной книги этого достойного восхищения мужа, я не могу не заметить, что там, где автор ставит себе целью теоретическое разъяснение какой-нибудь проблемы и вообще ученость, изложение, сплошь пересыпанное остротами и бесконечными метафорами, не может быть уместно.
Именно созерцанию прежде всего открывается и является подлинная и истинная сущность вещей, хотя еще только условно. Всякое понятие, всякая мысль — это лишь абстракция, т. е. частичные представления, оторванные от созерцания и возникшие путем исключения из мысли отдельных сторон предмета. Всякое глубокое познание и даже мудрость в собственном смысле этого слова имеют свои корни в созерцательном восприятии вещей, как мы это подробно рассмотрели в дополнениях к первой книге. Созерцательное постижение — это неизбежный процесс зачатия, в котором всякое истинно художественное произведение, всякая бессмертная мысль обретает искру жизни. Всякое первичное мышление протекает в образах. Из понятий же исходят лишь произведения обыкновенных талантов, только разумные мысли, подражания и вообще все то, что рассчитано на одни текущие потребности и на современников.
Но если бы наше созерцание было всегда связано с реальной наличностью вещей, то его содержание всецело находилось бы во власти случая, который редко предлагает нам вещи в надлежащее время, редко ставит их в целесообразный порядок и по большей части дает нам их в очень дефектных экземплярах. Вот почему и нужна фантазия, которая восполняла бы, упорядочивала, расписывала, удерживала в памяти и по желанию воспроизводила знаменательные образы жизни, насколько этого требуют цели глубоко проникающего познания и того многозначительного произведения, в котором это познание должно быть воплощено. На этом и зиждется высокая ценность фантазии, которая составляет для гения необходимое орудие. Только благодаря последней может он, согласно требованиям и общему характеру своего творчества или мышления, воспроизводить в живых образах всякий предмет и процесс и таким образом постоянно получать свежую пищу из первоисточника всяческих познаний — наглядных представлений. Человек, одаренный фантазией, в состоянии как бы вызывать духов, вовремя раскрывающих ему такие истины, которые голая действительность вещей являет лишь слабо, лишь изредка, да и то по большей части не тогда, когда нужно. И поэтому человек, одаренный фантазией, так относится к человеку, лишенному ее, как свободное в своих движениях или даже окрыленное животное относится к улитке, которая прилеплена к своей скале и должна выжидать, что пошлет ей случай. Человек, не имеющий фантазии, не знает иного созерцания, кроме реально чувственного; а пока его нет, он гложет одни понятия и абстракции, т. е. оболочку и шелуху познания, а не ядро его. Никогда не создаст он ничего великого — разве что в области счета и математики. В произведениях изобразительных ис-
317
кусств и поэзии, как и в мимических упражнениях, можно видеть также и средство к тому, чтобы у людей, чуждых фантазии, по возможности восполнять этот пробел, а у людей, фантазией одаренных, облегчать пользование ею.
Хотя, таким образом, специфическое и основное познание гения носит наглядный характер, тем не менее своим настоящим предметом оно имеет вовсе не отдельные вещи, а раскрывающиеся в них (Платоновы) идеи, восприятие которых мы подвергли анализу в 29-й главе. В частном постоянно видеть общее — в этом именно и заключается основная черта гения; обыкновенный же человек в частном всегда и познает только частное как таковое, потому что лишь как таковое оно относится к действительности, которая одна имеет для него интерес, т. е. отношение к его воле. Степень, с какою всякий человек в отдельной вещи не просто мыслит, но и прямо видит, не только ее, но уже и нечто более или менее общее, вплоть до наиболее общей идеи рода, — эта степень может служить критерием его близости к гению. В соответствии с этим только суть вещей вообще, только общее в них, целое является настоящим предметом гения, исследование же частных феноменов — дело талантов в области реальных наук, предметом которых, собственно говоря, всегда служат одни только взаимные отношения вещей.
Как я обстоятельно выяснил в предыдущей главе, восприятие идей обусловлено тем, что познающим является здесь чистый субъект познания, т. е. что воля совершенно исчезает из сознания: это сохраняет для нас полную силу и в нашем дальнейшем анализе. Наслаждение, которое доставляют нам иные песни Гете, развертывающие перед нами тот или другой ландшафт, или картины природы Жан Поля, зиждется на том, что они приобщают нас к объективности этих писателей, т. е. к чистоте, с какой мир как представление отделялся у них от мира как воли и как бы всецело отрешался от него. Если присущий гению способ познания является очищенным от всяких признаков воли и ее отношений, то отсюда вытекает, что и создания его имеют не преднамеренный и произвольный характер, а возникают под влиянием какой-то инстинктивной необходимости. То, что на нашем языке зовется наитие гения, час священной жертвы, миг вдохновения, — все это не что иное, как освобождение интеллекта: в такие минуты последний, временно отрешившись от подчинения воле, не отдается бездеятельности или расслаблению, а на короткое время действует вполне самостоятельно и является хозяином самого себя. Тогда он достигает величайшей чистоты и обращается в светлое зеркало мира, ибо, совершенно отделившись от своего источника, воли, он теперь — самый мир как представление, сосредоточенный в одном сознании. В подобные мгновения как бы зарождается душа бессмертных творений искусства и философии. Там же, где размышление преднамеренно, там интеллект не свободен, ибо им руководит воля и предписывает ему свои темы.
Печать пошлости и выражение вульгарности, запечатленное на большинстве человеческих лиц, заключается, собственно, в том, что здесь проявляются строгая покорность познания перед волей, та неразрывная цепь, которая их соединяет, и вытекающая отсюда неспособность воспринимать вещи как-нибудь иначе, нежели в отношении к воле и ее
318
целям. Наоборот, печать гения, которая составляет яркую черту фамильного сходства между всеми высокоодаренными людьми, состоит в том, что на подобных лицах мы ясно читаем избавленное manumissio* интеллекта от покорности воле, господство познания над волением; и так как все мучения проистекают из воления, познавание само по себе безболезненно и отрадно, то это и придает высокому челу и светлому, созерцательному взору гения, не подвластным служению воле с ее скорбями, — придает им тот отпечаток великой, словно неземной ясности, который временами озаряет лицо гения и прекрасно гармонирует с меланхолическим выражением остальных черт, в особенности рта, а в этом сочетании превосходен девиз Джордано Бруно: «In tristitia hilaris, in hilaritate tristis»**.
Воля, которая составляет корень интеллекта, противится всякой деятельности последнего, направленной на что-либо другое кроме ее целей. Поэтому интеллект способен на чисто объективное и глубокое восприятие внешнего мира лишь тогда, когда он по крайней мере на время отделяется от этого своего корня. Покуда же он связан с ним, до тех пор он не может действовать собственными силами, а предается глухому сну, пока его не разбудит и не расшевелит воля (интерес). Но, пробудившись, он оказывается, правда, весьма пригоден к тому, чтобы, сообразно интересу воли, познавать отношения вещей, как это и делает ясный ум, который всегда должен быть и умом бодрым, т. е. возбужденным и оживленным волей; но зато он именно поэтому и не в силах постигнуть чисто объективную сущность вещей. Ибо желания и цели делают его столь односторонним, что он замечает в вещах только то, что имеет отношение к воле: все же остальное частью улетучивается для него, частью проникает в сознание в искаженном виде. Так, например, торопящийся и озабоченный путешественник увидит в Рейне, с его берегами, не больше чем поперечную линию, а в мосте над ним — только линию, ее пересекающую. В голове человека, поглощенного своими личными интересами, мир имеет такой же вид, как прекрасный ландшафт на плане поля битвы. Конечно, это — крайности, которые я взял ради лучшего уяснения дела, но бесспорно, что и всякое, хотя бы слабое возбуждение воли будет иметь своим результатом слабое, но все-таки аналогичное с первыми искажение познания. В своем истинном виде и свете, в своем полном и действительном значении мир выступает лишь тогда, когда интеллект, отрешенный от желания, свободно парит над объектами и без побуждения со стороны воли проявляет все-таки энергичную деятельность. Разумеется, это противоречит самой природе и назначению интеллекта, т. е. до некоторой степени противоестественно и потому чрезвычайно редко, но именно в этом и заключается сущность гения: только он переживает описанное состояние в серьезной степени и в течение продолжительного времени, между тем как у других людей оно бывает бледно и в виде исключения. В этом смысле я и понимаю слова Жан Поля («Приготовительная школа эстетики», § 12), что сущность гения состоит в обдуманности. В самом деле: обыкновенный
319
человек весь погружен в водоворот и сутолоку жизни, к которой он принадлежит своей волей; его интеллект переполнен вещами и событиями жизни, но этих вещей и самой жизни, в объективном смысле, он вовсе и не замечает, подобно тому как купец на амстердамской бирже прекрасно слышит то, что ему говорит его сосед, но вовсе не замечает подобного морскому рокоту шума всей биржи, которому изумленно внемлет стоящий вдалеке наблюдатель. Перед гением же, интеллект которого обособлен от воли, т. е. от лица, то, что относится к последнему, не заслоняет собою самого мира и вещей: нет, он явственно сознает их и в своем объективном созерцании воспринимает их такими, каковы они сами по себе: в этом смысле гения отличает обдуманность.
Именно эта обдуманность позволяет художнику точно воспроизводить на полотне ту природу, которая находится перед его глазами; она же позволяет поэту воссоздавать, посредством отвлеченных понятий, наглядную действительность, высказывая ее и доводя тем самым до отчетливого сознания, а также выражать словами то, что другие только чувствуют. Животное проводит свою жизнь без всякой обдуманности. Сознанием оно владеет, т. е. познает себя, свое благополучие и неблагополучие, а также и те предметы, которые являются их причиной. Но познание его всегда остается субъективным, никогда не переходит в объективное: все, что проходит в этом познании, кажется животному само собою понятным и поэтому никогда не может сделаться для него ни концепцией (объектом изображения), ни проблемой (объектом размышления). Его сознание, таким образом, вполне имманентно. Не тождественно, но все-таки родственно ему по характеру сознание заурядного человека, потому что и его восприятие вещей и мира по преимуществу субъективно и главным образом имманентно. Оно воспринимает вещи в мире, но не сам мир, свои деятельные и пассивные состояния, но не себя. Но по мере того как по бесконечной лестнице развития отчетливость сознания возрастает, все более и более выступает обдуманность, или осмысленность, и мало-помалу дело доходит до того, что порою, хотя и редко и опять-таки с очень различной степенью отчетливости, нашу голову как молния пронзает мысль «что все это такое?» или «как, собственно, все это выглядит?». Первый вопрос, если он достигает большой отчетливости и долго сохраняет свою актуальность, создает философа, а второй, при том же условии, — художника или поэта. Отсюда высокое призвание философа и художника имеет свои корни в обдуманности, которая прежде всего вытекает из отчетливости, с какою они, философ и художник, сознают мир и самих себя и, благодаря этому, начинают размышлять над ним, осмысливать его. Весь же этот процесс творчества и мысли объясняется тем, что интеллект, получив в сознании перевес над волей, по временам освобождается от нее, хотя первоначально он и состоит у нее на службе[239].
Предложенные здесь соображения о гениальности примыкают к 22-й главе и дополняют нарисованную там картину заметного по всей лестнице живых существ все большего и большего обособления воли от интеллекта. Именно последнее достигает у гения своей высшей степени: у него доходит оно до полного отрешения интеллекта от его корня, воли, так что интеллект становится здесь совершенно свободным, а через это впервые мир как представление и достигает полной объективации.
320
Теперь еще несколько замечаний об
индивидуальности гения. Уже Аристотель, по свидетельству Цицерона (Tusc,
I, 33), заметил, что «
Мой
пыл поэтический был невелик,
Покуда
виднелся мне счастия лик;
Но
только мне жизнь грозила бедой, —
Он
вспыхивал ярко и был огневой.
Как
радуга в небе, так песнь поэта
Для
фона не любит лучистого света;
Всегда
меланхолии тихой начало
К
себе поэтический дух привлекало6.
Это объясняется вот чем: так как воля постоянно возвращается к своему исконному господству над интеллектом, то последний легче ускользает от нее при неблагоприятных условиях личной жизни, ибо он охотно отворачивается от тягостных явлений, как бы для того чтобы рассеяться, и с тем большей энергией отдается постороннему внешнему миру, т. е. легче достигает чистой объективности. Благоприятные же условия жизни имеют обратное действие. Но в общем свойственная гению меланхоличность находит свой источник в том, что воля к жизни, чем ярче озаряет ее свет интеллекта, тем яснее видит всю безотрадность своего положения. Столь часто замечаемое у высокодаровитых людей печальное настроение имеет свою эмблему в Монблане, вершина которого по большей части окутана облаками; но иногда, в особенности ранним утром, эта облачная дымка рассеивается, и тогда в пурпуре солнечных лучей, поднимаясь над облаками в своей небесной высоте, смотрит гора на Шамуни, — зрелище, которое волнует всякого до глубины души. Так и гений, по большей части погруженный в меланхолию, иногда, как я уже выше сказал, являет только ему одному доступную, только для него одного характерную ясность, которая проистекает из совершеннейшей объективности духа и светлым лучом осеняет его высокое чело: «In tristitia hilaris, in hilaritate tristis».
Все бездарности в конечном счете таковы потому, что их интеллект, еще слишком привязанный к воле, приходит в действие только по ее понуждению и поэтому всецело остается у нее на службе. Оттого подобные люди и не способны стремиться к другим целям, кроме личных. Вот они и пишут скверные картины, бездарные вирши, создают плоские, нелепые, очень часто и недобросовестные философемы, — последнее в том случае, когда им нужно благонамеренной бесчестностью зарекомендовать себя в глазах высшего начальства. Все дела их и мысли, таким образом, имеют личный характер. Поэтому в лучшем случае им удается усвоить себе внешнюю, случайную и произвольную сторону чужих, истинно прекрасных творений, как особую манеру, т. е. вместо ядра они схватывают шелуху, думая при этом, что достигли совершенства и даже превзошли свои образцы. Если же неудача обнаружится, то иной из них надеется достичь все же цели в конце концов своею доброй волей. Но именно эта добрая воля и делает их цель неосуществимой, ибо доброй
321
воли хватает только на личные цели, а с последними нельзя сделать ничего серьезного ни в искусстве, ни в поэзии, ни в философии. К таким людям вполне применимо известное выражение «они сами себе застят свет». Им и в голову не приходит, что лишь интеллект, вырвавшийся из-под начала воли и всех ее проектов и отдавшийся свободной деятельности, порождает способность к истинному творчеству, ибо только он сообщает ему истинную серьезность; да и хорошо, что они этого не сознают, иначе им оставалось бы только утопиться. Добрая воля, это все в морали, но в искусстве она — ничто: здесь, как намекает уже само слово, важно только умение7. В конечном счете все сводится к тому, на что направлено истинно серьезное в каждом человеке. Почти у всех людей оно обращено исключительно на благополучие свое и близких; вот почему они способны работать только для него и ни для чего другого, ибо никакая решимость, никакое произвольное и преднамеренное напряжение не может дать человеку истинной, глубокой, настоящей серьезности, не может ее возместить или, вернее, перенести из одной сферы в другую. Ибо она всегда остается там, где ее сосредоточила природа, а без серьезности все можно делать только наполовину. По этой же причине гениальные индивиды часто не умеют заботиться о собственном благополучии. Как свинцовая привеска всегда возвращает данное тело в то самое положение, какого требует определяемый ею центр тяжести его, так истинно серьезное в человеке всегда направляет силу и внимание интеллекта туда, где оно лежит; все же другое человек делает без истинной серьезности. Поэтому только в высшей степени редкие, необыкновенные люди, истинная серьезность которых лежит не в личном и практическом, а в объективном и теоретическом, — только они в состоянии воспринимать и так или иначе воспроизводить существенное в вещах и мире, т. е. высшие истины. Ибо подобная серьезность, лежащая вне индивида и направленная на объективное, — это нечто чуждое человеческой природе, нечто противоестественное или, лучше, сверхъестественное; но только ею человек велик, и поэтому творческую силу великих людей приписывают какому-то отличному от них гению, который будто бы ими овладевает. Для такого человека его художественное творчество или мышление является целью, для остальных же все это — средство. Последние обделывают при этом собственные дела и обыкновенно хорошо умеют устраивать их, так как они приноравливаются к современникам, готовые служить их потребностям и капризам; оттого и живут они по большей части благополучно, между тем как великий человек часто бедствует. Ибо личное благо свое он приносит в жертву объективной цели[240]: иначе он и не может, потому что истинно серьезное сосредоточено для него в объективном. Другие же люди поступают наоборот, и оттого они малы, а он велик[241]. И его творения остаются на все времена, хотя по большей части только потомство начинает воздавать им должное; малые же люди живут и умирают вместе со своим временем. Велик вообще только тот, кто в своей деятельности — будь она практическая или теоретическая думает не о личных интересах, а стремится исключительно к какой-нибудь объективной цели, и великим остается он даже и тогда, когда, в практической сфере, эта цель неверно понята им и даже влечет за собою преступление. То, что
322
подобный человек заботится не о себе и своих интересах, — это и делает его, при всех обстоятельствах, великим. Напротив, мелка всякая деятельность, направленная на личные цели, ибо человек, погруженный в нее, познает и находит себя только в своей собственной, ничтожно малой личности. Кто велик, тот познает себя во всем и, следовательно, как часть всего: он не живет, подобно малым людям, только в микрокосме, еще в большей степени живет он в макрокосме. Оттого близко ему все в мире, и он старается постигнуть это все, для того чтобы воспроизвести его, или объяснить его, или практически воздействовать на него. Ибо ему это все не чуждо: он чувствует, что оно близко касается его. Благодаря этому расширению его сферы интересов его и называют великим. И это высокое прозвание, таким образом, подобает только истинному герою, в том или другом смысле, и гению: оно указывает на то, что эти люди, вопреки человеческой природе, искали не собственной пользы, жили не для себя, а для всех. Но как, очевидно, большинство людей должны всегда быть малы и никогда не могут быть велики, так невозможно и обратное, т. е. чтобы какой-нибудь человек был вполне, т. е. всегда и каждую минуту, велик:
Воспитан
и взлелеян человек
Тем,
что обыкновенно, и привычка —
Кормилица
его…8
Да, каждый великий человек часто должен все-таки быть только индивидом, иметь в виду только себя, и это значит быть малым. На этом именно основывается очень верное наблюдение, что ни один герой не является таким в глазах камердинера, а вовсе не на том, что камердинер будто бы не умеет ценить героя, как это устами Оттилии преподносит нам Гете в «Избирательном сродстве» (т. 2, гл. 5).
Гений в самом себе находит для себя награду, ибо то лучшее, чем может быть человек, он непременно должен представлять собою для самого себя. «Кто от рождения обладает даром стать даровитым, обретет в нем всю радость бытия», — говорит Гете9. Когда мы оглядываемся на великого человека прошлых времен, мы не думаем: «Как счастлив он, что и теперь еще мы все удивляемся ему»; нет, мы думаем: «Как счастлив должен был он быть, непосредственно наслаждаясь своим духом, в немногих оставшихся следах которого находят себе отраду позднейшие века!» Не в славе, а в том, чем ее достигают, заключается величие, и в рождении бессмертных детей лежит услада. Поэтому люди, которые стараются выводить ничтожество посмертной славы из того факта, что достигнувший ее ничего об этом не узнает, похожи на умника, который человеку, бросающему завистливые взгляды на кучу пустых устричных раковин во дворе соседа, стал бы очень мудро доказывать их полную непригодность.
Согласно нашей характеристике гения, последний является чем-то противоестественным, поскольку он состоит в том, что интеллект, прямое назначение которого служить воле, эмансипируется от этой службы и начинает действовать по собственному почину. Таким образом, гений это интеллект, изменивший своему назначению. На этом основыва-
323
ются и присущие ему отрицательные стороны, к рассмотрению которых мы проложим себе теперь дорогу тем, что за исходную точку возьмем сравнение гениальности с менее решительным преобладанием интеллекта.
Интеллект обыкновенного человека, строго подчиненный воле, т. е. занятый, собственно, только восприятием мотивов, можно рассматривать как комплекс ниток, которыми любая из этих людей-марионеток приводится в движение на мировой сцене. Отсюда вытекает сухая, положительная серьезность большинства людей, которую превосходит только серьезность животного; животные никогда не смеются. Напротив, гений с его освобожденным от ига интеллектом подобен живому человеку, который в знаменитом Миланском театре марионеток играл бы среди больших кукол и единственный из них воспринимал бы все действие: он охотно ушел бы поэтому на время со сцены, чтобы полюбоваться на представление из ложи, — это и есть осмысленность гения. Но даже и высокорассудительный и умный человек, которого можно назвать почти мудрым, все-таки отличается от гения, и именно тем, что его интеллект сохраняет практическое направление, приспособлен к выбору наилучших целей и средств, поэтому остается на службе у воли и действует, таким образом, в полном согласии с природой. Безусловная житейская серьезность, которую римляне называли gravitas, предполагает, что интеллект не уклоняется от служения воле и не перебегает к тому, что ее не касается; поэтому такая серьезность не допускает того раскола между интеллектом и волей, который служит условием гения. Умный и даже выдающийся человек, способный к великим деяниям в практической области, таков именно потому, что объекты живо волнуют его волю и побуждают его к беспрестанному изысканию их отношений и связей[242]. Таким образом, и его интеллект тесно сросся с волей. Перед гениальным же духом, в его объективном восприятии, явление мира проносится как нечто ему чуждое, как объект чистого созерцания, который вытесняет из его сознания воление. Вокруг этого пункта сосредоточивается все различие между способностью к делам и способностью к творениям. Последняя требует объективности и глубины познания, которые своим условием имеют полное обособление интеллекта от воли; первая же требует применения знаний, присутствия духа и решимости, а для этого нужно, чтобы интеллект беспрерывно нес свою службу воле. Там, где связь между интеллектом и волей нарушена, интеллект, уклонившийся от своего естественного назначения, пренебрегает своими обязанностями по отношению к воле; так, даже в трудную минуту он будет все-таки отстаивать свою независимость и, например, не откажется насладиться чисто эстетическим созерцанием такой обстановки, которая грозит индивиду непосредственной опасностью. Наоборот, интеллект умного и рассудительного человека всегда остается на своем посту и зорко следит за обстоятельствами и требованиями данной минуты; и поэтому такой человек во всех случаях жизни примет надлежащее решение и выполнит его, нисколько не впадая в те эксцентричности, личные ошибки и даже глупости, каким подвержен гений в силу того, что его интеллект не является исключительно вождем и стражем его воли, а то в большей, то в меньшей степени пленяется чисто объективным восприятием. Про-
324
тивоположность между этими двумя совершенно разнородными способностями, которые мы охарактеризовали в отвлеченных чертах, Гете воплотил в живом контрасте между Тассо и Антонио. Не раз подмеченное родство между гением и безумием основано именно на этом, хотя и присущем гению, но противоестественном обособлении интеллекта от воли. Само же это обособление вовсе не следует приписывать тому, что гению будто бы всегда сопутствует меньшая интенсивность воли, напротив, его условием как раз является сильный и страстный характер: нет, оно объясняется тем, что только человек, выдающийся в практическом отношении, человек дела обладает полной мерой необходимого для энергичной воли интеллекта, между тем как у большинства людей даже и для этого не хватает ума, — гениальность же состоит в том совершенно непомерном, реальном избытке интеллекта, которого не требует для себя и своих услуг никакая воля[243]. Вот почему люди, создающие истинные творения, встречаются в тысячу раз реже, чем люди деловые. Именно благодаря этому непомерному избытку интеллект и получает решительное преобладание, отрешается от воли и, забыв о своем происхождении, развивает свободную деятельность, исходя из собственных сил и упругости, — отсюда и рождаются гениальные творения[244].
Так как, далее, гениальность состоит в творчестве свободного, т. е. эмансипировавшегося от служения воле, интеллекта, то в результате и получается, что создания гения не служат никаким полезным целям. Будет ли это музыка, философия, живопись или поэзия, — гениальное творение не есть объект использования. Бесполезность — вот один из характерных признаков гениального произведения: это его дворянская грамота. Все остальные дела рук человеческих способствуют поддержанию или облегчению нашей жизни; иную цель имеют гениальные творения: только они одни существуют ради самих себя, и в этом смысле в них надо видеть цветок или чистую прибыль бытия. Вот почему, когда мы наслаждаемся ими, сердце наше трепещет: мы выплываем из тяжкой земной атмосферы нужды и потребностей[245]. По аналогии с этим мы замечаем и то, что прекрасное редко соединяется с полезным. Высокие и красивые деревья не дают плодов, и плодовые деревья — это маленькие, безобразные карлики. Махровые садовые розы не плодоносны: плодоносны розы маленькие, дикие, почти без запаха. Самые красивые здания не служат пользе: храм не жилище. Принуждать человека высоких и редких духовных дарований к какому-нибудь практическому занятию, с коим справился бы и человек самый заурядный, — это все равно что употреблять в качестве печного горшка драгоценную и украшенную дивной живописью вазу, и сравнивать людей пользы с людьми гения — это все равно что сравнивать кирпичи с бриллиантами[246].
Таким образом, человек всецело практический употребляет свой интеллект на то, к чему его предназначила сама природа, — именно к восприятию отношений вещей, отчасти между собой, отчасти к воле познающего индивида. Гений же, вопреки назначению интеллекта, пользуется им для восприятия объективной сущности вещей. Его голова как бы принадлежит не ему, а миру, озарению которого в том или другом смысле он и послужит. Отсюда для индивида, гениально одаренного, должны проистекать разнообразные неудобства. В самом деле: его
325
интеллект обнаруживает вообще те недостатки, которые неизбежны во всяком орудии, употребляемом не для того, к чему оно сделано. Прежде всего он как бы служит двум господам, потому что при любом удобном случае уклоняется от своих естественных обязанностей, для того чтобы отдаться своим собственным целям, и этим он часто в самый неподходящий момент бросает волю на произвол судьбы; таким образом, столь одаренный индивид становится более или менее непригодным для жизни и своим поведением иногда напоминает даже безумца. Затем, ввиду повышенной энергии своего познания, он в предметах видит скорее общее, нежели отдельное, между тем как служение воле требует преимущественно знания отдельного. Когда же, с другой стороны, случается, что вся эта чрезмерно повышенная познавательная сила со всей своей энергией внезапно обращается на запросы и нужды воли, то она, вернее всего, слишком живо их воспринимает, все видит в слишком ярком свете и в чудовищном преувеличении, а вследствие этого индивид пускается во всякие крайности. Следующие соображения еще лучше пояснят это. Все великие теоретические создания, в чем бы они ни состояли, осуществляются так, что их зачинатель все силы своего духа направляет на один пункт, в котором соединяет их и сосредоточивает до такой степени могуче, твердо и исключительно, что весь остальной мир для него исчезает, и данный предмет его мысли заполняет собой всю реальность. Эта великая и мощная концентрация, составляющая одну из привилегий гения, иногда совершается у него и по отношению к объектам действительности, и по отношению к событиям повседневной жизни, которые, попав в такой фокус, принимают чудовищно преувеличенный вид, подобно блохе, которая под микроскопом получает размеры слона. Этим и объясняется, почему высокоодаренные индивиды иногда из-за мелочей приходят в состояние самых разнородных аффектов, которые для других непонятны; подобные индивиды могут переживать страх, радость, печаль, тревогу, гнев и т. п. из-за таких вещей, которые обыкновенного человека оставляют вполне равнодушным. Оттого и нет у гения трезвости, которая состоит именно в том, чтобы не видеть в вещах ничего, кроме того, что им действительно присуще, особенно по отношению к возможным для нас целям; трезвый человек поэтому не может быть гением. К перечисленным недостаткам гения присоединяется еще и та чрезвычайная впечатлительность, какая бывает результатом непомерно интенсивной нервной и мозговой жизни, и притом в союзе с другим условием гения — стремительностью и страстностью воления, которые физически выражаются в энергии сердцебиения. Все это очень легко и создает восторженность духа, кипение аффектов, быструю смену настроений при общем господстве меланхолии — все то, что изобразил нам Гете в «Тассо»[247]. Между тем какое благоразумие и спокойствие, какое самообладание, всестороннюю предусмотрительность и безукоризненную уравновешенность поведения обнаруживает хорошо одаренный нормальный человек в сравнении то с мечтательной самозабвенностью, то со страстной возбужденностью гения, внутренние муки которого являются материнским лоном бессмертных созданий! Ко всему этому прибавьте еще и то, что гений по самому характеру своему живет одиноко[248]. Он — слишком редкое явление, для того чтобы ему легко было
326
встретить себе подобного; и он
слишком отличается от других, для того чтобы быть их товарищем. У них
преобладающую роль играет воление, у него познание, и потому их радости не его
радости, и наоборот. Они — исключительно моральные существа, и у них есть
только личные отношения; а он вместе с тем и чистый интеллект, который, как
таковой, принадлежит всему человечеству. Течение мыслей его интеллекта,
оторвавшегося от своей материнской почвы, воли, и лишь периодически возвращающегося
к ней, вскоре обнаруживает все свое глубокое различие по сравнению с течением
мыслей интеллекта нормального, приросшего к своему родному корню. В силу этого
и в силу различия в интеллектуальном уровне гений не способен к совместному
мышлению, т. е. к беседе с другими: эти другие в нем и в его подавляющем превосходстве
найдут для себя столь же мало удовольствия, как и он в них. Им гораздо приятнее
будет с подобными себе, да он и предпочтет общение с равными, хотя по большей
части, оно возможно только через посредничество оставленных ими творений. Очень
хорошо поэтому сказал Шамфор: «Il y a peu de vices qui empêchent un h
327
οὒπω
πάρεστιν ὁ δὲ καιρὀς ὁ
υμέτερος
πάντοτε ἑυτιν ἒτοιμος*[250]
(Ин 7, 6). Талант может создавать то, что превышает творческую
способность других, но не их восприимчивость; оттого он сейчас же и находит
себе ценителей. Напротив, создания гения идут за пределы не только
творческой способности других, но и их восприимчивости, — оттого эти другие непосредственно
и не узнают его. Талант похож на стрелка, попадающего в такую цель, которая
недостижима для других; гений похож на стрелка, попадающего в такую цель,
которую другие не в состоянии даже увидеть и о которой поэтому они получают
весть лишь косвенно, т. е. с опозданием, — да и принимают они ее лишь на
веру. Поэтому и говорит Гете в своем «Наставлении»: «Подражание присуще
нам от рождения, но трудно распознать, что достойно подражания. Редко находят истину,
еще реже оценивают ее»11. А Шамфор
сказал: « Il en est de la
valeur des h
Если, наконец, рассмотреть гениальность еще и с соматической стороны, то мы найдем, что она обусловлена известными анатомо-физиологическими свойствами, которые порознь редко встречаются в законченном виде, а еще реже встречаются вместе; между тем для гения все они безусловно необходимы. Этим, следовательно, и объясняется, почему гений представляет собой такое единичное, можно сказать, неестественное исключение. Основным условием для него служит чрезвычайный перевес чувствительности над возбудимостью и способностью к воспроизводству, причем — что еще больше затрудняет все дело — организм его непременно должен быть мужским. (Женщины могут иметь значительный талант, но не могут быть гениальны, ибо они всегда остаются субъективными.) Точно так же церебральная система должна быть у него совершенно изолирована от ганглиозной, так чтобы они составляли между собой полную противоположность и чтобы в резуль-
328
тате этого мозг паразитировал на организме вполне смело, изолированно, энергично и независимо. Конечно, этим мозг легко может оказать вредное влияние на все остальные части организма и своей слишком интенсивной жизнью и беспрерывной деятельностью преждевременно истощить его, если только и сам организм не обладает энергией жизненной силы и хорошей конституцией; таким образом, и последнее относится к условиям гениальности. Даже хороший желудок составляет одно из таких условий — ввиду особенно тесной связи этого органа с мозгом. Но самое главное — это чтобы мозг был необыкновенного развития и величины, прежде всего в ширину и высоту; измерение же вглубь должно быть меньше, и большой мозг должен иметь аномальный перевес над малым. Несомненно, очень большую роль играет здесь его форма, в целом и в частях; но у нас еще мало знаний, для того чтобы точно выяснить это, хотя мы и легко узнаем форму черепа, предвещающую благородный и высокий интеллект. Ткань мозгового вещества должна отличаться крайней тонкостью и совершенством и состоять из чистейшей, самой отборной, нежнейшей и чувствительнейшей нервной субстанции; несомненно, решительное влияние имеет здесь и количественное отношение белого вещества к серому, но его мы тоже еще не в состоянии определить. Между прочим, акт о вскрытии тела Байрона* гласит, что у него количество белого вещества находилось в необыкновенном отношении к серому, будучи намного больше; и что мозг его весил шесть фунтов. Мозг Кювье весил пять фунтов; нормальный вес мозга — три фунта. В противоположность чрезвычайному развитию головного мозга, мозг спинной и нервы должны быть необыкновенно тонки. Красиво округленный, высокий и широкий череп из тонких костных масс должен защищать мозг, нисколько его не стесняя. Все эти свойства мозга и нервной системы составляют наследие матери, к чему мы еще вернемся в следующей книге. Но для того чтобы осуществился феномен гения, этих свойств далеко не достаточно, если к ним не присоединяется наследие отца — живой и страстный темперамент, который находит себе соматическое выражение в необыкновенной энергии сердца и, следовательно, кровообращения, особенно по направлению к голове. Ибо через это, во-первых, усиливается присущее мозгу разбухание клеточной ткани, в силу которого он напирает на свои стенки, отчего он и брызжет из каждого отверстия в них, какое образуется при ранении; во-вторых, надлежащая энергия сердца придает мозгу, сверх беспрестанного при каждом дыхании подъема и опускания, то внутреннее движение, которое заключается в сотрясении всей его массы при каждом ударе пульса четырех церебральных артерий и энергия которого должна соответствовать его увеличенному здесь количеству, — как и вообще это движение является непременным условием его деятельности. Последней благоприятствует поэтому и малый рост и, особенно, короткая шея, ибо чем путь короче, тем с большей энергией кровь достигает мозга. Вот почему люди большого ума редко имеют большое тело. Впрочем, эта краткость пути не является обязательной, например, Гете был выше среднего роста. Но если все то, что относится к кровообращению и что
329
составляет поэтому условие, наследуемое от отца, отсутствует, то исходящие от матери счастливые свойства мозга создадут либо талант, либо тонкий ум, который и найдет себе опору в возникающей при таких условиях флегме, гений же флегматиком быть не может. Это наследуемое от отца условие гениальности объясняет многие из описанных выше недочетов в темпераменте гения. Если же это условие существует одно, без первого, т. е. сопровождается обыкновенной или даже неудовлетворительной конституцией мозга, то оно дает в результате живость без глубины, жар без света, создает горячие головы, людей невыносимо беспокойных и необузданных. То, что из двух братьев только один бывает гениален, и при этом в большинстве случаев старший (так было, например, в семье Канта), объясняется прежде всего тем, что только при его рождении отец был в возрасте силы и страсти; впрочем, ко времени рождения младшего брата могло, в силу неблагоприятных обстоятельств, ухудшиться и другое условие, исходящее от матери.
Я хотел бы добавить сюда еще одно частное замечание, именно о
детском характере гения, т. е. о некотором сходстве между гением и
детским возрастом. В детстве, как и у гения, преобладающую роль играет мозговая
и нервная система, ибо она в своем развитии значительно опережает развитие
остального организма, так что уже на седьмом году мозг достигает своего полного
объема и массы. Уже Биша сказал поэтому: «Dans l’enfance le système nerveux, c
330
сверкающий, такой влекущий. Маленькие желания, мимолетные склонности и незначительные заботы детской поры составляют лишь слабый противовес этому преобладанию познающей деятельности. Отсюда и проистекает невинный и ясный взор детей, который так отрадно действует на нас и который иногда, в отдельных индивидах, получает то возвышенное, созерцательное выражение, какое Рафаэль прекрасно запечатлел в головках своих ангелов. Духовные силы ребенка развиваются раньше, чем те потребности, для удовлетворения которых они предназначены; в этом отношении природа, как и всегда, поступает очень целесообразно. Ибо в эту пору господствующего интеллекта человек собирает большой запас сведений для будущих, пока еще неизвестных ему потребностей. И потому его интеллект неослабно работает, жадно схватывает все явления жизни, вдумывается в них и запасливо копит их будущее время, подобно пчеле, которая в предчувствии грядущих потребностей набирает меду гораздо больше, чем она может съесть. Бесспорно, те мысли и знания, которые человек приобретает до наступления половой зрелости, в целом гораздо более значимы, чем то, чему он учится впоследствии, как бы ни был он выучен: ведь это — основа всех человеческих познаний. А до наступления момента зрелости в детском теле преобладает пластическая сила, энергия которой впоследствии, когда она сыграет свою роль, переключается путем некоторой перестановки на половую систему, вследствие чего вместе с зрелостью просыпается и половое влечение, и тогда воля начинает мало-помалу брать верх на интеллектом. За детством со свойственной ему склонностью к преимущественно теоретическим занятиям и любознательностью следует беспокойная, то бурная, то меланхолическая юность, которая переходит затем в страстную и серьезную возмужалость. Именно потому, что детство свободно от этого злополучного инстинкта, желания ребенка так умеренны и подчинены познанию; отсюда и присущий детскому возрасту характер невинности, понятливости и разумности. Едва ли мне нужно указывать теперь, на чем же основывается сходство между гением и ребенком: в избытке познавательных сил сравнительно с потребностями воли и в вытекающем отсюда преобладании чисто познающей деятельности. Поистине, каждый ребенок — до известной степени гений, и каждый гений — до известной степени ребенок. Родство между ними сказывается прежде всего в наивности и возвышенной простоте, которые составляют существенный признак истинного гения; оно обнаруживается еще и в некоторых других чертах, так что известные детские свойства бесспорно характерны для гения. В римеровских рассказах о Гете (т. I, с. 184) упоминается, что Гердер и другие с упреком говорили, что Гете вечно будет большим ребенком: конечно, это утверждение справедливо, несправедливо только порицание. И о Моцарте говорят, что он в течение всей своей жизни оставался ребенком (Ниссеновская биография Моцарта, с. 2 и 529); в некрологе Шлихтегролля сказано о нем (1791, т. II, с. 109): «В своем искусстве он рано стал мужем, но во всех других отношениях он вечно оставался ребенком». Каждый гений уже потому большое дитя, что он смотрит на мир как на нечто постороннее; для него это — зрелище, которое интересует его с чисто объективной стороны. Вот почему в нем, как и в ребенке, очень мало
331
сухой серьезности заурядных людей, которые никогда не способны возвыситься над интересами чисто субъективными и видят в предметах только мотивы для своей деятельности. Кто в течение своей жизни не остается до известной степени большим ребенком, а всегда представляет собой тип серьезного, трезвого, вполне положительного и благоразумного человека, тот может быть очень полезным и дельным гражданином мира сего, но никогда не будет гением. В сущности, гений таков потому, что свойственное детскому возрасту преобладание нервной системы и познающей деятельности у него, ненормальным образом, остается на всю жизнь, т. е. получает длительный характер. Некоторые следы такого преобладания, конечно, тянутся даже у иных заурядных людей еще вплоть до юношеских лет; например, во многих студентах еще вполне заметны чисто духовные стремления и гениальная эксцентричность. Только природа возвращается на свою колею: они превращаются в куколок и в зрелости просыпаются чистокровными филистерами, которые способны поразить всякого, кто встретится с ними в позднейшие годы. На всей этой метаморфозе и основано прекрасное замечание Гете: «Дети обычно не оправдывают возлагаемые на них надежды, юноши — весьма редко, а если они сдержат то, что они обещали, то свет, со своей стороны, их надежд не оправдает» («Избирательное сродство», I, гл. 10). Да, здесь идет речь о том мире, который высоко держит венцы за заслуги, но потом возлагает их на головы тех, кто послужил орудием его низменных вожделений и кто сумел его обмануть.
Итак, подобно той красоте юности, которой каждый обладает хоть раз в жизни (beauté du diable), существует и чистая интеллектуальность юности, известная духовная сила, склонная и способная к восприятию, пониманию, обучению, — сила, которой каждый владеет в детстве, а некоторые еще и в юности, но которая потом исчезает, как и упомянутая красота. Только очень немногие избранники сохраняют и ту, и другую в течение всей своей жизни, так что даже и в глубокой старости у них еще заметны некоторые следы ее: это — истинно красивые и истинно гениальные люди.
Рассмотренное здесь преобладание церебральной нервной системы и интеллекта в детстве и их ослабление в зрелом возрасте находит важное разъяснение и подтверждение в том, что ближайшей к человеку породе животных, обезьянам, свойственно удивительно похожее соотношение. Мало-помалу дознались, что столь понятливый орангутан — это молодой понго, который, достигнув определенного возраста, теряет свое большое сходство с человеческим обликом и в то же время свою удивительную понятливость: нижняя, животная часть его лица увеличивается, лоб тем самым отступает назад, большие cristæ*, предназначенные для крепления мышц, придают черепу животную форму, деятельность нервной системы слабеет, и вместо нее развивается необыкновенная мускульная сила, которая, будучи достаточной для самосохранения обезьяны, делает уже излишним большой интеллект. В особенности важно то, что по этому поводу высказал Фридрих Кювье[251] и что
332
разъяснил Флуранс в своей
рецензии на «Histoire naturelle»
первого[252],
напечатанной в сентябрьском выпуске «Journal des Savants» за 1839 г. и, с некоторыми дополнениями, вышедшей
также отдельным оттиском под заглавием «Résumé analytique des
observations de Fr. Cuvier sur l’instinct et rintelligence des animaux», par
Flourens, 1841. Там, на с. 50, мы читаем: « L’intelligence de l’orang-outang, cette intelligence si développée,
et developpee de si bonne heure, décroit avec l’âge. L’orang-outang,
lorsqu’il est jeune, nous étonne par sa pénétration, par
sa ruse, par son adresse ; l’orang-outang, devenu adulte, n’est plus qu’un
animal grossier, brutal, intraitable. Et il en est de tous les singes c
333
sur leurs qualités oraniques»*. Последнее служит подтверждением моего принципа, что интеллект, наравне с копытами и зубами, не что иное, как орудие для служения воле.
Глава 32**
О безумии
Истинное здоровье духа заключается в совершенстве и полноте воспоминаний. Разумеется, это надо понимать не в том смысле, будто наша память должна сохранять все воспринятое. Пройденная нами часть жизненной дороги сжимается во времени, как дорога путника, оглядывающегося назад, сжимается в пространстве; и иногда нам трудно различить даже отдельные годы, — отдельные же дни по большей части совсем неузнаваемы. Но только совершенно одинаковые и бесчисленное множество раз повторяющиеся события, образы которых словно покрывают друг друга, — только они, собственно говоря, так сливаются в воспоминании, что теряют свою индивидуальную физиономию; всякое же необычное или значительное событие должно воскресать в памяти, коль скоро интеллект нормален, силен и вполне здоров. В тексте нашего изложения я определил безумие как разрыв этой нити воспоминания, которое у нормального человека равномерно тянется все дальше и дальше, хотя и убывая в полноте и отчетливости. Подтверждением этого могут служить предлагаемые ниже соображения.
Память здорового человека дает ему такую же непоколебимо твердую уверенность в событии, свидетелем которого он был, как уверен он в своем непосредственном восприятии какой-нибудь вещи; и оттого на суде разбираемое событие признается несомненным, если человек под присягой дает о нем показание. Наоборот, малейшее подозрение в безумии свидетеля тотчас же лишает его показание всякой силы. Здесь, таким образом, лежит критерий, по которому душевное здоровье отличают от помешательства. Как только у меня появляется сомнение в том, действительно ли произошло событие, о котором я вспоминаю, я сейчас же навлекаю этим на самого себя подозрение в безумии, разве только я сомневаюсь, не было ли это просто во сне. Если кто-нибудь, без недоверия к моей правдивости, выражает сомнение в действительности того события, о котором я сообщаю в качестве очевидца, то, значит, он считает меня помешанным. Кто, неоднократно повествуя о событии, которое первоначально он сам выдумал, приходит, наконец, к тому, что сам начинает верить в него, тот, в этом частном пункте, уже, собственно говоря, помешан. Мы допускаем, что у безумного могут появляться остроумные догадки, отдельные счастливые мысли, даже правильные суждения, но его свидетельству о случившихся событиях никто не придаст никакой силы[254]. В «Лалитавистара», этой, как известно, биографии Будды Шакья-Муни, рассказывается, что в момент его рождения все
334
больные исцелились, все слепые прозрели, все глухие вняли и все безумные «вновь обрели свою память»; о последнем упоминается даже в двух местах*. Мой личный многолетний опыт привел меня к убеждению, что безумие сравнительно чаще постигает актеров. Но зато как же злоупотребляют эти люди своею памятью! Каждый день приходится им выучивать новую роль или освежать в памяти старую, а все эти роли не имеют между собой никакой связи, противоречивы и противоположны, и каждый вечер актер старается совершенно забыть самого себя, с тем чтобы сделаться другим человеком. Это и пролагает путь к безумию.
Описанное в тексте возникновение помешательства сделается для нас яснее, если мы вспомним, как неохотно думаем мы о таких вещах, которые сильно задевают наш интерес, нашу гордость или наши желания, с каким трудом решаемся мы подвергнуть все эти неприятные обстоятельства серьезному и точному обсуждению со стороны нашего собственного интеллекта, как легко и бессознательно для самих себя мы ускользаем от них в своих мыслях или тихонько переносимся на что-нибудь другое, и как, наоборот, приятные вещи сами собой приходят нам в голову и даже если мы их прогоняем, они вновь и вновь подстерегают нас, и мы часами думаем о них. В этом противодействии воли, с каким она не позволяет интеллекту осветить то, что ей неприятно, и находится тот пункт, откуда безумие может вторгнуться в наш дух. Ибо каждое тягостное для нас новое событие должно ассимилироваться интеллектом, т. е. занять место в системе истин, имеющих отношение к нашей воле и ее интересу, хотя бы ему и пришлось вытеснить для этого гораздо более отрадные элементы. Как только это сделано, новое событие доставляет нам уже гораздо меньше страданий; но сама эта операция часто бывает очень мучительна и в большинстве случаев совершается медленно и встречает сопротивление. Между тем здоровье духа только в том случае и может сохраниться, если она всякий раз протекает правильно. Когда же, в отдельном случае, упорное противодействие воли усвоению какой-нибудь истины достигает такой высокой степени, что эта операция не может быть выполнена совершенно чисто; когда, вследствие этого, известные факты и случаи вовсе утаиваются от интеллекта, потому что воля не может переносить их вида, и ради необходимой связности интеллект сам произвольно заполняет возникшие в результате этого пробелы, тогда наступает безумие. Ибо интеллект поступается своей природой, для того чтобы угодить воле, и человек воображает себе то, чего на самом деле нет. Но зато постигшее его безумие становится Летой невыносимых страданий: оно явилось для встревоженной природы, т. е. воли, последним средством к спасению.
Кстати, упомяну здесь об одном интересном подтверждении моей теории. Карло Гоцци в «Mostro turchino»** (действ. I, явл. 2) выводит одно лицо, которое испило дающего забвение волшебного напитка, — и оно ведет себя как безумец.
335
Итак, в соответствии с вышесказанным, источник безумия можно видеть в том, что человек насильственно «выбивает себе из головы» какую-нибудь вещь, а это возможно только в том случае, если он «вбивает себе в голову» какую-нибудь другую. Реже встречается противоположный процесс, т. е. когда человек сначала «вбивает себе что-нибудь в голову», а потом уже «выбивает из головы» что-нибудь другое. Возможен, впрочем, и этот последний процесс, именно в тех случаях, когда человек постоянно видит перед глазами тот повод, из-за которого он помешался, и не может от него отрешиться: например, при некоторых формах эротомании, когда больной непрерывно думает о причине своего помешательства, или при таком безумии, которое возникает от испуга перед каким-нибудь внезапным, ужасным происшествием. Такие больные держатся за свою идею с судорожной настойчивостью, так что никакая другая мысль, в особенности противоположная, не может найти себе у них места. Но при том или другом происхождении безумия сущность его остается той же, именно невозможность равномерно связанного воспоминания о прошлом, того воспоминания, которое является основой нашей здоровой, разумной сознательности[255]. Быть может, указанная здесь противоположность в формах возникновения безумия, выраженная в суждении, могла бы послужить глубоким и определенным основанием для классификации помешательства в собственном смысле.
Впрочем, я рассмотрел здесь только психологический источник безумия, т. е. обусловленный внешними, объективными поводами. Но чаще оно вызывается чисто соматическими причинами, неправильным образованием или частичной дезорганизацией мозга или его покровов, а также воздействием на мозг других, болезненно пораженных органов.
Главным образом, именно при последней форме безумия может встречаться обман чувств, галлюцинации. Но в большинстве случаев те и другие причины безумия сами влияют друг на друга, особенно психологические на соматические. Это как в самоубийстве: оно редко бывает обусловлено одним только внешним поводом; в его основе лежит известное физическое недомогание, и смотря по степени, какой достигает последнее, для самоубийцы нужен более или менее сильный повод извне; лишь самая высокая степень физического расстройства делает такой повод излишним. Вот почему нет несчастья, которое было бы настолько велико, чтобы всякий из-за него решался на самоубийство; и, с другой стороны, нет несчастья, которое было бы настолько мало, чтобы подобное ему ранее уже не приводило кого-нибудь к самоубийству. Я описал, как психологически возникает безумие в результате большого несчастья у людей, на вид, по крайней мере, вполне здоровых. А у лиц, соматически уже сильно предрасположенных к безумию, достаточно для него самой ничтожной неприятности; так, я припоминаю, что видел в сумасшедшем доме одного человека, который раньше был солдатом и помешался оттого, что его офицер обратился к нему на Вы. Там, где к безумию есть резкое физическое предрасположение и где последнее вполне созрело, там и не нужно никакого внешнего повода. Безумие, возникающее исключительно из психологических причин, в силу порождающей его насильственной перемены в ходе мыслей, может, пожалуй,
336
привести к своего рода параличу или к какому-нибудь другому поражению одной из мозговых частей, и если его быстро не устранить, то оно может остаться навсегда; оттого безумие излечимо только в начале, а не спустя большой промежуток времени.
То, что существует mania sine delirio, бешенство без помешательства, это утверждал Пинель, это оспаривал Эскироль, и с тех пор много было высказано по этому вопросу мнений pro и contra. А решить его можно только эмпирическим путем. Но если такое душевное состояние действительно существует, то его следует объяснять тем, что воля периодически совершенно уклоняется здесь от господства и руководства со стороны интеллекта, а с ним и мотивов, отчего она и выступает в качестве слепой, неукротимой, разрушительной силы природы и выражается в стремлении уничтожить все, что попадается на ее пути. Сорвавшаяся таким образом воля напоминает поток, который прорвал свою плотину, коня, который сбросил своего всадника, часы, из которых вынули тормозной винт. Впрочем, это освобождение воли от интеллекта распространяется только на разум, т. е. на рефлексивное, а не на интуитивное знание[256], потому что иначе воля оставалась бы безо всякого руководства, а следовательно, человек — без движения. Субъект, пришедший в бешенство, воспринимает объекты, ведь он на них и набрасывается; он сознает свои текущие поступки, он впоследствии сохраняет о них воспоминание. Но только действует он безо всякой рефлексии, т. е. безо всякого руководства со стороны разума, он совершенно не может соображать и мыслить ни о чем отсутствующем, прошедшем и будущем. Когда же припадок проходит и разум снова получает свое господствующее положение, его функция совершается правильно, так как его собственная деятельность не извращена здесь и не разрушена, а только воля нашла себе возможность на некоторое время полностью уклониться от него.
Глава 33*
Отдельные замечания о красоте в природе
Если зрелище прекрасного ландшафта производит на нас такое отрадное впечатление, то этому способствует, между прочим, глубокая правдивость и последовательность природы. Конечно, не логика служит для нее путеводной нитью, не сочетание доводов и силлогизмов, больших и меньших посылок и заключений; но все-таки она руководствуется аналогом логической последовательности — законом причинности, явной связью причин и действий. Всякая, хотя бы самая слабая модификация, какой подвергается объект в силу своего положения, сокращения, сокрытия, удаления, освещения, линейной и воздушной перспективы и т. д., сейчас же тончайшим образом сказывается в его действии на наш глаз и строго учитывается; индийская пословица «Каждое рисовое зернышко отбрасывает свою тень» находит себе здесь подтверждение. Вот
337
почему все в природе так идеально равномерно, последовательно, стройно и до мелочей правильно, здесь нет никаких уловок и лазеек. Если рассматривать красивый пейзаж исключительно как мозговой феномен, то из всех сложных мозговых феноменов это — единственный, который всегда отличается безусловной правильностью и безукоризненным совершенством; все же остальные, в особенности наши собственные умственные операции, и по форме, и по содержанию в большей или меньшей степени сопряжены с изъянами и неточностями. Этим преимуществом, которое отличает созерцание красот природы от других феноменов мозга, объясняется прежде всего то гармоничное и умиротворяющее впечатление, какое они производят на нас, и то благоприятное влияние, какое они оказывают на все наше мышление: последнее, в своей формальной части, получает более правильный строй и до известной степени проясняется, ибо этот единственно безукоризненный мозговой феномен приводит мозг вообще в совершенно нормальное действие, — и вот мышление в последовательности, правильности, гармоничности и связности всех своих процессов старается следовать указанному методу природы, который его, это мышление, и настроил на правильный лад. Красивый пейзаж является поэтому катарсическим[257] средством для духа, как музыка, по Аристотелю, — для души, и перед лицом прекрасной природы мысль работает правильнее, чем когда-либо.
Если внезапно открывающееся перед нами зрелище горной гряды так легко приводит нас в серьезное и даже возвышенное настроение, то это отчасти объясняется, вероятно, тем, что форма гор и обусловленные ею очертания всего хребта составляют единственную неизменную линию ландшафта, ибо только одни горы выдерживают натиск того разрушительного потока, который быстро увлекает все на свете, а с ним и нашу собственную эфемерную личность. Конечно, вид гор не порождает в нас какое-либо ясное сознание всего этого; но только мы смутно чувствуем это, и наше настроение принимает соответствующий оттенок.
Я хотел бы знать, почему, в то время как для человеческой фигуры и лица освещение сверху — безусловно самое выгодное, а снизу — самое неблагоприятное, по отношению к ландшафту дело обстоит как раз наоборот?
Но как эстетична природа! Всякий совершенно невозделанный и запущенный, т. е. предоставленный самой природе, клочок земли, как бы мал он ни был и если только он не захватан руками человека, она сейчас же украшает с удивительным вкусом, одевает его тканью растений, цветов и кустарников, непринужденность, естественная грация и изящная группировка которых свидетельствует, что они взросли не под надзором великого эгоиста, а взлелеяны на свободном лоне природы. Каждый заброшенный уголок тотчас же становится прекрасным. На этом и основан принцип английских садов, который заключается в том, чтобы как можно больше маскировать роль искусства и всему придавать такой вид, будто здесь свободно распоряжалась сама природа. Ибо лишь в этом случае она вполне прекрасна, т. е. с предельной ясностью выражает объективацию еще бессознательной воли к жизни, которая раскрывается здесь с величайшей наивностью, потому что в растительном царстве формы определяются не вовне лежащими целями, как это
338
бывает в мире животных, а непосредственно одной только почвой, климатом и неким загадочным третьим, в силу чего множество растений, первоначально выросших на одной почве и в одном климате, обнаруживают все-таки большое разнообразие форм и характеров.
Существенная разница между английскими, или, правильнее, китайскими садами и старофранцузскими, которые в настоящее время встречаются все реже и реже, но которые сохранились еще в нескольких великолепных экземплярах, в конечном счете основывается на том, что первые разбиты в объективном, а вторые в субъективном духе. А именно, в первых воля природы так, как она объективируется в дереве, кустарнике, горе и водах, доведена до возможно чистейшего выражения этих ее идей, т. е. ее собственной сущности. В садах же французских отражается только воля их владельца, которая подчинила себе природу, так что она, вместо своих собственных идей, носит на себе, как символ своего порабощения, угодные человеку, насильственно навязанные ей формы: подстриженные кустарники, различным образом подрезанные деревья, прямые аллеи, арки и т. д.
Глава 34*
О внутренней сущности искусства
Не только философия, но и изящные искусства, в сущности, стремятся к тому, чтобы разрешить проблему бытия. В каждом духе, который однажды отдался чисто объективному созерцанию мира, пробуждается, хотя бы скрытно и бессознательно для него самого, влечение постигнуть истинную сущность вещей, жизни, бытия. Ибо только это одно и представляет интерес для интеллекта как такового, т. е. для освободившегося от целей воли и, следовательно, чистого субъекта познания, подобно тому как для субъекта, познающего в качестве просто индивида, интересны только цели воли. Вот почему в результате любого чисто объективного, а следовательно, и любого художественного восприятия вещей является новое выражение существа жизни и бытия, новый ответ на вопрос: «Что такое жизнь?» На этот вопрос любое истинное и удавшееся художественное произведение дает, на свой лад, вполне правильный ответ. Но все искусства говорят только наивным и детским языком созерцания, а не отвлеченным и серьезным языком рефлексии;[258] и потому их ответ мимолетный образ, а не устойчивое общее познание. Таким образом, для созерцания на этот вопрос отвечает каждое произведение искусства, каждая картина, каждая статуя, каждое стихотворение, каждая сцена в театре; и музыка тоже отвечает на него, притом глубже, чем все другие искусства, потому что сокровенную сущность жизни и бытия она выражает языком, который непосредственно понятен, но который, однако, непереводим на язык разума. Итак, все остальные искусства (кроме музыки) преподносят вопрошающему наглядный образ и говорят
339
ему: «Смотри сюда, вот — жизнь!» И их ответ, как бы верен он ни был, дает все-таки лишь временное, а не полное и конечное удовлетворение. Ибо они всегда предлагают лишь отрывок, пример вместо правила, не целое, которое может быть дано только в общности понятия. Дать же ответ и для последнего, т. е. для рефлексии и in abstracto, ответ неизменный и удовлетворяющий навсегда, — это задача философии. Отсюда мы видим, на чем основано родство между философией и изящными искусствами, и мы можем заключить также, насколько способности к той и другим, хотя и весьма различные по направлению и деталям, в корне своем все-таки составляют одно и то же. Согласно сказанному, каждое произведение искусства стремится, собственно говоря, к тому, чтобы показать нам жизнь и вещи такими, каковы они в действительности, но какими не всякий может видеть их непосредственно, потому что они окутаны туманом объективных и субъективных случайностей. Этот туман искусство и рассеивает.
Творения поэтов, живописцев и художников вообще содержат в себе, по общему признанию, целую сокровищницу глубокой мудрости, так как из них говорит мудрость самой природы вещей, откровения этой природы они лишь переводят на другой язык, проясняя их и воспроизводя их более чисто. Но именно поэтому всякий, кто читает стихотворение или созерцает художественное произведение, должен привнести нечто и от себя самого, из своего внутреннего опыта, для того чтобы эта мудрость заговорила; из каждого произведения, следовательно, он извлекает лишь столько, сколько вмещают его способности и образование, подобно тому как в морскую глубину всякий моряк погружает свой лот настолько глубоко, насколько хватает его длины. Перед картиной всякий должен стоять так же, как перед королем, выжидая, скажет ли она ему что-нибудь и что именно скажет; и как с королем, так и с картиной не смеет он заговаривать первым, иначе он услышит только самого себя. Таким образом, хотя в произведениях изобразительных искусств и содержится вся мудрость, но только virtualiter или implicite*; дать же ее actualiter и explicite** — это задача философии, которая в данном смысле так относится к искусству, как вино — к винограду. То, что сулит философия, это как бы уже реализованный и чистый доход, надежное и постоянное владение, между тем как достояние, заключающееся в произведениях искусства, всякий раз надо воссоздавать заново. Зато философия и предъявляет отпугивающие и трудноисполнимые требования не только к тому, кто создает ее произведения, но и к тому, кто хочет ими пользоваться. Оттого ее публика всегда ограничена, между тем как у искусства публика широка.
Содействие зрителя, необходимое для наслаждения художественным творением, отчасти основывается на том, что всякое произведение искусства может действовать только через среду фантазии; поэтому оно должно возбуждать ее, и она ни на минуту не смеет оставаться незатронутой, бездеятельной. Это — условие эстетического воздействия и потому основной закон всех изящных искусств. А отсюда следует, что
340
художественное произведение должно давать внешним чувствам зрителя далеко не все, а именно столько, сколько надо для того, чтобы направить фантазию на верный путь: всегда нужно делать так, чтобы оставалось нечто на ее волю фантазии, и притом последнее. Ведь даже писатель должен излагать таким образом, чтобы читателю всегда оставалось, о чем подумать самому; Вольтер очень правильно заметил[259]: «Le secret d’être ennuyeux, c’est de tout dire»*. В искусстве же, кроме того, лучшее слишком духовно, для того чтобы его можно преподать внешним чувствам: оно должно родиться в фантазии зрителя, хотя рождает его само художественное произведение. Вот чем объясняется, что эскизы великих мастеров часто производят более сильное впечатление, чем их законченные картины; к этому присоединяется, конечно, еще и то преимущество эскизов, что они как бы из цельного куска, закончены в самый момент их создания, между тем как осуществление законченных картин требует продолжительных усилий, соображений ума и настойчивой преднамеренности, ибо вдохновение не может длиться все время, пока картина не будет завершена. Из этого же основного эстетического закона явствует, далее, почему восковые фигуры, несмотря на то что именно в них подражание природе достигает порою самой высокой степени, никогда не производят эстетического впечатления и оттого не являются настоящими созданиями искусства. Ибо они ничего не оставляют на долю фантазии. В самом деле: скульптура дает только одну форму, без красок; живопись дает краски, но только видимость формы: обе они, таким образом, обращаются к фантазии зрителя. Восковая же фигура дает все — и форму, и краску сразу; отсюда возникает признак действительности, и фантазия остается ни при чем. Напротив, поэзия обращается только к фантазии, которую она и приводит в действие посредством одних слов.
Произвольно играть средствами искусства, не сознавая ясно его цели, — в этом основной признак бездарности в любом из его видов. Таковы, например, ничего не поддерживающие колонны, бесцельные своды, изгибы и выступы скверной архитектуры, ничего не говорящие рулады и фигуры, бесцельный шум плохой музыки, перезвон рифм в бедных смыслом стихотворениях.
В силу сказанного в предыдущих главах и моих взглядов на искусство вообще, цель последнего — облегчать познание идей мира (в платоновском смысле, единственном, который я признаю за словом идея). Идеи же по существу своему — нечто наглядное и оттого, в своих ближайших определениях, неисчерпаемое. Воспроизвести последнее можно поэтому только путем созерцания, а это и есть путь искусства. Следовательно, кто исполнен созерцания какой-нибудь идеи, тот прав, избирая искусство средством для ее сообщения. Простое же понятие — это нечто вполне определимое, то, что можно исчерпать до конца, ясно продумать и во всем его содержании холодно и трезво передать словами. И воплощать нечто подобное в художественном произведении — это совершенно бесполезный окольный путь, это именно та нежелательная игра со средствами искусства без сознания его цели, о которой
341
мы только что говорили. Вот почему художественное произведение, концепция которого зародилась на основе одних отчетливых понятий, никогда не будет настоящим произведением искусства. Когда, созерцая какое-нибудь творение изобразительных искусств, или читая стихотворение, или слушая музыку (такую, которая стремится изобразить нечто определенное), мы видим, что сквозь все это богатство художественных средств просвечивает ясное, ограниченное, холодное, трезвое понятие и что оно, в конце концов, совсем выступает наружу и оказывается ядром данного произведения, вся концепция которого, следовательно, состояла лишь в отчетливом определении этого понятия и вполне исчерпывается его сообщением, то мы испытываем неприятное и гневное чувство: мы видим, что нас обманули и напрасно требовали нашего внимания и участия. Вполне удовлетворяет нас впечатление от художественного произведения только в том случае, если оно оставляет в нашей душе нечто такое, чего мы, сколько о нем ни думать, не можем целиком довести до отчетливости понятия. Признаком такой гибридности возникновения художественного произведения из простых понятий является то, что его создатель, еще до его осуществления, может в ясных словах рассказать, что именно он хочет изобразить: ведь если так, то он вполне достигает своей цели уже именно этими словами, зачем же еще нужно художественное творчество? Вот почему столь же недостойно, сколько и нелепо, когда пытаются, как это нередко бывает в наши дни, сводить то или другое художественное создание Шекспира или Гете к какой-нибудь отвлеченной истине, выражение которой будто бы служило его целью. Конечно, мыслить во время своей творческой работы художник должен: но только та мысль, которая, прежде чем стать мыслью, была созерцанием, — только эта мысль впоследствии, будучи воплощена для других, имеет вдохновляющую силу и потому становится нетленной.
Не могу здесь удержаться от замечания, что произведения из цельного куска, каковы уже упомянутый эскиз художника, законченный в восторге первой творческой мечты и зарисованный как бы в бессознательном порыве; или мелодия, возникающая безо всякой рефлексии, как бы по наитию свыше; или, наконец, истинно лирическое стихотворение, простая песенка, в которой глубокое чувство настоящего и впечатление от окружающей обстановки как бы непроизвольно изливается в словах, где размер и рифма являются сами собой, — все такие произведения, говорю я, имеют то великое преимущество, что они представляют собой чистое создание вдохновенной минуты, наития, свободного парения гениальности, безо всякой примеси преднамеренности и рефлексии; именно потому они, так сказать, пропитаны усладой, не разделяются на шелуху и ядро, и впечатление от них гораздо более неотразимо по сравнению с тем, какое производят величайшие творения искусства, осуществляемые обдуманно и медленно. Дело в том, что в последних, т. е. в больших исторических картинах, в длинных эпопеях, больших операх и пр., рефлексия, преднамеренность и обдуманный выбор играют значительную роль: рассудок, техника и рутина должны заполнять здесь те пробелы, которые основала гениальная концепция и вдохновение, и в качестве цемента, соединяющего действительно блестящие части, здесь, в этих промежутках, неизбежны разного рода побочные элементы.
342
Этим и объясняется,
что все подобные произведения, за исключением разве совершеннейших созданий
величайших мастеров (каковы, например, «Гамлет», «Фауст», опера «Дон-Жуан»),
непременно содержат в себе некоторую примесь скучного и плоского, что отчасти и
отравляет наслаждение ими. Примерами этого могут служить «Мессиада», «Gerusalemme liberata», даже «Paradis[260] lost»*
и «Энеида»; недаром уже Гораций отважился на замечание: «Quandoque bonus bonus
dormitat H
Мать полезных ремесел — нужда; мать изящных искусств — избыток[261]. Отец первых — рассудок, отец последних — гений, который сам своего рода избыток, а именно избыток познавательной силы сравнительно с тем количеством ее, какое необходимо для служения воле.
Глава 35****
К эстетике архитектуры
В <основном> тексте мы выводили чисто эстетический момент архитектуры из низших ступеней объективации воли, или природы, идеи которой она стремится довести до отчетливой наглядности. Мы видели, что единственный и неизменный предмет ее — это опора и тяжесть и что основной закон ее гласит: нет тяжести без достаточной опоры, нет опоры без соответствующей тяжести, т. е. их взаимное отношение должно быть строго определенным. Чистейшее выражение этого объекта зодчества — колонны и стропила; оттого стиль колонн и сделался как бы генерал-басом всей архитектуры. В колонне и стропилах опора и тяжесть совершенно обособлены, вследствие чего их действие одна на другую и их взаимоотношение здесь непосредственно очевидны. Ибо несомненно, что уже всякая прямая стена состоит из опоры и тяжести, но только обе они здесь еще сливаются вместе: все здесь опора и все здесь тяжесть, оттого и нет эстетического эффекта. Последний возникает лишь через их обособление и измеряется его степенью. Ибо между колоннадой и прямой стеною существует много промежуточных ступеней. Уже в прорезах, которые делают в стене дома для окон и дверей, стараются по крайней мере намекнуть на это обособление — посредством плоских выдающихся пилястров (антов) с капителями, которые помещают под карнизом; а в крайнем случае их просто рисуют — лишь бы только обозначить как-нибудь балки и наличие колонн. Действительные же столбы, консоли и всякого рода опоры уже в большей степени реализуют это всецело пронизывающее архитектуру стремление к полному обособлению опоры и тяжести. По отношению к последнему ближе всего стоит к колонне с балками свод со столбами; но он является уже конструкцией своеобразной и первой не копирует. Конечно, последней далеко до эстетического эффекта первой, потому что здесь опора и тя-
343
жесть еще не вполне обособлены, а сливаются вместе и переходят одна в другую. Даже и в своде всякий камень — одновременно и тяжесть и опора; и сами столбы, особенно в стрельчатых сводах, поддерживаются в своем положении давлением противоположных арок, по крайней мере на вид, подобно тому как именно в силу этого бокового давления не только своды, но и обыкновенные арки не покоятся на колоннах, а требуют для себя более массивных четырехугольных столбов. Только в колоннадах обособление полно, потому что здесь балки выступают как чистая тяжесть, а колонна — как чистая опора. Поэтому отношение между колоннадой и прямой стеной аналогично отношению между гаммой, восходящей в правильных интервалах, и звуком, который шел бы из той же глубины к той же высоте, постепенно и без нюансов, что производило бы впечатление простого воя. Ибо как в первом, так и во втором случае материал один и тот же, а значительная разница вытекает только из полного обособления его отдельных моментов.
Впрочем, опора соразмерна тяжести не тогда, когда она только достаточна для того, чтобы поддерживать тяжесть, а тогда, когда она (опора) в состоянии делать это столь удобно и прочно, что мы при первом же взгляде совершенно успокаиваемся на этот счет. Но и этот избыток опоры не должен переходить известную границу, ибо в противном случае мы увидим опору без тяжести, что нарушает эстетическое впечатление. Для определения этой границы древние придумали в качестве ориентира линию равновесия: она получится, если утончение, которое имеет колонна снизу кверху, продолжить, пока оно не закончится острым углом и колонна не обратится в конус, тогда любой поперечный разрез оставит нижнюю часть колонны настолько прочной, что ее будет достаточно для поддержания отрезанной верхней части. Обыкновенно, впрочем, строят с двадцатикратной прочностью, т. е. на всякую опору кладут только 1/20 часть того, что она максимум могла бы вынести на себе. Яркий образчик тяжести без опоры представляют балконы, выступающие на углах иных домов, построенных в тонком «современном стиле»: не видишь, что их поддерживает, и кажется, будто они висят на воздухе, и душой зрителя овладевает тревога.
Если в Италии даже самые простые и незатейливые здания все-таки производят эстетическое впечатление, а в Германии — нет, то это объясняется главным образом тем, что в Италии крыши очень плоски. Высокая крыша — это ни опора, ни тяжесть, потому что обе ее половины поддерживают одна другую, а целое не имеет увесистости, которая соответствовала бы его протяжению. Поэтому она и представляет глазам распространенную массу, которая совершенно далека от эстетических целей зодчества и служит лишь цели утилитарной, чем мешает эстетической цели, тема которой выражается всегда лишь сочетанием опоры и тяжести.
Форма колонны имеет свое основание исключительно в том, что она представляет собой самый простой и целесообразный вид опоры. Витая колонна как бы нарочно, в насмешку и бесстыдно, выставляет напоказ свою нецелесообразность, и поэтому развитой вкус с первого же взгляда обрекает ее на гражданскую казнь. Четырехугольный столб, ввиду того что его диагональ больше его сторон, имеет неодинаковые измерения
344
в толщину, которые не мотивируются никакой целью, а произошли случайно, в силу большей легкости выполнения; оттого он и нравится нам гораздо меньше, чем колонна. Но уже шести- или восьмиугольный столб нравится нам больше, потому что он ближе к круглой колонне, а только в этой последней форма определяется исключительно назначением. Такова она, впрочем, и во всех остальных своих пропорциях, и прежде всего в отношении своей толщины к высоте в тех пределах, какие допускает различие трех ордеров колонн. Далее, утончение, которое начинается с первой трети ее высоты, как и незначительное утолщение именно в этом же месте («entasis» Vitr.), объясняется тем, что давление тяжести там наиболее сильно; до сих пор думали, что это утолщение свойственно только ионийской и коринфской колоннам, однако новейшие измерения показали, что оно имеется и в колонне дорической, даже в Пестуме. Таким образом, все в колонне — и ее строго определенная форма, и отношение ее высоты к ее толщине, и отношение обеих к промежуткам между колоннами, и отношение всей колоннады к балкам и опирающейся на них тяжести — представляет собою точно вычисленный результат из отношения между данной тяжестью и необходимой для нее опорой. Так как последняя распределена равномерно, то и опоры должны быть расставлены таким же образом; вот почему группы колонн безвкусны. Но в лучших дорийских храмах угловая колонна стоит несколько ближе к соседке, чем другие, потому что соединение балок на углу усиливает тяжесть, и в этом ясно сказывается тот принцип архитектуры, что строительные отношения, т. е. отношения между опорой и тяжестью, являются самыми существенными, перед которыми отношения симметрии, как второстепенные, немедленно должны отступить. Смотря по весу всей тяжести вообще, мы избираем либо дорический, либо два других, более легких ордера колонн, потому что первый не только большей толщиной колонн, но характерной для него более близкой их расстановкой рассчитан на значительные тяжести; этому назначению соответствует и почти грубая простота его капители. Вообще, капители имеют целью сделать очевидным для всех, что колонны поддерживают собою балки, а не воткнуты в них как шипы: вместе с тем они своим абаком увеличивают поддерживающую площадь. Так как, следовательно, из хорошо усвоенного и последовательно проведенного понятия опоры, вполне соразмеренной с данной тяжестью, вытекают, во всех мелочах, все законы стиля колонн, а следовательно, и форма и пропорция последних, во всех их частях и измерениях, и, значит, поскольку определяются a priori, то отсюда становится ясна вся нелепость столь часто повторяемой мысли, будто прототипом колонны был ствол дерева или даже (что, к сожалению, заявляет и Витрувий, IV, I[262]) человеческая фигура. Если бы это было так, то форма колонны была бы для архитектуры совершенно случайной, заимствованной извне; но подобная случайная форма не могла бы производить такого гармоничного и умиротворяющего впечатления, какое она производит на нас, когда отличается должной соразмерностью, и, с другой стороны, малейшее уклонение от этой соразмерности не производило бы сразу, на людей с тонким и развитым вкусом, такого же неприятного и тягостного впечатления, какое производит неверный тон в музыке. Нет, это возмож-
345
но лишь потому, что в архитектуре должны быть даны только цель и средства; все же остальное в существенном определяется в ней a priori, подобно тому как в музыке, по данной мелодии и тонике, в существенном определяется a priori вся гармония. И вообще как музыка, так и архитектура не подражательные искусства, хотя часто их ошибочно и считали таковыми[263].
Эстетическое наслаждение, как я подробно говорил об этом в <основном> тексте нашей книги, всегда основывается на восприятии некоторой (Платоновой) идеи. Специальным предметом архитектуры, рассматриваемой исключительно как изящное искусство, являются идеи низших ступеней природы, каковы тяжесть, косность, сцепление частей, а не, как думали до сих пор, только правильная форма, пропорция и симметрия: нет, все это — моменты чисто геометрические, свойства пространства, а не идеи, и поэтому они не могут быть предметом какого бы то ни было изящного искусства. И в архитектуре, следовательно, они проявляются во вторую очередь, имеют подчиненное значение, которое я сейчас и укажу. Если бы архитектура как изящное искусство ставила себе задачей воспроизводить только их, то модель и законченное произведение должны были бы производить на нас одинаковое впечатление; на самом же деле этого совсем не бывает, и произведения архитектуры, для того чтобы произвести на нас эстетическое действие, непременно должны иметь значительную величину, и они никогда не могут быть слишком велики, но легко могут быть слишком малы. Ceteris paribus* эстетическое впечатление даже прямо пропорционально величине постройки, ибо только большие массы делают в высшей степени очевидным и убедительным действие силы тяжести. Это лишний раз подтверждает мой взгляд, что тяготение и антагонизм названных выше основных сил природы составляет специальный эстетический объект зодчества, который по своей природе требует больших масс, для того чтобы его можно было увидеть и даже почувствовать. Архитектурные формы, как я показал выше на примере колонны, прежде всего определяются непосредственным строительным назначением каждой отдельной части. Но поскольку это назначение оставляет что-нибудь без ближайшего определения, сейчас же выступает на сцену закон совершеннейшей наглядности, а с нею и легчайшего восприятия, так как архитектура имеет свое существование прежде всего в нашем пространственном созерцании и поэтому действует на нашу априорную способность к последнему. Легче всего воспринимается какая-нибудь вещь тогда, когда она обладает наибольшей правильностью форм и рациональностью в отношениях между своими частями. Вот почему изящная архитектура выбирает исключительно правильные фигуры из прямых линий или закономерных кривых, а также и тела, возникающие из этих линий, каковы куб, параллелепипед, цилиндр, шар, пирамида, конус; для просветов же она пользуется иногда формами круга или эллипса, обыкновенно же — формой квадрата, а еще чаще — прямоугольника, причем последнего — только с совершенно рациональным и легко усвояемым соотношением между сторонами (не таким, например, как 6:7, а таким, как 1:2, 2:3);
346
наконец, она прибегает еще к углублениям, или нишам, которые отличаются правильными и ясными пропорциями. По той же причине архитектура любит придавать своим зданиям вообще и их отдельным большим частям рациональное и ясное отношение между высотой и шириной: например, высота какого-нибудь фасада обыкновенно равняется половине его ширины, и колонны расставляют таким образом, чтобы три или четыре из них вместе со своими промежутками измерялись линией, равной их высоте, т. е. составляли квадрат. Тот же принцип наглядности и ясности требует, чтобы здание было легко обозримо: это влечет за собою симметрию, которая сверх того нужна еще и для того, чтобы отметить данную постройку как нечто целое и отделить ее существенные границы от случайных; например, в иных случаях только благодаря симметрии можно узнать, имеем ли мы перед собою три рядом стоящие здания или одно. Только симметрия непосредственно показывает, что архитектурное произведение представляет собою индивидуальное единство и развитие одной главной мысли.
Но если, как я выше заметил, зодчество ни в каком случае не
должно подражать формам
природы, каковы стволы деревьев или даже человеческие фигуры, то все-таки творить оно должно в духе природы, ставя и себе в закон ее закон «natura nihil
agit frustra, nihilque supervacaneum, et quod cormmodissimum in
347
наших современных ваз в «оригинальном вкусе», которые всегда носят на себе отпечаток пошлости — все равно, сделаны они из фарфора или из грубой горшечной глины. При взгляде на сосуды и чаши древних мы чувствуем, что, если бы природа захотела создать подобные вещи, она придала бы им как раз такую форму.
Итак, я вижу красоту зодчества главным образом в той его особенности, что оно откровенно выражает свои цели и достигает их наиболее коротким и естественным путем. Следовательно, в этом пункте моя теория становится в прямое противоречие с кантовской, которая сущность всего прекрасного полагает в кажущейся целесообразности без цели.
Охарактеризованный здесь единственный объект архитектуры, опора и тяжесть, настолько прост, что названное искусство, поскольку оно искусство изящное (а не служит утилитарным целям), уже со времени своего лучшего, эллинского периода в существенных чертах прошло и завершило весь круг своего развития или, по крайней мере, не способно больше обогатиться какими-нибудь новыми и значительными формами. Напротив, современный архитектор не может заметно уклониться от древних правил и образцов, не становясь сейчас же на путь ухудшения. Ему поэтому не остается ничего другого, как принять искусство, унаследованное от классической старины, и осуществлять его уставы, насколько это возможно, с теми ограничениями, какие неизбежно налагают на него те или другие требования, климат, эпоха и его родная страна. Ибо в этом искусстве, как и в скульптуре, стремление к идеалу и подражание древним совпадают между собою.
Едва ли мне нужно упоминать, что при всех этих соображениях об архитектуре я имел в виду исключительно древний стиль зодчества, а не так называемый готический, который, происходя от сарацин, был привит готами в Испании остальной Европе. Быть может, и этому последнему стилю нельзя отказать в некоторой своеобразной красоте; но если он притязает на равноправие с первым, то это — варварская дерзость, которая решительно не может быть допустима. Как благодатно действует на душу, после созерцания таких готических великолепий, зрелище планомерного, в античном стиле воздвигнутого здания! Мы сейчас же чувствуем, что только оно одно правомерно и истинно. Если бы можно было показать кому-нибудь из древних эллинов наши знаменитейшие готические соборы, что сказал бы он, глядя на них? — βάρβαροι!* Если создания готики доставляют нам благорасположение, то это несомненно объясняется главным образом тем, что у нас возникают известные ассоциации мыслей и исторические воспоминания, т. е. чувство, для искусства постороннее. Все, что я говорил о подлинной эстетической цели, о смысле и предмете зодчества, по отношению к готическому стилю теряет свое значение. Ибо свободно расположенные балки, а с ними и колонны, в нем исчезают: опора и груз, симметрично сочетаемые для наглядного воплощения борьбы между инерцией и тяжестью, уже не являются здесь главной сутью. Точно так же отсутствует здесь и та безусловная, чистая рациональность, которая столь характерна для
348
древнего архитектурного стиля и благодаря которой всякая деталь может дать о себе самый строгий отчет — для мыслящего зрителя, впрочем, явный сам собою. Не то в готическом стиле: мы сейчас же замечаем, что здесь вместо рациональности хозяйничал произвол, руководимый чуждыми искусству понятиями, и многое остается для нас потому неясным. Ибо только античный стиль проникнут строго объективным духом, готический же — больше субъективным. Но если бы мы все-таки захотели и в готике найти основную эстетическую идею, аналогичную той, за которую в античном зодчестве мы приняли раскрытие борьбы между инерцией и тяжестью, то мы должны были бы признать, что эта идея получает здесь такой вид: здесь бывает представлена совершенная победа и одоление тяжести оцепенением. В самом деле, горизонтальная линия, т. е. линия тяжести, здесь почти совершенно исчезает, и действие тяжести сказывается еще только косвенным образом, а именно будучи замаскированным в арке и своде; между тем как вертикальная линия, т. е. линия опоры, царит нераздельно и в непомерно высоких контрфорсах, башнях, башенках и бесчисленных шпилях воплощает победоносную силу оцепенения. В то время как в античном зодчестве стремление и порыв сверху вниз представлены и изображены столь же полно, как и стремление и порыв снизу вверх, в готике решительно преобладают последние, отчего здесь и возникает не раз подмеченная аналогия с кристаллом: ведь осаждение последнего тоже сопровождается победой над тяжестью. Но если мы вложим в готический стиль этот смысл и главную идею и на этом основании вздумаем противопоставлять его классической архитектуре в качестве равноправной формы зодчества, то следовало бы возразить на это, что та борьба между инерцией и тяжестью, которую античное зодчество выражает столь открыто и наивно, это — борьба действительная и настоящая, имеющая свои корни в самой природе, между тем как полное одоление тяжести инерцией — простая иллюзия и фикция, которой дается вера только в силу обмана чувств. Каким образом из указанной здесь основной идеи и отмеченных выше особенностей готического зодчества вытекает свойственный ему, по общему признанию, таинственный и сверхъестественный характер, это всякий легко поймет сам. Как я уже упоминал, этот характер возникает преимущественно в силу того, что произвольное занимает здесь место рационального, которое выражается в полном соответствии средства и цели. Множество деталей, собственно говоря, бесцельных и тем не менее отделанных с большой тщательностью, наводит человека на мысль о неведомых, непостижимых, таинственных целях, т. е. придает зданию таинственный вид. Но блестящей стороной готических храмов является их внутренность, ибо здесь эффект стрельчатого свода, который покоится на стройных, кристаллически воздымающихся колоннах, который парит в высоте и благодаря исчезновению тяжести сулит человеку вечную безопасность, — этот эффект проникает в душу, между тем как большинство упомянутых изъянов остаются снаружи. Наоборот, в античных зданиях наиболее выигрышной стороной является внешняя, потому что на ней лучше видно соотношение между опорой и тяжестью, тогда как внутри плоская кровля всегда имеет в себе что-то подавляющее и прозаическое. В древних
349
храмах при множестве внешних деталей собственно внутренняя часть была обыкновенно мала. Более возвышенный характер придавал ей шарообразный свод купола, как в Пантеоне; оттого итальянцы, следуя в своем зодчестве этому же стилю, сделали из купола самое широкое употребление. В связи с этим находится и то обстоятельство, что древние, как южные народы, жили больше под открытым небом, чем нации северные, которые предпочли готическую архитектуру. Но тот, кто непременно хочет видеть в готическом зодчестве значимую и полноправную форму искусства, может, если он любит аналогии, назвать его отрицательным полюсом архитектуры или ее минорной тональностью. В интересах изящного вкуса я должен выразить пожелание, чтобы значительные денежные средства употреблялись на объективное, т. е. действительно благое и истинное, на то, что прекрасно само по себе, а не на то, ценность чего зависит лишь от известных ассоциаций идей. И когда я вижу, как наш неверующий век усердно достраивает готические храмы, которые верующее средневековье оставило незаконченными, то это производит на меня такое впечатление, будто в них желают похоронить набальзамированное тело преставившегося христианства.
Глава 36*
Отдельные замечания по эстетике изобразительных
искусств
В скульптуре главное — красота и грация; в живописи первостепенное значение получают выражение, страсть, характер, в той же мере поэтому по отношению к ней снижаются и требования красоты. В самом деле, безусловная красота всех фигур, как этого требует скульптура, служила бы здесь в ущерб характерности и своим однообразием утомляла бы зрителя. Вот почему живопись имеет право изображать и некрасивые лица, и чахлые фигуры; напротив, скульптура требует красоты, хотя и не всегда идеальной, и уж во всяком случае — силы и округленности фигур. Оттого изможденный Христос на кресте, умирающий св. Иероним, измученный старостью и болезнью, как на шедевре Доменикино, — это подходящий предмет для живописи; наоборот, превратившийся от долгого поста в кожу и кости мраморный Иоанн Креститель Донателло во флорентийской галерее производит отталкивающее впечатление, несмотря на все совершенство выполнения. С этой точки зрения скульптура, по-видимому, соответствует утверждению воли к жизни, а живопись — ее отрицанию; отсюда можно объяснить, почему скульптура была искусством древних, а живопись — искусством христианских веков.
В § 45 первого тома я сказал, что найти, познать и установить тип человеческой красоты можно только посредством известного предвосхищения последней, т. е. что все это зиждется отчасти на априорном основании. Теперь я должен прибавить, что это предвосхищение для своего возникновения все-таки нуждается в возбуждающем опыте, подо-
350
бно тому как инстинкт животных, хотя он и руководит их действиями a priori, все-таки в подробностях своего осуществления нуждается в определяющем влиянии мотива. Опыт и действительность предъявляют интеллекту художника человеческие образы, которые в том или другом отношении более или менее удались природе и как бы спрашивают его мнения о них; тем самым они, действуя сократовским методом, вызывают из темной глубины упомянутого предвосхищения явственное и определенное сознание идеала. Вот почему для греческих скульпторов несомненно представляло большое подспорье то, что климат и нравы страны давали им возможность в течение целого дня видеть полуобнаженные, а в гимнасиях и совсем обнаженные тела. При этом каждый член взывал к их пластическому чутью, требуя от него оценки и сравнения с соответственным идеалом, который смутно таился в их сознании. Так беспрерывно развивали они свой вкус, наблюдая все формы и члены человеческого тела, вплоть до их тончайших нюансов; благодаря этому то предвосхищение идеала человеческой красоты, которое первоначально носило у них смутный характер, постепенно достигало в их сознании такой отчетливости, что позволяло им объективировать этот идеал в художественном произведении.
Точно так же и поэту для воплощения характеров полезен и необходим личный опыт. Ибо хотя в своем творчестве он и не следует опыту и эмпирическим наблюдениям, а руководствуется ясным сознанием сущности человечества в том виде, каком она является ему в его собственном внутреннем мире, тем не менее для этого сознания опыт служит схемой, дает ему толчок и материал для упражнения. И хотя его знание человеческой природы во всем ее разнообразии в главном имеет априорный и предвосхищающий характер, тем не менее жизнь, определенность и широту оно извлекает только из опыта. Опираясь на нашу предыдущую книгу и на следующую ниже главу 44-ю, мы можем подвергнуть еще более глубокому анализу то изумительное чувство красоты, которое отличало греков и среди всех народов мира сделало их одних способными постигнуть истинный, нормальный тип человеческой фигуры и явить его образцом красоты и грации для подражания всем грядущим столетиям. Я скажу так: то, что, не отделенное от воли, составляет половое влечение с его пристрастным отбором, т. е. половую любовь (которая, как известно, у греков подвергалась значительным извращениям), это же самое, когда оно в случае необычного развития и преобладания интеллекта отрешается от воли и все-таки сохраняет свою деятельность, становится объективным чувством красоты человеческого образа, чувством, которое прежде всего служит мерилом художественной оценки, но в своем дальнейшем развитии может доходить и до того, что художник начинает обретать и воплощать в своих творениях нормы всех частей и пропорций тела: так это было у Фидия, Праксителя, Скопаса и т. д. Тогда именно осуществляется то, что говорит Гете устами своего художника:
Чтобы
дух божественной
Моей
рукой
Создать
умудрился б
То,
что, припав к жене,
Я
в силах, с зверем наравне, свершить16.
351
И новая аналогия: то, что, не отделенное от воли, образует только житейскую мудрость, это самое, когда оно в силу необычного преобладания интеллекта отрешается от воли, дает поэту способность объективного, драматического изображения.
Новая скульптура, что бы она ни создавала, аналогична новой латинской поэзии: подобно ей, она представляет собою дитя подражания и возникла из реминисценций. Если же она осмеливается быть оригинальной, она сейчас же сбивается с пути и вместо пропорций тела, завещанных древними, берет за образец формы природы, какие случайно попадаются ей на глаза в данный момент. Канову, Торвальдсена и многих других можно сравнить с Иоанном Секундом и Овеном. Так же точно обстоит дело и с архитектурой; но здесь причина этого заключается в самой природе названного искусства, чисто эстетическая сторона которого незначительна по своему объему и исчерпана уже древними; вот почему современный архитектор может проявить себя только в мудром применении древних уставов; и он должен знать, что он всякий раз настолько удаляется от хорошего вкуса, насколько отступает от античного стиля и образца.
Искусство живописца, рассматриваемое исключительно как стремление создать иллюзию действительности, в последнем основании сводится к следующему: то, что при видении составляет простое ощущение, т. е. возбуждение ретины, иначе говоря — единственное непосредственно данное действие, живопись умеет строго отделять от его причины, т. е. от объектов внешнего мира, созерцание которых в рассудке только через это и возникает; вот почему, при наличии хорошей техники, живописец в состоянии вызывать тот же зрительный эффект и совершенно другой причиной, а именно наброском красочного пятна, отчего в рассудке зрителя, который непременно сводит действие к обычной причине, опять получается то же самое созерцание.
Когда мы подумаем, что во всяком человеческом лице таится нечто совершенно изначальное и глубоко своеобразное, нечто являющее такую цельность, которая может быть свойственна только единству, составленному из одних лишь необходимых элементов, и благодаря которой мы, даже спустя многие годы, узнаем своего знакомого из тысяч людей, несмотря на то что возможные границы для разнообразия человеческих черт, особенно в пределах одной расы, крайне тесны, — когда мы подумаем об этом, то у нас невольно возникнет сомнение, может ли нечто столь глубоко единое, столь великое и изначальное проистекать из какого-нибудь другого источника, кроме таинственных недр самой природы. Отсюда же мы должны будем сделать и тот вывод, что ни один художник не в состоянии действительно измыслить изначальное своеобразие какого-нибудь человеческого лица или даже воссоздать его на основе своих воспоминаний так, чтобы это вышло естественно. Все, чего он может достичь в этом направлении, реально только наполовину или даже представляет собою совершенно невозможное соединение частей: в самом деле, как может он создать действительное физиономическое единство, если самый принцип этого единства ему, собственно говоря, неизвестен? Поэтому относительно всякого лица, которое представляет чистый вымысел художника, поневоле возникает у нас сомнение, может
352
ли оно существовать в действительности и не признает ли его природа, этот мастер всех мастеров, жалким кропаньем, не обнаружит ли она в нем непримиримые противоречия? А это, бесспорно, приводит нас к тому принципу, что на исторических картинах могут фигурировать одни только портреты; конечно, их надо при этом подвергать строжайшему отбору и несколько идеализировать. Как известно, великие художники всегда охотно писали с живых моделей и создали много портретов.
Хотя, как я показал в <основном> тексте, настоящая цель живописи, как и искусства вообще, заключается в том, чтобы облегчать для нас постижение (платоновых) идей всего существующего в этом мире, причем мы в то же время погружаемся в состояние чистого, т. е. безвольного, познания, но живописи присуща, сверх того, еще независимая от этого и самостоятельная красота, которая получается в результате самой гармонии красок, изящной группировки, счастливого распределения света и теней и колорита всей картины. Этот свойственный живописи второстепенный вид красоты способствует состоянию чистого познания и является в живописи тем, чем в поэзии служат дикция, размер и рифма: они не самое существенное в искусстве, но зато непосредственнее и прежде всего производят впечатление.
В § 50 первого тома я высказал свое мнение о несостоятельности аллегории в живописи; теперь я приведу еще несколько доказательств в подтверждение этого. Во дворце Боргезе в Риме находится следующая картина Микеланжело[264] Караваджо: Иисус, ребенком лет десяти, бесстрашно и с полным спокойствием попирает голову змея, и мать, сопровождающая его, так же спокойна; рядом стоит святая Елизавета, торжественно и трагически созерцая небеса: что может думать об этом кириологическом иероглифе человек, никогда не слышавший о семени жены, которое растопчет главу змея? Во Флоренции, в библиотечном зале дворца Рикарди, на плафоне, писанном Лукой Джордано, находится следующая аллегория, которая должна означать, что наука освобождает ум из оков невежества: ум представлен в виде сильного человека, с которого спадают опутывающие его веревки; одна нимфа держит перед ним зеркало, другая подает ему большое отрезанное крыло; над ними восседает наука на шаре и с шаром в руке; рядом с нею — нагая истина. В Людвигсбурге близ Штутгарта одна картина показывает нам время в виде Сатурна, который ножницами отрезает крылья Амуру: если это должно означать, что со старостью мы теряем непостоянство в делах любви, то это совершенно верно.
Следующие соображения могут подтвердить мое решение проблемы, почему Лаокоон не кричит. Как неудачна бывает попытка изобразить крик в произведениях пластических искусств, по самому существу своему немых, в этом можно фактически убедиться из одной картины Гвидо Рени, находящейся в Болонской академии художеств: она представляет избиение младенцев в Вифлееме, и здесь великий художник впал в ту ошибку, что изобразил шесть разверстых от крика ртов. Для кого и это еще не вполне убедительно, пусть вообразит себе пантомиму, где в какой-нибудь сцене одному из действующих лиц является настоятельный повод крикнуть; если бы исполнитель этой роли вздумал выразить крик тем, что остановился бы перед нами с широко раскрытым ртом, то
353
громкий смех публики доказал бы ему всю нелепость подобного приема[265]. И так как по основаниям, лежащим не в изображаемом предмете, а в самой сущности изобразительного искусства, Лаокоон не должен был кричать, то отсюда возникла для художника задача мотивировать это отсутствие крика, для того чтобы мы могли поверить, что человек в таком положении не станет кричать. Эту задачу художник решил тем, что изобразил укус змеи не после того, как он уже совершился, и не тогда, когда он еще только грозит, а именно в тот самый момент, когда он происходит — и при этом в бок: дело в том, что тогда живот втягивается и крик поэтому становится невозможен. Эту ближайшую, но, собственно говоря, только вторичную и дополнительную причину данного факта правильно обнаружил Гете и указал на нее в конце одиннадцатой книги своей автобиографии, а также в статье о Лаокооне, в первом выпуске «Пропилеев»; однако причина более отдаленная, первичная и обусловливающая ту, которую выяснил Гете, указана мною. Не могу не заметить, что и в этом пункте я нахожусь к Гете в таком же отношении, как и по вопросу о теории цвета. В коллекции герцога фон Аремберга в Брюсселе находится античная голова Лаокоона, найденная позднее. Но голова в знаменитой группе не реставрирована, как это видно из гетевской таблицы всех реставраций Лаокоона, приложенной в конце первого тома «Пропилеев», и как это, кроме того, подтверждается тем фактом, что найденная впоследствии голова в высшей степени похожа на голову группы. Мы должны, таким образом, допустить, что существовало и другое античное воспроизведение группы, которому и принадлежала аремберговская голова. Последняя, на мой взгляд, превосходит голову Лаокоона в группе и по красоте, и по выразительности; рот в ней раскрыт гораздо шире, чем в той, но все же не до настоящего крика.
Глава 37*
К эстетике поэзии
В качестве самого простого и правильного определения поэзии я бы выбрал такое: искусство посредством слов побуждать способность воображения. Каким образом она это осуществляет, я показал в § 51 первого тома. Специальное подтверждение высказанной там теории представляет следующая цитата из опубликованного с тех пор письма Виланда к Мерку: «Я два с половиною дня бился над одной строкой: мне, в сущности, нужно было одно слово, которого я никак не мог найти. Я пробовал и так, и сяк, напрягал свой мозг, как только мог; понятно, что там, где шла речь о картине, мне непременно хотелось вызвать перед глазами читателя именно тот определенный образ, который витал передо мною, а здесь все часто зависит, ut nosti**, от одной черточки, от одного нажима и рефлекса» («Письма к Мерку», изданные Вагнером,
354
1835, с. 193). Так как материалом, в котором поэзия воплощает свои образы, является воображение читателя, она имеет то преимущество, что и тонкие черты и детали произведения, его оттенки выступают в фантазии именно таким образом, что это более всего отвечает индивидуальным особенностям каждого человека, его познавательной сферы и настроению и, следовательно, наиболее интенсивно воздействует на его душу; между тем искусства изобразительные не поддаются такому приспособлению к живой личности, и здесь все должны довольствоваться одной фигурой, одним образом, а последний всегда будет носить на себе некоторый отпечаток индивидуальности своего творца или его модели, содержать какой-то субъективный или случайный, безразличный придаток, хотя, разумеется, в тем меньшей степени, чем объективнее, т. е. гениальнее, художник. Уже этим отчасти объясняется, почему создания поэзии производят гораздо более сильное, глубокое и неотразимое впечатление, чем картины и статуи. Последние в большинстве случаев оставляют народ совершенно холодным, и вообще воздействие изобразительных искусств является самым слабым. Своеобразным подтверждением этого является то, что картины великих мастеров весьма нередко находят и открывают в частных домах и всякого рода местах, где целые поколения людей не то чтобы намеренно прятали и скрывали их, а просто не обращали на них ни малейшего внимания, и они висят себе, не производя никакого впечатления. Когда я жил во Флоренции (1823 г.), там была найдена даже рафаэлевская мадонна: в течение целого ряда лет она висела в людской одного дворца (в Quartiere di S. Spirito); и это случилось у итальянцев — нации, которая больше всех одарена чувством красоты. Это показывает, насколько незначительно прямое и непосредственное воздействие произведений изобразительных искусств; это показывает также, что они в большей степени, чем произведения остальных искусств, требуют для их оценки образования и осведомленности. Наоборот, как победоносно совершает свой путь по всей земле какая-нибудь прекрасная, трогательная мелодия, как от народа к народу переходит какое-нибудь дивное стихотворение! Если великие и богатые мира сего поддерживают больше всего именно изобразительные искусства, тратят значительные суммы только на их произведения и в наши дни доходят в этом отношении до настоящего идолопоклонства, за картину какого-нибудь знаменитого старого мастера предлагая цену большого имения, то это объясняется, во-первых, тем, что шедевры редки и поэтому обладание ими льстит тщеславию, а во-вторых, и тем, что наслаждение картинами и статуями требует очень мало времени и напряжения и каждую минуту на краткий миг готово к услугам зрителя, между тем как поэзия и даже музыка предъявляют несравненно более высокие требования. Вот почему без изобразительных искусств можно и обойтись: их не имеют целые народы, например магометанские, но нет ни одного народа без музыки и поэзии.
Что же касается цели, ради которой поэт приводит в движение нашу фантазию, то она состоит в том, чтобы раскрыть перед нами идеи, т. е. показать на примере, что такое жизнь, что такое мир. Первым условием успеха здесь является то, чтобы сам поэт познал это; и в зависимости от того, насколько его знание глубоко или плоско, таким или иным будет
355
и его произведение. Оттого и существуют бесчисленные степени как в глубине и ясности постижения природы вещей, так и в талантливости поэтов. Впрочем, каждый из них должен считать себя безукоризненным, поскольку он верно изображает то, что он познал, и поскольку его образ соответствует его оригиналу; он должен считать себя равным лучшему из поэтов, так как он и в образах последнего познает не больше, чем в своих собственных, а именно столько, сколько он познает в самой природе. Глубже взор его проникнуть не может. Лучший же из поэтов сознает себя таким потому, что он видит, как поверхностны взгляды других, как много еще остается такого, чего они не в состоянии были передать, ибо они этого не видели, и насколько глубже проникает его взор, его образ. Если бы он, великий, так же не понимал плоских поэтов, как они не понимают его, он должен был бы прийти в отчаяние: ведь уже для того только, чтобы воздать ему должное, необходим выдающийся человек, а дурные поэты столь же не могут ценить его, как он не может ценить их; следовательно, и он тоже вынужден питаться собственным одобрением, покуда не явится одобрение мира. Впрочем, ему отравляют и его личную самооценку, внушая, что он должен быть скромен. Но человеку, имеющему заслуги и знающему, чего они стоят, так же невозможно самому быть слепым по отношению к ним, как невозможно человеку шести футов роста не замечать, что он выше других. Если от основания башни до ее вершины 300 футов, то несомненно, столько же футов и от ее вершины до основания. Гораций, Лукреций, Овидий и почти все древние с гордостью говорили о себе; точно так же и Данте, Шекспир, Бэкон Веруламский и многие другие. То, что можно быть человеком великого ума, нисколько этого не замечая, это — нелепость, которую могла внушить себе только безнадежная бездарность, для того чтобы принимать свое чувство собственного ничтожества за скромность. Какой-то англичанин остроумно и правильно заметил, что merit и modesty* не имеют между собой ничего общего, кроме инициалов**. Скромные знаменитости я всегда подозревал в том, что они правы… А Корнель так-таки прямо и говорит:
La fausse humilité ne met plus en crédit:
Je sais ce que je vaux, et crois ce qu’on m’en dit***.
Наконец, и Гете недвусмысленно сказал: «Скромны только босяки»18. Но еще вернее было бы сказать, что те, кто столь усердно требуют скромности от других, настаивают на ней, немолчно кричат: «Только поскромнее! Ради Бога, побольше скромности!», — эти господа — заведомые босяки, т. е. совершенно бездарные ничтожества, шаблонный фабрикат природы, заурядные представители человеческой толпы. Ибо
356
кто сам имеет заслуги, тот ценит и чужие, конечно, действительные и настоящие. Тот же, кто сам не имеет никаких достоинств и заслуг, желает, чтобы их вообще ни у кого не было: зрелище таких достоинств в других людях причиняет ему истинную муку; бледная, зеленая, желтая зависть пожирает его сердце; он хотел бы истребить и уничтожить всех даровитых людей; но уж если он, к сожалению для себя, должен терпеть их существование, то лишь при том условии, чтобы они скрывали свои преимущества, совершенно отрицали их в себе и чуть ли не под присягой отрекались от них. Вот где, следовательно, корень столь обычного прославления скромности. И если бы глашатаям ее представился удобный случай задушить чью-нибудь заслугу в зародыше или, по крайней мере, помешать ее обнаружению и тому, чтобы она стала известной, то кто сомневается, что они сделали бы это? Ведь это было бы только практикой для их теории.
Хотя поэт, как и всякий художник, всегда выводит перед нами только частное, индивидуальное, однако то,
что он познал и хочет передать
нам, представляет собою (платонову) идею, целый род: поэтому в его образах как бы запечатлевается тип
человеческих характеров и ситуаций.
Эпический, а также и драматический поэт извлекает из жизни какое-нибудь совершенно частное явление и точно воспроизводит его во всех его индивидуальных чертах, но
через это раскрывает и все человеческое
бытие, ибо он только по видимости имеет дело с частным, в действительности же его объектом является то, что существует
повсюду и во все времена. Этим и
объясняется то, что сентенции поэтов, в
особенности драматических, не будучи даже изречениями общего характера, часто находят себе применение в
действительной жизни.
К философии поэзия относится так, как опыт к эмпирической науке. А именно: опыт знакомит нас с явлениями на частностях и примерах; наука, посредством общих понятий, объемлет всю совокупность явлений. Так и поэзия стремится на частностях и примерах знакомить нас с (Платоновыми) идеями существ; философия стремится явить нам выражающуюся в последних внутреннюю сущность вещей в ее целом и общем. Уже отсюда видно, что поэзия носит на себе отпечаток юности, а философия — старости. И на самом деле, поэтический дар цветет, собственно, только в молодые годы; да и восприимчивость к поэзии у молодого человека нередко принимает характер страсти: юноше доставляют наслаждение стихи как таковые, и часто он довольствуется малым. С годами эта склонность постепенно слабеет, и старость предпочитает прозу. Поэтическая тенденция юношей легко искажает чувство действительности. Ибо от последней поэзия отличается тем, что в ней перед нами проходит жизнь, интересная и в то же время лишенная страданий, между тем как действительность, покуда в ней нет страданий, неинтересна, а как только она становится интересной, не может обойтись без страданий. Юноша, посвященный в поэзию раньше, чем в действительность, требует от последней того, что может дать только первая: в этом главный источник той неудовлетворенности, которая угнетает наиболее даровитых юношей.
Размер и рифма — это оковы, но в то же время и покров, который набрасывает на себя поэт и из-под которого он позволяет себе говорить
357
так, как иначе не посмел бы сказать: именно это и доставляет нам радость. За все, что он говорит в такой форме, он отвечает лишь наполовину: другую половину берут на себя размер и рифма. Сущность размера, или метра, как обыкновенного ритма, заключается только во времени, которое представляет собою чистое созерцание a priori и, следовательно, выражаясь языком Канта, относится к чистой чувственности; наоборот, рифма — это продукт слухового ощущения и, следовательно, относится к чувственности эмпирической. Вот почему ритм — гораздо более благородное и достойное орудие, чем рифма, которой древние вследствие этого и пренебрегали и которая ведет свое происхождение от несовершенных языков, возникших в эпоху варварства, через искажение прежних языков. Скудость французской поэзии объясняется главным образом тем, что она, лишенная размера, ограничена одной только рифмой; дело становится еще более грустным оттого, что эта поэзия, для того чтобы прикрыть свою бедность средствами, затруднила свое рифмосложение массой педантических правил, например в таком роде: составляют рифму только слоги, одинаково пишущиеся (точно рифма предназначается для глаза, а не для слуха); хиатус не допускается, множество слов вовсе не могут быть употребляемы, и т. д. Всему этому новая французская школа поэтов стремится положить конец. Но ни в одном языке — по крайней мере для меня — рифма не производит такого приятного и сильного впечатления, как в латинском: средневековые латинские стихи с рифмами имеют какую-то своеобразную прелесть. Это надо объяснять тем, что латынь несравненно совершеннее, красивее и благороднее, чем любой из новых языков; вот почему она так грациозна даже и в мишурном наряде рифм, который свойствен новым языкам, а ей первоначально был совсем чужд.
На строгий взгляд, едва ли не изменой разуму является тот факт, что мысль или ее верное и чистое выражение подвергают хотя бы легкому насилию, с ребяческой целью через несколько слогов опять услышать прежнее созвучие или придать этим слогам характер какого-то галопа. Между тем без подобного насилия осуществляются немногие стихи; только ему и следует приписать то обстоятельство, что на чужом языке стихи гораздо труднее понять, чем прозу. Если бы мы могли заглянуть в секретную мастерскую поэтов, то мы в десять раз чаще нашли бы, что мысль приискивается к рифме, чем рифма к мысли; да и в последнем случае дело нелегко обходится без некоторых уступок со стороны мысли[266]. И, однако, наперекор всем этим соображениям, искусство версификации имеет на своей стороне все времена и народы: так велико впечатление, которое производят на душу размер и рифма, и так действенно присущее им таинственное lenocinium*. Я объясняю себе это тем, что удачно рифмованные стихи, благодаря своему необыкновенному эмфатическому действию, вызывают такое ощущение, как будто выраженная в них мысль уже предустановлена была в самом языке, будто она была в нем предуготована и даже заранее сформулирована, и поэту оставалось только извлечь ее оттуда. Даже тривиальные мысли получают, благодаря ритму и рифме, некоторый оттенок значительности и щеголяют в этом украшении, подобно тому как заурядные лица наряжен-
358
ных девушек привлекают к себе чужие взоры. Мало того, даже нелепые и неверные мысли, благодаря версификации, приобретают известную видимость истины. С другой стороны, даже прославленные цитаты из прославленных поэтов бледнеют и мельчают, если точно передать их в прозе. Если прекрасно только истинное и если лучшее украшение истины — нагота, то мысль, которая величественна и прекрасна в прозе, будет иметь больше истинной ценности, чем мысль, которая производит такое впечатление только в стихах. Тот факт, что такие ничтожные и, по-видимому, ребяческие приемы, как размер и рифма, оказывают могучее действие, весьма поразителен и бесспорно заслуживает исследования; я лично объясняю себе это следующим образом. Непосредственно данное слуху, т. е. простые звуки, благодаря ритму и рифме, получают сами по себе известное внутреннее совершенство и значительность, потому что они становятся через это своего рода музыкой; и нам кажется тогда, что эта звуковая волна существует ради самой себя, а не является уже простым средством, простым знаком того, что ею обозначается, т. е. смысла слов. Нам кажется, что все ее назначение — ласкать наш слух своею звучностью, что этим вся цель достигнута, все требования удовлетворены. А то, что эта волна имеет вместе с тем еще и некоторый смысл, выражает некоторую мысль, представляется для нас неожиданной прибавкой, подобно словам к музыке; это неожиданный подарок, который нас приятно изумляет и оттого — ведь мы не предъявляли никаких требований в этом роде — очень легко удовлетворяет нас; если же мысль еще и такова, что она имеет серьезное значение и сама по себе, т. е. даже в переводе на прозаический язык, то мы приходим в полный восторг. Насколько я могу судить по воспоминаниям раннего детства, я в течение долгого времени восхищался самым благозвучием стихов и лишь потом сделал открытие, что они сплошь заключают в себе также и смысл и мысли. Оттого почти во всех языках существует чисто звуковая поэзия, в которой почти совсем отсутствует смысл. Синолог Davis, в предисловии к своему переводу «Laou-sang-eul», или «An heir in [his] old age»* (Лондон, 1817) отмечает, что китайские драмы отчасти состоят из стихов, которые поются, и прибавляет: «Смысл их часто темен, и, по признанию самих китайцев, главная цель таких стихов — ласкать ухо, причем смысл остается в небрежении или целиком приносится в жертву гармонии». Кто не вспомнит при этом о хорах иных греческих трагедий, которые нередко столь трудно разгадать?[267]
Признак, по которому самым непосредственным образом можно узнать истинного поэта как высшей, так и низшей категории, — это непринужденность его рифм: как Божий дар, они являются к нему сами собою, и мысли осеняют его, уже рифмованные. Тайный же прозаик подыскивает рифму к мысли, а бездарный писака — мысль к рифме. Очень часто из пары рифмованных стихов можно видеть, какой из них имеет своею матерью мысль и какой — рифму. Искусство заключается в том, чтобы этого не было видно и чтобы подобные стихи не казались просто заполненными bouts-rimés*.
359
Чувство подсказывает мне (доказательства здесь неуместны), что рифма по своей природе может быть только двойною: ее действие ограничивается однократным возвращением прежнего звука и от более частого повторения не усиливается. Поэтому, как только конечный слог воспринял свое созвучие, действие рифмы уже исчерпано; в третий раз повторенный звук действует просто как вторичная рифма, которая случайно совпадает с тем же звуком, но впечатление от этого не усиливается: она примыкает к предшествующей рифме, но не сливается с нею для более сильного эффекта. Ибо первый звук не передается через второй к третьему, и последний, таким образом, представляет собою эстетический плеоназм, ни на что не нужный дубликат. Меньше всего поэтому такие нагромождения рифм заслуживают великих жертв, какие приносятся им в стансах, терцинах и сонетах и служат причиной тех душевных мук, с которыми порою читаешь подобные творения, — нельзя ведь наслаждаться поэзией, когда приходится ломать себе голову. То обстоятельство, что высокий поэтический дар иногда побеждает и эти формы и легко и грациозно распоряжается ими, еще, собственно, нисколько не говорит в их пользу, ибо сами по себе они столь же безразличны, как и трудны[268]. И даже у хороших поэтов, когда они пользуются этими формами, часто можно подметить борьбу между рифмой и мыслью, — борьбу, в которой одерживает верх то одна, то другая сторона: иначе говоря, либо мысль искажается ради рифмы, либо рифма довольствуется очень слабым à peu près*[269]. Ввиду этого я считаю признаком не невежества, а хорошего вкуса то, что Шекспир в своих сонетах придал каждой из строф другие рифмы[270]. Во всяком случае, звуковой эффект от этого нисколько не ослабевает, а мысль с гораздо большим успехом сохраняет свои права, чем если бы она была зашнурована в традиционные испанские сапоги.
Для поэзии какого-нибудь языка невыгодно, если в ней есть много слов, которые в прозе неупотребимы, и если, с другой стороны, она не имеет права употреблять известные слова прозы. Первое замечается главным образом в латинском и итальянском языках, последнее — во французском, где эта особенность носит краткое и очень меткое название «la bégueulerie de la langue française»**. Оба эти явления реже встречаются в английской поэзии и совсем редки в немецкой. Дело в том, что подобные слова, свойственные исключительно одной поэзии, не трогают нашего сердца, не обращаются к нам непосредственно и поэтому оставляют нас холодными. Это — условный поэтический язык, передающий как бы нарисованные, а не действительные чувства, а потому употребление их не трогает нас.
Различие между классической и романтической поэзией, о котором в наши дни так часто спорят, в сущности основывается, по-моему, на том, что первая не знает иных мотивов, кроме чисто человеческих, реальных и естественных, между тем как последняя сверх того придает еще значение и мотивам искусственным, условным и воображаемым: таковы мотивы, взятые из христианского мифа, или возникшие на почве
360
рыцарского утрированного и
фантастического принципа чести, или связанные с пошлым и комическим христианско-германским культом женщины и с пусторечивой и лунатической
гиперфизической влюбленностью. К
какому уродливому искажению человеческих отношений и человеческой природы ведут эти мотивы, можно видеть
даже у лучших поэтов романтического
направления, хотя бы у Кальдерона. Не буду уже говорить об «autos»*, но сошлюсь только на пьесы, вроде «No siempre el реоr es cierto»
(«Не всегда верь худшему»), «El
postrero duelo en Espana» («Последняя дуэль в Испании») и тому подобные
комедии en capa y espada**: к указанным выше элементам
здесь часто присоединяется еще схоластическое хитроумие диалога, которое в те
времена считалось в высших классах признаком образованности. Какое решительное
преимущество имеет перед этим романтизмом поэзия древних, которая всегда
остается верной природе! Ясно, что классическая поэзия владеет безусловной
истиной и правдивостью, а романтическая — только условной; аналогию этому
представляют греческое и готическое зодчество. Но, с другой стороны, надо
заметить, что все драматические или повествовательные произведения, которые
переносят место действия в Древнюю Грецию или Рим, проигрывают оттого, что наше
знание древности, особенно деталей жизни, недостаточно, фрагментарно и не
опирается на живое созерцание. Это заставляет поэта многое обходить и
довольствоваться общими местами, что ввергает его в абстракции, и его произведение
теряет тот наглядный и индивидуальный характер, который безусловно существен
для поэзии. Именно эта черта и придает таким произведениям специфический
оттенок пустоты и скуки. Только шекспировские вещи в этом роде свободны от
этого недостатка, потому что он, ничтоже сумняшеся, под именами греков и римлян
изображал англичан своего времени. Некоторым шедеврам лирической поэзии —
именно отдельным одам Горация (см., например, вторую оду третьей книги) и
многим песням Гете (например, «Жалоба пастуха») — ставили в упрек то, что они лишены
должной меры связности и полны скачков мысли. Но ведь здесь авторы сознательно
пренебрегли логической связью, для того чтобы возместить ее единством
выраженного основного чувства и настроения, которое благодаря этому становится
ярче и, подобно нитке, проходящей через отдельные жемчужины, объединяет быструю
смену предметов созерцания, как в музыке переход от одной тональности к другой совершается
через посредство аккорда септимы, благодаря которому продолжающий звучать основной
тон становится доминантой новой тональности. Яснее всего, и даже утрирована,
указанная здесь особенность в канцоне Петрарки, которая начинается словами: «Mai non vo’ più cantar, c
Подобно тому как в лирической поэзии преобладает субъективный элемент, так и в драме, наоборот, господствует исключительно элемент объективный. Широкое пространство посредине между той и другой
361
занимает поэзия эпическая во всех своих формах и модификациях, начиная от романса-рассказа и до эпоса в собственном смысле. Ибо хотя в главном эпическая поэзия объективна, в ней содержится, однако, и субъективный элемент, который выступает то сильнее, то слабее; он находит себе выражение в тоне, в форме рассказа, как и в размышлениях автора, вкрапленных здесь и там. В эпосе мы не теряем поэта из виду полностью, как в драме.
Цель драмы вообще — это показать нам на примере, что такое сущность и существование человека. При этом к нам может быть обращена либо печальная, либо светлая сторона жизни, либо их смешанные оттенки. Но уже само выражение «сущность и существование человека» содержит в себе ядро спора: что же здесь главное — существо ли, т. е. характеры, или существование, т. е. судьба, события, действие? Впрочем, и то и другое столь тесно переплетаются между собою, что их можно разделять исключительно в понятии, но не в художественном воспроизведении. Ибо только обстоятельства, судьба, события доводят характеры до обнаружения их сущности, и только из характеров проистекает то действие, которое влечет за собою известные события. Конечно, в драматическом произведении может быть выдвинута на первый план то одна, то другая из этих двух сторон; в этом отношении противоположными крайностями будут пьеса характеров и пьеса интриги.
Общая с эпосом цель драмы — поставить значительные характеры в значительные ситуации и изобразить обусловленные этими двумя факторами чрезвычайные действия — наиболее полно достигается поэтом в том случае, если он сначала покажет нам характеры в состоянии покоя, когда заметен только их общий колорит, а затем введет какой-нибудь мотив, вызывающий действие, из коего рождается новый и более сильный мотив; последний, в свою очередь, влечет за собою более значительное действие, которое опять-таки порождает новые и все более и более сильные мотивы, пока, наконец, в соответствующий форме данного произведения момент, вместо первоначального покоя, не явится страстное возбуждение, в порыве которого герои совершают значительные действия, и ярким светом озаряются дотоле дремавшие в характерах свойства, а вместе с ними — и течение мировой жизни.
Великие поэты сполна воплощаются в каждое из тех лиц, которые они изображают, и говорят из них, словно чревовещатели, то устами героя, то, непосредственно за этим, устами молодой невинной девушки, и все это одинаково правдоподобно и естественно. Таковы Шекспир и Гете. Поэты второстепенные воплощают в главной личности самих себя, — таков Байрон; при этом эпизодические лица нередко остаются безжизненными, как в произведениях посредственностей безжизненно и главное лицо.
То удовольствие, которое доставляет нам трагедия, связано не с чувством прекрасного, а с чувством возвышенного, и даже представляет собою высшую степень последнего. Ибо подобно тому как зрелище возвышенного в природе отвлекает нас от интересов воли и погружает нас в состояние чистого созерцания, так трагическая катастрофа отвлекает нас даже от самой воли к жизни. Ибо трагедия демонстрирует перед нами ужасную сторону жизни — горе человечества, господство
362
случая и заблуждения, гибель праведника, торжество злодеев; иными словами, трагедия являет нашим взорам те черты мира, которые прямо противны нашей воле. И это зрелище побуждает нас отречься от воли к жизни, не желать этой жизни, разлюбить ее. Но именно это показывает нам, что в нас остается тогда еще нечто другое, нечто такое, чего мы решительно не можем познать положительно и что мы знаем лишь отрицательно, как то, что не хочет жизни. Точно так же, как аккорд септимы вызывает основной аккорд, как красный цвет требует зеленого и даже создает его ощущение в глазу, так и всякая трагедия влечет к совершенно иному бытию, требует иного мира, познание которого может быть нам дано только косвенным образом, а именно, как здесь, в силу самого этого требования. В минуту трагической катастрофы глубже, чем когда-либо, проникает нас убеждение, что жизнь — тяжелый сон, от которого надо пробудиться. В этом отношении впечатление от трагедии аналогично чувству динамически возвышенного, потому что оно, как и последнее, поднимает нас над волей и ее интересами и настраивает нас на такой лад, что зрелище сил, противных воле, доставляет нам удовольствие. То, что всему трагическому, в какой бы форме оно ни являлось, придает своеобразную силу парения, это — пробуждающееся сознание, что мир и жизнь не могут дать истинного удовлетворения и поэтому не стоят нашей привязанности. В этом — дух трагедии, и ведет он к резиньяции.
Я допускаю, что в трагедии древних этот дух резиньяции[271] лишь редко находит себе прямое выражение. Эдип в Колоне умирает, правда, с самоотречением и готовностью; но его утешает отмщение своему отечеству. Ифигения в Авлиде умирает с полной готовностью, но это потому, что мыслью своей она обращается ко благу Греции, и это утешает ее и вызывает перемену в ее настроении; и вот она охотно идет на смерть, которой только что всячески пыталась избежать. Кассандра в «Агамемноне» великого Эсхила умирает с готовностью, ̓αρκείτω βίος* (1306); но ее утешает мысль о мести. Геркулес в «Трахинянках», уступая необходимости, умирает спокойно, но без смирения. Точно так же и Ипполит Еврипида. В последнем случае нас поражает то обстоятельство, что Артемида, которая является к Ипполиту для утешения, сулит ему храмы и славу в потомстве, но ссосем не указывает на дальнейшую жизнь за гробом и покидает его в момент смерти, как и вообще все боги покидают умирающих, — в христианстве же боги приближаются к ним, как и в брахманизме и буддизме, хотя в последнем боги, собственно, экзотичны. Ипполит, следовательно, как и все почти трагические герои древних, обнаруживает покорность перед неминуемой судьбой и непреклонной волей богов, но вовсе не отрекается от самой воли к жизни. Подобно тому как стоическое равнодушие существенно отличается от христианской резиньяции тем, что оно учит только мужественно ожидать и спокойно переносить неотвратимо необходимое зло, между тем как христианство учит отречению, отказу от желаний, так и трагические герои древних обнаруживают стойкую покорность перед неизбежными ударами судьбы, трагедия же христианская являет полный отказ от всей
363
воли к жизни, радостную разлуку с миром в сознании его суетности и ничтожества. И все-таки я держусь того мнения, что новая трагедия выше древней. Шекспир неизмеримо выше Софокла; сравнительно с гётевской «Ифигенией» еврипидовская кажется чуть ли не грубой и пошлой[272]. Еврипидовские «Вакханки» — возмутительное изделие во славу языческих попов. Некоторые античные пьесы совсем не имеют трагической тенденции, например «Альцеста» и «Ифигения в Тавриде» Еврипида; другие проникнуты неприятными и даже отталкивающими мотивами, например «Антигона» и «Филоктет». Почти все они изображают человечество, предоставленное ужасной власти случая и заблуждения, но ни одно из них — той резиньяции, которая вытекает отсюда и тем самым спасает. И все это потому, что греки еще не достигли вершины и цели трагедии, как и вершины и цели мировоззрения вообще. Хотя, таким образом, древние мало изображали, даже в своих трагических героях, дух резиньяции, отречение от воли к жизни как основное настроение, но специфическая тенденция и цель трагедии — это все-таки пробудить в зрителе этот дух и хотя бы мимолетно вызвать в нем данное настроение. То ужасное, что происходит на сцене, рисует перед нами всю скорбь и суетность жизни, т. е. тщету всех устремлений зрителя. И это должно производить на него такое впечатление, чтобы он проникся хотя бы смутным чувством того, что лучше всего оторвать свою душу от жизни, отвратить от нее свои желания, разлюбить мир и жизнь, и чтобы вместе с этим в сокровенной глубине его внутреннего мира пробудилось сознание того, что для иных желаний должна существовать и иная форма бытия. Ибо если бы это было не так, если бы тенденцией трагедии не было это возвышение над всеми целями и благами жизни, это удаление от нее и всех ее приманок и уже в самом этом отречении заложенное стремление к иному, хотя и совершенно непостижимому для нас бытию, то как вообще изображение ужасной стороны жизни, выводимой перед нами в самом ярком свете, могло бы оказывать на нас благотворное действие и доставлять нам высокое наслаждение? Ведь страх и сострадание, в пробуждении которых Аристотель полагал конечную цель трагедии, сами по себе не относятся, конечно, к приятным ощущениям; поэтому они могут служить только средством, а не целью19. Таким образом, призыв к отказу воли от жизни остается истинной тенденцией трагедии, последней целью преднамеренного изображения страданий человечества, даже и в том случае, если эта резиньяция и подъем духа воплощены не в самом герое, а пробуждаются только в зрителе, когда он видит пред собою великое, незаслуженное или даже заслуженное страдание. Как древние писатели, так и некоторые из новых довольствуются тем, что приводят зрителя в описанное настроение объективным изображением человеческого несчастья в его общих чертах, между тем как другие воплощают вызываемый страданием душевный переворот в лице самого героя. Писатели первой категории как бы дают одни только посылки, а заключение предоставляют делать самому зрителю, между тем как писатели второй категории предлагают, сверх того, еще и мораль басни в виде душевного переворота, который происходит с героем, или же в форме изречений, произносимых устами хора; вспомните, например, у Шиллера в «Мессинской невесте»: «Жизнь[273]
364
— не высшее из наших благ». Замечу здесь, что истинно трагический эффект катастрофы, т. е. вызываемые ею в герое резиньяция и подъем духа, редко где так хорошо мотивированы и ясно выражены, как в опере «Норма», где он, этот эффект, выражается в дуэте «Qual cor tradisti, quai cor perdesti»*: обращение воли явственно отмечается здесь внезапной паузой в музыке. Вообще эта пьеса, совершенно независимо от ее прекрасной музыки, как, с другой стороны, и от ее текста, который может относиться только к либретто, рассматриваемая лишь с точки зрения ее мотивов и ее внутренней экономии, представляет собою высокосовершенную трагедию — истинный образец трагического сочетания мотивов, трагического нарастания действия и трагической развязки; сюда присоединяется еще и то возвышающее над миром действие, которое она оказывает на состояние героев и которое затем распространяется и на зрителей; впечатление, которое производит эта трагедия, тем более неотразимо, тем более характерно для истинной сущности трагедии, что в ней нет ни христиан, ни христианского настроения.
Упрек в пренебрежении единством времени и места, который столь часто делали писателям нового времени, справедлив только в том случае, если это пренебрежение заходит так далеко, что уничтожает единство действия и в пьесе остается только единство главного действующего лица, как, например, в «Генрихе VIII» Шекспира. Однако единство действия не должно заходить так далеко, чтобы все время шла речь об одном и том же, как это бывает во французских трагедиях, которые соблюдают единство так строго, что течение драматического сюжета напоминает геометрическую линию, не имеющую ширины; там вы все время как будто слышите: «Только вперед! Pensez a votre affaire!»**[274] — и вся фабула самым деловым образом мчится на курьерских, не останавливаясь на побочных, не относящихся к делу моментах, не оглядываясь ни вправо ни влево. Наоборот, шекспировская трагедия похожа на линию, имеющую и ширину; она не спешит, exspatiatur***, в ней идут разговоры, проходят одна за другой сцены, которые не ускоряют действие и даже, собственно говоря, к нему не относятся, но лучше знакомят нас с действующими лицами или их положением, а через это мы глубже понимаем и само действие. Последнее сохраняет за собою, конечно, главную роль, но не столь исключительную, чтобы из-за нее мы забывали, что назначение драмы в конечном счете — изображать сущность человека и жизни вообще.
Драматический или эпический поэт должен знать, что он — судьба и что поэтому он должен быть столь же неумолим, как и она; точно так же должен знать, что он — зеркало человечества и что поэтому он должен изображать множество дурных, порою бессовестных людей — глупцов, чудаков и шутов, и время от времени образы мудрых, умных, честных, добрых, а в виде очень редкого исключения, и благородных людей. Во всем Гомере, по-моему, не выведен ни один истинно благородный характер, хотя и есть у него много людей добрых и чест-
365
ных; во всем Шекспире найдется, быть может, два благородных, но вовсе не чрезмерно благородных характера — Корделия, Кориолан, едва ли кто-нибудь еще; зато людей указанных выше категорий у него хоть отбавляй. Но вот в пьесах Иффланда и Коцебу выведено много благородных характеров, тогда как Гольдони придерживался на этот счет рекомендованной мною выше меры, показав этим, что он выше упомянутых драматургов. «Минна фон Барнгельм» Лессинга сильно страдает обильным и всесторонним благородством; а столько благородства, сколько предлагает один маркиз Поза20, не наберется во всех произведениях Гете, вместе взятых. Есть одна маленькая немецкая пьеса «Долг за долг»21 (заглавие, точно взятое из «Критики практического разума»); в ней всего три действующих лица, но зато все они отличаются необыкновенным благородством[275].
Греки в герои своих трагедий брали исключительно царственных особ; так же поступало и большинство писателей нового времени. Конечно, это не для того, чтобы сан действующих или страдающих лиц придавал им больше достоинства: так как суть каждой пьесы состоит в возбуждении игры человеческих страстей, то относительная ценность объектов, посредством которых это осуществляется, не имеет значения, и в этом отношении крестьянская изба так же пригодна, как и дворец. Нельзя безусловно отвергать и мещанскую трагедию. Но все-таки наиболее подходящими персонажами трагедии, действительно, являются люди, облеченные большою властью и значением. В самом деле, то несчастье, которое должно являть нам удел человеческой жизни, должно быть достаточно велико, для того чтобы оно казалось страшным всякому зрителю, кто бы он ни был. Сам Еврипид говорит: φεῦ, φεῦ, τά μεγ´άλα μεγ´άλα και π´ασχει κακ´α**[276] (Stob. Flor. Vol. 2, p. 299); между тем обстоятельства, которые ввергают мещанскую семью в горе и отчаяние, по большей части являются в глазах сильных или богатых мира сего весьма ничтожными и устранимыми человеческой помощью — иногда даже каким-нибудь пустяком; следовательно, такие лица при зрелище подобных сцен из мещанской жизни не могут испытывать трагического потрясения. Несчастья же, которые поражают великих и сильных, безусловно страшны и неустранимы никакою помощью извне: цари должны или спасать себя собственной мощью, или погибать. И кроме того, самое глубокое падение — это падение с высоты; героям мещанской трагедии недостает именно этой высоты.
Если, таким образом, тенденцией и конечной целью трагедии мы признали обращение к резиньяции и отрицанию воли к жизни, то мы легко заметим, что ее противоположность, комедия, представляет собой призыв к дальнейшему утверждению этой воли. Правда, и комедия, как и всякое изображение человеческой жизни, неминуемо должна показывать нам также страдание и неприятности; но она рисует их перед нами как нечто временное и переходящее в радость, как нечто смешанное с удачей, победой и надеждой, которые в конце концов и берут верх; кроме того, она дает неисчерпаемый материал для смеха, которым исполнена жизнь даже в самых своих невзгодах и который при всяких
366
обстоятельствах поддерживает в нас хорошее настроение духа. Таким образом, в результате комедия говорит нам, что жизнь в целом очень хороша и прежде всего сплошь забавна. Конечно, необходимо заботиться о том, чтобы занавес всегда опускался вовремя, как раз в момент радости, дабы мы не видели, что будет потом; между тем трагедия обыкновенно заканчивается так, что потом уже ничего и не может быть. И кроме того, если более серьезно присмотреться к этой комической стороне жизни, как она выступает в тех наивных проявлениях и ужимках, в которые мелочные заботы, себялюбивый страх, минутный гнев, тайная зависть и множество подобных аффектов облекают весьма далекие от идеальной красоты реальные образы, отражающиеся в комедии, то на этом основании и, значит, совершенно неожиданно у вдумчивого наблюдателя может возникнуть глубокое убеждение, что жизнь и деятельность таких существ не могут иметь своей цели в самих себе, что, напротив, эти существа могли получить бытие лишь каким-то обманным и обходным путем и что, собственно, было бы лучше, если бы того, что предстает перед нами в таком виде, и вовсе не было.
Глава 38*
Об истории
В § 51 первого тома я показал, что для уразумения сущности человечества поэзия дает больше, чем история, и я объяснил, почему это так. Настоящей поучительности можно поэтому скорее ожидать от первой, чем от последней. Это сознавал уже и Аристотель; вспомните его слова: «et res magis philosophica et melior poesis est quam historia»** (Poet., c. 9)***[277]. Но для того чтобы по вопросу о ценности истории не возбуждать никаких недоразумений, я здесь изложу свои мысли о ней.
В каждой категории вещей существует бесчисленное множество фактов, бесконечное множество отдельных предметов, и разнообразие их различий недосягаемо для мысли. У любознательного человека при взгляде на них кружится голова, и как бы далеко ни шло его исследование, он чувствует себя обреченным на невежество. Но здесь приходит к нему на помощь наука, она разбирается в бесчисленном множестве отдельных фактов, классифицирует их по видовым понятиям, а те, в свой черед, по родовым, и этим пролагает путь к познанию общего и частного, которое обнимает в себе и бесчисленные отдельные факты, потому что оно распространяется на все, не требуя в то же время особого рассмотрения каждой частности. И этим она сулит удовлетворение ищущему духу. Затем все науки примыкают одна к другой, возвышаясь над реальным миром отдельных вещей, которые они распределяют
367
между собой. А над всеми ними парит философия как самое общее и поэтому самое важное знание, сулящее такие откровения, для которых другие науки служат лишь подготовительной ступенью. Только одна история не имеет права вступить в этот ряд наук, ибо она не может похвалиться теми же достоинствами, что другие: в ней отсутствует основной признак науки — субординация познанных фактов; вместо этого она предлагает их простую координацию. Поэтому не существует никакой системы истории, хотя и есть системы всех других наук. Она представляет собою знание, а не науку. Ибо она нигде не познает частного посредством общего, но должна брать частное непосредственно как таковое и, следовательно, словно бы ползти вперед на почве опыта, между тем как действительные науки над этой почвой поднимаются, ибо они вырабатывают себе такие всеобъемлющие понятия, посредством которых овладевают частностями и по крайней мере в известных границах угадывают возможные в данной области явления, так что они могут быть спокойны и по отношению к тому, что еще может когда-нибудь возникнуть в этой сфере. Науки, будучи системами понятий, всегда говорят о родах вещей, история же — об индивидуальных фактах. Ее можно было бы назвать наукой об индивидах, но ведь это — противоречивое сочетание слов. Из родового характера наук вытекает еще и то, что все они говорят о том, что существует всегда, история же повествует о том, что свершается только однажды и затем исчезает. Далее, так как история имеет дело с безусловно частным и индивидуальным, которое по своей природе неисчерпаемо, то и знает она все только несовершенно и наполовину. И при этом каждый новый день, во всей своей повседневности, учит ее тому, чего она раньше вовсе не знала. А если бы кто-нибудь возразил нам, что и в истории происходит подведение частного под общее, так как де эпохи, царствования и другие серьезные перемены в жизни государства — словом, все то, что находит себе место на страницах истории, — все это и есть то общее, под которое подводится частное, то подобное возражение основывалось бы на ложном понимании идеи общего. Ибо указываемый здесь общий элемент в истории только субъективен, т. е. представляет собою нечто такое, общность чего вытекает исключительно из скудности нашего индивидуального знания о вещах, но он не объективен, т. е. не представляет собою понятия, в котором действительно уже мыслились бы вещи. Даже самое общее в истории представляет собою лишь нечто индивидуальное и частное, например какая-нибудь продолжительная эпоха или какое-нибудь важное событие; и к такому общему частное относится, как часть к целому, а не как отдельный случай — к закону; между Тем настоящим наукам свойственно именно это последнее соотношение, потому что они дают нам понятия, а не простые факты. Вот почему в этих науках, зная общее, можно с точностью определить всякий частный случай. Если, например, я знаю законы треугольника вообще, то по ним я могу уяснить себе и свойства каждого данного мне треугольника; и то, что присуще всем млекопитающим, например двойная сердечная камера, ровно семь шейных позвонков, легкие, диафрагма, мочевой пузырь, пять внешних чувств и т. д., все это я могу приписать и только что пойманной неизвестной мне летучей мыши — до ее
368
вскрытия. Не такова история: там общее не представляет собой объективно общего понятий; там оно — субъективно общее моего знания, которое может быть названо общим лишь постольку, поскольку оно поверхностно; например, о Тридцатилетней войне я могу в общем знать, что это происходившая в XVII веке религиозная война; но это общее сведение не дает мне возможности указать какие-либо детали в ее ходе. Эта же противоположность между настоящими науками и историей сказывается и в том, что в первых единичное и частное есть самое достоверное, потому что оно основывается на непосредственном восприятии, а истины общие получаются лишь путем абстрагирования от последнего, и оттого в них скорее может проникнуть нечто ошибочное. В истории же наоборот: самое общее — это самое достоверное, например исторические эпохи, смена правителей, революции, войны и мирные договоры; что же касается подробностей событий и их внутренней связи, то они менее известны, и, чем глубже мы вдаемся в частности, тем меньше встречаем в них достоверного. Это, правда, делает историю тем интереснее, чем она подробнее, но в такой же мере возрастает и ее сомнительность, и она во всех отношениях приближается тогда к роману. Впрочем, что представляет собою пресловутый прагматизм истории, это мы лучше всего сообразим, если вспомним, что события своей собственной жизни в их действительной связи мы иногда в состоянии понять лишь двадцать лет спустя, хотя все внешние данные для этого и были давно налицо: так трудно комбинировать действия мотивов при постоянном вторжении в жизнь случайного элемента и при скрытности чужих намерений. Поскольку история своим постоянным объектом имеет, собственно, одно лишь частное, один лишь индивидуальный факт и поскольку реальность она усматривает исключительно в нем, постольку она является прямой противоположностью и противовесом философии, которая изучает вещи с общей точки зрения и своим объектом имеет безусловно общее, то, что есть неизменного и тождественного во всех частных явлениях; вот почему в каждом факте она видит только его общий смысл и признает несущественным изменение в явлении его: generalium amator philosophus*. Между тем как история учит нас, что в разное время всегда бывало разное, философия старается внушить нам, что во все времена было, есть и будет одно и то же. Поистине, сущность человеческой жизни, как и природы вообще, дается сполна в каждый текущий момент, и поэтому, для того чтобы познать ее исчерпывающим образом, необходима только глубина понимания. История же надеется возместить глубину продолжительностью и широтой охвата: для нее всякое настоящее — только отрывок, который должен быть восполнен прошлым, а ведь длительность этого прошлого бесконечна, и к ней примыкает столь же бесконечное будущее. На этом и основывается противоположность между философским и историческим складом ума: первый стремится постигнуть, второй — рассказать до конца. История на каждой своей странице показывает одно и то же в разных формах; но кто этого единства не узнает по одной или нескольким страницам, тот едва ли поймет его, даже если сменятся
369
перед ним все эти формы. Главы человеческой истории, в сущности, отличаются между собою только именами и хронологией: действительно значимое содержание их всюду — одно и то же.
Итак, поскольку объектом искусства является идея, а объектом науки — понятие, постольку и то и другая занимаются тем, что существует всегда, и всегда одинаково, и не тем, что сегодня существует, а завтра — нет, сегодня существует так, а завтра — иначе. Поэтому искусство и наука имеют дело с тем, в чем Платон видит исключительный предмет подлинного знания. Объектом же истории служит единичное, в своей единичности и случайности, то, что происходит однажды, а затем исчезает навсегда, — те мимолетные сплетения человеческих событий, которые, словно облака, гонимые ветром, часто под влиянием самого ничтожного случая совершенно меняют свою форму. С этой точки зрения предмет истории представляется нам едва ли достойным серьезного и тщательного внимания со стороны человеческого духа, того духа, который именно потому, что его природа столь преходяща, должен созерцать одно только непреходящее[278].
Что же касается, наконец, попытки видеть в мировой истории нечто планомерно цельное и, как обыкновенно говорят, «органически конструировать» ее, то в основе этой попытки, зародившейся главным образом под влиянием умопомрачающей и губительной дня мысли лжефилософии Гегеля[279], лежит в сущности грубый и плоский реализм, который явление принимает за внутреннее существо мира и думает, что вся суть заключается в нем, этом явлении, в его формах и переменах; при этом он втихомолку опирается еще на известные мифологические принципы, которые служат для него скрытой предпосылкой, а иначе невольно задался бы он вопросом, для какого, собственно, зрителя ставится вся эта комедия. В самом деле: так как непосредственным единством сознания обладает только индивид, а не человечество, то единство исторической жизни последнего — чистая фикция. При этом как в природе реальны только species, genera* же являются просто абстракцией, так и в человечестве реальны только индивиды и отмеренный им век, а народы с их жизнью — простые абстракции. Наконец, все эти конструкции истории, проникнутые плоским оптимизмом, всегда исходят из идеала уютного, питательного, сытого государства, с добропорядочной конституцией, хорошей юстицией и полицией, с техникой и индустрией; в лучшем случае этот идеал — интеллектуальный прогресс, ведь только в интеллектуальной сфере и возможен прогресс, потому что область морали в существе своем не изменяется. Между тем именно к моральной сфере, по свидетельству нашего сокровеннейшего сознания, восходит все, а мораль заключена только в индивиде, как направленность его воли. На самом деле только жизнь индивида имеет единство, связность и истинную значимость; эту жизнь можно рассматривать как поучение, смысл которого морален. Только внутренние процессы, поскольку они касаются воли, обладают истинной реальностью и представляют собой действительные события, ибо одна только воля — вещь в себе. В каждом микрокосме таится весь макрокосм, и в последнем заключается не
370
больше того, что есть в первом. Множественность — это явление, и внешние процессы — это не что иное, как сочетания мира явлений; поэтому непосредственно они не имеют ни реальности, ни значения, а приобретают их лишь косвенным образом, через свое отношение к воле отдельных личностей. Оттого всякая попытка непосредственно объяснить и раскрыть их — это все равно что в очертаниях облаков видеть группы людей и животных. Все, о чем повествует история, это, в сущности, только тяжелый, долгий и смутный сон человечества.
Гегельянцам, признающим философию истории даже главной целью всякой философии, следует указать на Платона, который неустанно повторяет, что предметом философии служит неизменное и вовеки пребывающее, а не то, что сегодня существует так, завтра — иначе. Все те, кто воздвигает подобные схемы мировой жизни или, как они это называют, истории, не постигли основной истины всякой философии — именно того, что во все времена существует одно и то же, что всякое происхождение и возникновение только иллюзорно, что неизменны только идеи, что время идеально. Так учил Платон, так учил Кант. Надо поэтому стремиться понять то, что существует, что действительно есть сегодня и во веки веков, т. е. надо признать идеи (в смысле Платона). Глупцы же думают, что сперва нечто должно сделаться и наступить. Поэтому они в своей философии уделяют истории главное место и конструируют ее по заранее составленному плану мира, согласно которому все идет к лучшему и это лучшее finaliter* должно наступить, и тогда все будет совершенно великолепно… Таким образом, они принимают мир за нечто совершенно реальное и цель его полагают в жалком земном счастье, которое, как бы усердно ни ухаживали за ним люди и как бы ни благоприятствовала ему судьба, все-таки пустая, обманчивая, хрупкая и печальная вещь, и никакие конституции и законодательства, никакие паровозы и телеграфы никогда не сделают из нее чего-нибудь существенно лучшего. Все эти философы истории и ее поклонники на самом деле — ограниченные реалисты, к тому же оптимисты и эвдемонисты; они пошляки и прирожденные филистеры и вдобавок, собственно говоря, плохие христиане, ибо истинный дух христианства, как и брахманизма и буддизма, заключается в сознании ничтожества земного счастья, в совершенном презрении к нему и в тоске по иному, даже противоположному существованию; в этом, говорю я, дух и смысл христианства, и воистину «в этом вся соль»22, а не в монотеизме, как думают те господа; и вот почему атеистический буддизм23 гораздо ближе и родственнее христианству, чем оптимистический иудаизм и его разновидность — ислам.
Итак, настоящая философия истории не должна изучать, как это делают все упомянутые господа, то, что (говоря языком Платона) всегда становится и никогда не есть, и не должна она принимать это за истинную сущность вещей: нет, она должна иметь в виду то, что всегда есть и никогда не становится и не исчезает. Ее назначение, таким образом, заключается не в том, чтобы временные цели людей возводить в степень вечных и абсолютных, и не в том, чтобы искусственно и мнимо
371
конструировать приближение к этим целям через всевозможные сплетения: нет, ее цель состоит в глубоком уразумении того, что история не только в своем процессе, но уже и в самой сущности своей лжива, ибо, повествуя об одних лишь индивидах и отдельных событиях, она делает вид, будто всякий раз сообщает нечто новое, между тем как в действительности она, от начала и до конца, повторяет лишь одно и то же, под разными именами и в разной оболочке. Истинная философия истории заключается в сознании того, что во всей бесконечной смене и сутолоке событий перед нами всегда раскрывается одно и то же, одинаковая и неизменная сущность, которая сегодня ведет себя так же, как вчера и постоянно; философия истории должна, таким образом, познать, что есть тождественного во всех событиях как древней, так и новой эпохи, как Востока, так и Запада, — и сквозь все разнообразие обстановки, одеяний и нравов должна она повсюду видеть одно и то же человечество. Это тождественное себе и пребывающее начало всяких изменений состоит в основных свойствах человеческого сердца и ума, из которых многие дурны и немногие хороши. Девизом истории вообще могло бы служить «eadem, sed aliter»*. Кто читал Геродота, тот в философском отношении уже достаточно изучил историю. Ибо там есть уже все, что составляет дальнейшую всемирную историю: дела и труды, страдания и судьбы рода человеческого, как они слагаются из указанных свойств человека и физической доли его на Земле.
Если мы, таким образом, признали, что история, рассматриваемая как средство к познанию сущности человечества, уступает поэзии; что она, далее, не есть наука в собственном смысле этого слова, что, наконец, попытка конструировать ее как нечто цельное, имеющее начало, середину и конец, исполненное внутреннего смысла и строя, бесплодна и вытекает из недоразумения, то нам следует показать, в чем же заключается ценность истории, для того чтобы не подумали, будто мы отрицаем за нею всякое значение. И действительно, побежденная искусством, отвергнутая наукой, она сохраняет за собою отличную от обеих, совершенно специальную область, в которой подвизается с высокой честью.
Что разум — для индивида, то история — для человеческого рода. Благодаря разуму человек не ограничен, как животное, тесной сферой наглядно данного настоящего: нет, он познает и несравненно большую даль прошлого, с которым это настоящее связано и из которого оно зародилось, и только через это приобретает он действительное понимание самого настоящего и в состоянии даже заключать о будущем. Наоборот, животное, познание которого, чуждое рефлексии, ограничено созерцанием, а потому и настоящим, бредет среди людей, даже если оно приручено, невежественное, темное, наивное, беспомощное и зависимое. Так вот, ему подобен и народ, не знающий своей собственной истории, ограниченный настоящим моментом ныне живущего поколения: он не понимает ни самого себя, ни своего настоящего, потому что он не может привести последнего в связь с прошлым и объяснить его из этого прошлого; еще меньше может он предвидеть будущее. Только в истории
372
народ достигает полного самосознания. Вот почему на историю и надо смотреть как на разумное самосознание человеческого рода, и для человечества предстает она тем же, чем для отдельной личности служит то обусловленное разумом, осмысленное и стройное сознание, отсутствие которого замыкает животное в тесные пределы наглядно данного настоящего. Поэтому всякий пробел в истории — все равно что пробел в самосознании и воспоминании отдельного человека; и перед каким-нибудь памятником седой старины, который пережил свою собственную историю, каковы, например, пирамиды или храм и чертоги в Юкатане, мы останавливаемся в таком же растерянном и беспомощном изумлении, с каким животное взирает на человеческие действия, в которых оно принимает служебное участие, или с каким человек смотрит на свою собственную старую шифрованную рукопись, ключ которой он забыл, или с каким, наконец, лунатик поутру видит то, что проделал во сне. В этом смысле, значит, на историю надо смотреть как на разум или ясное сознание человеческого рода, и она возмещает собою отсутствие непосредственно общего всему этому роду самосознания, так что только благодаря ей последний действительно становится чем-то целым, становится человечеством. В этом истинное значение истории, и сообразно с этим общий и преобладающий интерес к ней основывается преимущественно на том, что она представляет собою личное дело человеческого рода. Что для разума индивидов, как непременное условие его применения, составляет язык, то для указанного здесь разума всего человечества — письменность, ибо только с ним начинается действительное существование этого разума, как существование индивидуального разума начинается только с языком. В самом деле, письменность служит для того, чтобы беспрестанно прерываемое смертью и поэтому раздробляемое сознание человеческого рода снова приводить к единству, так что мысль, которая зародилась у пращура, додумывается до конца правнуком; письменность предотвращает распадение человеческого рода и его сознания на бесчисленное множество эфемерных индивидов и берет верх над временем, которое неудержимо мчится вперед и рука об руку с которым идет забвение. Попытку добиться этого торжества над временем надо видеть не только в письменных, но и в каменных памятниках, которые иногда более древни, чем первые. Над ними, ценою неизмеримых затрат, в течение многих лет работали тысячи человеческих сил, созидая пирамиды, монолиты, гробницы-скалы, обелиски, храмы и дворцы, существующие уже в продолжение тысячелетий. Кто же подумает, что эти люди имели в виду только самих себя, короткую пядь своей личной жизни, недостаточную даже для того, чтобы зодчий дожил до конца своей постройки, или что они стремились к показной цели ради угождения грубой толпе? Нет, очевидно, их настоящей целью было говорить с дальним потомством, вступить с ним в общение и таким образом вернуть к единству сознание человечества. Постройки индусов, египтян, даже греков и римлян были рассчитаны на несколько тысячелетий, ибо кругозор этих народов, в силу их высокого образования, был шире обыкновенного, между тем как постройки средних веков и нового времени были рассчитаны в лучшем случае на несколько столетий; отчасти, впрочем, это объясняется тем, что тогда,
373
в средние и новые века, больше полагались на письменность, употребление которой стало более распространенным, в особенности же когда из ее лона родилось искусство книгопечатания. Но и в постройках позднейшего времени заметно стремление говорить с потомством; оттого и позорно разрушать их или портить и заставлять их служить низменным, утилитарным целям. Письменные памятники меньше каменных должны опасаться стихий, но зато им больше грозит варварство: они гораздо важнее. Египтяне, испещряя свои каменные строения иероглифами, хотели соединить оба рода памятников; они пользовались даже живописью на тот случай, если перестанут понимать иероглифы.
Глава 39**
К метафизике музыки
В § 52 первого тома я предложил читателю свое понимание истинного значения этого дивного искусства. Я выяснил и показал, что между ее творениями и миром как представлением, т. е. природой, существует если не сходство, то во всяком случае явный параллелизм. Теперь я присоединю еще несколько соображений по этому поводу, заслуживающих внимания. Четыре голоса всякой гармонии, т. е. бас, тенор, альт и сопрано, или основной тон, терция, квинта и октава, соответствуют четырем ступеням в градации живых существ, т. е. царствам минеральному, растительному, животному и человеку. Это находит себе разительное подтверждение и в том основном музыкальном правиле, что бас должен находиться на гораздо большем расстоянии от трех верхних голосов, чем в каком они находятся друг от друга, так что он может приближаться к ним в крайнем случае на одну октаву; но по большей части он находится еще гораздо ниже, и тогда обыкновенное трезвучие имеет свое место в третьей октаве от основного тона. Соответственно с этим действие широкой гармонии, где бас остается далеко, гораздо сильнее и прекраснее, нежели действие гармонии тесной, при которой он ближе к голосам и которая применяется только ввиду ограниченности диапазона инструментов. И это правило далеко не произвольно: оно имеет свои корни в естественном происхождении звуковой системы, так как ближайшие гармонические ступени, созвучные в силу боковых колебаний, — это октава и ее квинта24. В этом законе мы видим, таким образом, музыкальную аналогию тому основному свойству природы, в силу которого органические существа находятся в гораздо более тесном родстве между собою, чем с безжизненной, неорганической массой минерального царства: эти существа и это царство разделены самой резкой границей и самой глубокой пропастью во всей природе. То, что высокий голос, поющий мелодию, является вместе с тем составною частью гармонии и в ней связан даже с самым низким генерал-басом, — это обстоятельство можно рассматривать как аналогию тому факту, что та самая материя, которая в человеческом организме служит носи-
374
тельницей идеи человека, должна в то же время представлять собою и носить на себе также и идеи тяжести и химических свойств, т. е. низших ступеней объективации воли.
Так как музыка, в противоположность всем другим искусствам, изображает не идеи или ступени в объективации воли, а непосредственно саму волю, то этим и объясняется, что она действует на волю, т. е. на чувства, страсти и аффекты слушателя, непосредственно вызывая в них быстрый подъем или настраивая их даже на иной лад.
Так как музыка не представляет собою чисто вспомогательного орудия поэзии, а бесспорно является самостоятельным искусством, даже более могучим, чем все остальные, и оттого достигает своих целей собственными средствами, то отсюда неизбежно вытекает, что она не нуждается в словах песни или в драматизме оперы. Музыка, как таковая, знает одни лишь звуки, а не те причины, которые их вызывают. Поэтому и vox humana*, в своей основной сущности, представляет для нее не что иное, как модифицированный звук, подобный звуку музыкального инструмента, и, как всякий другой, он имеет для нее те специфические достоинства и недостатки, которые вытекают из порождающего их инструмента. А то, что в данном случае этот самый инструмент, в качестве органа речи, служит на иной лад и для передачи понятий, так это — случайное обстоятельство, которым музыка попутно может воспользоваться, для того чтобы приобщиться к поэзии, но которое она никогда не должна ставить во главу дела; в целом она обязана заботиться лишь о том, чтобы передать звучание стихов, которые по большей части плоски и даже по существу не могут быть иными (как это показывает Дидро в своем «Племяннике Рамо»). Слова всегда будут для музыки чуждым придатком второстепенного значения, потому что действие звуков является несравненно более сильным, неотразимым и быстрым, чем действие слов; вот почему если последние перелагаются на музыку, то они должны играть в ней совершенно подчиненную роль и во всем к ней приспособляться. Иначе складывается взаимное отношение музыки и поэзии, когда первая находит последнюю уже готовой и должна соответствовать какому-нибудь стихотворению или либретто. Музыка сейчас же проявляет здесь свою мощь и высокий дар, предлагая нам глубочайшие, последние и таинственные откровения о тех ощущениях, которые выражаются в стихах, о том действии, которое изображает опера; она показывает нам их истинную и подлинную сущность, она раскрывает перед нами сокровенную душу событий и фактов, одну только оболочку и тело которых дает нам сцена. Ввиду этого господствующего значения музыки, ввиду того, что она так же относится к тексту и действию, как общее к частному, как правило к примеру, — ввиду этого было бы, может быть, гораздо более целесообразно, если бы присочиняли текст к музыке, а не наоборот. А при обычном методе слова и драматизм текста наводят композитора на лежащие в их основе движения воли и в нем самом вызывают те чувства, которые хотел выразить автор, — другими словами, они оказывают возбуждающее действие на его музыкальную фантазию. Кроме того, если присоедине-
375
ние поэзии к музыке нам все-таки столь отрадно и пение с понятными словами доставляет нам такое глубокое удовольствие, то это происходит оттого, что здесь одновременно и гармонически возбуждаются в нас и самый непосредственный, и самый косвенный способ нашей познавательной деятельности: непосредственный — это тот, для которого музыка выражает устремления самой воли, косвенный же — это способ понятий, означаемых словами. Когда говорят ощущения, и разум не хочет оставаться вполне праздным. Хотя музыка и собственными средствами способна выражать всякое движение воли, всякое ощущение, но когда являются слова, то мы сверх того получаем еще и объекты этих ощущений, те мотивы, которые их вызвали. Музыка всякой оперы, как ее представляет партитура, имеет совершенно независимое, отдельное, как бы отвлеченное существование, которому не причастны события и действующие лица пьесы и которое повинуется своим собственным неизменным законам; вот почему она производит цельное впечатление и без текста. Но эта музыка, созданная с оглядкой на пьесу, составляет как бы ее душу, потому что в своем сочетании с ее событиями, героями и словами она становится выражением внутреннего смысла всех этих событий и основывающейся на нем конечной и таинственной необходимости последних. Смутное чувство этого значения музыки и лежит в основе того удовольствия, которое она дает слушателю, если только он не простой зевака. Но при этом в опере музыка обнаруживает свою отличную от поэзии природу и свою высшую сущность тем, что остается вполне безразличной ко всей материальной стороне событий. Вследствие этого безразличия она выражает бурю страстей и пафос ощущений повсюду одинаково и сопровождает одинаковой торжественностью звуков все, что бы ни давало пьесе содержание: Агамемнон и Ахилл или раздоры в мещанской семье. Ибо для нее существуют только страсти, движения воли, и она, как Бог, зрит только в сердцах. Она никогда не растворяется в содержании пьесы; оттого, сопровождая даже самые смешные и разнузданные фарсы комической оперы, она все-таки сохраняет присущую ей красоту, чистоту и возвышенность, и ее слияние с этими сценами не может совлечь ее с той высоты, от которой, в сущности, далеко все смешное. Так над фарсом бесконечных бед человеческой жизни парит глубокий и серьезный смысл нашего бытия и не покидает ее ни на одно мгновение.
Если обратиться к чисто инструментальной музыке, то, например, бетховенская симфония являет нам величайший хаос, в основе которого лежит, однако, совершенство порядка: пред нами самая напряженная борьба, которая в следующее мгновение разрешается в прекрасную гармонию; пред нами «rerum concordia discors»* — точный и совершенный отпечаток сущности мира, который неудержимо стремится вперед в необозримой сутолоке своих бесчисленных форм и который беспрестанным разрушением поддерживает свое собственное бытие. И в то же время в этой симфонии слышатся все человеческие страсти и аффекты: радость, горе, любовь, ненависть, ужас, надежда во всех своих бесчисленных оттенках, но все — как бы in abstracto, без частных определений: «разноголосое мира согласье»25 (лат.).
376
перед нами только форма этих страстей и аффектов, а не их материя, словно мир бесплотных духов. Конечно, когда мы слушаем эти отголоски человеческой /туши, у нас появляется стремление реализовать их, облечь их, в фантазии, плотью и кровью и видеть в них разного рода сцены из жизни и природы. Но все это, взятое вместе, не содействует ни лучшему пониманию музыки, ни наслаждению ею: наоборот, все это является чужеродным и произвольным придатком к ней; вот почему лучше воспринимать музыку в ее непосредственности и чистоте.
До сих пор я, как и в тексте первого тома, рассматривал музыку исключительно с ее метафизической стороны, т. е. по отношению к внутреннему значению ее произведений. А теперь уместно будет подвергнуть общему рассмотрению и те средства, с помощью которых она, воздействуя на наш дух, осуществляет эти произведения, — другими словами, надо показать связь метафизической стороны музыки с достаточно исследованной и известной физической ее стороной.
Я исхожу из той общеизвестной и новыми возражениями нисколько не поколебленной теории, что всякая гармония тонов основывается на совпадении вибрации, которое, при одновременном звучании двух тонов, наступает при каждой второй, или при каждой третьей, или при каждой четвертой вибрации, вследствие чего они находятся между собой в отношении октавы, квинты или кварты и т. д. И вот, пока вибрации двух тонов образуют между собой отношение рациональное и выразимое в малых числах, они, ввиду часто повторяющегося совпадения, могут в нашей аппрегензии26 соединяться: звуки сливаются между собою и через это возникает их созвучие. Если же это отношение иррационально или выразимо только в больших числах, то внятного совпадения вибраций не получается, а они obstrepunt sibi perpetuo*, вследствие чего не допускают соединения в нашей аппрегензии, и мы зовем их поэтому диссонансом. Согласно этой теории, музыка представляет собою такой прием, благодаря которому рациональные и иррациональные соотношения чисел вводятся в наше чувственное познание непосредственно и сразу, а не раскрываются нам, как в арифметике, с помощью понятия. Связь метафизического значения музыки с этой ее физической и арифметической основой зиждется на том, что противодействующее нашей аппрегензии иррациональное, или диссонанс, становится естественным образом всего того, что противодействует нашей воле; и наоборот, консонанс, или рациональное, легко поддаваясь нашему восприятию, становится образом удовлетворения воли. А так как, далее, все эти рациональности и иррациональности в числовых соотношениях вибраций допускают бесчисленное множество степеней, оттенков, последовательностей и смен, то, благодаря этим моментам рационального и иррационального, музыка становится тем материалом, с помощью которого могут быть точно запечатлены и воспроизведены со всеми тончайшими нюансами и модификациями все движения человеческого сердца, т. е. воли, сущность коей всегда сводится к довольству и неудовлетворенности в их бесчисленных, правда, оттенках; и это воспроизведение человеческих страстей в музыке совершается в силу того, что композитор всякий раз
377
находит соответствующую мелодию. Мы видим, таким образом, что движения воли отражены здесь в сфере чистого представления, которое является исключительной областью приложения сил для всех изящных искусств, ибо последние безусловно требуют, чтобы сама воля не была здесь заинтересована и чтобы мы держали себя как существа только познающие. Поэтому создания искусств должны вызвать в нас не волнения воли, т. е. не действительное страдание и действительное наслаждение, а их замену: именно то, что гармонирует с интеллектом, в искусстве является как образ удовлетворенной воли; то же, что более или менее противодействует ему, является как образ большей или меньшей боли. Только вследствие этого музыка никогда не причиняет нам действительного страдания, и даже в своих печальнейших аккордах она все еще услаждает нас; мы любим, хотя бы в самых горестных мелодиях, внимать их языку, который вещает нам тайную историю нашей воли и всех ее порывов и стремлений со всеми их препонами, затруднениями и тяготами. Там же, где, в реальном мире и его ужасах, объектом таких волнений и страданий является сама наша воля, мы имеем дело уже не со звуками и их численными соотношениями, а скорее мы сами тогда — натянутая, прищипнутая и трепещущая струна.
Так как, далее, согласно физической теории, положенной нами в основу объяснения музыки, истинно музыкальное в звуках заключается в пропорции частоты их вибраций, а не в их относительной силе, то музыкальный слух в гармонии всегда следует преимущественно за самым высоким тоном, а не за самым сильным; вот почему, даже при сильнейшем аккомпанементе оркестра, сопрано звучит громче всего и приобретает этим естественное право на преимущественную роль в мелодии, которое, сверх того, подкрепляется еще и его большой подвижностью, имеющей свое основание в той же частоте вибраций; сказывается эта подвижность и гибкость в вычурных музыкальных предложениях, благодаря чему сопрано является настоящим представителем повышенной чувствительности, восприимчивой по отношению к самому слабому впечатлению и им определяемой, т. е. представителем высокоразвитого сознания, занимающего самую верхнюю ступень на лестнице живых существ. Его противоположностью[280], по тем же причинам обратного характера, является тяжеловесный бас, поднимающийся и падающий только по большим ступеням — терциям, квартам и квинтам и при этом на каждом шагу подчиненный строгим правилам; он поэтому и служит представителем бесчувственного неорганического царства природы, невосприимчивого к тонким впечатлениям и руководимого только самыми общими законами. Он даже никогда не должен двигаться постепенно, например с кварты на квинту, так как это повело бы за собою в верхних голосах неправильную последовательность квинт и октав; вот почему, в своем исконном и подлинном качестве, он никогда не может вести мелодию. Если же это порою все-таки предоставляется ему, то с помощью контрапункта, т. е. он тогда — бас перемещенный; другими словами, один из верхних голосов понижают и облекают в форму баса, но, собственно, тогда нужен ему для аккомпанемента еще и второй основной бас. Противоестественность мелодии, ведомой басом, влечет за собою то, что басовые арии с полным аккомпанементом никогда не
378
доставляют нам такого чистого и безмятежного наслаждения, как арии сопрано, которые одни, в общем строе гармонии, бывают естественны. Кстати замечу, что подобный мелодический бас, полученный насильственным путем перемещения, по духу нашей метафизики музыкального искусства подобен мраморной глыбе, которой насильственно придали бы форму человека; именно поэтому он так удивительно подходит к Каменному гостю в «Дон-Жуане».
А теперь рассмотрим несколько более основательно генезис мелодии. Мы достигнем этого, разложив ее на ее элементы; это во всяком случае доставит нам то удовольствие, какое возникает всякий раз, когда вещи, хорошо известные всякому in concreto, получают вдруг абстрактное и яркое осознание, они кажутся тогда новыми.
Мелодия состоит из двух элементов — ритмического и гармонического; первый можно назвать также количественным, второй — качественным, потому что первый касается продолжительности, а второй — движения звуков вверх и вниз. В нотах первый отмечают перпендикулярными, а второй горизонтальными линиями. В основе обоих элементов лежат арифметические отношения, т. е. отношения времени: в основе первого — относительная продолжительность тонов, в основе второго — относительная частота их вибраций. Ритмический элемент — самый существенный, так как он и сам по себе, без помощи другого, может представлять некоторое подобие мелодии, как это, например, бывает на барабане; но полная мелодия требует обоих элементов. Она состоит именно в периодическом их разделении и примирении; я сейчас это покажу, но раньше надо несколько более подробно рассмотреть элемент ритмический, так как о гармоническом у нас была уже речь на предыдущих страницах.
Ритм — это во времени то же, что в пространстве симметрия, а именно распределение целого на равные и соответствующие одна другой части, и притом распределение сначала на большие части, которые, в свою очередь, распадаются на части меньшие, подчиненные первым. В установленной мною иерархии искусств архитектура и музыка выступают как полярные противоположности. Действительно, по внутренней сущности своей, по силе, по объему своей сферы и значения они в высшей степени гетерогенны, прямо — антиподы. Этот контраст распространяется даже на форму их внешнего проявления; архитектура существует только в пространстве, без всякого отношения ко времени; музыка существует только во времени, без всякого отношения к пространству*.
Отсюда вытекает та единственная аналогия между ними, согласно которой, подобно тому как в архитектуре регулирующим и объединяющим началом служит симметрия, так в музыке — ритм; таким образом, и здесь подтверждается правило: «les exstrémes se
379
touchent»*. Как последними составными элементами всякого здания являются совершенно одинаковые камни, так последние элементы музыкальной пьесы — совершенно равные такты; последние, впрочем, посредством выделения сильных и слабых долей или вообще той дроби, которая, обозначая размер такта, сами делятся еще на равные части, которые можно сравнить с размерами камня. Из нескольких тактов состоит музыкальный период, который тоже делится на две равные половины: одна повышается, возбуждает, по большей части идет к доминанте; другая опускается, успокаивает, возвращается к основному тону. Два периода или большее их число образуют часть, которая чаще всего как бы симметрически удваивается посредством знака повторения; из двух частей образуется небольшая музыкальная пьеса или же только одно предложение большей пьесы; так, концерт или соната обыкновенно состоит из трех, симфония — из четырех, месса — из пяти фраз. Мы видим отсюда, что музыкальная пьеса, благодаря своему делению на симметричные части, которые, в свою очередь, подвергаются новому делению, вплоть до тактов и их дробей, при постоянной иерархии и соподчиненности ее отдельных моментов, — музыкальная пьеса так же связывается и замыкается в одно целое, как обретает подобную же цельность архитектурное произведение благодаря своей симметрии; разница здесь только та, что музыка осуществляет симметрию исключительно во времени, между тем как архитектура — исключительно в пространстве. Простое чувство этой аналогии породило столь часто повторяемую в последние тридцать лет смелую остроту, что архитектура — застывшая музыка. Происхождение свое это словцо ведет от Гете, который, как это передано в «Разговорах» Эккермана (т. 2, с. 88), сказал однажды: «Среди моих бумаг я нашел листок, где я называю зодчество «застывшей музыкой». И в самом деле это так. Настроение, создаваемое архитектурным искусством, близко к эффекту, производимому музыкой27. Вероятно, Гете гораздо раньше уронил это остроумное сравнение где-нибудь в обществе, а, как известно, никогда не было недостатка в людях, которые подбирали то, что он ронял в беседе, для того чтобы потом щеголять в чужом наряде. Впрочем, что бы Гете ни сказал, та аналогия, которую я устанавливаю здесь между музыкой и архитектурой и для которой я вижу только одно основание, а именно аналогия между ритмом и симметрией, — эта аналогия двух искусств распространяется исключительно на их внешнюю форму, а не на их внутреннее существо: по отношению к последнему они различаются между собою как небо и земля, и было бы даже смешно ставить на одну доску в существенных моментах самое ограниченное и слабое из всех искусств и самое широкое и могучее из них. В качестве амплификации доказанной аналогии можно было бы еще прибавить, что когда музыка, точно в порыве стремления к независимости, пользуется удобным случаем ферматы, для того чтобы, сбросив с себя оковы ритма, излиться в свободной фантазии фигурированной каденции, то такая пьеса, лишенная ритма, уподобляется руине, освободившейся от симметрии, и поэтому, говоря смелым языком приведенной метафоры, такую руину можно было бы назвать застывшей каденцией.
380
Разъяснив таким образом понятие ритма, я должен показать теперь, как это сущность мелодии состоит в периодическом разделении и примирении ее ритмического элемента с гармоническим. А именно, гармонический элемент ее опирается на основной тон, как ритмический — на тактовый размер, и заключается он в отклонении от этого тона через все звуки гаммы, пока, длинным ли, коротким ли обходным путем он не достигнет какой-нибудь гармонической ступени — по большей части доминанты или субдоминанты, которая дает ему неполное успокоение; а затем начинается, такою же длинной дорогой, его возвращение к основному тону, и, достигнув его, он обретает полное успокоение. Но и то и другое должно происходить так, чтобы достижение указанной ступени, как и возвращение к основному тону, совпадало с известными выделенными моментами ритма, иначе это не произведет эффекта. Таким образом, как гармоническая последовательность звуков требует известных тонов, прежде всего тоники, а после нее доминанты и т. д., так, со своей стороны, ритм требует известных делений времени, известных отчисленных тактов и известных частей этих тактов, которые называют тяжелыми, или сильными, долями или акцентированными частями такта в противоположность легким, слабым долям или неакцентированным частям такта. Так вот, разделение этих двух основных элементов мелодии заключается в том, что, когда удовлетворяется требование одного из них, требование другого остается без удовлетворения; примирение же их состоит в том, что оба удовлетворяются одновременно и вместе. Указанное блуждание последовательности звуков, вплоть до подъема на более или менее гармоническую ступень, должно достигать этой ступени лишь после определенного числа тактов и, кроме того, в сильной доле такта, благодаря чему эта ступень делается для них известным пунктом отдохновения; точно так же и возвращение к тонике должно настигать ее после такого же количества тактов и тоже в сильной доле, вследствие чего и наступает тогда полное удовлетворение. Покуда же это требуемое совпадение в удовлетворении обоих элементов не достигнуто, ритм может, с одной стороны, идти своим нормальным течением, а, с другой стороны, необходимые ноты могут встречаться достаточно часто и все-таки они не произведут того эффекта, который создает мелодию. Это можно пояснить на следующем, в высшей степени простом примере:

Конечным из тонов, образующих здесь данную гармонию, уже в конце первого такта является тоника; но это не дает ей, гармонии, удовлетворения, потому что ритм падает на самую слабую долю такта. Та же последовательность тонов, во втором такте, приводит к тону, падающему на сильную долю такта; но этот тон является уже септимой[281]. Здесь, таким образом, оба элемента мелодии совершенно разделены, и мы чувствуем какое-то беспокойство. Во второй половине периода течение звуков — противоположное, и в последнем тоне элементы примиряются.
381
Это явление можно подметить во всякой мелодии, хотя большей частью и при гораздо большем масштабе. Периодически совершающееся при этом разделение и примирение обоих элементов мелодии, с метафизической точки зрения, представляет собою отображение возникновения новых желаний и, затем, их удовлетворения. Оттого музыка и ласкает так наше сердце, что она постоянно рисует перед ним полное удовлетворение его желаний. При ближайшем рассмотрении мы замечаем, что в описанном строе мелодии внутреннее до известной степени условие (гармоническое) совпадает с внешним (ритмическим) как бы случайно, но его, разумеется, находит сам композитор, и сравнить его можно с рифмой в поэзии: это — отображение совпадения наших желаний с не зависящими от них благоприятными внешними обстоятельствами, т. е. образ счастья.
Заслуживает внимания еще и эффект задержания. Это — диссонанс, который замедляет с уверенностью ожидаемый финальный консонанс, отчего стремление к последнему усиливается и его наступление оказывается тем более желанным, — очевидная аналогия удовлетворению воли, которое возрастает от задержки. Совершенная каденция требует предшествующего септаккорда на доминанте, потому что глубочайшее удовлетворение и полное успокоение могут следовать только после самого напряженного желания. Таким образом, вся музыка состоит в беспрерывной смене аккордов, более или менее беспокоящих, т. е. возбуждающих желания, и аккордов, более или менее успокаивающих и удовлетворяющих, подобно тому как и жизнь сердца (воли) представляет собою постоянную смену большей или меньшей тревоги, возбуждаемой желаниями или страхом, и успокоения, имеющего такое же разнообразие оттенков, как и эти желания и страх. Вот почему гармоническое развитие музыкальной пьесы состоит в искусной смене диссонансов и консонансов. Ряд одних только консонантных аккордов вызывал бы пресыщение, утомление и пустоту, как languor*, который наступает после удовлетворения всех желаний. Оттого диссонансы, как ни тревожат, как почти мучительно ни действуют они, должны быть вводимы в музыку, но только для того, чтобы после надлежащей подготовки они снова разрешались в консонансы. В сущности, во всей музыке есть только два основных аккорда: диссонансный септаккорд и гармоническое трезвучие; к ним могут быть сведены все остальные аккорды. Это соответствует тому, что для воли, собственно, существуют только неудовлетворенность и удовлетворенность, в каком бы множестве разнообразных оболочек они ни выступали. И как есть два основных настроения духа — веселость или, по крайней мере, бодрость и печаль, или подавленность, так и музыка имеет две общие тональности — dur и moll28, соответствующие этим настроениям, и всегда музыка должна быть в одной из них. Но поистине в высшей степени удивительно, что есть знак скорби — moll: ни физически он не тягостен, ни условно, а все-таки он непосредственно и неоспоримо действует на нас. По этому можно судить, как глубоко в сущности вещей и человека заложено основание музыки. У северных народов, жизнь которых протекает в тяжких услови-
382
ях, например у русских, господствует moll, даже в церковной музыке29. Allegro30 в moll весьма часто встречается во французской музыке и характерно для нее: это похоже на то, как если кто-нибудь танцует, в то время как башмак жмет ему ногу.
Присоединю еще два побочных соображения. В смене тоники, а с нею и значимости всех ступеней, благодаря которой один и тот же тон фигурирует в качестве секунды, терции, кварты и т. д., тоны шкалы похожи на актеров, которые сегодня должны играть одну роль, а завтра — другую, между тем как личность их остается одна и та же. То обстоятельство, что эта личность часто не вполне соответствует той или другой роли, можно сравнить с упомянутой в конце § 52 первого тома неизбежной нечистотой всякой гармонической системы, которая породила равномерную темперацию.
Быть может, кого-нибудь смутит то обстоятельство, что музыка, которая нередко вызывает в нас такой подъем духа, что нам кажется, будто она говорит об иных и лучших мирах, нежели наш, в сущности, если верить предложенной здесь ее метафизике, только льстит воле к жизни, так как она изображает ее сущность, рисует перед ней ее удачи и кончает выражением ее удовлетворенности и довольства. Успокоить эти сомнения может следующее место из Вед: «Et anandsroup, quod forma gaudii est, τὸν pram Atma ex hoc dicunt, quod quocunque loco gaudium est, particula e gaudio eius est»*. (Oupnekhat, vol. 1, p. 405, et iterum vol. 2, p. 215.)
Tous les h
«Tao-te-kinf. ed Stan. Julien, p. 184*.
Глава 40
Предисловие
Дополнения к этой четвертой книге получились бы очень
пространными, если бы два главных вопроса, особенно в них нуждающиеся, а именно
свобода воли и основание морали, не были подвергнуты мною обстоятельной монографической
разработке в двух сочинениях, которые я написал на конкурсные темы,
предложенные двумя скандинавскими академиями, и которые в 1841 г. я выпустил в
свет под заглавием «Две основные проблемы этики». Вот почему я столь же
безусловно предполагаю в своих читателях знакомство с названным сочинением, как
при дополнениях ко второй книге я предполагал знакомство с моей работой «О воле
в природе». Вообще я требую, чтобы тот, кто хочет познакомиться с моей философией,
прочел все мои сочинения до единой строки. Ибо я не многописака, не фабрикант
компиляций, я не пишу ради гонорара и не рассчитываю на то, чтобы своими
книгами заслужить одобрение министра, — вообще, мое перо не состоит на службе у
своекорыстных целей: я стремлюсь к одной лишь истине и пишу так, как писали
древние, — с единственным желанием сохранить свои мысли, чтобы когда-нибудь они
послужили во благо тем, кто в состоянии будет развить их и оценить. Оттого я и
писал немного, но это немногое я писал обдуманно и с большими
промежутками, в связи с этим те повторения, которые в философских сочинениях,
ввиду их систематического характера, порою неизбежны и от которых не свободен
ни один философ, я ограничил по возможности более узкими рамками, так что
большинство моих суждений можно найти, каждое, только в одном месте моих работ.
Поэтому тот, кто хочет от меня чему-то научиться и меня понять, не должен
оставить ни одной непрочитанной строки из моих произведений. Судить же обо мне
и критиковать меня можно и без этого условия, как это показал опыт; желаю
критикам и впредь делать это на здоровье.
384
А то место, которое я сберег в этой четвертой книге дополнений, благодаря указанной элиминации двух основных вопросов, окажется для нас очень кстати: ввиду того, что откровения, которые ближе всего лежат к сердцу человека и поэтому во всякой системе образуют как конечные выводы вершину ее пирамиды, ввиду того, что эти выводы сходятся и в моей последней книге, всякому будет понятно, если я уделю побольше места более твердому обоснованию и более подробному изложению каждого из них. Кроме того, я мог обстоятельно высказываться здесь и по поводу одного вопроса, относящегося к моей теории утверждения воли к жизни, — вопроса, который в самой нашей четвертой книге остался незатронутым и на который и мои предшественники-философы не обращали никакого внимания: я говорю о внутреннем значении и сущности половой любви, которая иногда разгорается в самую бурную страсть; это — такой предмет, включение которого в этическую часть философии никому не показалось бы странным, если бы только поняли всю его важность.
Глава 41*
О смерти и ее отношении к неразрушимости нашей
внутренней сущности
Смерть — поистине гений-вдохновитель, или мусагет философии; оттого Сократ и определял последнюю как υανὰτου μελέτη**. Едва ли люди стали бы вообще философствовать, если бы не было смерти. Поэтому будет вполне естественно, если специальное рассмотрение ее мы поставим во главу последней, самой серьезной и самой важной из наших книг.
Животное проводит свою жизнь, не зная собственно о смерти; оттого животный индивид непосредственно наслаждается всей нетленностью рода, сознавая только свою бесконечность. У человека вместе с разумом неизбежно возникла и ужасающая уверенность в смерти. Но подобно тому как вообще в природе всякому злу сопутствует средство к его исцелению или по крайней мере некоторое возмещение, так и та самая рефлексия, которая повлекла за собой сознание смерти, помогает нам создавать себе такие метафизические воззрения, которые утешают нас в этом и которые не нужны и недоступны животному. Подобное утешение составляет главную цель всех религий и философских систем, и они прежде всего представляют собой извлеченное из собственных недр рефлектирующего разума противоядие против нашего сознания неизбежности смерти. Но достигают они этой цели в весьма различной степени, и бесспорно, что одна религия или философия в большей степени, чем другая, позволяет человеку спокойно смотреть в лицо смерти. Брахманизм и буддизм, которые учат человека смотреть на себя как на само первосущество, Брахму, коему, по самой сущности его,
385
чужды всякое возникновение и уничтожение, — эти два учения гораздо больше сделают в указанном отношении, чем те религии, которые признают человека сотворенным из ничего и приурочивают реальное начало его бытия, полученного им от другого существа, к факту его рождения. Оттого в Индии и царит такое спокойствие и презрение к смерти, о котором в Европе даже понятия не имеют. Поистине опасное дело — с юных лет насильственно внушать человеку слабые и шаткие понятия о столь важных предметах и этим навеки отнимать у него способность к восприятию более правильных и устойчивых взглядов. Например, внушать ему, что он лишь недавно произошел из ничего и, следовательно, целую вечность был ничем, а в будущем все-таки никогда не прейдет, — это все равно что поучать его, будто он, хотя и всецело представляет собой создание чужих рук, тем не менее должен быть во веки веков ответствен за свои деяния и за свое бездействие. Когда, созрев духом и мыслью, он неизбежно поймет всю несостоятельность таких учений, у него уже не будет взамен ничего лучшего, да он и не в состоянии был бы даже понять это лучшее; он окажется поэтому лишенным того утешения, которое ему и предназначала природа взамен сознания о неизбежности смерти. В результате такого образования наших юношей мы видим, что теперь (в 1844 г.) в Англии, в среде испорченных рабочих — социалисты, а в Германии, в среде испорченных студентов — младогегельянцы, спустились до уровня чисто физического мировоззрения, которое приводит к результату: «edite, bibite, post mortem nulla voluptas»*, и поэтому заслуживает имени бестиализма.
Судя по всему, что до сих пор говорилось о смерти, нельзя отрицать, что, по крайней мере в Европе, мнения людей — и часто даже одного и того же человека — сплошь да рядом продолжают колебаться между пониманием смерти как абсолютного уничтожения и уверенностью в нашем полном бессмертии с ног до головы. И тот и другой взгляды одинаково неверны; но для нас важно не столько найти правильную середину между ними, сколько подняться на более высокую точку зрения, благодаря которой подобные взгляды рушились бы сами собой.
В своих соображениях я прежде всего стану на вполне эмпирическую точку зрения. Здесь перед нами сейчас же раскрывается тот неоспоримый факт, что, следуя естественному сознанию, человек больше всего на свете боится смерти не только для собственной личности, но горько оплакивает и смерть своих родных; причем несомненно, что он не скорбит эгоистически о своей личной утрате, а сострадательно горюет о великом несчастье, которое постигло его близких. Оттого мы и упрекаем в суровости и жестокосердии тех людей, которые в таком положении не плачут и ничем не обнаруживают печали. Параллель этому составляет то, что жажда мести в своих высших проявлениях ищет смерти врага как величайшего из несчастий, которые можно ему причинить. Мнения изменяются в зависимости от времени и места; но голос природы всегда и везде остается тем же, и поэтому он прежде всего заслуживает внимания. И вот этот голос как будто явственно говорит нам, что смерть — великое зло. На языке природы смерть означает уничтожение. И то,
386
что смерть есть нечто серьезное, это можно заключить уже из того, что и жизнь, как всякий знает, тоже не шутка. Должно быть, мы и не стоим ничего лучшего, чем эти две вещи.
Поистине, страх смерти не зависит ни от какого знания: ведь животное испытывает этот страх, хотя оно и не знает о смерти. Все, что рождается, уже приносит его с собою на землю. Но априорный страх смерти — не что иное, как оборотная сторона воли к жизни, которую представляем собой все мы. Оттого любому животному одинаково прирождена как забота о самосохранении, так и страх гибели; именно последний, а не простое стремление избежать боли сказывается в той боязливой осмотрительности, с какою животное старается оградить себя, а еще более свое потомство от всякого, кто только может быть ему опасен. Почему животное убегает, дрожит и хочет скрыться? Потому что оно — всецело воля к жизни, а в качестве таковой подвержено смерти и желает выиграть время. Таков же точно от природы и человек. Величайшее из зол, худшее из всего, что только может грозить ему, — это смерть; величайший страх — это страх смерти. Ничто столь неодолимо не побуждает нас к живейшему участию, как если другой подвергается смертельной опасности; нет ничего ужаснее, чем смертная казнь. Раскрывающаяся во всем этом безграничная привязанность к жизни ни в каком случае не могла возникнуть из познания и размышлений: напротив, для последних она скорее представляется нелепой, потому что с объективной ценностью жизни дело обстоит весьма скверно и во всяком случае остается под большим сомнением, следует ли жизнь предпочитать небытию; можно сказать даже так, что если бы предоставить слово опыту и рассуждению, то небытие, наверное, взяло бы верх. Постучитесь в гробы и спросите у мертвецов, не хотят ли они воскреснуть, и они отрицательно покачают головами. К этому же сводится и мнение Сократа, высказанное в «Апологии» Платона, и даже бодрый и жизнерадостный Вольтер не мог не сказать: «On aime la vie; mais le néant ne laisse pas d’avoir du bon»*, а в другом месте: «Je ne sais pas ce que c’est que la vie eternelle; mais celle-ci est une mauvaise plaisanterie»**. Да и, кроме того, жизнь в любом случае должна скоро кончиться, так что те немногие годы, которые нам еще, быть может, суждено прожить, совершенно исчезают перед бесконечностью того времени, когда нас уже больше не будет. Вот почему при свете мысли даже смешным кажется проявлять такую заботливость об этой капле времени, приходить в такой трепет, когда собственная или чужая жизнь подвергается опасности, и сочинять трагедии, весь ужас которых сосредоточен исключительно в страхе смерти. Таким образом, могучая привязанность к жизни, о которой мы говорили, неразумна и слепа; она объясняется только тем, что вся наша сущность в себе есть воля к жизни и жизнь поэтому должна казаться нам высшим благом, как она ни горестна, кратковременна и ненадежна; объясняется эта привязанность еще и тем, что эта воля, сама по себе и в своем изначальном виде, лишена познания и слепа. Что
387
же касается познания, то оно не только не служит источником этой привязанности к жизни, но даже, наоборот, противодействует ей, ибо раскрывает перед нами ничтожество жизни и этим побеждает страх смерти. Когда познание берет верх и человек спокойно и мужественно идет навстречу смерти, то это прославляют как великий и благородный подвиг: мы празднуем тогда славное торжество познания над слепой волей к жизни, которая составляет все-таки ядро нашего собственного существа. С другой стороны, мы презираем такого человека, в котором познание в этой борьбе изнемогает, который во что бы то ни стало цепляется за жизнь, из последних сил упирается против надвигающейся смерти и встречает ее с отчаянием*; а между тем в нем сказывается только изначальная сущность нашего Я и природы. И кстати, невольно возникает вопрос: каким образом безграничная любовь к жизни и стремление во что бы то ни стало сохранить ее возможно дольше, каким образом это стремление могло бы казаться презренным, низким и, в глазах последователей любой религии, недостойным ее, если бы жизнь была подарком благих богов, который надлежит принять со всею признательностью? И в таком случае можно ли было бы считать великим и благородным презрение к жизни? Итак, эти соображения подтверждают для нас следующее: 1) что воля к жизни — сокровеннейшая сущность человека; 2) что она сама по себе лишена познания, слепа; 3) что познание — это первоначально чуждый ей, дополнительный принцип; 4) что воля с этим познанием враждует, и наше суждение одобряет победу познания над волей.
Если бы то, что нас пугает в смерти, была мысль о небытии, то мы должны были бы испытывать такое же содрогание при мысли о том времени, когда нас еще не было. Ибо неопровержимо верно, что небытие после смерти не может быть отлично от небытия перед рождением и, следовательно, не более его стоит наших жалоб. Целая бесконечность прошла уже, а нас еще не было, и это нас вовсе не печалит. Но то, что после мимолетного интермеццо какого-то эфемерного бытия должна последовать вторая бесконечность, в которой нас уже не будет, — это в наших глазах жестоко, прямо невыносимо. Но, быть может, эта жажда бытия зародилась в нас оттого, что мы его теперь отведали и нашли очень желанным? Бесспорно нет, как я это вкратце пояснил уже выше; скорее полученный нами опыт мог бы пробудить в нас безмерную тоску по утраченному раю небытия. Да и надежда на бессмертие души всегда связывается с надеждой на «лучший мир» — признак того, что наш-то мир немногого стоит. И несмотря на все это, вопрос о нашем состоянии после смерти трактовался и в книгах, и устно, наверное, в десять тысяч раз чаще, нежели вопрос о нашем состоянии до рождения. Между тем теоретически обе проблемы одинаково важны для нас и законны; и тот, кто сумел бы ответить на одну из них, тем самым прекрасно разобрался
388
бы и в другой. У нас имеются прекрасные декламации на тему о том, как наше сознание противится мысли, что дух человека, который объемлет вселенную и порождает столько великолепных мыслей, сойдет вместе с нами в могилу; но о том, что этот дух пропустил целую бесконечность, прежде чем он возник с этими своими качествами, и что мир так долго вынужден был обходиться без него, — об этом что-то ничего не слыхать. И все-таки для сознания, не подкупленного волей, нет вопроса более естественного, чем следующий: «Бесконечное время протекло, прежде чем я родился, — чем же я был все это время?» В метафизическом смысле, пожалуй, можно было бы ответить так: «Я всегда был Я: именно все те, кто в течение этого времени называли себя Я, это были то же самое Я». Впрочем, от этого метафизического взгляда вернемся к нашей, пока еще вполне эмпирической точке зрения и допустим, что меня тогда совсем не было. Но в таком случае в бесконечности того времени, которое протечет после моей смерти и в которое меня не будет, я могу утешаться бесконечностью того времени, в которое меня уже не было и которое является для меня привычным и, поистине, очень удобным состоянием. Ибо бесконечность a parte post* без меня так же мало заключает в себе ужасного, как и бесконечность a parte ante** без меня; они ничем не отличаются одна от другой, кроме того, что в промежутке между ними пронесся эфемерный сон жизни. И все аргументы в пользу загробного существования так же хорошо можно применить in partem ante***; тогда они будут доказывать предсуществование, признание которого со стороны индуистов и буддистов весьма последовательно. Одна лишь кантовская идеальность времени разрешает все эти загадки, но об этом у нас пока еще речи не идет. Впрочем, из предыдущего ясно уже одно: печалиться о времени, когда нас больше не будет, так же нелепо, как если бы мы печалились о времени, когда нас еще не было, ибо все равно, относится ли время, которое не наполняется нашим бытием, к тому, которое им наполняется, как будущее или как прошедшее.
Но и помимо этих соображений о характере времени признавать небытие злом — само по себе нелепо. Ибо всякое зло, как и всякое добро, имеет уже своей предпосылкой существование и даже сознание, а последнее прекращается вместе с жизнью, как прекращается оно и во сне, и в обмороке; поэтому отсутствие сознания нам хорошо известно, и мы знаем, что оно не заключает в себе никаких зол; исчезновение же сознания, во всяком случае, — дело одного мгновения. Именно так смотрел на смерть Эпикур, и совершенно верно сказал о ней: ὁ ϑ´ανατος οὐδὲν πρὸς ἡμ͂ας (смерть не имеет к нам никакого отношения), пояснив, что когда мы есть, смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет (Diogen Lært. X, 27). Очевидно, потерять то, отсутствие чего нельзя заметить, не есть зло; следовательно, то, что нас не будет, должно нас так же мало смущать, как и то, что нас не было. Таким образом, с точки
389
зрения познания нет решительно никаких причин бояться смерти; но именно в познавательной деятельности состоит сознание, — значит, для последнего смерть не есть зло. И на самом деле боится смерти не эта познающая сторона нашего Я: исключительно от слепой воли исходит fuga mortis*, которой проникнуто все живущее. А для воли эта fuga, как я уже говорил, существенна, именно потому что это — воля к жизни, вся сущность которой заключается в тяготении к жизни и бытию и познание которой не прирождено, а лишь сопутствует вследствие ее объективации в животных индивидах. Когда же эта воля, благодаря познанию, усматривает в смерти конец того явления, с которым она себя отождествляет и которым себя ограничивает, тогда все ее существо всеми силами противится смерти. Действительно ли смерть грозит ей чем-нибудь, это мы рассмотрим ниже, припомнив указанный здесь истинный источник страха смерти, с должным различением волящей стороны нашего существа от познающей.
В соответствии с этим то, что так страшит нас в смерти, это не столько конец жизни — так как последняя не может никому казаться очень уж достойной сожалений, сколько разрушение организма, именно потому, что он — сама воля, принявшая вид тела. Но это разрушение мы действительно чувствуем только в злополучии недугов или старости: самая же смерть для субъекта наступает лишь в то мгновение, когда исчезает сознание, потому что тогда прекращается деятельность мозга. То оцепенение, которое распространяется затем и на остальные части организма, это уже, собственно, явление посмертное. Итак, в субъективном отношении смерть поражает одно только сознание. А что такое исчезновение последнего, это всякий может до некоторой степени представить себе по тем ощущениям, какие мы испытываем, засыпая; а еще лучше знают это те, кто падал когда-нибудь в настоящий обморок, при котором переход от сознания к бессознательности совершается не так постепенно и не опосредуется сновидениями; в обмороке у нас прежде всего, еще при полном сознании, ослабевает зрение и затем непосредственно наступает глубочайшая бессознательность; ощущение, которое человек испытывает при этом, насколько оно вообще сохраняется, меньше всего неприятно, и если сон — брат смерти, то несомненно, что обморок и смерть — - близнецы. И насильственная смерть не может быть болезненной, так как даже самые тяжелые раны обыкновенно совсем не чувствуются и мы замечаем их лишь спустя некоторое время, и часто — только по их внешним признакам: если смерть быстро следует за ними, то сознание исчезает до того, как мы их заметим; если смерть наступает не скоро, то все протекает так же, как и при обыкновенной болезни. Как известно, все терявшие сознание в воде, или от угара, или от удушения, утверждают, что это не сопровождалось болезненными ощущениями. Наконец, естественная смерть, в настоящем смысле этого слова, — та, которая происходит от старости, эвтаназия, представляет собою постепенное и незаметное исчезновение из бытия. Одна за другой погасают у старика страсти и желания, а с ними и восприимчивость к их предметам; аффекты уже не находят себе возбуждающего толчка, ибо
390
способность представления все слабеет и слабеет, ее образы бледнеют, впечатления не задерживаются и проходят бесследно, дни протекают все быстрее и быстрее, события теряют свою значимость, все блекнет. И глубокий старец тихо бродит кругом или дремлет где-нибудь в уголке — тень и призрак своего прежнего существа. Что же еще остается здесь смерти для разрушения? Наступит день, и задремлет старик в последний раз, и посетят его сновидения… те сновидения, о которых говорит Гамлет в своем знаменитом монологе5. Я думаю, они грезятся нам и теперь.
Здесь надо заметить еще и то, что поддержание жизненного процесса, хотя оно и имеет метафизическую основу, совершается не без противодействия и, следовательно, не без некоторых усилий. Это именно они каждый вечер утомляют организм, так что он прекращает мозговую функцию и уменьшает некоторые выделения, дыхание, пульс и генерирование тепла. Отсюда следует заключить, что полное прекращение жизненного процесса должно быть для его движущей силы удивительным облегчением; быть может, в этом и кроется одна из причин того, что на лицах большинства мертвецов написано выражение сладостного довольства. Вообще момент умирания, вероятно, подобен моменту пробуждения от тягостного кошмарного сна.
До сих пор оказывалось, что смерть, как ни страшимся мы ее,
на самом деле не может
представлять собой никакого зла. Мало того,
часто является она благом и желанной гостьей, как Freund Hain6.
Все, что наткнулось на неодолимые
препоны для своего существования или для
своих стремлений, все, что страдает неисцелимой болезнью или безутешной скорбью, — все это находит
себе свое последнее, по большей части
само собой раскрывающееся убежище, возвращаясь в недра природы, откуда оно, как и все другое, ненадолго
всплыло, соблазненное надеждой на
такие условия бытия, которые более благоприятны, чем доставшиеся ему в удел, и куда для него всегда открыта дорога
назад. Это возвращение — cessio
bonorum* живущего. Но и здесь
совершается оно только после
физической или нравственной борьбы: до такой степени всякое существо противится возвращению туда, откуда оно так
легко и охотно пришло в жизнь,
столь богатую страданиями и столь бедную радостью.
Индусы придавали богу смерти, Яма, два лика: один — страшный, пугающий, другой — очень ласковый и добрый. Это
отчасти объясняется уже и только что приведенными соображениями.
С эмпирической точки зрения, на которой мы все еще стоим, само собой возникает одно соображение, которое заслуживает поэтому более точного определения и должно быть введено в свои границы. Когда я смотрю на труп, я вижу, что здесь прекратились чувствительность, раздражимость, кровообращение, репродукция и т. д. Отсюда я с уверенностью заключаю, что та сила, которая до сих пор приводила их в движение, но при этом никогда не была мне известна, теперь больше не движет ими, т. е. покинула их. Но если бы я прибавил, что эта сила, вероятно, представляет собой именно то самое, что я знал лишь как сознание, т. е. как интеллигенцию (душу), то это было бы заключение не
391
только незаконное, но и очевидно
ложное. Ибо всегда сознание являлось мне
не как причина, а как продукт и результат органической жизни; вместе с последней оно возрастало и
падало, т. е. было различным в
различном возрасте, в здоровье и в болезни, во сне, в обмороке, в бодрствующем состоянии и т. д.;
всегда, значит, оно являлось как действие,
а не как причина органической жизни, всегда являлось оно как нечто такое, что возникает и исчезает,
и опять возникает, пока существуют для
этого благоприятные условия, но не иначе. Мало того, мне, быть может, случалось видеть, что полное
расстройство сознания, безумие не только
не понижает и не подавляет остальных сил и не только не опасно для жизни, но даже весьма повышает
возбудимость или мускульную силу и
этим скорее удлиняет жизнь, чем сокращает ее, если только не вмешиваются другие причины. Далее:
индивидуальность я знал как свойство
всего органического и потому, если это органическое было одарено самосознанием, то и как свойство сознания; и заключать
теперь, что индивидуальность
присуща была этому, совершенно неведомому
мне принципу, который исчез, который нес с собой жизнь, — для этого у меня нет никаких оснований, тем более
что я вижу, что везде в природе каждое
единичное явление представляет собой создание некоторой общей силы, действующей в тысяче подобных
явлений. Но, с другой стороны,
столь же мало оснований заключать, что так как органическая жизнь здесь прекратилась, то и сила,
которая доселе приводила ее в
действие, обратилась в ничто, — как от остановившейся прялки нельзя заключать к смерти пряхи. Когда
маятник, найдя вновь свой центр тяжести,
приходит наконец в состояние покоя и таким образом иллюзия его индивидуальной жизни прекращается,
то никто не думает, что теперь уничтожилась
сила тяжести; каждый понимает, что она продолжает действовать в тысяче проявлений теперь, как и раньше. Конечно,
против этого сравнения можно
возразить, что здесь и в этом маятнике сила
тяжести не перестала действовать, а лишь наглядным образом проявлять свое действие; но кто настаивает на
этом возражении, пусть вместо маятника
представит себе наэлектризованное тело, в котором, если его разрядить, электричество на самом деле
прекратило свое действие. Своим
сравнением я хотел только показать, что мы непосредственно приписываем даже самым низшим силам
природы вечность и вездесущие, по
отношению к которым ни на одну минуту не вводит нас в заблуждение недолговечность их случайных проявлений. А тем
более мы не должны считать, что
прекращение жизни является уничтожением животворного
принципа, т. е. принимать смерть за полное уничтожение человека. Если та могучая рука, которая
три тысячи лет назад натягивала лук
Одиссея, больше не существует, то ни один мыслящий и здравый ум не станет из-за этого утверждать,
что сила, которая так энергично действовала
в ней, совершенно пропала; а следовательно, при дальнейшем размышлении, он не согласится и с тем,
что сила, которая сегодня натягивает
лук, начала свое существование только с этой рукой. Гораздо естественнее прийти к мысли, что сила, которая раньше
приводила в движение какую-нибудь
теперь исчезнувшую жизнь, — это та самая
сила, которая деятельна в другой жизни, теперь цветущей; эта мысль почти неотвратима. Но мы
несомненно знаем, что, как я показал
392
во второй книге, преходяще лишь то, что входит в причинную цепь явлений, а входят в нее только состояния и формы. Не распространяется же эта вызываемая причинами смена состояний и форм, с одной стороны, на материю, а с другой — на силы природы: и та и другие являются предпосылкой всех этих изменений. А то начало, которое нас животворит, мы прежде всего должны мыслить по крайней мере как силу природы, пока более глубокое исследование не покажет нам, что она такое сама по себе. Итак, жизненная сила, даже понимаемая в смысле силы природы, остается чуждой смене форм и состояний, которые приходят и уходят, влекомые цепью причин и действий, и которые одни подвластны возникновению и уничтожению, как это показывает опыт. Следовательно, в этих пределах непреходящий характер нашей подлинной сущности остается вне всяких сомнений. Конечно, это не удовлетворяет тем запросам, какие мы обыкновенно предъявляем к доказательствам в пользу нашего загробного существования, и не дает того утешения, какого мы ждем от них. Но все-таки и это уже есть нечто, и тот, кто боится смерти как абсолютного уничтожения, не должен пренебрегать безусловной уверенностью, что сокровеннейшее начало его жизни этому уничтожению не подлежит. И можно даже высказать парадоксальное утверждение, что и то второе начало, которое, подобно силам природы, остается чуждо вечной смене состояний, идущей по нити причинного сцепления, т. е. материя, сулит нам благодаря своей абсолютной устойчивости такую неразрушимость, в силу которой человек, неспособный понять никакой иной вечности, все-таки может уповать на известного рода непреходящесть. «Как? — возразят мне. — На устойчивость простого праха, грубой материи, надо смотреть как на продолжение нашего существа?» Ого! Разве вы знаете этот прах? Разве вы знаете, что он такое и к чему он способен? Узнайте его, прежде чем презирать его. Материя, которая лежит теперь перед вами как прах и пепел, сейчас, растворившись в воде, осядет кристаллом, засверкает в металле, рассыплет электрические искры, в своем гальваническом напряжении проявит силу, которая, разложив самые крепкие соединения, обратит земли7 в металл; и мало того, она сама собой воплотится в растение и животное и из своего таинственного лона породит ту самую жизнь, утраты которой вы так боитесь в своей ограниченности. Неужели продолжать свое существование в виде такой материи совсем уж ничего не стоит? Нет, я серьезно утверждаю, что даже эта устойчивость материи свидетельствует о бессмертии нашей истинной сущности, хотя бы только образно и метафорически или, лучше сказать, дагерротипически. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить данное нами в 24-й главе объяснение материи: из него оказалось, что чистая, бесформенная материя — эта основа эмпирического мира, сама по себе никогда не воспринимаемая, но всегда неизменно предполагаемая, — представляет собой непосредственное отражение, зримый образ вещи в себе, т. е. воли; поэтому к ней, в условиях опыта, применимо все то, что безусловно присуще самой воле, и в образе временной неразрушимости она, материя, воспроизводит истинную вечность воли. А ввиду того, что, как я уже сказал, природа не лжет, то ни одно наше воззрение, зародившееся из чисто объективного восприятия ее и прошедшее через правильное логическое
393
мышление, не может быть совершенно ложно: нет, в худшем случае оно страдает большой односторонностью и неполнотой. Именно таким воззрением, бесспорно, и является последовательный материализм, например материализм Эпикура, как и противоположный ему абсолютный идеализм, например, идеализм Беркли, как и вообще всякий философский принцип, зародившийся из верного aperçu* и добросовестно разработанный. Но только все это — в высшей степени односторонние миросозерцания, и поэтому, при всей их противоположности, все они одновременно истинны — каждое со своей определенной точки зрения; а стоит лишь над этой точкой подняться, как истинность их сейчас же оказывается относительной и условной. Высшей же точкой, с которой можно бы обозреть их все, увидеть их истинными только относительно, понять их несостоятельность за данными пределами, может быть точка абсолютной истины, насколько она вообще достижима. Вот почему, как я только что показал, даже в очень грубом, собственно, поэтому и в очень старом воззрении материализма неразрушимость нашего внутреннего истинного существа находит все-таки свою тень и отражение, а именно в идее постоянства материи, подобно тому как в натурализме абсолютной физики, который уже выше материализма, она, эта неразрушимость, представлена в учении о вездесущности и вечности сил природы, — ведь к ним во всяком случае надо причислить и жизненную силу. Таким образом, даже и эти грубые мировоззрения заключают в себе выражение той мысли, что живое существо не находит в смерти абсолютного уничтожения, а продолжает существовать в целом природы и вместе с ним.
Соображения, которые мы приводили до сих пор и к которым примыкают дальнейшие разъяснения, имели своей исходной точкой тот поразительный страх смерти, какой объемлет все живые существа. Теперь же переменим угол зрения и рассмотрим, как, в противоположность отдельным существам, относится к смерти природа в своем целом, при этом будем все еще держаться, однако, эмпирической почвы.
Бесспорно, мы не знаем игры с большей ставкой, чем та, где речь вдет о жизни и смерти: каждый отдельный исход этой игры ожидается нами с крайним напряжением, участием и страхом, ибо в наших глазах здесь ставится на карту все. Напротив, природа, которая никогда не лжет, а всегда откровенна и искренна, высказывается об этом предмете совершенно иначе, именно так, как Кришна в «Бхагават-Гите». Она говорит вот что: смерть или жизнь индивида ничего не значат. Выражает она это тем, что жизнь всякого животного, а также и человека отдает на произвол судьбы самых незначительных случайностей, нисколько не заботясь о его защите. Вот по вашей дороге ползет насекомое: малейший, незаметный для вас поворот вашей ноги имеет решающее значение для его жизни и смерти. Посмотрите на лесную улитку: безо всяких орудий для бегства, для обороны, для обмана, для укрывательства она представляет собой готовую добычу для всех желающих. Посмотрите, как рыба беспечно играет в еще открытой сети, как лень удерживает лягушку от бегства, которое могло бы ее спасти, как птица не замечает
394
сокола, который кружит над нею, как волк из-за кустарника зорко высматривает овец. Все они, беззаботные и осторожные, простодушно бродят среди опасностей, которые каждую минуту грозят их существованию. Таким образом, природа, безо всякого размышления отдавая свои невыразимо искусные организмы не только в добычу более сильным существам, но и предоставляя их произволу слепого случая, капризу любого дурака, шаловливости любого ребенка, — природа говорит этим, что гибель индивидов для нее безразлична, ей не вредит, не имеет для нее никакого значения и что в указанных случаях беспомощности животных результат столь же ничтожен, как и его причина. Она весьма ясно выражает это и никогда не лжет, но только она не комментирует того, о чем возвещает, а говорит скорее в лаконичном стиле оракула. И вот, если наша общая мать так беспечно посылает своих детей навстречу тысяче грозящих опасностей, безо всякого покрова и защиты, то это возможно лишь потому, что она знает, что если они падут, то падут только обратно в ее же лоно, где и находят свое спасение, так что это падение — простая шутка. С человеком она поступает не иначе, чем с животными; и на него, следовательно, тоже распространяется ее девиз: жизнь или смерть индивида для нее безразличны. Поэтому в известном смысле они должны бы быть безразличны и для нас, так как ведь мы сами — тоже природа. И действительно, если бы только наш взгляд проникал достаточно глубоко, мы согласились бы с природой и на смерть или жизнь смотрели бы так же равнодушно, как она. А покамест эту беспечность и равнодушие природы к жизни индивидов мы путем рефлексии должны объяснять себе в том смысле, что гибель подобного явления нисколько не затрагивает его истинного и внутреннего существа.
Если далее принять в расчет, что не только жизнь и смерть, как мы только что видели, зависят от самой ничтожной случайности, но что и вообще бытие органических существ эфемерно, и животное и растение сегодня возникает, а завтра гибнет; что рождение и смерть следуют друг за другом в быстрой смене, между тем как неорганическому царству, которое стоит гораздо ниже, гарантирована несравненно большая долговечность; что бесконечно долгое существование дано только абсолютно бесформенной материи, за которой мы признаем его даже a priori, — если принять все это в расчет, то, думается мне, даже при чисто эмпирическом, но объективном и беспристрастном восприятии такого порядка вещей сама собой должна возникнуть мысль, что этот порядок представляет собой лишь поверхностный феномен, что такое беспрерывное возникновение и уничтожение вовсе не затрагивает корня вещей, а только относительно и даже призрачно, и не распространяется на истинную, внутреннюю сущность каждой вещи, везде и повсюду скрывающуюся от наших взоров и глубоко загадочную, ту сущность, которая невозмутимо продолжает при этом свое бытие, хотя мы и не можем ни видеть, ни постичь, как это происходит, и вынуждены представлять себе это лишь в общих чертах, в виде какого-то tour de passe-passe*. И действительно: то, что самые несовершенные, низшие, неорганические вещи
395
невредимо продолжают свое существование, между тем как наиболее совершенные существа — живые, со своей бесконечно сложной и непостижимо искусной организацией, постоянно должны возникать снова и снова и через короткий промежуток времени обращаться в абсолютное ничто, чтобы вновь освободить место для новых, себе подобных особей, из ничего рождающихся в бытие, — это такая очевидная нелепость, что подобный строй вещей никогда не может быть истинным миропорядком, а скорее служит простой оболочкой, за которой последний скрывается, или, точнее сказать, это феномен, обусловленный свойствами нашего интеллекта. И даже все бытие или небытие этих отдельных существ, по отношению к которому жизнь и смерть являются противоположностями, даже это бытие может быть лишь относительно; и тот язык природы, на котором оно звучит для нас как нечто данное абсолютно, не может быть, следовательно, истинным и конечным выражением свойства вещей и миропорядка, а на самом деле представляет собой лишь некоторое patois du pays*, т. е. нечто истинное только в относительном смысле, «так называемое», то, что надо понимать cum grano salis** или, говоря точнее, нечто, обусловленное нашим интеллектом. Я утверждаю: непосредственное, интуитивное убеждение в том, что я старался описать здесь вышеприведенными словами, само собой зарождается у всякого; конечно, под «всяким» я разумею лишь того, чей ум не самого заурядного сорта, при котором интеллект человека, подобно животному, способен познать одни только частности исключительно как таковые и в своей познавательной функции не выходит из тесного предела индивидов. Тот же, у кого способности по своему развитию хоть немного выше и кто хотя бы начинает только провидеть в отдельных существах их общее, их идеи, тот в известной степени проникнется и этим убеждением, и притом непосредственно, а следовательно, и с полной уверенностью. И действительно, только мелкие умы, ограниченные люди могут совершенно серьезно бояться смерти как своего уничтожения; людям же высокоодаренным подобные страхи остаются вполне чужды. Платон справедливо видел основу всей философии в познании учения об идеях, т. е. в уразумении общего в частном. Но у кого это непосредственно внушаемое самой природой убеждение должно было быть необычайно живо, так это у возвышенных творцов Вед Упанишад, которых даже трудно представить себе обыкновенными людьми; оно, это убеждение, так проникновенно звучит из их бесчисленных высказываний, что это непосредственное озарение их разума надо объяснять тем, что мудрецы-индусы, по времени находясь ближе к началу человеческого рода, понимали сущность вещей яснее и глубже, чем это в силах ослабевших поколений, οίοι νυν βροτοί είσιν***. Бесспорно, это объясняется и тем, что они видели пред собой природу Индии, в гораздо большей степени исполненную жизни, чем наша северная. Но и осуществление рефлексии, как ее последовательно развил великий дух Канта, ведет иной дорогой к тому же результату, ибо она учит нас, что наш интеллект, в котором
396
представляется этот быстро сменяющийся мир явлений, воспринимает не истинную конечную сущность вещей, а только ее явление, — потому,[282] прибавляю я со своей стороны, что он первоначально был предназначен только предъявлять мотивы нашей воле, т. е. помогать ей в стремлении к ее мелочным целям.
Но продолжим наше объективное и беспристрастное рассмотрение природы. Когда я убиваю какое-нибудь животное, будет ли это собака, птица, лягушка, даже только насекомое, то, собственно говоря, немыслимо, чтобы это существо или, лучше, та первоначальная сила, благодаря которой такое удивительное существо еще за минуту перед тем было в полном расцвете своей энергии и наслаждалось жизнью, — чтобы эта сила обратилась в ничто из-за моего злого или легкомысленного поступка. А с другой стороны, невозможно, чтобы миллионы самых различных животных, которые любое мгновение в бесконечном разнообразии вступают в жизнь, исполненные силы и стремительности, — невозможно, чтобы они до акта своего рождения были ничем и от ничего дошли до некоторого абсолютного начала. И вот, когда я вижу, что подобным образом одно существо исчезает у меня на глазах, хотя я и не узнаю куда, а другое существо появляется, хотя я и не узнаю откуда, и когда оба они при этом имеют еще один и тот же облик, одну и ту же сущность, один и тот же характер, но только не одну и ту же материю, которую они еще и при жизни своей беспрестанно сбрасывают с себя и обновляют, — то предположение, что то, что исчезает, и то, что является на его место, есть одно и то же существо, которое испытало лишь небольшое изменение, обновление формы своего бытия, и что, следовательно, смерть для рода — то же, что сон для индивида, это предположение, говорю я, поистине так напрашивается само собой, что невозможно не высказать его, если ум, будучи в ранней юности скован вдолбленным ему ложным основным воззрением, не убегает от этого предположения уже загодя с суеверным страхом. Противоположное же допущение: а именно, что рождение животного есть возникновение из ничего и, соответственно, смерть есть его абсолютное уничтожение, и если еще прибавить к тому, что человек, возникший также из ничего, обладает тем не менее бесконечным индивидуальным, и к тому же сознательным бессмертием, тогда как собака, обезьяна или слон в смерти полностью уничтожаются, — это допущение есть ведь нечто такое, против чего восстает здравый смысл и объявляет его совершенно абсурдным. Если, как это неоднократно повторялось, сравнение выводов какой-нибудь системы с показаниями здравого человеческого рассудка должно служить пробным камнем ее истинности, то я желал бы, чтобы приверженцы мировоззрения, унаследованного докантовскими эклектиками от Картезия, да и теперь еще господствующего среди значительного числа образованных людей в Европе, испытали его на указанном пробном камне.
Всегда и повсюду истинной эмблемой природы является круг, потому что он — схема возвращения: а последнее, действительно, — самая общая форма в природе, которой последняя пользуется везде, начиная от движения небесных созвездий и кончая смертью и возникновением органических существ, и которая одна, в беспрерывном потоке времени
397
и его содержимого, делает возможным некоторое устойчивое бытие, т. е. природу.
Вглядитесь осенью в маленький мир насекомых, посмотрите, как одно готовит себе ложе, для того чтобы заснуть долгим оцепенелым сном зимы, как другое заволакивается в паутину, для того чтобы перезимовать в виде куколки и затем весною проснуться молодым и более совершенным; как, наконец, большинство из них, думая найти себе покой в объятиях смерти, заботливо пристраивают удобный уголок для своего яйца, чтобы впоследствии выйти из него обновленными, — посмотрите на это, и вы убедитесь, что и здесь природа возвещает свое учение о бессмертии, которое должно показать нам, что между сном и смертью нет радикального различия, что смерть столь же безопасна для бытия, как и сон. Заботливость, с какою насекомое устраивает ячейку, или ямочку, или гнездышко, кладет туда яйцо вместе с кормом для личинки, которая появится оттуда будущей весною, а затем спокойно умирает, совершенно подобна той, с какою человек ввечеру приготовляет себе платье и завтрак для следующего утра, а затем спокойно идет спать; этого совершенно не могло бы быть, если бы насекомое, которое умирает осенью, не было, само по себе, в своей истинной сущности, столь же тождественно с насекомым, которое родится весною, как человек, идущий спать, тождествен с человеком, который встает поутру.
Если, руководствуясь этими соображениями, мы вернемся к самим себе и к нашему человеческому роду и устремим свой взор вперед, в отдаленное будущее; если мы попытаемся вообразить себе грядущие поколения с миллионами их индивидов в чужой оболочке их обычаев и одежд и вдруг спросим себя: «Откуда же придут все эти существа? Где они теперь? Где то обильное лоно чреватого мирами «ничто», которое пока еще скрывает их в себе, эти грядущие поколения?», — то на подобные вопросы не последует ли из улыбающихся уст такой правдивый ответ: «Где эти существа? Да где же иначе, как не там, где только и было и всегда будет реальное, в настоящем и его содержании, т. е. в тебе, ослепленный вопрошатель? В этом неведении собственного существа ты подобен листу на дереве, который осенью, увядая и опадая, сетует на свою гибель и не хочет искать утешения в надежде на свежую зелень, которая весною оденет дерево: нет, он ропщет и вопиет: «Это буду уж не я! Это будут совсем другие листья!» О, глупый лист! куда же ты думаешь уйти? И откуда могут явиться другие листья? Где то ничто, пасти которого ты боишься? Познай же твое собственное существо, ведь это именно оно столь исполнено жажды бытия, познай его во внутренней, таинственной, зиждительной силе дерева, которая, будучи едина и тождественна во всех поколениях листьев, никогда не бывает доступна возникновению и гибели». Но ведь:
Qualis
foliorum generatio, talis et h
Заснет ли та муха, которая теперь жужжит надо мною, под вечер, а утром снова будет жужжать, или же она вечером умрет и весною зажужжит другая муха, возникшая из ее яйца, это, в сущности, одно
398
и то же; поэтому и наше знание, которое представляет себе эти два явления совершенно различными, — не безусловно, а относительно: это — знание явления, а не вещи в себе. Муха возвратится поутру, муха возвратится весной, чем отличается для нее зима от ночи? В «Физиологии» Бурдаха (т. 1, § 275) мы читаем: «До десяти часов утра еще не видать ни одной cercaria ephemera (инфузории), — а в двенадцать часов ими кишит уже вся вода. Вечером они умирают, а на следующее утро появляются другие. Это наблюдал Ницш[283] в течение шести дней подряд».
Так все живет лишь одно мгновение и спешит навстречу смерти. Растение и насекомое умирают вместе с летом, животное и человек существуют немногие годы, — смерть косит неустанно. И тем не менее, словно бы участь мира была иная, в каждую минуту все находится на своем месте, все налицо, как будто бы ничего не умирало и не умирает. Каждый миг зеленеет и цветет растение, жужжит насекомое, сияют молодостью человек и животное, и каждое лето опять перед нами черешни, которые мы уже ели тысячу раз. И народы продолжают существовать, как бессмертные индивиды, хотя порою они и меняют свои имена; даже все их дела, стремления и страдания всегда одни и те же, несмотря на то что история и делает вид, будто она всякий раз рассказывает нечто другое: на самом деле история — это калейдоскоп, который при каждом повороте дает новую конфигурацию, хотя, в сущности, перед глазами у нас всегда проходит одно и то же. Таким образом, ничто не вторгается в наше сознание с такой неодолимой силой, как мысль, что возникновение и уничтожение не затрагивает действительной сущности вещей, что последняя для них недоступна, т. е. нетленна, и что поэтому все, желающее жизни, действительно непрерывно и без конца продолжает жить. И вот почему в каждый данный момент сполна находятся налицо все породы животных, от мухи и до слона. Они возобновлялись уже тысячи раз и при этом остались теми же. Они не знают о других, себе подобных существах, которые жили до них, которые будут жить после них: то, что существует всегда, — это род, и в сознании его нетленности и своего тождества с ним спокойно живут индивиды. Воля к жизни являет себя в бесконечном настоящем, ибо последнее — форма жизни рода, который поэтому никогда не стареет, а пребывает в вечной юности. Смерть для него — то же, что сон для индивида или что для глаз мигание, по отсутствию которого узнают индусских богов, когда они появляются в человеческом облике. Как с наступлением ночи мир исчезает, но при этом ни на одно мгновение не перестает существовать, так смерть как будто уносит людей и животных, но при этом столь же незыблемой остается их истинная сущность. А теперь представьте себе эту смену рождения и смерти в бесконечно быстром круговороте — и вы увидите перед собой устойчивую объективацию воли, неизменные идеи существ, непоколебимые, как радуга над водопадом. Это — бессмертие во времени. Благодаря ему, вопреки тысячелетиям смерти и тления, еще ничто не погибло, ни один атом материи и, еще того меньше, ни одна доля той внутренней сущности, которая является нам в качестве природы. Поэтому в каждое мгновение нам можно радостно воскликнуть: «Назло времени, смерти и тлению,
399
мы все еще вместе живем!» Разве того следовало бы исключить отсюда, кто хоть раз от всей души сказал об этой игре: «Я больше не хочу». Но здесь еще не место толковать об этом.
Зато здесь следует обратить внимание на то, что муки рождения и горечь смерти представляют собою два неизменных условия, при которых воля к жизни пребывает в своей объективации, т. е. благодаря которым наша сущность в себе, возвышаясь над потоком времени и смертью поколений, вкушает беспрерывное настоящее и наслаждается плодами утверждения воли к жизни. Это аналогично тому, что бодрствовать днем мы в состоянии только при том условии, чтобы каждую ночь проводить во сне, и это представляет собой комментарий, который дает нам природа к пониманию трудной загадки жизни и смерти. Ибо остановка животных функций — это сон; остановка функций органических — смерть.
Субстрат, наполненность, πλήρωμα*, или содержание настоящего, собственно говоря, во все времена одно и то же. Но именно время, эта форма и предел нашего интеллекта, — вот что делает невозможным непосредственное познание этого тождества. То, например, что благодаря времени будущего в данный момент еще нет, основано на иллюзии, которую мы разоблачаем, когда будущее уже наступит. То, что присущая нашему интеллекту столь важная форма влечет за собой подобную иллюзию, объясняется и оправдывается тем, что интеллект вышел из рук природы вовсе не для постижения сущности вещей, а только для восприятия мотивов, т. е. для услуг некоторому индивидуальному и временному проявлению воли**.
Если сопоставить все соображения, занимающие нас здесь, то понятен будет и истинный смысл парадоксальной теории элеатов, согласно которой нет ни возникновения, ни уничтожения, а целое незыблемо: «Pannenides et Melissos ortum et interitum tollebant, quoniam nihil moveri putabant»*** (Stob. Ecl., 1, 20). Точно так же это проливает свет и на прекрасное место у Эмпедокла, которое сохранил для нас Плутарх в книге «Adversus Colotem», с. 12:
400
Stulta,
et prolixas non admittentia curas
Pect
or a: qui sperant, existere posse, quod ante
Non
fuit, aut ullam rem pessum proUnus ire; —
Non
animo prudens h
Dum
vivunt (namque hoc vitai n
Sunt,
et Fortuna tum conilictantur utraque:
Ante
ortum nihil est h
Столь же достойно упоминания действительно замечательное и в контексте поражающее место в «Jacques le fataliste» Дидро: «un chateau immense, au frontispice duquel on lisait: “ Je n’appartiens a personne, et j’appartiens a tout le monde : vous y etiez avant que d’y entrer, vous y serez encore, quand vous en sortirez”»**.
Конечно, в том смысле, в каком человек при зачатии возникает из ничего, он и со смертью обращается в ничто. Близко узнать это ничто было бы весьма интересно, так как нужно лишь посредственное остроумие, для того чтобы видеть, что это эмпирическое ничто вовсе не абсолютно, т. е. не есть ничто во всех смыслах. К этому взгляду приводит уже и то эмпирическое наблюдение, что все свойства родителей возрождаются в детях, значит, они преодолели смерть. Но об этом я буду говорить в особой главе.
Нет большего контраста, чем тот, который существует между неудержимым потоком времени, увлекающим с собой все его содержание, и оцепенелой неподвижностью реально сущего, которое во все времена одно и то же. И если с этой точки зрения вполне объективно взглянуть на непосредственные события жизни, то для всякого станет понятным и зримым nunc stans*** в центре колеса времени. А глазам существа, несравненно более долговечного, которое одним взглядом могло бы окинуть человеческий род за все время его существования, вечная смена рождения и смерти предстала бы лишь как непрерывная вибрация, и он не увидел бы в этом вечно новое появление из ничего и переход в ничто: нет, подобно тому как быстро вращаемая искра принимает для нас вид неподвижного круга, подобно тому как быстро вибрирующее перо кажется неподвижным треугольником, а дрожащая струна — веретеном, так взорам этого существа род предстал бы как нечто сущее и неизменное, а смерть и рождение — как вибрации.
Мы до тех пор будем иметь ложное представление o неразрушимости для смерти нашего истинного существа, покуда не решимся изучить эту неразрушимость сначала на животных и отказаться от исключитель-
401
ного притязания для себя самих на особый ее вид под горделивым именем бессмертия. Именно это притязание и ограниченность того мировоззрения, из которого оно вытекает, являются единственной причиной того, что большинство людей упорно отказываются признать ту очевидную истину, что мы в существенном и главном представляем собой то же, что и животные, и приходят в ужас от каждого намека на это родство с последними. Между тем отрицание этой истины больше всего другого преграждает им путь к действительному пониманию неразрушимости нашего существа. Ибо когда ищут чего-нибудь на ложном пути, то теряют и верный путь и в конце концов не обретают ничего другого, кроме позднего разочарования. Итак, смелее! Отбросим предрассудки и по стопам природы двинемся вослед истине! Прежде всего, пусть зрелище каждого молодого животного говорит нам о никогда не стареющей жизни рода, который всякому новому индивиду, как отблеск своей вечной юности, дарит юность временную и выпускает его таким новым и свежим, точно мир появился лишь сегодня. Потребуем от себя честного ответа, действительно ли ласточка нынешней весны совершенно не та, которая летала первой весною мира; действительно ли за это время миллионы раз повторялось чудо создания из ничего для того, чтобы столько же раз сыграть на руку абсолютному уничтожению. Я знаю, если я стану серьезно уверять кого-нибудь, что кошка, которая в эту минуту играет во дворе, — это все та же самая кошка, которая три столетия назад выделывала те же шаловливые прыжки, то меня сочтут безумным; но я знаю и то, что гораздо безумнее полагать, будто нынешняя кошка совсем, совсем другая, нежели та, которая жила триста лет назад. Надо только внимательно и серьезно углубиться в созерцание одного из этих высших позвоночных, для того чтобы ясно понять, что это необъяснимое существо, как оно есть, взятое в целом, не может обратиться в ничто; с другой стороны, мы так же ясно видим, что оно преходяще. Это объясняется тем, что во всяком данном животном вечность его идеи (рода) находит свой отпечаток в конечности индивида. Ибо в известном смысле, разумеется, верно, что в каждом индивиде мы имеем каждый раз другое существо, именно в том смысле, который заключается в законе основания; которому подчинены также и время, и пространство, составляющие principium individuationis. Но в другом смысле это неверно, а именно в том, согласно которому реальность присуща только устойчивым формам вещей, идеям, и который для Платона был так ясен, что сделался его основной мыслью, центром его философии; и постижение этого смысла служило в глазах Платона критерием способности к философствованию вообще.
Подобно тому как брызги бушующего водопада сменяются с молниеносной быстротой, между тем как радуга, которую они несут на себе, непоколебимая в своем покое, остается чуждой этой беспрерывной смене, так и всякая идея, т. е. род живущих существ, остается совершенно недоступной для беспрестанной смены индивидов. А именно в идее, или роде, и лежат настоящие корни воли к жизни; именно в ней она находит свое выражение, и поэтому воля действительно заинтересована только в сохранении идеи. Например, львы, которые рождаются и умирают, — это все равно что брызги водопада; leonitas же, идея или форма льва,
402
подобна непоколебимой радуге над ними. Вот почему Платон только идеям, т. е. видам и родам, приписывал настоящее бытие, индивидам же — лишь беспрестанное возникновение и уничтожение. Из глубоко сокровенного сознания собственной нетленности и вытекает та уверенность и душевный покой, с какими любое животное, а равно и человеческий индивид беспечно проходит свой жизненный путь среди бесчисленных случайностей, которые каждое мгновение могут его уничтожить, и проходит, кроме того, по направлению к смерти: а в глазах его между тем светится покой рода, которого это грядущее уничтожение не касается и не интересует. Да и человеку этого покоя не могли бы дать шаткие и изменчивые догматы. Но, как я уже сказал, вид любого животного учит нас, что ядру жизни, воле, в ее проявлениях смерть не мешает. Какая непостижимая тайна кроется в каждом животном! Посмотрите на первое встречное из них, посмотрите на вашу собаку: как спокойно и благодушно стоит она перед вами! Многие тысячи собак должны были умереть, прежде чем для этой собаки настала очередь жить. Но гибель этих тысяч не нанесла урона идее собаки: ее нисколько не омрачила вся эта полоса смертей. И оттого собака стоит перед нами такая свежая и переполненная первобытной силы, как будто бы нынче ее первый день и никогда не может наступить для нее день последний, и в глазах ее светится ее неразрушимое начало, архе. Что же умирало здесь в продолжение тысячелетий? Не собака — вот она стоит цела и невредима, а только ее тень, ее отражение в характере нашей познавательной способности, приуроченной ко времени. И как только можно думать, будто погибает то, что существует во веки веков и наполняет собой все времена? Конечно, эмпирически это понятно: именно по мере того как смерть уничтожала одних индивидов, рождение создавало новых. Но это эмпирическое объяснение только кажется объяснением, на самом же деле оно вместо одной загадки ставит другую. Метафизическое понимание этого факта, хотя оно и приобретается не столь дешево, все-таки представляет собой единственно правильное и удовлетворительное.
Кант своим субъективным приемом выяснил ту великую,
хотя и отрицательную истину, что вещи в себе не может быть присуще время, так как
оно преформировано в нашем восприятии. А смерть — это временный конец
временного явления; поэтому стоит только отрешиться от формы времени, и сейчас
же не окажется больше никакого конца, и даже слово это потеряет всякий смысл. Я
же здесь на своем объективном пути стараюсь теперь выяснить положительную
сторону дела, а именно то, что вещь в себе остается неприкосновенной для
времени и того процесса, который возможен только в силу него, т. е. для
возникновения и исчезновения, и что явления, протекающие во времени, не могли
бы иметь даже своего беспрерывно исчезающего, близкого к ничто существования, если
бы в них не было зерна вечности. Конечно, вечность — это такое понятие,
в основе которого не лежит никакое созерцание, поэтому и содержание его чисто
отрицательно — оно означает именно вневременное бытие. Время же все-таки
— это лишь образ вечности, ὁ χρόνος
εἰχὼν τοῦ αι᾽ῶνος*,
как учил Плотин; оттого и наше временное бытие
403
— не что иное, как образ нашей внутренней сущности. Последняя должна находиться в вечности, потому Что время — это лишь форма нашего познания; между тем только в силу времени мы познаем, что наша сущность и сущность всех вещей преходяща, конечна и обречена на уничтожение.
Во второй книге я выяснил, что адекватная объектность воли как вещи в себе на каждой из ее ступеней представляет собой (платонову) идею; точно так же в третьей книге я показал, что идеи существ имеют своим коррелятом чистый субъект познания и что, следовательно, познание их возможно только в виде исключения, при особенно благоприятных условиях и не надолго. Для индивидуального же познания, т. е. во времени, идея представляется в форме вида; последний — это идея, благодаря вхождению в форму времени раздробившаяся на отдельные моменты. Поэтому вид — самая непосредственная объективация вещи в себе, т. е. воли к жизни. Сокровенная сущность любого животного, а равно и человека, лежит, таким образом, в виде: в нем, а не в индивиде находятся действительные корни столь мощно проявляющейся воли к жизни. Зато непосредственное сознание заложено исключительно в индивиде: вот почему он и мнит себя отличным от своего рода и в силу того боится смерти. Воля к жизни по отношению к индивиду проявляется как голод и страх смерти, а по отношению к виду — как половой инстинкт и страстная забота о потомстве. В соответствии с этим мы и видим, что природа, свободная от названной иллюзии индивида, так же печется о сохранении рода, как она равнодушна к гибели индивидов: последние всегда являются для нее только средством, а первый — целью. Отсюда — резкий контраст между ее скупостью при наделении задатками индивидов и ее расточительностью там, где дело идет о роде. Здесь часто от одного индивида в течение года происходят сотни тысяч зародышей и больше такой плодовитостью отличаются, например, деревья, рыбы, раки, термиты и др. Наоборот, где дело касается индивида, там каждой особи отмерено в обрез лишь столько сил и органов, что она может поддерживать свою жизнь только ценою непрерывного напряжения; оттого каждое отдельное животное, коль скоро оно искалечено или ослабело, по большей части обрекается этим на голодную смерть. А где для природы случайно появляется возможность произвести экономию и в крайнем случае обойтись без какого-нибудь органа, там она это делала даже в ущерб обычному порядку, поэтому, например, многие гусеницы лишены глаз, и эти бедные насекомые ощупью перебираются во тьме с листка на листок; при отсутствии у них щупальцев они производят это таким образом, что тремя четвертями своего тела повисают в воздухе, качаясь туда и сюда, пока не наткнутся на какой-нибудь устойчивый предмет, причем они часто пропускают свой в непосредственной близости лежащий корм. Но происходит это в силу lex parsimoniae naturæ*, и к формуле этого закона natura nihil facit supervacaneum** можно еще прибавить: et nihil largitur***. Та же самая
404
тенденция природы сказывается и в том, что чем пригоднее индивид, в силу своего возраста, к продолжению рода, тем сильнее действует в нем vis naturæ medicatrix*, и раны его поэтому легко заживают, и он легко исцеляется от болезней. Эта сила слабеет вместе со способностью к произведению потомства и совсем угасает после того, как пропадает последняя: ибо в глазах природы индивид теряет тогда всю свою цену.
Если мы теперь еще раз взглянем на лестницу живых существ и соответствующую ей градацию сознания, начиная с полипа и кончая человеком, то мы увидим, что хотя эта дивная пирамида, ввиду беспрерывной смерти индивидов, находится в постоянном колебании, но все-таки, благодаря связующей силе рождения, она, в родах существ, пребывает неизменной в бесконечности времен. Таким образом, если, как я показал выше, объективное, род, представляет собой начало неразрушимое, то субъективное, которое состоит лишь в самосознании существ, по-видимому, очень недолговечно и подвергается неустанному разрушению, для того чтобы непостижимым образом снова и снова возрождаться из ничего. Но поистине, надо быть очень близоруким, для того чтобы дать ввести себя в обман этой иллюзии и не понять, что, хотя форма пребывания во времени и присуща только объективному, все же субъективное, т. е. воля, которая живет и проявляется во всех существах мира, а с нею и субъект познания, в котором этот мир находит свое отражение, — что это субъективное также должно быть неразрушимо. В самом деле: долговечность объективного, или внешнего, может быть только проявлением неразрушимости субъективного, или внутреннего, ибо первое не может обладать ничем, чего оно не получило бы от последнего, но дело не обстоит таким образом, чтобы по существу и изначально существовало нечто объективное, явление, а затем, уже произвольным и акцидентальным образом, появлялось нечто субъективное, вещь в себе, самосознание. Ибо очевидно, что первое, как явление, предполагает нечто являющееся; как бытие для другого, оно предполагает бытие для себя; как объект, оно предполагает субъект, а не наоборот: ведь повсюду корни вещей должны лежать в том, что они представляют сами для себя, т. е. в субъективном, а не в объективном, т. е. в том, чем они являются лишь для других, в каком-то чужом сознании. Оттого в первой книге мы и пришли к выводу, что правильной исходной точкой для философии по существу и необходимо должна быть точка зрения субъективная, т. е. идеалистическая, подобно тому как мы нашли, что противоположная точка, исходящая от объективного, ведет к материализму. Но в сущности мы в гораздо большей степени составляем с миром единое, чем обычно полагают: внутренняя сущность мира — это наша воля; явление мира — это наше представление. Для того, кто мог бы ясно осознать это единство, исчезло бы различие между будущим существованием внешнего мира после его личной смерти и его собственным посмертным существованием: и то и другое предстало бы ему как нечто одно, и он смеялся бы над безумным заблуждением, которое могло их разъединять. Ибо понимание неразрушимости нашего существа совпадает с пониманием тождества макрокосма и микрокосма.
405
То, что я сказал здесь, можно пояснить путем своеобразного, осуществимого при помощи фантазии эксперимента, который можно бы назвать метафизическим. Именно: попробуйте живо представить себе то совсем недалекое время, когда вас не будет в живых. Вы себя мысленно исключаете, а мир продолжает существовать; но к собственному изумлению вашему, тотчас же оказывается, что и вы все же еще продолжаете существовать вместе с миром. Дело в том, что вы мнили, будто представляете себе мир без себя: но в сознании Я — непосредственно, только оно и опосредует мир, только для него последний и существует. Уничтожить этот центр всего бытия, это ядро всей реальности, и в то же время сохранить существование мира — вот мысль, которая возможна in abstracto, но которой нельзя осуществить. Наши усилия совершить это, наши попытки мыслить производное без первичного, обусловленное без условия, носимое без носителя каждый раз терпят почти такую же неудачу, как попытка вообразить равносторонний прямоугольный треугольник или уничтожение и возникновение материи и тому подобные невозможные вещи. Вместо задуманного у нас невольно рождается такое чувство, что мир не в меньшей степени находится в нас, чем мы в нем, и что источник любой реальности лежит в нашем внутреннем существе. И в результате нашего эксперимента получается следующее: время, когда меня не будет, объективно наступит, но субъективно оно никогда не может наступить. Поэтому даже возникает вопрос: насколько каждый из нас в глубине души действительно верит в такую вещь, которой он, собственно говоря, совершенно не в состоянии представить себе? Мало того, так как к этому чисто интеллектуальному эксперименту, который, однако, каждый с большей или меньшей отчетливостью уже проделал, присоединяется глубокое сознание неразрушимости нашей сущности в себе, то наша личная смерть не является ли, в конце концов, самой неправдоподобной для нас вещью в мире?
То глубокое убеждение в нашей неприкосновенности для разрушительной смерти, которое существует в глубине души у каждого, как об этом свидетельствуют и неизбежные тревоги совести при приближении смертного часа, — это убеждение безусловно связано с сознанием нашей изначальности и вечности; оттого Спиноза так выражает его «sentimus, experimurque nos æternos esse»*. Ибо непреходящим разумный человек может мыслить себя лишь постольку, поскольку он мыслит себя не имеющим начала, т. е. вечным, — вернее, безвременным. Тот же, кто считает себя происшедшим из ничего, должен думать, что он снова обратится в ничто: ибо думать, что прошла бесконечность, в течение которой нас не было, а затем начнется другая, в течение которой мы никогда не перестанем быть, — это чудовищная мысль. Поистине, наиболее прочным основанием для нашей неуничтожимости служит старое изречение: «ex nihilo nihil fit, et in nihilum nihil potest reverti»**. Очень хорошо поэтому говорит Теофраст Парацельс (Сочинения, Страсбург[284], 1603, т. 2, с. 6): «Душа во мне сделалась из чего-то, поэтому она
406
и не обратится в ничто, ибо она произошла из чего-то». Он указывает в этих словах истинное основание для бессмертия. Кто же считает рождение человека его абсолютным началом, для того смерть должна казаться его абсолютным концом. Ибо и смерть, и рождение представляют собой то, что они есть, в равной мере; следовательно, каждый может признавать себя бессмертным лишь постольку, поскольку он признает себя также и нерожденным, — и в равной мере. Что есть рождение, то, по своей сущности и смыслу, есть и смерть; это одна и та же линия, продолженная в двух направлениях. Если рождение действительно — возникновение из ничего, то и смерть — действительное уничтожение. На самом деле нетленность нашей истинной сущности можно мыслить только при условии ее вечности, и эта нетленность не имеет, таким образом, временного характера. Предположение, что человек создан из ничего, неизбежно ведет к предположению, что смерть — его абсолютный конец. В этом отношении, следовательно, Ветхий Завет вполне последователен: никакое бессмертие не совместимо с учением о творении из ничего. Новозаветное же христианство имеет учение о бессмертии, потому что оно проникнуто индуистским духом и поэтому, более чем вероятно, имеет индуистское происхождение, хотя и через посредничество Египта. Но с иудейским стволом, к которому в обетованной стране надо было привить эту индуистскую мудрость, последняя гармонирует так же, как свобода воли с ее сотворенностью, или как:
Humano
capiti cervicem pictor equinam
lungere
si veut…*
А это всегда дурно, когда не имеешь смелости быть
оригинальным до конца и создавать единое целое. Наоборот, брахманизм и буддизм
вполне последовательно учат, что кроме посмертного существования есть еще и
бытие до рождения и что наша жизнь служит искуплением за вину этого бытия. То,
как ясно сознают они эту необходимую последовательность, можно видеть из
следующего места из «Истории индусской философии» Кольбрука, в “Transact. of the Asiatic London Society”, vol., I, p. 577: “Against the system of the
Bhagavatas, which is but partially heretical, the objection upon which the
chief stress is laid by Vyasa is, that the soul would not be eternal, if it were
a production, and consequently had a beginning”**.
Далее, в “Doctrine of Buddhism Upham’a”,
с. 110, мы читаем: “The lot in hell of impious persons
called Deitty is the most severe: these are they, who discrediting the evidence
of Buddha, adhere to the heretical doctrine, that all living beings had their
beginning in the mother’s w
407
Тот, кто видит в своем существовании простую случайность, конечно, должен бояться, что он со смертью потеряет его. Напротив, тот, кто хотя бы в самых общих чертах усматривает, что его бытие зиждется на какой-то изначальной необходимости, не поверит, чтобы последняя, создавшая столько дивного на свете, была ограничена столь коротким промежутком времени: нет, он будет убежден, что она действует во все времена. Познает же свое бытие как необходимое тот, кто понимает, что до настоящего момента, в который он существует, прошло уже бесконечное время, а с ним и целая бесконечность изменений, — и он, несмотря на это, все же существует: другими словами, возможность всех состояний уже полностью исчерпана, но не смогла уничтожить его существование. Если бы он мог когда-нибудь не быть, то его не было бы уже теперь. Ибо бесконечность уже прошедшего времени вместе с исчерпанной в нем возможностью его событий ручается за то, что то, что существует, существует по необходимости. Поэтому каждый должен понимать себя как существо необходимое, т. е. такое, из правильной и исчерпывающей дефиниции которого, если бы только иметь ее, следовало бы его бытие. В этом порядке мыслей действительно заключается единственный имманентный, т. е. не покидающий почвы эмпирических данных, аргумент в пользу неразрушимости нашего истинного существа. А именно, последнему должно быть присуще бытие, так как оно оказывается независимым от всех состояний, какие только могут возникнуть в причинной цепи: ведь последние уже сделали свое дело, и тем не менее наше существование осталось так же непоколебимо для них, как непоколебим солнечный луч для урагана, который он пронизывает. Если бы время могло собственными силами привести нас к благополучному состоянию, то мы давно бы уже достигли его: ибо позади нас лежит бесконечность. Но и, с другой стороны, если бы оно могло привести нас к гибели, то нас давно уже не было на свете. Из того, что мы теперь существуем, следует, если тщательно вдуматься, то, что мы должны существовать всегда. Ибо мы сами — то существо, которое восприняло в себя время, для того чтобы заполнить его пустоту: оттого мы и наполняем собой все время — настоящее, прошедшее, будущее — в одинаковой мере, и для нас так же невозможно выпасть из бытия, как из пространства. В сущности, немыслимо, чтобы то, что в какой-нибудь данный момент существует во всей силе действительности, когда-либо превратилось в ничто и затем, в течение бесконечного времени, больше не существовало. Отсюда — христианское учение о возрождении всех вещей, отсюда — учение индусов о все новом и новом сотворении мира Брахмой, отсюда аналогичные догматы греческих философов. Великая тайна нашего бытия и небытия, для разгадки которой и придуманы были эти и все родственные им догматы, в конечном счете основывается на том, что то самое, что объективно составляет бесконечный ряд времени, субъективно есть точка, неделимое, вечно присутствующее настоящее: но кто поймет это? Лучше всего выяснил это Кант в своем бессмертном учении об идеальности времени и о всеединой реальности вещи в себе. Ибо из этого учения следует, что собственно существенная сторона вещей, человека, мира неизменно пребывает, незыблемая и твердая, в nunc stans и что смена явлений и событий представляет собой не что иное, как результат
408
нашего восприятия этого nunc stans с помощью формы нашего созерцания — времени. Поэтому, вместо того чтобы говорить людям: «Вы возникли в рождении, но вы бессмертны», — следовало бы сказать: «Вы не ничто», и надо разъяснить им это в смысле изречения, приписываемого Гермесу Трисмегисту: «quod enim est, erit semper»* (Stob. Ecl., 1, 43, 6). Если же это не удастся и робкое сердце опять затянет свою старую жалобную песнь: «Я вижу, как все существа путем рождения возникают из ничего и спустя короткое время снова обращаются в ничто: и мое бытие, пребывающее теперь в настоящем, скоро тоже уйдет в далекое прошлое, и я обращусь в ничто!», — то правильный ответ на эту жалобу будет такой: «Разве ты не существуешь? Разве ты не живешь в нем, в этом драгоценном настоящем, к которому вы все, дети времени, так жадно стремитесь, разве оно сейчас не твое, действительно твое? И разве ты понимаешь, как ты достиг его? Разве тебе известны те пути, которые привели тебя к нему, чтобы ты мог сознавать, будто смерть закроет их для тебя? Сама возможность какого бы то ни было существования твоего Я после разрушения твоего тела для тебя непостижима. Но разве она может быть для тебя более непостижима, чем твое нынешнее существование и то, как ты его достиг? Почему же ты сомневаешься, что те самые пути, которые открылись перед тобою для этого настоящего, будут открыты для тебя и ко всякому будущему?»
Несомненно, хотя все подобные соображения и могут пробудить в нас сознание, что в нас есть нечто, для смерти неразрушимое, но реально это сознание зародится у нас лишь в том случае, если мы поднимемся на такую точку зрения, с которой рождение не является началом нашего бытия. А уж отсюда следует, что то начало в нас, то, неразрушимость чего для смерти была здесь доказана, это, собственно, не индивид, тем более что последний, возникнув путем зачатия и имея в себе свойства отца и матери, служит только одним из представителей своего вида и, в качестве такого, может быть лишь конечным. В соответствии с этим индивид не имеет воспоминаний о своей жизни как до своего рождения, так после смерти он не может иметь воспоминаний о своей теперешней жизни. Но каждый полагает свое Я в сознании, и оттого оно, это Я, представляется нам связанным с индивидуальностью, вместе с которой, бесспорно, погибает все то, что свойственно личному Я как данному и что отличает его от других. И оттого продолжение нашей жизни без индивидуальности ничем не отличается в наших глазах от продолжения жизни остальных существ, и мы видим, как гибнет наше Я. Но кто таким образом приводит свое бытие в связь с тождеством сознания и поэтому требует для последнего бесконечной посмертной жизни, должен понимать, что в любом случае он может купить ее только ценою столь же бесконечной прошлой жизни до рождения. В самом деле: так как он не имеет никаких воспоминаний о жизни до рождения и его сознание начинается, следовательно, вместе с рождением, то последнее и должно ему казаться возникновением его бытия из ничего. Но это означает, что бесконечное время своего посмертного бытия он покупает ценою столь же бесконечного бытия до
409
рождения, а в таком случае счета сводятся для него без прибылей. Если же то существование, которого смерть не трогает, — иное, чем существование индивидуального сознания, то оно должно так же не зависеть и от рождения, как не зависит оно от смерти, и поэтому одинаково верны должны быть относительно него два выражения: «Я всегда буду» и «Я всегда был», — а это дает в результате вместо двух бесконечностей одну. Но, собственно, в термине «Я» заключается величайшее недоразумение, как это без лишних слов поймет каждый, кто припомнит содержание нашей второй книги и проведенное там различие между волеизъявляющей и познающей сторонами нашего существа. Смотря по тому, как я понимаю слово «Я», я могу сказать: «Смерть — мой полный конец» или же так: «Какую бесконечно малую часть мира я составляю, такой же малой частью моего истинного существа служит это мое личное явление». Но Я — темная точка сознания, подобно тому как на сетчатке слепа именно та точка, куда входит зрительный нерв, подобно тому как самый мозг совершенно нечувствителен, тело солнца темно и глаз видит все, только не себя. Наша познавательная способность целиком направлена вовне, соответственно тому, что она является продуктом такой мозговой функции, которая возникла в целях простого самосохранения, т. е. для того, чтобы находить пищу и ловить добычу. Оттого каждый и знает о себе лишь как об этом индивиде, каким он представляется во внешнем созерцании. А если бы он мог осознать, что он такое еще сверх того и кроме того, то он охотно отпустил бы свою индивидуальность на все четыре стороны, посмеялся бы над своей стойкой привязанностью к ней и сказал бы: «К чему горевать мне об утрате этой индивидуальности, когда я ношу в себе возможность бесчисленных индивидуальностей?» Он увидел бы, что хотя ему и не предстоит продолжение его индивидуальности, но это все равно, как если бы оно предстояло, ибо он носит в себе его полное возмещение. Кроме того, надо принять во внимание еще и следующее: индивидуальность большинства людей так жалка и ничтожна, что они поистине ничего в ней не теряют, и то, что может еще иметь у них некоторую ценность, есть общечеловеческое, а последнему неразрушимость вполне обеспечена. Да уж одна оцепенелая неизменность и существенная ограниченность любой индивидуальности как таковой, в случае ее бесконечного существования, наверно, своею монотонностью породила бы в конце концов такое пресыщение ею, что люди охотно согласились бы превратиться в ничто, лишь бы только избавиться от нее. Требовать бессмертия индивидуальности — это, собственно говоря, все равно что желать бесконечного повторения одной и той же ошибки. Ибо, в сущности, индивидуальность — это своего рода видовая ошибка, недосмотр, нечто такое, чему бы лучше не быть и отрешение от чего является даже настоящей целью жизни. Это находит свое подтверждение и в том, что большинство людей, даже, собственно говоря, все люди так созданы, что они не могли бы быть счастливы, в какой бы мир они ни попали. Если бы какой-нибудь мир освобождал их от нужды и скорби, то они в такой же мере обречены были бы на скуку; а если бы он устранял от них скуку, то они в такой же мере были бы подвержены нужде, скорби и страданиям. Таким образом, для счастья человека вовсе недостаточно, чтобы его переселили в «лучший мир»: нет, для этого
410
необходимо еще, чтобы произошла коренная перемена и в нем самом, чтобы он перестал быть тем, что он есть, и сделался тем, что он не есть. А для этого он прежде всего должен перестать быть тем, что он есть: этому требованию предварительно удовлетворяет смерть, моральная необходимость которой выясняется уже и с этой точки зрения. Перенестись в другой мир и переменить все свое существо — это, в действительности, одно и то же. На этом, в конечном счете, основывается и та зависимость объективного от субъективного, которую разъясняет идеализм нашей первой книги: именно здесь поэтому и лежит точка соприкосновения между трансцендентальной философией и этикой. Если принять это во внимание, то мы поймем, что пробуждение от сна жизни возможно только потому, что вместе с ним разрывается и вся его основная ткань; а последней служит самый орган его, интеллект со своими формами: если бы интеллект оставался цел и невредим, то ткань сновидения продолжала бы развиваться до бесконечности — так прочно сросся он с нею. То же, что собственно грезилось интеллекту, все-таки еще отлично от него, и только оно останется. Бояться же того, что со смертью погибает все, — это похоже на то, как если бы кто-нибудь думал во сне, что существуют одни только сонные грезы без грезящего человека. Но если в смерти чье-нибудь индивидуальное сознание находит себе конец, то было бы в таком случае хотя бы только желательно, чтобы оно опять возгорелось и продолжало существовать до бесконечности? Ведь его содержание, в большей своей части, а обыкновенно и сплошь представляет собой не что иное, как поток мелочных, земных, жалких мыслей и бесконечных забот, — дайте же и им, наконец, успокоиться! С глубоким смыслом писали древние на своих гробницах: securitati perpetuæ*, или: bonæ quieti**. Требовать же, как это часто делают, бессмертия индивидуального сознания для того, чтобы связать с ним потустороннюю награду или кару, — это значит только рассчитывать на соединимость добродетели и эгоизма. Но эгоизм и добродетель никогда не подадут друг другу руки: они составляют полную противоположность. Зато глубокую основу имеет под собою непосредственное убеждение, какое рождается у нас при созерцании благородных поступков, — убеждение, что никогда не иссякнет и не обратится в ничто тот дух любви, который побуждает одного щадить своих врагов, другого — с опасностью для жизни заступаться за человека, которого никогда раньше не видел.
Самый основательный ответ на вопрос о загробном существовании индивида дается в великом учении Канта об идеальности времени. Именно в данном пункте это учение особенно плодотворно и имеет большие последствия, потому что своими хотя и вполне теоретическими, но глубоко обоснованными взглядами оно заменяет догмы, которые и на том и на другом пути вели к абсурду, и сразу устраняет самый волнующий из всех метафизических вопросов. Начало, конец, продолжение — это такие понятия, которые заимствуют свой смысл единственно от времени и получают значение только при условии последнего. А вре-
411
мя между тем не имеет абсолютного бытия, не есть способ бытия в себе вещей, а представляет собой только ту форму, в которой мы познаем бытие и существо наше и всех вещей; отсюда следует, что это познание весьма несовершенно и ограничено одними явлениями. Таким образом, только к последним находят себе применение понятия прекращения и продолжения, а не к тому, что в них, этих явлениях, нам представляется, т. е. не к сущности в себе вещей, в применении к которой эти понятия, следовательно, больше не имеют смысла. Это видно уже из того, что на вопрос о загробной жизни индивида, который вытекает из названных понятий времени, не может быть дано никакого ответа, и каждое решение его в ту или другую сторону открыто серьезным возражениям. В самом деле: можно утверждать, что наша сущность в себе продолжается после смерти, так как ложно, чтобы она погибала; но можно утверждать и то, что наша сущность в себе погибает, так как ложно, чтобы она продолжалась; в сущности одинаково верно и то и другое. Здесь можно было бы, таким образом, построить нечто вроде антиномии, но она опиралась бы на одни только отрицания. В ней субъекту суждения мы приписывали бы два противоречиво противоположных предиката, но только потому, что весь класс последних неприменим к этому субъекту. Если же отказать ему в этих предикатах не вместе, а по отдельности, то создается видимость, будто в каждом случае доказывается контрадикторная противоположность предикату, который не признается за субъектом. Это объясняется тем, что здесь мы сравниваем несоизмеримые величины, поскольку данная проблема переносит нас в такую область, которая упраздняет время и все-таки вопрошает о временных определениях: следовательно, приписывать субъекту эти определения или отказывать ему в них — одинаково неверно. Другими словами, эта проблема трансцендентна. В этом смысле смерть остается тайной.
Но, сохраняя это различение между явлением и вещью в себе, можно утверждать, что человек, правда, как явление преходящ, но на его сущность в себе эта бренность не распространяется и последнее, таким образом, неразрушимо, хотя вследствие характерной для него элиминации временных понятий ему и нельзя приписать никакой продолжительности. Итак, мы приходим здесь к понятию такой неразрушимости, которая, однако, не имеет временного характера. Это понятие, полученное с помощью абстракции, мыслимо тоже только in abstracto; не подтверждаемое никаким созерцанием, оно, собственно, и не может быть доведено до отчетливой формы. Но, с другой стороны, здесь следует указать на то, что мы, в противоположность Канту, не отрицаем безусловно познаваемости вещи в себе, а знаем, что последнюю следует искать в воле. Правда, мы никогда не утверждали, что обладаем абсолютным и исчерпывающим знанием вещи в себе; напротив, мы очень хорошо видели, что невозможно познать что бы то ни было таким, каково оно безусловно в себе и для себя. Ибо коль скоро я познаю, я имею известное представление; последнее же именно потому, что оно — мое представление, не может быть тождественно с познаваемым предметом, а все еще должно быть рассматриваемо как явление данного предмета, переводя его из бытия для себя в бытие для других, воспроиз-
412
водит его в совершенно иной форме. Поэтому для познающего сознания, какими бы свойствами оно ни обладало, всегда могут существовать одни только явления. Это не вполне устраняется даже и тем, что объектом познания служит здесь мое собственное существо, ибо поскольку это существо попадает в поле моего познающего сознания, оно оказывается уже только отражением моего существа, чем-то от самого этого существа отличным, т. е. уже до известной степени — явлением. Таким образом, поскольку я — познающее и в своем собственном существе я имею только явление, а поскольку я сам — непосредственно это существо, постольку я не познающее. Ведь то, что познание — только производное свойство нашего существа и вызвано животной природой последнего, — это я достаточно выяснил во второй книге. Строго говоря, даже и волю свою мы всегда познаем только как явление, а не в качестве того, что она есть безусловно в себе и для себя. Но именно в той же второй книге, равно как и в сочинении «О воле в природе», я обстоятельно показал, что, когда, желая проникнуть в недра вещей, мы покидаем все то, что нам дано лишь косвенно и извне, и становимся лицом к лицу с тем единственным явлением, в сущность которого нам дано заглянуть непосредственно изнутри, то как нечто конечное, как ядро реальности мы безусловно находим в нем, этом явлении, волю; и оттого мы признаем последнюю вещью в себе, поскольку она уже не имеет своей формой пространства, хотя сохраняет еще форму времени, поскольку, следовательно, она раскрывается перед нами только в самом непосредственном проявлении своем, — и признаем к тому же с той оговоркой, что это познание вещи в себе еще не есть исчерпывающее и вполне адекватное. В этом смысле, следовательно, мы и здесь сохраняем понятие воли, как вещи в себе.
К человеку как явлению во времени понятие конечности бесспорно, применимо, и эмпирическое познание откровенно указывает на смерть как на конец этого временного существования. Конец личности так же реален, как реально было ее начало, и в том самом смысле, в каком нас не было до рождения, нас не будет и после смерти. Но при этом смерть не может уничтожить большего, чем дано было рождением, следовательно, не может она уничтожить того, благодаря чему только и стало возможным самое рождение. В этом смысле natus et denatus* — прекрасное выражение. Но вся совокупность эмпирического знания предлагает нам одни явления: только на последние поэтому распространяются процессы возникновения и уничтожения во времени, а не на само являющееся, не на сущность в себе. Для последней вовсе не существует обусловливаемой мозгом противоположности между возникновением и уничтожением, здесь эта противоположность теряет смысл и значение. Сущность в себе, таким образом, остается недоступной для конца во времени какого бы то ни было временного явления и постоянно удерживает за собой такое бытие, к которому неприменимы понятия начала, конца и продолжения. А подобное бытие, насколько мы можем его проследить, — это, в каждом являющемся существе, его воля; так это и в человеке. Сознание же состоит в познании, а последнее в качестве
413
деятельности мозга, т. е. функции организма, относится, как я уже убедительно показал, к простому явлению и поэтому кончается вместе с ним: неразрушима одна только воля, чьим созданием, или, вернее, отображением было тело. Строгое различение воли и познания, с утверждением примата первой, — эта основная черта моей философии, — вот единственный ключ к разрешению того противоречия, которое принимает различные формы и каждый раз с новой силой возникает даже в самом элементарном сознании, того противоречия, что смерть — наш конец, а мы между тем все-таки должны быть вечны и неразрушимы: спинозовское «sentimus, experimurque nos aeternos esse»*. Ошибка всех философов заключалась в том, что метафизическое, неразрушимое, вечное в человеке они полагали в интеллекте, между тем как на самом деле оно находится исключительно в воле, которая от первого совершенно отлична и одна только первоначальна. Как я самым основательным образом показал во второй книге, интеллект — феномен производный и обусловленный мозгом, и поэтому он вместе с ним начинается и кончается. Одна только воля — обусловливающее начало, зерно всего явления, свободное от форм последнего, к которым относится и время, а следовательно, и неразрушимое. Со смертью, таким образом, погибает сознание, но не то, что породило и поддерживало это сознание: гаснет жизнь, но остается принцип жизни, который в ней проявлялся. Оттого каждому и подсказывает несомненное чувство, что в нем есть нечто безусловно непреходящее и неразрушимое; даже свежесть и живость наших воспоминаний из очень далекого времени, из раннего детства, свидетельствуют о том, что в нас есть нечто такое, что не уносится потоком времени, не стареет, а пребывает неизменным. Но что такое это непреходящее, — этого не могли себе ясно представить. Это не сознание, как и не тело, в котором очевидно пребывает сознание. Это скорее то, на чем зиждется само тело вместе с сознанием, т. е. именно то, что, попадая в поле сознания, предстает как воля. Выйти за пределы этого непосредственного проявления воли мы, разумеется, не можем, потому что нам не дано перешагнуть за предел сознания; и поэтому вопрос о том, что такое это неразрушимое в нас начало, поскольку оно не попадает в сознание, т. е. что оно такое само по себе и безусловно, — этот вопрос должен остаться без ответа.
В пределах явления и посредством его форм, времени и пространства, как prinapium individuationis, дело, по-видимому, обстоит так, что человеческий индивид погибает, а человеческий род неизменно пребывает и живет. Но во внутреннем существе вещей, которое остается свободным от этих форм, отпадает и все различие между индивидом и родом, и оба составляют непосредственно одно. Вся воля к жизни заключена в индивиде, как она заключена и в роде, и потому продолжение жизни рода — это только образ неразрушимости индивида.
Таким образом, бесконечно важное понимание неразрушимости нашей истинной сущности для смерти целиком основывается на различии между явлением и вещью в себе. Поэтому я представлю это различие
414
наиболее наглядно, пояснив его теперь на примере того, что противоположно смерти, т. е. на примере возникновения животных существ — рождении. Ибо этот процесс такой же загадочный, как и смерть, самым непосредственным образом рисует у нас перед глазами основное различие между явлением и сущностью в себе вещей, т. е. между миром как представлением и миром как волей, а равно и полную разнородность, существующую между законами обоих этих миров. Акт рождения представляется нам в двояком виде: во-первых, для самосознания, единственным предметом которого, как я уже часто говорил, служит воля со всеми своими состояниями; во-вторых, для сознания других вещей, т. е. для мира представления, или эмпирической реальности вещей. Со стороны воли, т. е. изнутри, субъективно, для самосознания, названный акт представляется как самое непосредственное и полное удовлетворение воли, т. е. как сладострастие. Со стороны же представления, т. е. извне, объективно, для сознания других вещей, он — уток искуснейшей ткани, основа невыразимо сложного животного организма, который после этого нуждается еще только в дальнейшем развитии, для того чтобы предстать перед нашими изумленными глазами. Этот организм, бесконечную сложность и совершенство которого знает лишь тот, кто изучал анатомию, со стороны представления нельзя понимать и мыслить иначе, как систему, продуманно воплощенную в наиболее целесообразном виде и осуществленную с чрезвычайным искусством и точностью как труднейший продукт самых глубоких размышлений; между тем со стороны воли, в самосознании, мы видим, что этот организм произошел в результате некоего акта, составляющего прямую противоположность всякому размышлению, — в результате слепого и дикого порыва, необыкновенно сладострастного ощущения. Эта противоположность находится в тесном родстве с указанным выше бесконечным контрастом между абсолютной легкостью, с какой природа создает свои творения и в своей удивительной беспечности, нисколько не задумываясь, обрекает свои детища на гибель, и непостижимо искусной и продуманной конструкцией этих самых творений, судя по которой создать их было бесконечно трудно, так что необходимо, по-видимому, со всей мыслимой тщательностью печься об их сохранении, тогда как на самом деле мы видим совершенно иное. Теперь, когда путем этих, правда весьма необычных, соображений мы крайне резко сопоставили обе разнородные грани мира и как бы охватили их одной ладонью и сжали, нам не следует ни на минуту разъединять их, для того чтобы убедиться в полной неприменимости законов явления, или мира как представления, к миру воли или вещей в себе; тогда мы лучше поймем следующее: в то время как на стороне представления, т. е. в мире феноменов, нам мерещится то возникновение из ничего, то совершенное уничтожение возникшего, на другой стороне, в сфере вещи в себе, перед нами находится такая сущность, в применении к которой вовсе не имеют смысла понятия возникновения и уничтожения. Ибо только что, углубившись в самый корень мира, где в самосознании встречаются лицом к лицу явление и сущность в себе, мы как бы осязаемо поняли, что они безусловно несоизмеримы между собой, что весь способ бытия одного, со всеми основными законами этого бытия, для другой не значит ничего и даже
415
меньше, чем ничего. Я думаю, что это последнее соображение лишь немногие поймут хорошо и что всем, кто его не поймет, оно покажется неприятным и даже предосудительным; но из-за этого я не поступлюсь ничем, что может служить пояснением моей основной мысли.
В начале этой главы я указал на то, что великая привязанность к жизни или, вернее, страх смерти нисколько не вытекает из познания, — в последнем случае он, этот страх, был бы результатом сознательного убеждения в ценности жизни. Я выяснил, что страх смерти имеет свои корни непосредственно в воле и возникает из ее первоначального естества, когда ей чуждо всякое познание, и она является поэтому слепой волей к жизни. Как в жизнь нас завлекло совершенно иллюзорное влечение сладострастия, так нас удерживает в ней несомненно такой же иллюзорный страх смерти. И это влечение, и этот страх непосредственно вытекают из воли, которая сама по себе чужда познанию. Если бы, наоборот, человек был существом исключительно познающим, то смерть была бы для него не только безразлична, но и прямо желанна. Между тем соображение, к которому мы здесь пришли, учит нас, что смерть поражает только наше познающее сознание, между тем как воля, поскольку она — та вещь в себе, которая лежит в основе каждого индивидуального явления, — воля свободна от всего, что основано на определенности во времени, т. е. она непреходяща. Ее стремление к существованию и проявлению, из которого возникает мир, всегда находит себе удовлетворение, ибо мир сопровождает ее, как тень — свое тело: ведь он не что иное, как видимое проявление ее существа. А если воля в нас все-таки боится смерти, то это происходит оттого, что познание показывает ей здесь ее сущность только в индивидуальном явлении; отсюда и возникает для воли иллюзия, будто вместе с этим явлением погибает и она, подобно тому как мне кажется, что если разобьют зеркало, в которое я смотрюсь, то вместе с ним рушится и мое изображение в нем: это-то и наполняет волю отвращением, как противное ее изначальному естеству, представляющему собой слепой порыв к бытию. Отсюда следует, что то начало в нас, которое одно способно бояться смерти и действительно одно и боится ее, т. е. воля, смерти не подлежит; а то, что смерти подвластно и действительно погибает, — это по самой природе своей не способно испытывать никакого страха, как и вообще никаких желаний или аффектов, и поэтому равнодушно к бытию или небытию; это — именно простой субъект познания, интеллект, существование которого заключается в его отношении к миру представления, т. е. к миру объективному, коррелятом которого он служит и с существованием которого его собственное бытие в действительности составляет одно. Если, таким образом, индивидуальное сознание и не переживает смерти, то ее переживает то, что одно только и противится ей: воля. Отсюда объясняется и то противоречие, что, хотя философы, исходящие из познания, всегда очень основательно доказывали, что смерть не есть зло, все-таки перед лицом страха смерти все эти доводы оставались неубедительны именно потому, что корни его лежат не в познании, а исключительно в воле. Если все религии и философские системы сулят вечную награду за одни только добродетели воли или сердца, а не за достоинства интеллекта или головы, то это же вытекает именно из того, что неразрушимое начало в нас — воля, а не интеллект.
416
Разъяснению этой мысли может послужить и следующее. Природа воли, составляющей нашу сущность в себе, проста: воля только хочет и не познает. Субъект же познания — явление вторичное, проистекающее из объективации воли: это — объединяющий пункт чувствительности нервной системы, как бы фокус, в котором собираются лучи деятельности всех частей мозга. И поэтому вместе с мозгом должен погибнуть и он. В самосознании он, как только познающее начало, противостоит воле в качестве ее зрителя, и хотя он произошел из нее, все-таки он познает в ней нечто от себя отличное, чуждое, — познает вследствие этого только эмпирически, во времени, по частям, в ее последовательных возбуждениях и актах, да и о решениях ее он узнает лишь a posteriori и часто весьма косвенным путем. Этим и объясняется, почему наше собственное существо представляет для нас, т. е. для нашего интеллекта, загадку и почему индивид смотрит на себя как на нечто возникшее и преходящее, хотя его сущность сама по себе безвременна, т. е. вечна. Как воля не познает, так, наоборот, интеллект или субъект познания — начало исключительно познающее, чуждое каких бы то ни было волений. Физически это выражается в том, что, как я уже упомянул во второй книге, по Бита, различные аффекты непосредственно потрясают все части организма и нарушают их функции, за исключением мозга, который они в крайнем случае могут поражать лишь косвенно, т. е. лишь в результате именно этих функциональных нарушений в других органах. («De la vie et de la mort», art. 6, § 2.) а отсюда следует, что субъект познания, .сам по себе и как таковой, ни в чем не может принимать участия или быть заинтересованным, и для него безразлично существование или несуществование чего бы то ни было на свете, и даже свое собственное. Почему же это безучастное существо должно быть бессмертным? Оно кончается вместе с временным явлением воли, т. е. с индивидом, как вместе с ним оно и началось. Это — фонарь, который гасят, как только он сослужил свою службу. Интеллект, как и наглядный мир, в нем одном существующий, — простое явление; но конечность их, интеллекта и мира, не касается того, явлением чего они служат. Интеллект — функция нервной системы головного мозга; но эта система, как и остальное тело, — объектность воли. Поэтому интеллект коренится в соматической жизни организма, но последний сам укоренен в воле. Следовательно, на органическое тело можно в известном смысле смотреть как на промежуточное звено между волей и интеллектом, хотя на самом деле оно не что иное, как сама воля, принявшая в созерцании интеллекта пространственный образ. Смерть и рождение — это постоянное обновление сознания воли, которая сама по себе не имеет ни начала, ни конца и которая одна является как бы субстанцией бытия (но каждое такое обновление влечет за собой и новую возможность отрицания воли к жизни). Сознание — это жизнь субъекта познавания, или мозга, а смерть — конец этого субъекта. Поэтому сознание конечно, всегда ново и каждый раз начинается сначала. Пребывает неизменной одна только воля, но только она одна и заинтересована в этой неизменности, потому что она — воля к жизни. Познающий субъект сам по себе ни в чем не заинтересован. Но в Я объединяются между собой и эта воля, и этот субъект. В каждом животном существе воля приобрела себе
417
интеллект, и он для нее — свет, при котором она осуществляет свои цели. Кстати замечу, что страх смерти отчасти имеет свое основание, вероятно, и в том, что индивидуальная воля неохотно решается на разлуку со своим интеллектом, который в общем течении природы выпал на ее долю, со своим проводником и стражем, без которого она чувствует себя беспомощной и слепой.
Изложенные мною взгляды находят себе подтверждение и в повседневном моральном опыте; он учит нас, что реальна только воля, между тем как объекты ее, в качестве обусловленных познанием, представляют собой только явление, только пар и пену, подобно тому вину, которым потчевал Мефистофель в погребке Ауэрбаха: после каждого чувственного наслаждения и мы говорим: «А кажется, что пил вино»15.
Ужасы смерти главным образом основаны на иллюзии, что с нею исчезает Я, а мир остается. На самом же деле верно скорее противоположное: исчезает мир, а сокровенное ядро Я, носитель и создатель того субъекта, в чьем представлении мир только и имел свое существование, остается. Вместе с мозгом погибает интеллект, а с ним и объективный мир, его простое представление. То, что в других мозгах, как и прежде, будет жить и волноваться подобный же мир, — это безразлично для исчезающего интеллекта. Если бы поэтому истинная реальность лежала не в воле и если бы за границы смерти простиралось не моральное бытие, то ввиду того, что интеллект, а с ним и его мир угасает, сущность вещей вообще была бы не чем иным, как бесконечной сменой мимолетных и мрачных сновидений, без всякой взаимной связи: ибо неизменное пребывание лишенной познания природы состоит только в представлении времени у природы познающей. И следовательно, все во всем тогда был бы некий мировой дух, погруженный без цели и смысла в большей частью мрачные и тягостные грезы.
И поэтому когда индивид чувствует страх смерти, то перед нами, собственно говоря, раскрывается странное и даже смеха достойное зрелище: владыка миров, который все наполняет своим существом и благодаря которому только и существует все, что есть, — этот владыка трепещет и боится погибнуть, погрузиться в бездну вечного ничто, между тем как в действительности все полно им и нет такого места, где бы его не было, нет существа, в котором бы он не жил, ибо не бытие является его носителем, а он является носителем бытия. И тем не менее это он трепещет в индивиде, который подвержен страху смерти, ибо он одержим той рождаемой principium individuationis иллюзией, будто его жизнь ограничена жизнью умирающего теперь существа: эта иллюзия — порождение той тяжкой грезы, в которую он погружен, как воля к жизни. Но можно было бы сказать умирающему: «Ты перестанешь быть чем-то таким, чем лучше было бы тебе никогда и не становиться».
Если в человеке не наступило отрицание воли к жизни, то смерть оставляет после него зародыш и зерно совершенно иного бытия, в котором возрождается новый индивид — таким свежим и первозданным, что он сам предается о себе удивленному размышлению. Отсюда мечтательные и задумчивые порывы благородных юношей — в ту пору, когда это свежее сознание достигает своего расцвета. То, что для индивида — сон,
418
для воли как вещи в себе — смерть. Воля не выдержала бы, не могла бы в течение целой бесконечности переносить все ту же сутолоку и страдания без истинного выигрыша для себя, если бы у нее сохранялись при этом воспоминание и индивидуальность. Она отбрасывает их, в этом — ее Лета, и, освеженная этим сном смерти, наделенная другим интеллектом, она опять является в виде нового существа:
И
к новым дням и новым побережьям
Зовет
зеркальная морская гладь16.
Как утверждающая себя воля к жизни, человек имеет корни своего бытия в роде. Вследствие этого смерть — только утрата одной индивидуальности и облечение в другую, т. е. изменение индивидуальности, совершаемое под исключительным руководством собственной воли человека. Ибо только в последней лежит та вечная сила, которая могла дать ему бытие и Я, но которая, в силу его свойств, не в состоянии удержать их за ним. Ведь смерть — это démenti*, которое поддерживает сущность каждого (essentia) в его притязании на существование (existentia); это — проявление противоречия, заложенного во всяком индивидуальном бытии:
Нет
в мире вещи, стоящей пощады,
Творенье
не годится никуда17.
И все-таки в распоряжении этой самой силы, т. е. воли, находится бесконечное число подобных же существований с их Я, которые, однако, будут столь же ничтожны и преходящи. А так как всякое Я имеет свое особое сознание, то для последнего, как такового, это бесконечное число других Я ничем не отличается от Я единственного. С этой точки зрения для меня представляется не случайностью, что ævum, αἰών** одновременно означает и отдельный человеческий век, и бесконечное время: уже отсюда можно видеть, хоть и неясно, что сами по себе и в своем конечном основании и то и другое составляют одно и что поэтому, собственно говоря, безразлично, существую ли я только в течение отмеренного мне века или же в бесконечности времени.
Но, разумеется, все то, о чем я выше говорил, мы не можем представить себе совершенно без помощи понятия времени, а между тем оно должно быть устранено, когда речь идет о вещи в себе. Но одним из неизменных ограничений нашего интеллекта является то, что он никогда не может вполне отрешиться от этой первой и самой непосредственной формы всех своих представлений — времени — и действовать без нее. Оттого мы бесспорно приходим здесь к своего рода метемпсихозу, хотя и с той значительной разницей, что она распространяется не на всю φυχή*** (ведь познающее существо остается неизменным), а только на волю, благодаря чему и отпадает здесь много несообразностей, свойственных учению о метемпсихозе; кроме того, от обычной веры в метемп-
419
сихоз настоящая отличается сознанием того, что форма времени является здесь лишь в качестве неизбежного приспособления к ограниченности нашего интеллекта. Если же мы призовем на помощь тот факт, разъясняемый ниже, в 43-й главе, что характер, т. е. воля, наследуется человеком от отца, а интеллект — от матери, то с общим строем наших взглядов вполне совпадет то, что воля человека, сама по себе индивидуальная, в смерти разлучается с интеллектом, полученным от матери при зачатии, а затем, согласно своим вновь модифицированным свойствам, следуя нити гармонирующего с последними и безусловно необходимого миропорядка, получает в новом зачатии новый интеллект, благодаря которому она становится новым существом, не сохраняющим никакого воспоминания о своем прежнем бытии, ибо интеллект, который один только и обладает способностью воспоминаний, представляет собою смертную часть, или форму, между тем как воля — часть вечная, субстанция; вот почему для характеристики этого учения более подходит слово палингенесия, чем метемпсихоз. Эти постоянные возрождения образуют чреду жизненных снов, которые грезятся воле, в себе неразрушимой, пока она, умудренная и исправленная такой обильной сменой разнородного познания в постоянно новых и новых формах, не уничтожит сама себя.
С этим взглядом на вещи согласуется и подлинное, так сказать, эзотерическое учение буддизма, как его характеризуют новейшие исследования. Оно исповедует не метемпсихоз, а своеобразную, коренящуюся в моральной основе палингенесию, которую оно развивает с большим глубокомыслием, как это можно видеть из данного у Spence Hardy, в «Manual of Buddhism», p. 394—396, высокопоучительного и интересного изложения этой религиозной теории (ср. с. 429, 440 и 445 той же книги); подтверждение этому можно найти в «Prabodh Chandro Daya» Taylor’а, London, 1812, p. 35; а также у Sangermano, «Burmese Empire», p. 6; как и в «Asiatic researches», vol. 6, p. 179 и vol. 9, p. 256. И очень полезный немецкий компендий буддизма, составленный Кёппеном, тоже содержит верные сведения по этому пункту. Однако для большинства буддистов это учение слишком тонко; поэтому для них, в виде удобопонятного суррогата, проповедуется именно метемпсихоз. Впрочем, не следует упускать из виду, что даже эмпирические данные свидетельствуют в пользу такого рода палингенесии. Есть фактическая связь между рождением вновь появляющихся существ и смертью существ отживших: она сказывается именно в той большой плодовитости человеческого рода, которая возникает вслед за опустошительными эпидемиями. Когда в XIV веке «черная смерть» обезлюдила большую часть Старого Света, то в человечестве возникла совершенно необычайная плодовитость и двойни сделались весьма часты; в высшей степени странно было при этом то обстоятельство, что ни один из родившихся за это время детей не получил сполна всей нормы зубов, — это значит, что напрягавшаяся природа поскупилась на детали. Об этом повествует Ф. Шнуррер в своей «Хронике эпидемий», 1825 г. Точно так же и Каспер в сочинении «О вероятной продолжительности человеческой жизни», 1835 г., подтверждает то основное положение, что самое решительное влияние на долговечность и смертность в каждой данной человеческой
420
популяции имеет число рождений в нем, которое всегда идет рука об руку со смертностью, так что смертные случаи и случаи рождения всегда и повсюду увеличиваются и уменьшаются в одинаковой пропорции; Каспер показывает несомненность этого, используя массу фактов, собранных из многих стран и притом из разных частей последних. И тем не менее не может существовать физической причинной связи между моей преждевременной смертью и плодовитостью чужого брачного ложа, или наоборот. Итак, метафизическое выступает здесь самым неоспоримым и поразительным образом, как непосредственное основание для объяснения феноменов физических. Хотя каждое новорожденное существо и вступает в новое бытие свежим и радостным и наслаждается им как подарком, но на самом деле здесь нет и не может быть никакого подарка. Его свежее существование куплено ценою старости и смерти существа отжившего, которое хотя и погибло, но содержало в себе неразрушимый зародыш, из коего и возникло это новое существо: оба они — одно существо. Обнаружить мост между ними — это было бы, конечно, решением великой загадки.
Высказанную здесь великую истину никогда всецело не отвергали, хотя и не могли выявить ее точный и правильный смысл; последнее становится возможным лишь благодаря учению о примате и метафизической сущности воли и о производной, чисто органической природе интеллекта. Мы видим именно, что учение о метемпсихозе, которое ведет свое начало от самой древней и самой благородной эпохи человеческого рода, всегда было распространено на земле и было верой огромного большинства людей и даже догматом всех религий, за исключением иудейской и двух ее отпрысков; но тоньше всего и ближе всего к истине оно, как я уже упомянул, в буддизме. Итак, если христиане уповают на свидание с ближними в ином мире, где люди встретятся между собой во всей полноте своей личности и тотчас же узнают друг друга, то в остальных религиях это свидание происходит уже и теперь, но только incognito: а именно в кругообороте рождений и в силу метемпсихоза или палингенесии те лица, которые стоят ныне в близком общении или соприкосновении с нами, и возродятся вместе с нами при ближайшем рождении и будут иметь те же или, по крайней мере, аналогичные отношения и чувства к нам, что и теперь, — все равно, дружественные или враждебные (см. «Manual of Buddhism», Spence Hardy, p. 162). Конечно, последующее узнавание себя и других ограничивается здесь смутным чувством, каким-то воспоминанием, которое никогда не может быть доведено до полной отчетливости и указывает на бесконечную даль; только сам Будда имеет то преимущество, что он ясно помнит свое прежнее рождение и прежние рождения других, как это описано в Джатаках18. И поистине, когда в счастливые минуты мы чисто объективными глазами смотрим на дела и побуждения людей в их реальности, то невольно возникает у нас интуитивное убеждение, что они не только, согласно идеям (платоновым), всегда суть и будут одним и тем же, но что и современное поколение, в своем подлинном ядре, непосредственно и субстанциально тождественно с каждым из предшествовавших ему поколений. Вопрос сводится лишь к тому, в чем состоит это ядро: ответ, который дает на это мое учение, известен. Интуитивное
421
убеждение, о котором я только что
упомянул, вероятно, возникает у нас оттого, что в действенности увеличительных
стекол времени и пространства, представляющих все во множественном виде,
возникает временный сбой. По поводу универсальности веры в метемпсихоз Обри
в своей прекрасной книге «Du Nirvana
Indien», p. 13 справедливо говорит: «Cette vieille croyance a fait le tour du monde, et était tellement répandue
dans la haute antiqueté, qu’un docte Anglican l’avait jugée sans
père, sans mère, et sans généalogie»* (Ths. Burnet, dans Beausobre, «Hist, du
Manicheisme», 2, p. 391). Учение, встречающееся уже в Ведах и во всех
священных книгах Индии, метемпсихоз, как известно, представляет собой ядро
брахманизма и буддизма; поэтому он еще и теперь исповедуется во всей неисламизированной
Азии, т. е. среди большей половины человеческого рода; он имеет там силу
глубочайшего убеждения и оказывает невероятно мощное воздействие на
практическую жизнь. Точно так же была она и верой египтян, от которых ее с
воодушевлением переняли Орфей, Пифагор и Платон; в особенности же
придерживались ее пифагорейцы. А то, что ее исповедовали и в греческих
мистериях, — это неоспоримо вытекает из девятой книги «Законов» Платона (р. 38
et 42, ed. Bip.). Немезий говорит даже: «C
421
И я замечал, что она сейчас же оказывает непосредственно убедительное влияние на каждого, кто только впервые услышит о ней. Послушайте, например, как серьезно высказывается о ней даже Лессинг в последних семи параграфах своего «Воспитания человеческого рода». И Лихтенберг в своей автохарактеристике говорит: «Я не могу отрешиться от мысли, что, прежде чем родиться, я умер». Даже столь чрезмерно эмпирически ориентированный Юм говорит в своем скептическом трактате о бессмертии, p. 23: «The metempsychosis is therefore the only system of this kind that philosophy can hearken to»*. То, что противостоит этому верованию, распространенному во всем человечестве и убедительному как для мудрецов, так и для народов, — это иудаизм и возникшие из него две религии: они учат, что человек сотворен из ничего, и, таким образом, ставят перед ним трудную задачу связать с этим происхождением из ничего бесконечную жизнь a parte post. Действительно, этим религиям удалось огнем и мечом изгнать из Европы и некоторой части Азии это утешительное первоверование человечества, но еще вопрос, на какой срок. А то, как трудно было с ним справиться, показывает древнейшая история церкви: большинство еретиков, например симонисты, василидианцы, валентинианцы, маркиониты, гностики и манихеи, были приверженцами именно этой древней веры. Отчасти даже сами иудеи были ей подвержены, как об этом свидетельствуют Тертуллиан и Юстин (в своих «Диалогах»). В Талмуде рассказывается, что душа Авеля переселилась в тело Сифа, а потом — Моисея. Даже известное место из Библии (Мф. 16,13–14) приобретает разумный смысл лишь в том случае, если предположить, что оно выражает догмат метемпсихоза. Правда, Лука, у которого тоже встречается это место (9, 18–20), прибавляет: ὂτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη**, т. е. приписывает евреям предположение, что такой древний пророк может еще воскреснуть во всей полноте своего существа, — что представляет собой очевидный абсурд, так как они ведь знают, что пророк вот уже шесть или семь столетий как лежит в могиле и, следовательно, давным-давно обратился в прах. В христианстве место учения о переселении душ и об искуплении последним всех грехов, содеянных в прежней жизни, заняло учение о первородном грехе, т. е. об искуплении греха, содеянного другим индивидом. Итак, учение о переселении душ и учение о первородном грехе, первое непосредственно, второе опосредованно и при этом с моральной направленностью, отождествляют человека, живущего теперь, с человеком, жившим прежде.
Смерть — великий урок, который получает в силу порядка природы воля к жизни или, точнее, присущий ей эгоизм; и на нее можно смотреть
423
как на кару за наше бытие*. Смерть — мучительное разрешение такого узла, который сладострастно завязало деторождение, смерть — извне проникающее, насильственное разрушение основной ошибки человеческого существа, великое разочарование. Мы в основе своей — нечто такое, чему бы не следовало быть, оттого мы и перестаем быть. Эгоизм заключается, собственно, в том, что человек ограничивает свою реальность своей собственной личностью, полагая, что он существует только в ней, а не в других личностях. Смерть открывает ему глаза, уничтожая его личность; впредь сущность человека, которую представляет собой его воля, будет пребывать только в других индивидах; интеллект же его, который относился лишь к явлению, т. е. к миру как представлению, и был не более как формой внешнего мира, будет продолжать свое существование тоже в представлении, т. е. в объективном бытии вещей как таковом, следовательно, только в бытии внешнего мира, который существовал и до сих пор. Таким образом, с момента смерти все человеческое Я живет лишь в том, что оно до сих пор считало не-Я, ибо различие между внешним и внутренним отныне исчезает. Мы припоминаем здесь, что лучший человек — тот, кто видит наименьшее различие между собой и другими, не видит в них абсолютного не-Я, между тем как для дурного человека это различие велико, даже абсолютно (я выяснил это в своем конкурсном сочинении об основании морали). И вот, согласно сказанному выше, именно это различие и определяет ту степень, в которой смерть может быть рассматриваема как уничтожение человека. Если же исходить из того, что различие между «вне меня» и «во мне», как пространственное, коренится только в явлении, а не в вещи в себе и, следовательно, не абсолютно реально, то в потере собственной индивидуальности мы будем видеть лишь утрату явления, т. е. утрату только мнимую. Как ни реально в эмпирическом сознании указанное различие, все-таки, с точки зрения метафизической, выражения «я погибаю, но мир продолжает быть» и «мир погибает, но я продолжаю быть» в основе своей, собственно говоря, не различаются.
И кроме того, смерть — великий повод к тому, чтобы не быть
уже более отныне Я: благо тем, кто этим поводом воспользуется! При жизни воля
человека лишена свободы: все его поступки, влекомые цепью мотивов, неизбежно
совершаются на основе его неизменного характера. Между тем каждый хранит в себе
воспоминания о многом, что он сделал и в чем он недоволен собой. Но если бы он
и жил вечно, то, в силу этой неизменности характера, он вечно бы и поступал
таким же точно образом. Оттого он должен перестать быть тем, что он есть, для
того чтобы из зародыша своего существа он мог возродиться как нечто другое и
новое. И смерть разрывает эти узы, воля опять становится свободной, ибо в esse**, а не в ореrari***
лежит свобода: «Finditur nodus cordis, dissolvuntur
424
— таково одно
весьма знаменитое изречение Вед, которое часто повторяют все последователи их учения*.
Смерть — это миг освобождения от односторонности
индивидуальной формы, которая не оставляет сокровенного ядра нашего существа, а скорее является своего рода извращением его: истинная, изначальная свобода
опять наступает в этот миг, и
поэтому в указанном смысле можно смотреть на него как на restitutio in integrum**. По-видимому, отсюда и ведет свое
начало то выражение мира и покоя,
которое царит на лицах большинства мертвецов. Тиха и спокойна бывает обыкновенно смерть каждого доброго человека;
но умирать добровольно, умирать
охотно, умирать радостно — это преимущество
человека, достигшего резиньяции, преимущество того, кто отверг и отринул волю к жизни. Ибо лишь
такой человек хочет действительно,
а не притворно умереть, — оттого ему не нужно, он не требует бесконечного посмертного существования
своей личности. Он охотно поступается
жизнью, которую мы знаем; то, что он получает взамен нее, в наших глазах — ничто, ибо наше
существование сравнительно с тем, что
ждет его, — ничто. Буддизм называет это кажущееся нам ничто нирваной, т. е. «угасанием»***.
Глава 42
Жизнь рода
В предыдущей главе я напомнил, что (платоновы) идеи различных ступеней существ, которые представляют собой адекватную объективацию воли к жизни, в познании индивида, привязанном к форме времени, являются как роды, т. е. как смена однородных индивидов, объединен-
425
ных между собой узами рождения, и что род поэтому — растянутая во времени идея (εἶδος, species). В силу этого внутренняя сущность каждого живого существа заключается прежде всего в его роде; последний же, в свою очередь, имеет свое бытие только в индивидах. Хотя воля достигает самосознания только в индивиде и, следовательно, непосредственно познает себя лишь как индивид, тем не менее глубоко заложенное сознание того, что собственно только в роде объективируется сущность индивида, сказывается в том, что для каждой особи интересы рода, т. е. половые отношения, деторождение и выкармливание потомства, несравненно важнее и ближе, чем все другое. Отсюда, следовательно, ведет свое начало у животных течка (энергию которой прекрасно изображает Бурдах в своей «Физиологии», т. I, § 247, 257), а у человека — тщательный и прихотливый выбор другого индивида для удовлетворения полового влечения, который иногда достигает уровня страстной любви (ее подробному анализу я посвящу особую главу); отсюда же, наконец, необыкновенная любовь родителей к своему потомству.
В дополнениях к своей второй книге я сравнил волю с корнем, а интеллект с кроной дерева: это так с внутренней, или психологической, стороны. Во внешнем же, или физиологическом, отношении корнем являются гениталии, а кроною — голова. Питающим началом служат, правда, не половые органы, а кишечные ворсинки, и все-таки корень представляет собой не последний, а гениталии, ибо они осуществляют связь индивида с родом, в котором лежат его корни. Ибо физически индивид — порождение рода, а метафизически — более или менее несовершенный образ идеи, которая, в форме времени, представляется как род. В соответствии с указанным здесь соотношением наибольшая жизненность, как и одряхление мозга и половых органов протекают одновременно и находятся между собой в связи. На половой инстинкт надо смотреть как на внутреннее стремление дерева (рода), на котором произрастает жизнь индивида, подобно листу, который питается деревом и со своей стороны способствует его питанию: вот почему этот инстинкт так могуч и исходит из глубины нашей природы. Кастрировать индивида — это значит отрезать его от дерева рода, на котором он произрастает, и в этом одиночестве обречь его засыханию; отсюда — упадок его духовных и телесных сил. То, что вслед за актом служения роду, т. е. за оплодотворением, у каждого животного индивида мгновенно наступает истощение и утомление всех сил, а у большинства насекомых даже немедленная смерть, вот почему Цельс и сказал: «Seminis emissio est partis animae iactura»*; то, что у человека иссякновение производительной силы свидетельствует о начинающемся приближении к смерти; то, что неумеренное пользование этой силой в каждом возрасте сокращает жизнь, а воздержанность, напротив, повышает все силы, особенно мускульную, отчего ее и соблюдали греческие атлеты; то, что эта воздержанность может продлить жизнь насекомого даже вплоть до следующей весны, — все это указывает на то, что жизнь индивида в сущности только заимствована у рода и что любая жизненная сила — это сила рода, точно задержанная какою-то плотиной. Объяснение
426
этого лежит в том, что метафизический субстрат жизни непосредственно раскрывается в роде и лишь посредством него — в индивиде. Вот почему в Индии лингам и иони19 почитаются как символ рода и его бессмертия и, как противовес смерти, они придаются в виде атрибута именно божеству смерти — Шиве.
Но и помимо символа и мифа напряженность полового инстинкта, живое рвение и глубокая серьезность, с которыми любое животное, а также и человек осуществляют его требования, — все это свидетельствует, что посредством своей половой функции животное делается сопричастным тому, в чем собственно и главным образом и лежит его истинное существо, а именно сопричастным роду, между тем как все другие функции и органы непосредственно служат только индивиду, существование которого, собственно говоря, только производно. В напряженности полового инстинкта, который представляет собой концентрацию всего животного существа, выражается, далее, сознание того, что индивид недолговечен и что поэтому он должен все свои надежды возлагать на сохранение рода, так как в последнем заключается его истинное бытие.
Представим себе теперь, для уяснения сказанного, какое-нибудь животное в период спаривания и в акте зачатия. Мы видим, что его проникают неведомые дотоле серьезность и рвение. Что в нем происходит теперь? Знает ли оно, что ему суждено умереть и что в силу его настоящего акта возникнет новый, но совершенно похожий на него индивид, для того чтобы занять его место? Нет, оно ничего подобного не знает, потому что оно не мыслит. Но о продолжении своего рода во времени оно заботится так же ревностно, как если бы оно знало все это. Ибо оно сознает, что оно хочет жить и существовать, и высшую степень этого желания выражает оно актом зачатия: это все, что происходит при этом в его сознании. И этого вполне достаточно для бытия живых существ именно потому, что воля представляет собою начало коренное, а познание — привходящее. Вот почему воля и не нуждается в том, чтобы ею все время руководило познание: нет, как скоро воля определила себя в своей первозданности, это воление само собой уже будет объективироваться в мире представления. Если поэтому та определенная животная форма, которую мы себе представили, хочет жизни и бытия, то она хочет жизни и бытия не вообще, а именно в этой своей форме. Оттого именно волю животного возбуждает к совокуплению зрелище его собственной формы в самке его породы. Это его воление, созерцаемое извне и в форме времени, представляется нам как сохранение подобной животной формы в течение бесконечного времени путем беспрерывной замены одного индивида другим, т. е. путем смены смерти и рождения, которые с этой точки зрения являются только пульсацией единого, во все времена пребывающего образа ίδέα, εἶδος, species). Ее можно сравнить с силами притяжения и отталкивания, благодаря антагонизму которых существует материя.
То, что я сказал о животном, применимо и к человеку. В самом деле, хотя у последнего акт деторождения сопровождается доскональным знанием о его конечной причине, тем не менее данным актом руководит не это знание, а непосредственно воля к жизни как концентрация данной
427
жизни. Его следует причислить поэтому к инстинктивным действиям. Ибо при деторождении животное столь же не исходит из познания цели, сколь не исходит оно из него и в своих творческих влечениях: и в последних воля, в существенных чертах, раскрывается без посредничества познания, которому здесь, как и там, представляются только одни детали. Зачатие в известном смысле является самым замечательным из творческих влечений, а создания его — самыми изумительными.
Из этих соображений выясняется, отчего половое вожделение
имеет характер, весьма отличный от любой другой потребности; оно не только сильнее
всех остальных, но даже и сама природа его могущества иного, более высокого
порядка, нежели они. Оно везде молчаливо предполагается как необходимое и
неодолимое и в противоположность другим желаниям не есть дело вкуса и каприза.
Оно такое желание, которое само составляет саму сущность человека. В борьбе с
ним ни один мотив не бывает настолько силен, чтобы он мог быть уверен в победе.
Оно настолько главенствует в жизни, что никакие другие утехи не могут заменить
его удовлетворения; и ради него животное и человек решаются на любую опасность,
на любую борьбу. Очень наивное выражение этой естественной оценки полового
инстинкта представляет собой известная надпись над украшенными изображением фаллоса
дверями felicefas* в
Помпеях: «Heic habitat felicitas»**.
Для входящего это было наивно, для
выходящего звучало иронично, а само по себе было юмористично. Но серьезное и достойное выражение
нашла себе необыкновенная мощь полового инстинкта в надписи, которую (по
свидетельству Феона из Смирны,
«De musica», с. 47) сделал Осирис на одной колонне, воздвигнутой им в честь вечных богов: «Духу, небу,
солнцу, луне, земле, ночи, дню и
отцу всего, что есть и что будет, — Эросу», — а также и в прекрасном апострофе, которым Лукреций
начинает свое произведение:
Æneadum
genetrix, h
Alma
Venus cet***.
Этому соответствует и та важная роль, какую играют половые отношения в человеческом мире, где они, собственно, представляют собой незримый центр всех дел и стремлений и просвечивают везде, несмотря на все покровы, которыми их облекают. Они — причина войн и цель мира, основа серьезности и мишень шутки, неиссякаемый источник острот, ключ ко всем игривостям и смысл всех тайных намеков, всех невысказанных желаний и всех украдчивых взоров; они — ежедневная мечта и мысль юношей, а нередко и стариков, ежечасная мысль нецеломудренного и беспрестанно против его собственной воли возвращающаяся греза целомудренного; они — всегда готовый материал для шуток именно потому, что в их основе лежит глубочайшая серьезность. Но в том и состоит для мира пикантность и забава, что самое важное и интересное для всех людей дело свершается тайком, а на вид им как
428
можно больше пренебрегают. В
действительности же мы каждую минуту видим,
что оно как истинный и наследственный владыка мира, благодаря своему всемогуществу, восседает на своем родовом
престоле и оттуда саркастически
смотрит на те меры, которые принимают для
того, чтобы его смирить, ввергнуть в темницу, по крайней мере ограничить и, где только можно,
совершенно припрятать или же так
совладать с ним, чтобы придать ему характер какого-то второстепенного и побочного дела. А все это находится в
соответствии с тем, что половое
влечение — ядро воли к жизни, т. е. концентрация любого воления; вот почему в тексте я и назвал гениталии фокусом воли. Можно сказать даже, что человек —
это конкретное половое влечение,
ибо своим происхождением он обязан акту совокупления и акт совокупления составляет желание всех его желаний; только благодаря этому влечению существует и
держится весь мир как цельное явление.
Хотя воля к жизни раскрывается прежде всего в стремлении к сохранению индивида, но это служит лишь ступенью стремления к сохранению рода, и это стремление
должно быть еще напряженнее — в
той мере, в какой жизнь рода по своей продолжительности, протяженности и ценности превосходит жизнь индивида. Вот почему половое влечение — самое полное
откровение воли к жизни, ее наиболее явственно
выраженный тип; и этому совершенно соответствуют как возникновение из него индивидов, так и первенство его перед
всеми другими желаниями
естественного человека.
Сюда же надо отнести еще одно физиологическое наблюдение, которое бросает свет на мою основную теорию, изложенную во второй книге. Подобно тому как половое влечение — это самое могучее вожделение, желание всех желаний, концентрация всего нашего воления; подобно тому как его удовлетворение, строго соответствуя данному индивидуальному желанию, т. е. желанию, направленному на определенного индивида, является поэтому для каждого вершиной и венцом его счастья, конечной целью его естественных устремлений, с достижением которой, как ему кажется, он достигает всего и с утратой которой утрачивает все, — так, в качестве физиологического коррелята этого, мы находим, что в объективированной воле, т. е. в человеческом организме, семя представляет собой выделение всех выделений, квинтэссенцию всех соков, конечный результат всех органических функций; и это лишний раз подтверждает нам, что тело — только объектность воли, т. е. сама воля под формой представления.
К деторождению присоединяется забота о потомстве, а к половому влечению — родительская любовь, и в них, таким образом, продолжается жизнь рода. Вот почему любовь животного к своему потомству, подобно половому влечению, имеет такую силу, которая далеко превосходит силу забот, направляемых на собственную индивидуальность. Это сказывается в том, что даже самые кроткие животные готовы за свое потомство бросаться в самый неравный бой — не на жизнь, а на смерть, и у животных почти всех пород мать для защиты своих детенышей идет навстречу любой опасности, а в некоторых случаях и на верную смерть. У человека эта инстинктивная родительская любовь опосредуется и направляется разумом, т. е. размышлением; но иногда разум ее и ослабля-
429
ет, причем у людей с дурным характером это доходит порою до совершенного уничтожения ее: вот почему проявления материнской любви в самом чистом виде наблюдаются у животных. Но сама по себе родительская любовь не менее сильна и в человеке: и здесь мы знаем отдельные случаи, когда она совершенно побеждает себялюбие и отец или мать не останавливаются даже перед самопожертвованием. Так, например, газеты еще недавно сообщали из Франции, что в Шахаре, в департаменте Ло, отец лишил себя жизни, для того чтобы его сын, которому выпал жребий идти на военную службу, стал старшим сыном у матери-вдовы и в этом качестве был освобожден от службы («Galignani’s Messenger», 22 июня 1843 г.). Но у животных, ввиду того что они неспособны ни к какому раздумью, инстинктивная материнская любовь (самец по большей части не сознает своего отцовства) сказывается непосредственно и неподдельно — и оттого с полной ясностью и во всей своей мощи. В основе своей она выражает собой сознание животного, что его истинное существо более непосредственно заключается в роде, чем в индивиде; вот почему в случае необходимости оно жертвует своей жизнью, лишь бы только в детенышах сохранялся его род. Таким образом, и здесь, как и в половом инстинкте, воля к жизни до известной степени делается трансцендентной, потому что ее сознание выходит за пределы индивида, которому оно принадлежит, и распространяется на весь род. Для того чтобы об этом втором проявлении родовой жизни не ограничиться одними абстрактными словами, а наглядно представить его читателю во всем его величии и действительности, я приведу несколько примеров, демонстрирующих необычайную силу инстинктивной материнской любви.
Морская выдра, когда ее преследуют, хватает своего детеныша и ныряет вместе с ним в воду; когда же она опять всплывает наверх, чтобы подышать воздухом, она покрывает детеныша своим телом и, спасая его, подставляет себя стрелам охотника. Молодого кита убивают только для того, чтобы приманить его мать, которая спешит к нему и, пока он еще жив, редко покидает его, хотя ее и поражают несколько гарпунов. (Скорсби. Дневник из путешествия на ловлю китов; перевод с английского Криза, с. 196). На острове Трех королей, в Новой Зеландии, живут колоссальные тюлени, которых зовут морскими слонами (phoca proboscidea). Организованной массой плавая вокруг острова, они питаются рыбами, но под водою имеют каких-то неизвестных нам жестоких врагов, которые часто наносят им тяжелые раны: из-за этого их совместное плавание требует особой тактики. Самки рождают потомство, щенятся на берегу, и пока они кормят — а это длится от семи до восьми недель, — все самцы образуют вокруг них цепь, чтобы не пускать их в море, если бы, побуждаемые голодом, они захотели этого, и в случае таких попыток преграждают им дорогу зубами. Так они голодают все вместе от семи до восьми недель и все очень истощаются — только для того, чтобы не пускать детенышей в море, пока те еще не научились как следует плавать и не усвоили себе надлежащей тактики, которая внушается им посредством родительских пинков и укусов (Freycinet. «Voyage aux terres australes», 1826). На этом примере можно видеть и то, как родительская любовь, подобно любому могучему стремлению воли
430
(см. гл. 19, 6),
развивает интеллект. Дикие утки, малиновки и многие другие птицы, когда охотник приближается к их гнезду, начинают с громким криком летать у него под
ногами, порхают туда и сюда, как будто
бы у них парализованы крылья, для того чтобы отвлечь внимание от птенцов на себя. Жаворонок пытается
отвлечь собаку от своего гнезда тем,
что поддается ей. Точно так же лани и серны заманивают охотника на себя, для того чтобы не тронули их
детенышей. Ласточки влетают в
горящие дома, чтобы спасти своих птенцов или погибнуть вместе с ними. В Дельфте, во время одного
сильного пожара, сгорел в своем гнезде
аист, не желавший покинуть своих птенцов, которые еще не умели летать (Hadr. Junius. «Descriptio
Hollandiæ»). Глухарь и вальдшнеп, когда
они выводят детенышей, позволяют ловить себя в гнезде. Muscicapa tyrannus*
защищает свое гнездо с особым мужеством и обороняется даже против орла. Одного муравья разрезали поперек; оказалось, что передняя половина еще прикрывала
свои куколки. Сука, у которой вырезали
из тела ее детенышей, умирая, подползла к ним, стала их ласкать и лишь тогда начала сильно визжать, когда их отняли у
нее (Бурдах. «Физиология
как опытная наука», т. 2 и 3).
Глава 43
Наследственность свойств
То, что при зачатии соединенные родителями половые клетки передают детям особенности не только рода, но и индивидов, — это, по отношению к свойствам телесным (объективным, внешним), показывает самый обыденный опыт, да это и признавали уже искони:
Naturae
sequitur semina quisque suae.
Catull**
Имеет ли это силу и по отношению к духовным (субъективным, внутренним) свойствам, наследуются ли и они детьми от родителей, это вопрос, который уже часто возникал и почти всеми решался положительно. Труднее, однако, проблема, можно ли при этом выделить, что принадлежит отцу и что — матери, в чем, следовательно, заключается то духовное наследие, которое мы получаем от каждого из своих родителей. Если вникнуть в эту проблему при свете нашей основной истины, согласно которой воля представляет собой в человеке существо в себе, ядро, корень, а интеллект — нечто производное, привходящее, акциденцию названной субстанции, то и не справляясь еще с опытом, мы можем признать, по крайней мере за вероятное, что в акте зачатия отец как sexus potior*** и начало зачинающее передает детям основу, корень
431
новой жизни, т. е. волю, между тем как мать в качестве sexus sequior* и начала только воспринимающего передает детям производную долю, интеллект, что, следовательно, человек свой моральный склад, свой характер, свои наклонности, свое сердце наследует от отца, а степень, свойства и направление своей интеллигенции — от матери. Эта гипотеза действительно находит себе подтверждение в опыте; только последний не является здесь результатом физического эксперимента, а образуется частью на основе многолетних, тщательных и тонких наблюдений, частью же вытекает из истории.
Личный опыт каждого имеет преимущество полной достоверности и наибольшей детальности; это перевешивает его недостаток, возникающий оттого, что сфера его ограничена и примеры его не общеизвестны. Вот почему я прежде всего и отсылаю каждого к этому опыту. Прежде всего поразмыслите о самих себе; уясните для себя, какие у вас наклонности и страсти, какие недостатки и слабости в вашем характере, какие у вас пороки, а также достоинства и добродетели, если таковые имеются; затем вспомните вашего отца — и все эти черты характера вы не преминете заметить и у него. Напротив, характер матери часто оказывается совершенно иным, и моральное сходство с нею встречается в высшей степени редко, а именно только в тех исключительных случаях, когда характеры обоих родителей одинаковы. Проверьте это, например, относительно вспыльчивости или терпения, скупости или расточительности, влечения к сладострастию, к обжорству или к игре, относительно жестокосердия или доброты, правдивости или лицемерия, гордости или снисходительности, мужества или трусости, миролюбия или задиристости, склонности к примирению или ненависти и т. д. А затем подвергните этому же исследованию всех тех, чей характер и чьи родители вам хорошо известны. Если вы произведете этот анализ внимательно, руководствуясь правильным суждением и добросовестно, то в результате, наверное, получится подтверждение нашего положения. Так, например, свойственная некоторым лицам особая наклонность ко лжи может оказаться равномерно в двух братьях, ибо они наследуют ее от отца; вот почему и комедия «Лжец и его сын»22 психологически верна. Впрочем, здесь надо иметь в виду два неизбежных ограничения, которые в угоду себе может истолковывать только очевидная недобросовестность. Именно: во-первых, pater semper incertus**. Только явное физическое сходство с отцом устраняет это ограничение; поверхностного же сходства для этого недостаточно, так как иногда оказывается воздействие прежнего оплодотворения, благодаря которому дети от второго брака сохраняют еще порой известное сходство с первым супругом, а дети, рожденные от прелюбодеяния, — с законным отцом. Еще более явно наблюдается такое позднее воздействие прежнего оплодотворения у животных. Второе ограничение заключается в том, что хотя в сыне и выступает моральный характер отца, но только этот характер подвергается модификации со стороны другого, часто совершенно несходного интеллекта (наследия матери); вот почему и необходимы коррективы к нашему
432
наблюдению. Такая модификация, в зависимости от различия между материнским и отцовским наследием, может быть значительной или ничтожной, но никогда она не может быть настолько велика, чтобы даже сквозь нее не проступали еще достаточно явно черты отцовского характера; так, мы всегда узнаем человека, который изменил свою наружность необычным костюмом, париком или бородою. Если, например, в силу материнского наследия человек одарен выдающимся разумом, т. е. способностью к размышлению и вдумчивости, то свои страсти, унаследованные им от отца, он, силой этого разума, отчасти будет обуздывать, отчасти прятать, и поэтому они найдут себе у него лишь методическое и планомерное или скрытое для других выражение; вот почему от отца, который обладал весьма ограниченным умом, произойдет нечто совершенно иного рода, как могут быть и противоположные случаи. Что же касается наклонностей и страстей матери, то они безусловно не передаются детям, и последние часто обладают даже противоположными свойствами.
Исторические примеры имеют то преимущество перед примерами из частной жизни, что они общеизвестны; но, конечно, ценность их ослабляется тем, что они, как и все, что переходит в традиции, не совсем достоверны, часто искажены и, кроме того, касаются только общественной, а не частной жизни людей, толкуют о государственных деяниях и не раскрывают поэтому более тонких черт характера. Тем не менее для уяснения моего тезиса о наследственности я приведу и несколько исторических примеров, к которым лица, специально посвятившие себя изучению истории, несомненно прибавят гораздо большее число столь же красноречивых фактов.
Как известно, Публий Деций Мус, благородный герой, пожертвовал своей жизнью для блага родины; торжественно посвятив себя и своих врагов подземным богам, он с покрытой головой бросился в ряды латинян. Почти сорок лет спустя его одноименный сын сделал то же самое в войне с галлами (Liv., VIII, 6; X, 28). Перед нами, следовательно, — подтверждение горациевского: «fortes creantur fortibus et bonis»*, — обратную сторону чего показывает Шекспир:
Cowards father cowards, and
base things sire base**.
«Cymb.», IV, 2.
Древнейшая римская история рисует нам целые семьи, члены которых в длинном ряде поколений отличались беззаветной любовью к родине и мужеством: таковы gens Fabia и gens Fabricia***. Далее, Александр Великий был властолюбив и жаждал побед, как и его отец Филипп. Весьма примечательна генеалогия Нерона, которую Светоний (с. 4 et. 5) в моральных целях предпосылает характеристике этого чудовища. Он описывает gens Claudia****, который процветал в Риме в течение шести
столетий и выставлял все энергичных, но высокомерных и жестоких
433
мужей. Из этого рода произошли
Тиберий, Калигула и, наконец, Нерон. Уже в деде последнего, а еще сильнее в
отце сказались все те ужасные свойства, которые могли достигнуть своего полного
развития только в Нероне — отчасти потому, что его высокое положение давало им больше
свободы и простора, отчасти потому, что матерью его была безумная менада
Агриппина, которая не способна была одарить его интеллектом, годным для
обуздания его страстей. Поэтому совершенно в нашем духе рассказывает Светоний,
что при рождении Нерона præsagio fuit etiam D
434
удостоверенных только газетами. В октябре 1836 г. в Венгрии был приговорен к смертной казни некий граф Белечнаи за убийство одного чиновника и за нанесение тяжких ран своим собственным родственникам; раньше был казнен за отцеубийство его старший брат; отец его тоже был убийцей («Франкфуртская почтовая газета» от 26 окт. 1836 г.). Год спустя младший брат этого графа на той самой дороге, где последний убил чиновника, выстрелил из пистолета в фискального агента, проверявшего его поместья, но промахнулся («Франкфуртский журнал», 16 сент. 1837 г.). Во «Франкфуртской почтовой газете» от 19 ноября 1857 г. в корреспонденции из Парижа сообщается об осуждении на смертную казнь одного крайне опасного разбойника Лемера и его сообщников, и корреспондент прибавляет: «Преступные наклонности, по-видимому, наследственны в его семье и семьях его товарищей: несколько человек из их рода погибли на эшафоте». То, что уже и грекам были известны подобные случаи, явствует из одного места в «Законах» Платона (Stob. Flor. Vol. 2, p. 213)25. Летописи криминалистики, наверное, могли бы указать не на одну подобную же генеалогию. Особенно часто имеет наследственный характер склонность к самоубийству.
Если же, с другой стороны, добрый Марк Аврелий имел сыном злого Коммода, то это нас не смущает, ибо нам известно, что diva Faustina* была uxsor infamis**. Напротив, мы запомним этот случай, для того чтобы аналогичные ему факты объяснять из аналогичных же причин; например, я никогда не поверю, чтобы Домициан был единокровным братом Тита: я думаю, что и Веспасиан был обманутым мужем.
Что касается второй половины предложенного мною принципа, т. е. наследования интеллекта от матери, то она в гораздо большей степени пользуется признанием, чем первая, которой, как таковой, в ее целости, противостоит liberum arbitrium indifferentiæ***, а в ее особом понимании — учение о простоте и неделимости души. Уже старое и популярное выражение «Mutterwitz» («природный ум») свидетельствует о давнишнем признании этой второй истины; она имеет в своей основе то проверенное как на мелких, так и на крупных интеллектуальных способностях наблюдение, что люди, одаренные ими, были сыновья таких матерей, которые выделялись своим интеллектом. То, что, наоборот, интеллектуальные качества отца не переходят к сыну, это доказывают как отцы, так и сыновья людей, выделяющихся своими замечательными способностями: сыновья таких людей по большей части — совершенно заурядные умы и не обнаруживают ни малейшего следа отцовской даровитости. Когда же из этого многократно подтвержденного правила является отдельное исключение, каковыми, например, служат Питт и его отец лорд Четэм, то мы имеем право и даже обязаны приписывать его случаю, хотя последний, ввиду необыкновенной редкости великих талантов, бесспорно, относится здесь к самым экстраординарным. Но здесь имеет силу известное правило: невероятно, чтобы невероятное никогда не происходило. К тому же великие государственные люди (как я уже
435
упомянул в 22-й главе) велики в
одинаковой степени как благодаря своему характеру, т. е. отцовскому
наследию, так и благодаря своим интеллектуальным качествам. Но ни одного
аналогичного случая неизвестно мне из мира художников, поэтов и философов, а
ведь только их творениям собственно и придают эпитет гениальности.
Правда, отец Рафаэля был художник, но не великий; отец, как и сын, Моцарта
были музыканты, но не великие. Зато не может нас не удивлять, что судьба, которая
этим двум величайшим в своей сфере людям уделила очень короткую жизнь, как бы в
виде компенсации позаботилась о том, чтобы они, в противоположность большинству
других гениев, свои молодые годы не провели бесплодно и уже с детства,
пользуясь отцовским примером и наставлением, получили необходимую подготовку к
тому искусству, для которого они были исключительно предназначены; судьба сделала
так, что они родились уже в самой мастерской своих искусств. Эта загадочная и таинственная
сила, которая, по-видимому, управляет жизнью индивидов, служила для меня
предметом особых размышлений, — я сообщил их в своем сочинении «О кажущейся преднамеренности
в судьбе отдельного человека» («Парерга», т. 1). Следует еще заметить, что есть
известные научные занятия, которые хотя и требуют хороших, прирожденных способностей,
но все-таки способностей не редких и не чрезвычайных; главными же условиями являются
здесь усердная настойчивость, прилежание, терпение, ранняя и основательная подготовка,
долгое изучение предмета и обширная практика. Этим, а не наследственной передачей
интеллекта со стороны отца объясняется тот факт, что, так как сын повсюду
охотно вступает на дорогу, проложенную отцом, и почти все ремесла в известных
семьях бывают наследственны, то и в некоторых науках, больше всего требующих
прилежания и настойчивости, отдельные семьи дают целую преемственность
заслуженных мужей: сюда принадлежат Скалигеры, Бернулли, Кассини, Гершели.
Число примеров, доказывающих факт наследственной передачи материнского ума, было бы гораздо больше, чем то, которое есть, если бы характер и назначение женского пола не вели к тому, что женщины редко проявляют свои умственные дарования публично, отчего последние и не делаются достоянием истории и весть о них не доходит до потомства. Кроме того, так как женская организация вообще слабее мужской, то и самые эти дарования никогда не достигают у женщин такой степени, до какой они потом, при благоприятных обстоятельствах, доходят у сына; но именно потому, взятые сами по себе, дарования женщин заслуживают более высокой оценки. Вот отчего в настоящую минуту мне припоминаются только следующие примеры, которые могут служить подтверждением моего тезиса. Иосиф II был сыном Марии Терезии. Кардано в третьей главе своей «De vita propria» говорит: «Mater mea fuit memoria et ingenio pollens»*. Ж. Ж. Руссо в первой книге «Confessions» выражается так: «La beauté de ma mère, son esprit, ses talents — elle en avait de trop brillans puor son état»** и т. д.; здесь же приводит
436
он одно ее очень милое
стихотворение. Д’Аламбер
был незаконный сын Клодины фон Тансен, женщины выдающегося ума, автора нескольких
романов и других беллетристических произведений, которые в свое время имели
большой успех да и теперь еще читаются не без интереса (см. ее биографию в «Blättern für literarische Unterhaltung», март 1845, № 71–73). То, что мать Бюффона
была замечательная женщина, доказывает следующее место из «Voyage à Montbar», par Hèrault de Sèchelles,
которое приводит Флуранс в своей «Histoire
des travaux de Buffon», с 288: « Buffon avait ce principe qu’en général les enfants
tenaient de leur mère leurs qualités intellectuelles et morales :
et lorsqu’il l’avait développé dans la conversation, il en
faisait sur-le-champ l’application à lui-même, en faisant un éloge
p
437
отрывок из которых можно найти в его
биографии, составленной Швабом. Бюргер, этот истинный поэтический
гений, которому, быть может, после Гете подобает первое место среди немецких
поэтов, поскольку в сравнении с его балладами баллады Шиллера кажутся холодными
и искусственными, оставил нам очень важные для нас сведения о своих родителях;
его друг и врач Альтгоф так передает их в своей биографии, появившейся в
1798 г.: «Отец Бюргера хотя и наделен был, согласно тогдашнему способу
образования, различного рода сведениями и был притом добрый, честный человек,
но он настолько любил удобство, покой и свою трубку, что, как говаривал мой
друг, он должен был хорошенько раскачаться, прежде чем в кои-то веки уделить
четверть часа на занятия с сыном. Его жена была женщиной выдающихся умственных задатков,
но они были до такой степени не обработаны, что она едва научилась разборчиво
писать. Бюргер был уверен, что при надлежащем образовании его мать сделалась бы
знаменитейшей представительницей своего пола, хотя порою он и весьма резко
отзывался о некоторых чертах ее морального характера. И он считал, что от
матери он получил в наследство некоторые духовные задатки, от отца же —
известные черты его морального характера». Мать Вальтера Скотта была
поэтесса и находилась в общении с лучшими людьми своего времени, как об этом
повествует некролог Вальтеру Скотту, напечатанный в английском «Globe», от 24 сентября 1832
г. Сведения о том, что ее стихотворения появились в печати в 1789 г., я нахожу
в статье, озаглавленной «Mutterwitz»,
в издаваемых Брокгаузом «Blättern
für literarische Unterhaltung» от 4 окт. 1841 г. Эта статья
заключает в себе длинный перечень
талантливых женщин, у которых были знаменитые сыновья; я возьму оттуда лишь два примера: «Мать Бэкона была
выдающимся знатоком языков, написала
и перевела немало произведений и в каждом из
них обнаружила ученость, остроумие и тонкий вкус. Мать Бургаве отличалась своими медицинскими познаниями».
С другой стороны, серьезное
подтверждение того факта, что от матерей наследуется интеллектуальная слабость, дает нам Галлер. Он
говорит: «E duabus patriciis sororibus, ob divitias maritos nactis, cum tarnen
fatuis essent proximae, novimus in nobilissimas gentes nunc a seculo retro dus
morbi manasse seminia, ut etiam in quarta generatione quintave
Из нашего принципа, по-видимому, следует, что сыновья одной и той же матери должны обладать одинаковой умственной силой и что если высоко одарен один из них, то должен быть одарен и другой. Иногда так и бывает. Вот примеры: братья Караччи, Йозеф и Михаэль
438
Гайдны, Бернгард и Андреас Рамберги, Георг и Фридрих Кювье, — я прибавил бы сюда и братьев Шлегелей, если бы младший из них, Фридрих, своим позорным обскурантизмом, которому он в содружестве с Адамом Мюллером служил в течение последней четверти жизни, не лишил себя чести занимать место наряду со своим прекрасным, безупречным и высокодостойным братом Августом Вильгельмом. Ибо обскурантизм — это грех если не против духа святого, то против духа человеческого, и потому никогда не следует его прощать; наоборот, каждого, кто в нем повинен, необходимо всегда и повсюду беспощадно корить, и по любому поводу надо высказывать ему презрение, покуда он жив и даже после его смерти. Но столь же часто упомянутого вывода делать нельзя: так, брат Канта был самый обыкновенный человек. Для того чтобы объяснить это, надо вспомнить сказанное мною в 31-й главе о физиологических условиях гениальности. Именно: для последней требуется не только необычайно развитой, вполне целесообразно сформированный мозг (доля матери), но и большая энергия сердцебиения, которая бы этот мозг оживляла, т. е., говоря субъективно, страстная воля, живой темперамент: в этом — наследие отца. Между тем все это лишь в самые зрелые годы отца находится на высшей точке своего развития, и еще быстрее стареет мать. Вот почему даровитые сыновья — обыкновенно старшие, рожденные в период полной силы обоих родителей: так и брат Канта был моложе его на одиннадцать лет. Даже из двух выдающихся братьев выше обыкновенно стоит старший. Впрочем, не только старость, но и любой временный отлив жизненной силы и любое иное расстройство здоровья у родителей в период деторождения может испортить наследие как одного, так и другой и воспрепятствовать появлению выдающегося таланта, которое именно поэтому и столь редко. Кстати замечу, отсутствие всех только что названных моментов различия у близнецов является причиной того, что их сущность почти совершенно тождественна.
Если и можно указать отдельные случаи, когда даровитый сын не имел умственно одаренной матери, то это объясняется тем, что такая мать сама имела флегматичного отца, отчего ее необычайно развитой мозг не находил себе надлежащего возбуждения в соответственной энергии кровообращения, — условие, которое я рассмотрел выше, в 31-й главе. И все-таки ее высокосовершенная нервная и мозговая системы перешли бы по наследству к сыну, если бы он получил в отцы человека живого и страстного, с энергичным сердцебиением, благодаря чему только здесь появилось бы другое соматическое условие для значительной силы ума. Может быть, именно таков был случай Байрона; ведь мы нигде не находим упоминания об интеллектуальных качествах его матери. Это же объяснение применимо и к тому случаю, когда умственно даровитая мать гениального сына сама родилась не от даровитой матери, поскольку отец последней был флегматиком.
Дисгармоничные, неровные, неустойчивые черты в характере большинства людей объясняются, вероятно, тем, что каждый индивид имеет неоднородное происхождение, а волю наследует от отца, интеллект же — от матери. Чем более разнородны и несходны друг с другом были его родители, тем сильнее будет эта дисгармония, этот внутренний разлад. В то время как у одних людей особенно выделяется душевными дарами
439
сердце, у других — ум, есть еще и такие, все достоинство которых заключается в известной гармонии и единстве всего их существа; а возникают последние в силу того, что у этих людей сердце и ум так удачно приспособлены друг к другу, что они взаимно поддерживают и дополняют одно другое; это заставляет предполагать, что родители таких людей особенно соответствовали и подходили друг другу.
Подходя к физиологической стороне изложенной теории, я укажу
только, что Бурдах, который ошибочно допускает, будто одно и то же свойство
психики может быть наследием как отца, так и матери — безразлично, все же
прибавляет: «Говоря вообще, мужской элемент оказывает больше влияния на
характер раздражимости, а элемент женский больше влияет на чувствительность» («Физиология
как опытная наука», т. I, § 306). Сюда же относится и то, что говорит Линней
в своей «Systema naturae», v. 1, p. 8: «Mater prolifera pr
Если теперь нашу теорию о том, что характер передается от отца, а интеллект от матери, мы свяжем с нашей прежней мыслью о том значительном различии, которое природа как в моральном, так и в интеллектуальном отношении установила между двумя людьми, а также и с нашим взглядом на полную неизменность как характера, так и умственных способностей, то мы придем к тому убеждению, что действительное и глубокое облагораживание человечества может быть достигнуто не столько извне, сколько изнутри, т. е. не только преподаванием и образованием, сколько главным образом на пути размножения. Нечто подобное имел в виду Платон, когда в пятой книге своего «Государства» набрасывал свой удивительный план, как умножить и облагородить воинскую касту. Если бы можно было кастрировать всех негодяев и запереть в монастырь всех дураков, если бы можно было людям благородного характера предоставить целый гарем, а всех умных и да-
440
ровитых девушек снабдить мужьями, и притом мужьями в полном смысле этого слова, то скоро народилось бы такое поколение, которое своим блеском затмило бы век Перикла. Но и не углубляясь в подобные утопические планы, все-таки стоит подумать о том, что если бы в числе наказаний, как самое тяжкое после смертной казни, существовала кастрация (если не ошибаюсь, так это и действительно было у некоторых древних народов), то мир был бы избавлен от целых родословных негодяев, тем более что, как известно, большинство преступлений совершаются уже в возрасте между двадцатью и тридцатью годами*. Точно так же не мешает подумать и о том, не будет ли более плодотворно, чтобы выдаваемое в известных случаях приданое от общества выдавалось не самым якобы добродетельным девушкам, как это практикуется теперь, а самым умным и даровитым, тем более что судить о добродетели очень трудно: ведь только один Бог, как говорится, ведает тайны сердец, да и возможность проявить благородный характер представляется редко и зависит от случая; к тому же добродетель иных девушек находит себе сильную опору в их безобразии; об уме же те, которые сами не лишены сто, могут, по некотором испытании, судить с большой уверенностью. Другой практический вывод из нашей теории заключается в следующем. Во многих странах, между прочим и в Южной Германии, у женщин существует дурной обычай носить тяжести, и часто весьма значительные, на голове. Это не может не действовать вредно на мозг, и последний у женщин данного народа мало-помалу ухудшается; а так как от них получают свой мозг и мужчины, то это и ведет к постепенному оглуплению всего народа, в чем для многих наций едва ли есть большая нужда. От устранения этого обычая вырос бы общий интеллектуальный уровень данного народа, а это, несомненно, больше всего увеличило бы народное богатство.
Но предоставим эти практические выводы другим, а сами вернемся к своей специальной точке зрения, т. е. к этико-метафизической. Сопоставив содержание этой главы с содержанием главы 41, мы придем к следующему результату, который, при всем своем трансцендентном характере, имеет под собой и непосредственную, эмпирическую основу. Один и тот же характер, т. е. одна и та же индивидуально определенная воля, живет во всех нисходящих мужских поколениях известного рода, начиная от родоначальника и кончая его современными мужскими представителями. Но в каждом из последних ей, этой определенной воле, придан другой интеллект, т. е. другая степень и другой склад познания. Вот почему в каждом из этих членов единого рода жизнь представляется воле с иной стороны, в ином свете: в каждом из них она приобретает на жизнь иной взгляд, извлекает из нее иные уроки. Правда, ввиду того что
441
интеллект угасает вместе с индивидом, воля не может непосредственно восполнять мировоззрение одного из этих представителей рода мировоззрением другого. Но самое воление ее, в результате каждого нового понимания жизни, — а такое понимание может приходить к ней только вместе с каждой вновь нарождающейся личностью, — самое воление ее принимает всякий раз другое направление, т. е. подвергается некоторой модификации, и, главное, вместе с последней пред нею снова возникает дилемма: утверждение или отрицание жизни. В этой мере возникающее из необходимости соединения обоих полов в акте деторождения естественное устроение, в силу которого постоянно соединяются на разные лады воля с интеллектом, становится основой спасительного порядка. Ибо благодаря этой вечной смене разнообразных сочетаний между волей и интеллектом жизнь беспрестанно показывает воле (отпечатком и зеркалом которой она служит) все новые и новые свои стороны, как бы беспрерывно вращается у нее перед глазами, дает ей возможность испытывать на ней, жизни, все новые и новые точки зрения, для того чтобы она, воля, на каждой из последних решалась на утверждение или отрицание жизни: ведь для нее всегда открыто и то и другое, но, только однажды отвергнув себя, она в смерти находит для себя конец всего феномена. Так как, следовательно, одной и той же воле дорогу к спасению открывает постоянное обновление и полная перемена интеллекта, потому что именно он сообщает ей новое мировоззрение, а интеллект дается матерью, то, быть может, здесь и лежит то глубокое основание, в силу которого все народы (за очень немногими и даже сомнительными исключениями) гнушались брачной связью между братьями и сестрами и запрещали ее: в этом же коренится причина и того, что между братом и сестрою не возникает даже половой любви — разве в чрезвычайно редких случаях противоестественной извращенности влечений или же когда брат либо сестра незаконного происхождения. Ибо от брака между родными сестрой и братом не может произойти ничего другого, кроме той же воли в соединении с тем же интеллектом, какие существуют уже в союзе родителей, т. е. ничего другого, кроме безнадежного повторения уже существующего феномена.
Но когда мы ближе и в деталях рассматриваем невероятно большое и столь очевидное разнообразие людских характеров; когда мы видим, что один так добр и человеколюбив, а другой зол и порою жесток, один справедлив, честен и прямодушен, а другой исполнен лжи, проныра, обманщик, предатель, неисправимый негодяй, то перед нашей мыслью открывается целая бездна, и мы напрасно будем доискиваться причин такого разнообразия. Индуисты и буддисты решают эту проблему тем, что говорят: «Это — плоды деяний в предшествующей жизни». Такое решение, правда, самое древнее, самое понятное, и исходит оно от мудрейших из людей; но оно только затрудняет решение вопроса. Однако более удовлетворительное решение едва ли можно будет найти. С точки зрения всей моей теории мне остается лишь сказать, что здесь, где речь идет о воле как о вещи в себе, закон основания, будучи только формой явления, уже не находит себе больше применения, а вместе с ним отпадает и всякое «откуда» и «почему». Абсолютная свобода заключается именно в том, что нечто совершенно неподвластно закону основания
442
как принципу необходимости; такая свобода присуща поэтому одной только вещи в себе, последняя же — - это как раз и есть воля. Она, таким образом, в своем явлении, т. е. в operari, подчинена необходимости; но в своем esse, там, где она определила себя как вещь в себе, она свободна. Поэтому, лишь только мы доходим до этого пункта (как это здесь и случилось), сейчас же прекращается всякое объяснение на основе причин и следствий, и нам не остается ничего другого, как сказать: здесь проявляется истинная свобода воли, присущая ей, поскольку она вещь в себе; а вещь в себе как таковая беспричинна, т. е. не знает никакого «почему». Но именно потому здесь и прекращается для нас всякое понимание, ибо все наше понимание зиждется на законе основания, ведь оно ни в чем другом и не состоит, как только в применении этого закона.
Глава 44
Метафизика половой любви
Ihr Weisen, hoch und tief gelahrt,
Die ihr’s ersinnt und wißt,
Wie, wo und wann sich alles paart?
Warum sich’s liebt und küßt?
Ihr hohen Weisen, sagt mir’s an!
Ergrübelt, was mir da,
Ergrübelt mir, wo, wie und wann,
Warum mir so geschah?
Bürger*
Эта глава — последняя из тех четырех глав, которые связаны между собой в разных отношениях и вследствие этого образуют до некоторой степени относительно самостоятельное целое. Внимательный читатель увидит это сам, так что мне не придется прерывать свое изложение ссылками и указаниями.
Мы привыкли видеть, что поэты занимаются преимущественно изображением половой любви. Она же обыкновенно служит главной темой всех драматических произведений, как трагических, так и комических, как романтических, так и классических, как индусских, так и европейских; не в меньшей степени является она сюжетом гораздо большей части лирической поэзии, а равно и эпической, в особенности если причислить к последней те превеликие груды романов, которые уже целые столетия ежегодно появляются во всех цивилизованных странах
443
Европы с такою же регулярностью, как плоды земные. Все эти произведения в своем главном содержании не что иное, как многосторонние, краткие или пространные описания половой страсти. И самые удачные из этих изображений, как, например, «Ромео и Джульетта», «Новая Элоиза», «Вертер», заслужили себе бессмертную славу. Если же Ларошфуко полагает, что со страстной любовью дело обстоит так же, как с привидениями, о которых все говорят, но которых никто не видел, и если Лихтенберг в своем очерке «О могуществе любви» тоже оспаривает и отрицает реальность и естественность этой страсти, то это с их стороны — большое заблуждение. Ибо невозможно, чтобы нечто природе человеческой чуждое и ей противоречащее, т. е. какая-то с потолка взятая гримаса и шутка, постоянно и неустанно вдохновляло поэтический гений и в его созданиях находило себе неизменный прием и сочувствие со стороны человечества: без правды не может быть художественной красоты:
Rien n’est beau que le vrai; le vrai seul est
aimable.
Boileau*
Но, бесспорно, и опыт, хотя и не повседневный, свидетельствует о том же, т. е. о том, что желание, имеющее обыкновенно характер живой, но все еще преодолимой склонности, при известных условиях может перерасти в страсть такого накала, которая своей мощью превосходит всякую другую, и объятые ею люди отбрасывают прочь любые соображения, с невероятной силой и упорством преодолевают все препоны и для ее удовлетворения не задумываются рисковать своей жизнью и даже сознательно отдают эту жизнь, если желанное удовлетворение оказывается для них абсолютно недостижимо. Вертеры и Джакопо Ортизи27 существуют не только в романах; каждый год Европа может насчитать их, по крайней мере, с полдюжины; «sed ignotis perierunt mortibus illi»**, ибо страдания их не находят себе другого летописца, кроме чиновника, составляющего протокол, или газетного репортера. Но читатели судебно-полицейских известий в английских и французских газетах могут засвидетельствовать справедливость моего указания. А еще больше число тех, кого эта страсть доводит до сумасшедшего дома. Наконец, каждый год бывает один-два случая совместного самоубийства какой-нибудь любящей, но силою внешних обстоятельств разлучаемой пары; при этом, однако, для меня всегда остается непонятным, почему люди, которые уверены во взаимной любви и в наслаждении ею думают найти для себя величайшее блаженство, не предпочитают лучше решиться на самый крайний шаг, пренебречь всеми житейскими отношениями, перенести различные неудобства, чем вместе с жизнью отказаться от такого счастья, выше которого они ничего не могут себе представить. Что же касается более умеренных степеней этой страсти и обычных ее порывов, то каждый ежедневно имеет их перед глазами, а покуда мы не стары, то большей частью — и в своем сердце.
444
Таким образом, припомнив все это, мы не будем уже
сомневаться ни в реальности, ни в важности предмета; и удивляться должны мы не тому,
что и философ решился избрать своей темой эту постоянную тему всех поэтов, а
тому, что предмет, который играет столь значительную роль во всей человеческой
жизни, до сих пор почти совсем не подвергался обсуждению со стороны философов и
представляет для них неразработанный материал. Больше всего занимался этим
вопросом Платон, особенно в «Пире» и «Федре»; но то, что он говорит по
этому поводу, не выходит из области мифов, басен и шуток, да и касается главным
образом греческой любви к мальчикам. То немногое, что есть на нашу тему у Руссо,
в его « Discours sur l’inégalité »*
(p. 96, ed. Bip.), неверно и неудовлетворительно. Кантовское обсуждение
этого вопроса в третьем разделе
рассуждения «О чувстве прекрасного и возвышенного» (с. 435 и сл. в издании Розенкранца) очень
поверхностно и слабо в фактическом отношении, а потому отчасти и неверно.
Наконец, толкование этого сюжета у Платнера, в его «Антропологии», § 1347 и сл.,
всякий найдет плоским и мелким. Определение же Спинозы стоит здесь привести
ради его чрезвычайной наивности: «Amor est titullatio, conc
Ибо любая влюбленность, какой бы эфирный вид она себе ни придавала, имеет свои корни исключительно в половом влечении, да и в сущности вся она — только точно определенное, специализированное, в строжайшем смысле слова индивидуализированное половое влечение. И вот, если, твердо помня это, мы подумаем о той важной роли, которую половая любовь во всех своих степенях и оттенках играет не только в пьесах и романах, но и в действительном мире, где она после любви к жизни является самым могучим и деятельным изо всех мотивов, где она беспрерывно поглощает половину сил и мыслей молодого поколения человечества, составляет конечную цель почти каждого человеческого стремления, оказывает вредное влияние на самые важные дела и события, ежечасно прерывает самые серьезные занятия, иногда ненадолго смущает самые великие умы, не стесняется непрошеной гостьей проникать со своим хламом в совещания государственных мужей и в исследования ученых, ловко забирается со своими записочками и локона-
445
ми даже в министерские портфели и философские манускрипты, ежедневно поощряет на самые рискованные и дурные дела, разрушает самые дорогие и близкие отношения, разрывает самые прочные узы, требует себе в жертву то жизни и здоровья, то богатства, общественного положения и счастья, отнимает совесть у честного, делает предателем верного и в общем выступает как некий злоумышленный демон, который старается все перевернуть, запутать, ниспровергнуть, — если мы подумаем об этом, то невольно захочется нам воскликнуть: к чему весь этот шум? к чему вся суета и волнения, все эти страхи и горести? Разве не о том лишь идет речь, чтобы всякий Иван нашел свою Марью?* Почему же такой пустяк должен играть столь серьезную роль и беспрестанно вносить раздор и смуту в стройное течение человеческой жизни? Но перед серьезным исследователем дух истины мало-помалу раскрывает загадку: совсем не пустяк то, о чем здесь толкуется, а наоборот, оно так важно, что ему вполне подобают та серьезность и страстность, которые ему сопутствуют. Конечная цель всех любовных треволнений, разыгрываются ли они на комической сцене или на котурнах трагедий, поистине важнее, чем все другие цели человеческой жизни, и поэтому она вполне достойна той глубокой серьезности, с какою всякий стремится к ее достижению. Именно: то, к чему ведут любовные дела, это ни более ни менее как состав следующего поколения. Да, именно здесь, в этих фривольных шашнях любви, определяются в своей жизни и в своем характере те dramatis personæ**, которые выступят на сцену, когда мы уже сойдем с нее. Подобно тому как существование, existentia, этих грядущих личностей всецело обусловливается нашим половым влечением вообще, так их сущность, essentia, зависит от нашего индивидуального выбора при удовлетворении этого влечения, т. е. от половой любви, и бесповоротно устанавливается ею во всех отношениях. Вот ключ к решению проблемы, но мы лучше ознакомимся с ним, когда, применяя его к делу, проследим все ступени влюбленности, начиная от мимолетного влечения и кончая самой бурной страстью; мы увидим при этом, что все разнообразие ступеней и оттенков любви зависит от степени индивидуализации выбора.
Все любовные истории каждого наличного поколения,
взятые в целом, представляют собою, таким образом, серьезную meditatio c
446
мерах, ибо нет темы, которая по своему интересу могла бы сравниться с этой: касаясь вопроса о благополучии и горести рода, она так же относится к другим темам, имеющим отношение только к благу отдельных личностей, как геометрическое тело —- к плоскости. Вот почему так трудно заинтересовать какой-нибудь пьесой, если в ней нет любовной интриги; вот почему, с другой стороны, эта тема никогда не исчерпывается, хотя из нее и делают повседневное употребление.
То, что в индивидуальном сознании сказывается как половое влечение вообще, без сосредоточения на каком-нибудь определенном индивиде другого пола, это, взятое само по себе и вне явления, — воля к жизни просто как таковая. То же, что в сознании проявляется как половое влечение, направленное на какую-нибудь определенную личность, — это, взятое само по себе, воля к тому, чтобы жить в качестве строго определенного индивида. В этом случае половое влечение, хотя оно само по себе не что иное, как субъективная потребность, умеет, однако, очень ловко надевать на себя личину объективного восхищения и этим обманывать сознание: природа для своих целей нуждается в подобном стратегическом приеме. Но какой бы объективный и возвышенный вид ни принимало это восхищение, в каждом случае влюбленности данный прием имеет своею исключительною целью рождение индивида с определенными свойствами: это прежде всего подтверждается тем, что существенной стороной в любви является не взаимность, а обладание, т. е. физическое наслаждение. Оттого уверенность в ответной любви нисколько не может утешить в отсутствии обладания, наоборот, не один человек в таком положении кончал самоубийством. С другой стороны, люди сильно влюбленные, если они не могут достигнуть взаимности, довольствуются обладанием, т. е. физическим наслаждением. Это доказывают все браки поневоле, а также и те многочисленные случаи, когда ценою значительных подарков или другого рода пожертвований приобретается благосклонность женщины вопреки ее нерасположению; это доказывают, наконец, и случаи изнасилования. Истинной, хотя и бессознательной целью для участников всякого романа является то, чтобы родилось на свет именно это, определенное дитя: как достигается данная цель — дело второстепенное.
Как бы ни возмущал жесткий реализм моей теории высокие и чувствительные, но в особенности влюбленные души, они все-таки ошибаются. В самом деле: разве точное определение индивидуальностей грядущего поколения не является гораздо более высокой и достойной целью, чем все их безмерные чувства и сверхчувственные мыльные пузыри? Да и может ли быть среди земных целей более важная и великая цель? Она одна соответствует той глубине, с которой мы чувствуем страстную любовь, той серьезности, которая сопровождает ее, той важности, которую она придает даже мелочам в своей сфере и в своем возникновении. Лишь в том случае, если истинной целью любви считать эту цель, окажутся сообразными делу все околичности любовного романа, все бесконечные усилия и муки, с которыми связано стремление к любимому существу. Ибо то, что сквозь эти порывы и усилия пробивается в жизнь, это — грядущее поколение во всей своей индивидуальной определенности. И трепет этого поколения слышится уже в том осмотрительном,
447
определенном и прихотливом выборе при удовлетворении полового влечения, который называется любовью. Возрастающая склонность двух любящих существ — это уже собственно воля к жизни нового индивида, который они могут и хотят произвести, и когда встречаются их взоры, исполненные страсти, то это уже загорается его новая жизнь и возвещает о себе как будущая гармоническая, стройно сложенная индивидуальность. Они тоскуют по действительному соединению и слиянию в одно существо, для того чтобы затем продолжать свою жизнь только в нем, и это стремление осуществляется в ребенке, которого они рождают и в котором наследственные черты обоих, соединенные и слитые в одно существо, переживают самих родителей. Наоборот, решительное и упорное отвращение, которое испытывают друг к другу мужчина и девушка, служит доказательством того, что дитя, которое они могли бы произвести на свет, было бы дурно организованное, внутренне дисгармоничное, несчастное существо. Вот почему глубокий смысл заключается в том, что Кальдерон хотя и называет ужасную Семирамиду дочерью воздуха, но в то же время изображает ее как дочь насилия, за которым следовало мужеубийство.
То, что в конечном счете с такой силой влечет два индивида разного пола к соединению исключительно друг с другом, это — воля к жизни, проявляющаяся во всем данном роде; здесь она предвосхищает соответствующую ее целям объективацию своего существа в той особи, которую могут эти двое произвести на свет. Особь эта наследует от отца волю или характер, от матери — интеллект, а телосложение — от обоих. Впрочем, форма тела большею частью складывается по отцовскому образцу, размеры же его скорее — по материнскому, согласно тому закону, который обнаруживается в помесях животных и главным образом основывается на том, что величина плода должна приноравливаться к величине uterus’а*. Как не объяснима в каждом человеке совершенно особая, исключительно ему присущая индивидуальность, так же точно не объяснима и совершенно особая и индивидуальная страсть двух влюбленных; мало того, оба эти явления в своей глубочайшей основе — одно и то же: первое explicite то, чем последнее было implicite**. Действительно, самый первый момент зарождения нового индивида, истинное punctum saliens*** его жизни, надо видеть в том мгновении, когда его родители начинают друг друга любить — to fancy each other****, как очень метко выражаются англичане. И я уже сказал, что при обмене и встрече их страстных взоров возникает первый зародыш нового существа, который, разумеется, как и все зародыши, по большей части бывает растоптан. Этот новый индивид — до известной степени новая (платонова) идея; и как все идеи с величайшею напряженностью стремятся принять форму явления, жадно набрасываясь для этого на ту материю, которую между ними всеми распределяет закон причинности, так и эта особая идея человеческой индивидуальности с величайшею жадностью и напряжением тяготеет к своей реализации
448
в явлении. Эта жадность и напряжение и есть взаимная страсть будущих родителей. Она имеет бесчисленное множество степеней, но крайние точки ее во всяком случае можно определить как Αφροδίτη πάνδημος и οὐρανία*, существо же этой страсти повсюду одинаково. Что же касается ее степеней, то она тем могущественнее, чем более она индивидуализирована, т. е. чем более любимый индивид, по всей своей организации и свойствам, исключительно способен удовлетворить желание любящего и его потребность, определяемую собственными индивидуальными чертами последнего. От чего же именно эта пригодность зависит, это мы увидим из дальнейшего изложения. Прежде и существеннее всего любовная склонность тяготеет к здоровью, силе и красоте, а следовательно, и к молодости, ибо воля прежде всего стремится установить родовой характер человеческого вида, как основу всякой индивидуальности; повседневное волокитство ᾿Αφροδίτη πάνδημος дальше этого не очень-то и заходит. К этому присоединяются потом особые требования, которые мы ниже рассмотрим подробно и с которыми страсть усиливается, если только они видят перед собою возможность удовлетворения. Самые же высокие степени страсти вытекают из такой приспособленности обоих индивидов друг к другу, в силу которой воля, т. е. характер, отца и интеллект матери в своем сочетании образуют именно ту особь, по какой воля к жизни вообще, воплощенная в целом роде, чувствует тоску, соответствующую ее, родовой воли, величию и от того превышающую меру обыкновенного смертного сердца, — тоску, мотивы которой тоже выходят за пределы индивидуального разумения. В этом, следовательно, душа истинной, великой страсти. Чем совершеннее взаимная приспособленность и соответствие двух индивидов в тех разнообразных отношениях, которые мы рассмотрим ниже, тем сильнее оказывается их страсть друг к другу. Так как на свете не существует двух совершенно одинаковых индивидов, то каждому определенному мужчине должна лучше всего соответствовать одна определенная женщина, критерием для нас все время является здесь то дитя, которое они должны произвести. Как редки случаи, чтобы такие два индивида встретили друг друга, так редка и настоящая страстная любовь. Но ввиду того что возможность такой любви открыта для каждого из нас, всякому понятны ее описания в поэтических произведениях.
Именно потому, что любовная страсть, собственно говоря, сосредоточивается вокруг будущего дитяти и его свойств и здесь лежит ее ядро, между двумя молодыми и здоровыми людьми разного пола, благодаря совпадению их взглядов, характеров и особенностей ума вообще, может существовать дружба без всякой примеси половой любви; мало того, в этом последнем отношении между ними может существовать даже известная антипатия. Причину этого следует искать в том, что дитя, которое они могли бы родить, имело бы физически или духовно дисгармонирующие свойства, короче говоря, его жизнь и характер не соответствовали бы целям воли к жизни, как она воплощается в данном роде. Бывают противоположные случаи: несмотря на различия образа мыслей, характеров и особенностей ума вообще, несмотря на возникающую
449
отсюда антипатию и даже прямую враждебность, между индивидами разного пола может зародиться и окрепнуть половая любовь, и она ослепляет их по отношению ко всему остальному; и если она доводит их до брака, то последний бывает весьма несчастлив.
Перейдем теперь к более обстоятельному исследованию нашего предмета. Эгоизм так глубоко коренится в свойствах всякой индивидуальности вообще, что когда необходимо пробудить к деятельности какое-нибудь индивидуальное существо, то единственно надежными стимулами для этого являются эгоистические цели. И хотя род имеет на индивид изначальное, непосредственное и более значительное право, чем сама преходящая индивидуальность, но когда индивиду предстоит работать для благополучия и сохранения рода и даже приносить для этого жертвы, то его интеллект, рассчитанный на одни только индивидуальные цели, не может настолько ясно проникнуться важностью этого дела, чтобы поступать согласно ей. Вот почему в подобных случаях природа может достигнуть своей цели только тем, что внушает индивиду известную иллюзию, в силу которой ему кажется его личным благом то, что на самом деле составляет благо только для рода, и таким образом индивид служит последнему, воображая, что служит самому себе: перед ним проносится чистейшая химера, которая, побудив его на известный поступок, немедленно исчезает; и, в качестве мотива, она заменяет для него действительность. Эта иллюзия — инстинкт. В подавляющем большинстве случаев на последний надо смотреть как на чувство рода, которое предуказывает воле то, что полезно ему. Но так как воля стала здесь индивидуальной, то ее необходимо обмануть таким образом, чтобы то, что рисует перед нею чувство рода, она восприняла чувством индивида, т. е. чтобы ей казалось, будто она идет навстречу индивидуальным целям, между тем как на самом деле она стремится к целям лишь сугубо генеральным (это слово я беру здесь в самом подлинном его смысле30). Внешнее проявление инстинкта лучше всего наблюдать на животных, где его роль наиболее значительна; но тот внутренний процесс, который происходит при этом, мы, как и все внутреннее, можем изучать только на самих себе. Правда, иные думают, что у человека нет почти никаких инстинктов или, в крайнем случае, тот один, в силу которого новорожденный ищет и хватает материнскую грудь. Но в действительности у нас есть один очень определенный, ясный и даже сложный инстинкт, а именно инстинкт столь тонкого, рачительного и своевольного выбора другого индивида для удовлетворения половой потребности. Это удовлетворение само по себе, т. е. поскольку оно представляет собой чувственное наслаждение, основанное на настоятельной потребности индивида, — это удовлетворение вполне безразлично[285] к тому, красив или безобразен другой индивид. Если же мы все-таки обращаем столь серьезное внимание на эту красоту или безобразие и в силу нее так осмотрительно производим свой выбор, то это очевидно делается не в интересах самого выбирающего (хотя он-то лично в этом убежден), а в интересах истинной цели любви, т. е. ради будущего дитяти, в котором тип рода должен сохраниться в возможной чистоте и правильности. В силу тысячи физических (естественных) случайностей и нравственных невзгод возникают всевозможные отклонения от нормального человеческого облика, и тем
450
не менее истинный тип последнего во всех своих частях беспрестанно возобновляется, — этим мы обязаны чувству красоты, которое всегда руководит половым влечением и без которого последнее падает на степень отвратительной потребности. Вот почему каждый прежде всего решительно предпочитает и страстно желает самых красивых индивидов, т. е. таких, в которых родовой характер запечатлен с наибольшей чистотой; но потом он ищет в другом индивиде особенно настойчиво такие совершенства, которых недостает ему самому, и даже те несовершенства, которые противоположны его собственным, он находит прекрасными; оттого, например, малорослые мужчины тяготеют к высоким женщинам, блондины любят брюнеток и т. д. То упоительное восхищение, какое овладевает мужчиной при виде женщины соответствующей ему красоты, суля ему в соединении с нею высшее благо, — это именно и есть то чувство рода, которое, узнавая на челе этой женщины явный отпечаток рода, хотело бы именно с нею продолжать последний. На этом могучем тяготении к красоте и зиждется сохранение родового типа, вот почему и столь велико это тяготение. Ниже мы специально рассмотрим все те соображения, которые оно принимает в расчет. Таким образом, то, что здесь руководит человеком, это в действительности — инстинкт, который направлен на благо рода; между тем как сам человек воображает, что он находит только высшую степень личного наслаждения.
На самом же деле перед нами раскрываются здесь поучительные указания на внутреннюю сущность всякого инстинкта, который почти всегда, как и в данном случае, заставляет индивида действовать в интересах рода. Ибо очевидно, что та заботливость, с которой насекомое разыскивает определенный цветок, или плод, или навоз, или мясо, или, как ихневмоны, личинку другого насекомого, для того чтобы только туда положить свои яйца, для достижения этой цели не щадя трудов и пренебрегая опасностями, — эта заботливость очень похожа на ту, с какой мужчина для удовлетворения своей половой потребности тщательно выбирает женщину определенного склада, который бы удовлетворял его индивидуальному вкусу, и столь пылко желает ее, что нередко дня достижения этой цели он, наперекор всякому разуму, приносит в жертву счастье всей своей жизни: он вступает в нелепый брак или в такую любовную связь, которая отнимает у него достояние, честь и жизнь, или решается даже на преступление, например на прелюбодеяние или изнасилование, — и все это только для того, чтобы, покоряясь главенствующей над всем воле природы, наиболее целесообразно послужить роду, хотя бы и за счет индивида. Повсюду, значит, инстинкт выступает как деятельность, будто бы руководимая понятием цели, но в действительности совершенно лишенная его. Природа насаждает его там, где действующий индивид или неспособен был бы понять цель своих действий, или не согласился бы стремиться к ней; вот почему инстинкт обыкновенно и присущ только животным, и к тому же преимущественно низшим, которые меньше всего одарены умом. И почти исключительно в рассматриваемом случае инстинкт существует и у человека, который хотя и мог бы понимать цель, но не стремился бы к ней с должным усердием, т. е. даже в ущерб своему индивидуальному
451
благополучию. Таким образом, и
здесь, как и во всяком инстинкте, истина, для того чтобы воздействовать на
волю, принимает облик иллюзии. И вот сладострастная иллюзия внушает мужчине,
будто в объятиях женщины, которая пленяет его своей красотою, он найдет большее
наслаждение, чем в объятиях всякой другой; та же иллюзия, сосредоточенная исключительно
на одном и единственном индивиде, непоколебимо убеждает его, что
обладание им доставит ему необыкновенное счастье. И вот ему кажется, будто
усилия и жертвы расточает он ради собственного наслаждения, между тем как на
самом деле все это он производит для сохранения нормального типа рода или же
для того, чтобы получила бытие совершенно определенная индивидуальность,
которая может произойти только от данных родителей. Насколько полно сохраняется
здесь характер инстинкта, т. е. действия, как будто руководимого понятием цели,
а на самом деле совершенно лишенного его, видно из того, что объятый любовным
наваждением человек нередко даже испытывает отвращение к той самой цели, которая
только и направляет его, т. е. деторождению, и старается помешать ей: так
бывает почти при всякой внебрачной любви. Указанному мною существу половых
отношений вполне соответствует и то, что всякий влюбленный, достигнув наконец желанного
наслаждения, испытывает какое-то странное разочарование и поражается тому, что
осуществление его страстно желанной мечты совсем не дало ему большей радости,
чем дало бы всякое другое удовлетворение полового влечения. И это не служит к
его вящему поощрению. Его страстное желание, теперь удовлетворенное, так
относилось ко всем остальным его желаниям, как род относится к индивиду, т. е.
как бесконечное — - к конечному. Самое же удовлетворение идет собственно во
благо только роду и оттого не проникает в сознание индивида, который здесь,
одушевляемый волей рода, самоотверженно служил такой цели, какая его личной вовсе
и не была. Вот почему, следовательно, всякий влюбленный, осуществив свое
великое дело, чувствует себя обманутым, — исчезла та иллюзия, благодаря которой
индивид послужил здесь обманутой жертвой рода. От того Платон очень
хорошо и замечает: «voluptas
А все это, со своей стороны, проливает свет на инстинкты и творческие влечения животных. Без сомнения, и животные находятся во власти некоторого рода иллюзии, обманчиво сулящей им личное наслаждение, когда они так ревностно и самоотверженно трудятся в интересах рода: когда птица, например, вьет себе гнездо, когда насекомое ищет для своих яиц единственно годное место и даже выходит на поиски за добычей, которой оно не воспользуется, но которую надо положить рядом с яйцами как пищу для будущих личинок; когда пчела, оса, муравей воздвигают свои искусные постройки и ведут свое крайне сложное хозяйство. Бесспорно, все они подчиняются какой-то иллюзии, которая облекает служение роду в личину эгоистической цели. К тому, чтобы ясно понять тот внутренний, или субъективный, процесс, который лежит в основе проявлений инстинкта, это предположение иллюзии составляет, вероятно, единственный путь. С внешней же, или объектив-
452
ной, точки зрения дело
представляется так: те животные, которые в сильной степени подвластны
инстинкту, а именно насекомые обнаруживают преобладание ганглиенозной, т. е.
субъективной нервной системы над системой спинномозговой, или объективной
— из чего следует заключить, что эти животные влекомы в своих действиях не
столько объективным, правильным восприятием предметов, сколько субъективными представлениями,
которые возбуждают желания и которые возникают благодаря воздействию
ганглиенозной системы на мозг; следовательно, этих животных влечет известная иллюзия,
— и такова физиологическая сторона всякого инстинкта. Для пояснения
сказанного я напомню еще о другом, хотя и более слабом примере проявления
инстинкта в человеке, — о капризном аппетите беременных: по-видимому, он
появляется в силу того, что питание эмбриона иногда требует особой или определенной
модификации притекающей к нему крови и вследствие этого пища, которая могла бы
произвести такую модификацию, сейчас же представляется беременной женщине
предметом страстного желания: значит, и здесь возникает некоторая иллюзия.
Таким образом, у женщины одним инстинктом больше, чем у мужчины; также и
ганглиенозная система у нее гораздо более развита, чем у мужчины. Значительное преобладание
головного мозга в человеке служит причиной того, что люди имеют меньше
инстинктов, чем животные, и что даже эти немногие инстинкты легко подвергаются
у них извращению. А именно чувство красоты, инстинктивно руководящее человеком
при выборе объекта полового удовлетворения, извращается, вырождаясь в
наклонность к педерастии; аналогию этому представляет то, что мясная муха (musca
v
То, что в основе всякой половой любви лежит инстинкт, направленный исключительно на будущее дитя, — это станет для нас вполне несомненным, если подвергнуть природу инстинкта более детальному анализу, который поэтому неминуемо и предстоит нам.
Прежде всего надо заметить, что мужчина по своей природе обнаруживает склонность к непостоянству в любви, а женщина — к постоянству. Любовь мужчины заметно слабеет с того момента, когда она получит себе удовлетворение: почти всякая другая женщина для него более привлекательна, чем та, которою он уже обладает, и он жаждет перемены; любовь женщины, наоборот, именно с этого момента возрастает. Это — результат целей, которые ставит себе природа: она заинтересована в сохранении, а потому и в возможно большем размножении рода. В самом деле: мужчина легко может произвести на свет больше ста детей в год, если к его услугам будет столько же женщин; напротив того, женщина, сколько бы мужчин она ни знала, все-таки может произвести на свет только одно дитя в год (я не говорю здесь о двойнях). Вот почему он всегда засматривается на других женщин, она же сильно привязывается к одному, ибо природа инстинктивно и без всякой рефлексии побуждает ее заботиться о кормильце и защитнике будущего потомства.
453
И оттого супружеская верность имеет у мужчины характер искусственный, а у женщины — естественный; и таким образом, прелюбодеяние женщины как в объективном отношении, по своим последствиям, так и в субъективном отношении, по своей противоестественности, гораздо более непростительно, чем прелюбодеяние мужчины.
Но чтобы не быть голословным и вполне убедиться в том, что удовольствие, которое нам доставляет другой пол, как бы объективно оно ни казалось, на самом деле не что иное, как замаскированный инстинкт, т. е. чувство рода, стремящегося к сохранению своего типа, — для этого мы должны точно исследовать даже те мотивы, которые руководят нами при выборе объектов этого удовольствия, и войти здесь в некоторые специальные подробности, как ни странно может показаться, что подлежащие нашему анализу детали находят себе место в философском произведении. Эти мотивы распадаются на следующие категории: одни из них относятся к типу рода, т. е. к красоте, другие имеют своим предметом свойства психики, наконец, третьи носят чисто относительный характер и возникают из необходимости взаимных коррективов или нейтрализации односторонностей и аномалий обоих любящих индивидов. Рассмотрим все эти категории по отдельности.
Главное соображение, определяющее наш выбор и нашу склонность, это — возраст. В общем он удовлетворяет нас в этом отношении начиная с периода, когда появляются менструации, и до того, когда они прекращаются; но особое предпочтение мы отдаем поре от восемнадцати до двадцати восьми лет. За этими пределами ни одна женщина не может быть для нас привлекательной: старая женщина, т. е. уже не имеющая менструаций, вызывает у нас отвращение. Молодость без красоты все еще привлекательна, красота без молодости — никогда. Очевидно, соображение, которое здесь бессознательно руководит нами, — это возможность деторождения вообще; оттого всякий индивид теряет свою привлекательность для другого пола в той мере, в какой он удаляется от периода наибольшей пригодности для производительной функции или для зачатия. Второе соображение — это здоровье: острые болезни являются в наших глазах только временной помехой; болезни же хронические или худосочие совершенно отталкивают нас, потому что они переходят на ребенка. Третье соображение — это скелет, потому что на нем зиждется тип рода. После старости и болезни ничто так не отталкивает нас, как искривленная фигура: даже самое красивое лицо не может нас вознаградить за нее; напротив, мы безусловно предпочитаем самое безобразное лицо, если с ним соединяется стройная фигура. Далее, всякая непропорциональность в строении скелета действует на нас наиболее заметным и сильным образом, например кривобокая, скрюченная, коротконогая фигура и т. п., даже хромающая походка, если она не является результатом какой-нибудь внешней случайности. Наоборот, поразительно красивый стан может возместить всякие изъяны: он очаровывает нас. Сюда же относится и то, что все высоко ценят маленькие ступни: последние — существенный признак рода, и ни у одного животного tarsus и metatarsus*, взятые вместе, так не малы, как у человека, что
454
находится в связи с его прямою
походкой: человек — существо прямостоящее. Вот почему и говорит Иисус Сирах
(26, 23, по исправленному переводу Крауза): «Женщина, которая стройна и у
которой красивые ноги, подобна золотой колонне на серебряной опоре». Важны для
нас и зубы, потому что они играют очень существенную роль в питании и особенно
передаются по наследству. Четвертое условие — это известная полнота тела,
т. е. преобладание растительной функции, пластичности: оно обещает плоду
обильное питание, и оттого сильная худоба сразу отталкивает нас. Полная женская
грудь имеет для мужчины необыкновенную привлекательность, потому что, находясь
в прямой связи с детородными функциями женщины, она сулит новорожденному
обильное питание. С другой стороны, чрезмерно жирные женщины противны нам: дело
в том, что это свойство указывает на атрофию uterus’а* т. е. на бесплодие; и знает об этом не голова, а инстинкт.
Только последнюю роль в нашем выборе
играет красота лица. И здесь прежде всего принимаются в соображение костные части: вот почему главное внимание
мы обращаем на красивый нос; короткий
вздернутый нос портит все. Счастье целой жизни для множества девушек решил маленький изгиб носа кверху или книзу; и это справедливо, потому что дело здесь
идет о родовом типе. Маленький рот,
обусловленный маленькими челюстями, играет очень важную роль, потому что он составляет специфический признак человеческого лица в противоположность пасти животных.
Отставленный назад, как бы отрезанный
подбородок в особенности противен, потому что mentum pr
Те бессознательные соображения, которым, с другой стороны, следует в своем выборе женщина, естественно, не могут быть нам известны с такой же точностью. В общем можно утверждать следующее. Женщины предпочитают возраст от 30 до 35 лет и отдают ему преимущество даже перед юношеским возрастом, когда ведь на самом деле человеческая красота достигает высшего расцвета. Объясняется это тем, что женщинами руководит не вкус, а инстинкт, который в мужественном возрасте угадывает пик производительной силы. Вообще, они мало обращают внимание на красоту, т. е., собственно, на красоту лица: точно они берут всецело на себя дать ее ребенку. Главным образом побеждает их сила и связанная с нею отвага мужчины, потому что это обещает им рождение здоровых детей и в то же время мужественного защитника последних. Каждый физический недостаток мужчины, каждое уклонение от типа женщина может в родившемся дитяти возместить, если она сама в тех же отношениях безукоризненна или представляет уклонение в противоположную сторону. Отсюда необходимо исключить только те свойства мужчины, которые специально присущи его полу и которых поэтому мать не может передать своему ребенку: сюда относятся мужское строение скелета, широкие плечи, узкие бедра, прямые ноги, мускульная
455
сила, мужество, борода и т. п. Вот почему женщины любят безобразных мужчин; но никогда не полюбит женщина мужчину немужественного, потому что она не могла бы нейтрализовать его недостатков.
Вторая категория соображений, лежащих в основе половой любви, это — та, которая относится к свойствам психики. В этой области мы видим, что женщину всегда привлекают в мужчине достоинства его сердца, или характера, которые составляют отцовское наследие. В особенности пленяет женщину сила воли, решительность и мужество, а также, пожалуй, благородство и доброе сердце. В противоположность этому интеллектуальные преимущества не имеют над нею инстинктивной и непосредственной власти именно потому, что эти свойства наследуются не от отца. Ограниченность не вредит успеху у женщин; скорее помешают здесь выдающиеся умственные силы и даже гениальность, как явления ненормальные. Вот почему некрасивый, глупый и грубый мужчина нередко затмевает в глазах женщины человека хорошо сложенного, даровитого и милого. Да и браки по любви иногда заключаются между людьми, которые в духовном отношении совершенно разнородны: например, он — груб, крепок и ограничен, она — нежна, чутка, с изящной мыслью, образованна, восприимчива к прекрасному и т. п., или же он — гениален и учен, она — глупа:
Sic
visum Veneri; cui placet impares
Formas
atque animos sub juga aēnea
Sævo
mittere cum ioco*.
Объясняется это тем, что преобладающую роль играют здесь вовсе не интеллектуальные, а совершенно другие побуждения, а именно побуждения инстинкта. Брак заключается не ради остроумных собеседований, а для рождения детей. Это — союз сердец, а не умов. Когда женщина утверждает, что она влюбилась в ум мужчины, то это — суетная и смешная выдумка или же аномалия выродившегося существа. Что же касается мужчин, то они в своей инстинктивной любви к женщине руководятся не свойствами ее характера; вот почему столько Сократов имело своих Ксантипп, например Шекспир, Альбрехт Дюрер, Байрон и др. Интеллектуальные же свойства, бесспорно, оказывают здесь влияние именно потому, что они передаются по наследству от матери; но все же их влияние легко перевешивается влиянием физической красоты, которая, затрагивая более существенные пункты, производит на мужчину и более непосредственное действие. И вот матери, чувствуя или зная по опыту, какую роль в глазах мужчины играет ум девушки, обучают своих дочерей изящным искусствам, языкам и т. п., для того чтобы сделать их привлекательными для мужчин; искусственными средствами приходят они на помощь интеллекту, подобно тому как в надлежащих случаях такие же средства употребляются по отношению к бедрам и груди. Необходимо помнить, что я все время веду здесь речь о совершенно непосредственном, инстинктивном влечении, из которого только и возникает настоящая влюбленность. Тот факт, что умная
456
и образованная девушка ценит в мужчине ум и дарование, что мужчина по разумном размышлении подвергает внимательному испытанию характер своей невесты, — все это не имеет никакого отношения к тому предмету, о котором я здесь толкую: всем этим руководствуется человек при благоразумном выборе для брачного союза, но не при страстной любви, которая только и служит здесь темой наших соображений.
До сих пор я рассматривал только абсолютные соображения, т. е. такие, которые имеют силу для всякого; теперь перехожу к соображениям относительным, которые индивидуальны, потому что в них все рассчитано на то, чтобы исправить существующий уже с изъянами родовой тип, скорректировать те уклонения от него, какими отягощена личность самого выбирающего, и таким образом дать типу его чистое выражение. Здесь поэтому всякий любит то, чего недостает ему самому. Выбор, основанный на таких относительных соображениях, исходя из индивидуальных свойств и обращаясь на индивидуальные же свойства, имеет гораздо более определенный, решительный и исключительный характер, чем тот, который исходит из соображений абсолютных; вот почему страстная любовь, в настоящем смысле этого слова, по большей части ведет свое начало от этих относительных соображений, и только обыкновенная, более легкая склонность вытекает из соображений абсолютных. В связи с этим великую страсть обыкновенно зажигают в мужчине вовсе не безукоризненные, идеальные красавицы. Для возникновения подобного действительно страстного влечения необходимо нечто такое, что можно выразить только посредством химической метафоры: оба любовника должны нейтрализовать друг друга, как нейтрализуются кислота и щелочь в среднюю соль. Необходимые для этого условия в существенном таковы. Во-первых, всякая половая определенность — односторонность. В одном индивиде она выражается сильнее и имеет более высокую степень, чем в другом; поэтому в каждом индивиде она может быть дополнена и нейтрализована предпочтительно теми, а не иными свойствами другого пола, ведь индивид нуждается в такой односторонности, которая индивидуально противоположна его собственной, для того чтобы восполнить тип человечества в новом индивиде, которому предстоит родиться и к свойствам которого все только и сводится. Физиологам известно, что половые признаки допускают бесчисленное множество степеней, так что мужчина спускается до отвратительной формы гинандера и гипоспадея33, а женщина возвышается до грациозной андрогины; с обеих сторон дело может дойти до полного гермафродитизма, — на этой ступени находятся те индивиды, которые занимают как раз середину между обоими полами, не могут быть причислены ни к тому, ни к другому и, следовательно, негодны к деторождению. Для той взаимной нейтрализации двух индивидуальностей, о которой мы говорим, необходимо поэтому, чтобы определенная степень его мужественности точно соответствовала определенной степени ее женственности; при таком условии обе односторонности взаимно сгладятся. И оттого самый мужественный мужчина будет искать самую женственную женщину, и vice versa** и точно так же всякий индивид будет тяготеть
457
к такому индивиду, который соответствует ему по степени половой определенности. Насколько между двумя особями существует в этом смысле необходимое соотношение, это они чувствуют инстинктивно, и это, наряду с другими относительными соображениями, лежит в основании высших степеней влюбленности. И поэтому когда влюбленные патетически говорят о гармонии своих душ, то в большинстве случаев это сводится к соответствию, которое существует между ними по отношению к их будущему дитяти и его совершенствам, что, очевидно, гораздо важнее, нежели гармония их душ, которая часто, вскоре после свадьбы, разрешается в самый вопиющий диссонанс. К этому примыкают и дальнейшие относительные соображения, и все они основываются на том, что каждый индивид стремится ликвидировать свои слабости, недостатки и уклонения от нормального человеческого типа — в соединении с другою особью, для того чтобы они не повторились в их будущем дитяти или не разрослись до полной аномалии. Чем слабее мужчина в мускульном отношении, тем больше станет он искать сильных женщин; то же, со своей стороны, делают женщины. Но так как у женщин, по самой их природе, как правило, мускулатура обыкновенно слабее, то они обыкновенно и предпочитают мужчин посильнее.
Далее, важную роль в половой любви играет рост. Мужчины малого роста имеют решительную склонность к большим женщинам, и vice versa. При этом любовь маленького мужчины к большим женщинам будет особенно страстна, если он сам родился от большого отца и только благодаря влиянию матери остался маленьким: это потому, что от отца он унаследовал такую систему сосудов и такую ее энергию, которые могли бы снабжать кровью большое тело. Если же его отец и дед сами уже были малого роста, то эта склонность будет менее заметна. Если большие женщины не любят больших мужчин, то это объясняется тем, что природа стремится не допускать слишком крупного статью поколения в тех случаях, когда при силах данной женщины оно оказалось бы слишком слабо для того, чтобы быть долговечным. И если такая женщина все же выберет себе великорослого супруга, хотя бы для большей представительности в обществе, то за эту глупость должно будет, как правило, расплачиваться потомство.
Очень важна далее и окраска волос и кожи. Белокурые непременно тяготеют к черноволосым или шатенкам; наоборот же бывает редко. Объясняется это тем, что белокурые волосы и голубые глаза составляют уже некоторую игру природы, почти аномалию, нечто вроде белых мышей или, по крайней мере, белой лошади. Они не встречаются ни в какой другой части света, кроме Европы; их нет даже вблизи полюсов, и вышли они, очевидно, из Скандинавии. Кстати выскажу здесь свое мнение, что белый цвет кожи не естествен для людей, а природная кожа их — черная или коричневая, как у наших родоначальников-индусов; первоначально из недр природы не выходил ни один белый человек, и, следовательно, белой расы вовсе и не существует, несмотря на все толки о ней: каждый белый человек — это человек вылинявший. Оттесненный на чуждый для него север, где он чувствует себя каким-то экзотическим растением и, подобно ему, зимою нуждается в теплице, человек на протяжении тысячелетий сделался белым. Цыгане, это индийское племя,
458
которое переселилось к нам не более четырех столетий назад, являют нам переход от индусской окраски тела к нашей*. Вот почему в половой любви природа стремится обратно к черным волосам и темным глазам, т. е. к прототипу. Что же касается белого цвета кожи, то он стал нашей второй природой, хотя и не настолько, чтобы нас отталкивал коричневый цвет индусов.
Наконец, и в отдельных частях тела каждый ищет коррективов для своих недостатков и аномалий, и тем усерднее, чем важнее эта часть. Вот почему курносые индивиды несказанно любят носы ястребиные, физиономии попугаеподобные. То же замечается и относительно других частей тела. Люди чрезмерно стройные, с вытянутым в длину телом, могут даже находить привлекательность в приземистых и сутуловатых фигурах.
Аналогичное действие имеют особенности темперамента: всякий предпочитает темперамент, противоположный собственному, но лишь в той мере, в какой последний отличается полной определенностью. Кто сам в каком-либо отношении вполне совершенен, тот если и не тяготеет в другой особи к соответственным недостаткам, во всяком случае легче других примиряется с ними, потому что сам он обеспечивает своих будущих детей от больших недостатков в данном отношении. Кто, например, обладает очень белым цветом кожи, того не оттолкнет в другой особи желтоватый цвет лица, а кто сам отличается желтизною, тот в ослепительной белизне будет видеть нечто божественно прекрасное. Редкий случай, чтобы мужчина влюбился в решительно и вполне безобразную женщину, бывает тогда, когда при упомянутой выше точной гармонии в степени половой характеристики все аномалии этой женщины как раз противоположны его собственным, т. е. составляют по отношению к ним корректив. Влюбленность достигает тогда обыкновенно весьма высокой степени.
Та глубокая серьезность, с которой мы испытующе рассматриваем каждую часть женского тела и с которой женщины, в свою очередь, рассматривают мужчин; та критическая разборчивость, с которой мы оглядываем женщину, начинающую нам нравиться; своеволие нашего выбора, то напряженное внимание, с которым жених наблюдает свою невесту; его осмотрительность и опасение, как бы не обмануться ни в одной ее части; то высокое значение, которое он приписывает всякому плюсу или минусу в наиболее существенных частях ее тела, — все это вполне отвечает серьезности самой цели. Ибо тот ребенок, что родится у них, обречен будет всю жизнь свою иметь подобную материнской особенность этой части тела; если, например, женщина хоть несколько кривобока, то она легко может взвалить на плечи своего сына горб, — так это обстоит и по отношению ко всему остальному. Конечно, сознания всех этих деталей у нас не появляется, наоборот, всякий воображает, будто он совершает этот трудный выбор исключительно ради собственного наслаждения (которое в сущности и не может здесь играть никакой роли). Однако, несмотря на эту бессознательность, всякий делает именно такой выбор, какой, исходя из предпосылок его собственной телесной организации, соответствует интересам рода: сохра-
459
нить тип этого рода в возможной чистоте — вот что является здесь тайною задачей. Индивид действует здесь, сам не зная того, по поручению некоторого высшего начала — рода: отсюда та значимость, какую он придает вещам, к которым он, в качестве индивида, мог бы и даже должен был бы относиться равнодушно. Есть нечто совершенно своеобразное в той глубокой, бессознательной серьезности, с какою два молодых человека разного пола рассматривают друг друга при первой встрече, в тех испытующих и проницательных взглядах, которыми они обмениваются, в том внимательном осмотре, которому они оба подвергают все черты и органы друг друга. Это изучение и испытание — не что иное, как размышление гения рода о том индивиде, который может родиться от данной четы, и о комбинациях его свойств. От результатов этого размышления зависит степень того, насколько молодые люди понравятся друг другу и насколько сильно будет их взаимное влечение. Последнее, достигнув уже значительной степени, может внезапно опять угаснуть, если откроется что-нибудь такое, что раньше оставалось незамеченным. Таким образом, во всех людях, способных к деторождению, гений рода размышляет о грядущем поколении. Созидание последнего — вот та великая работа, которой неустанно занимается Купидон в своих делах, в своих мечтах и мыслях. Сравнительно с важностью его великого дела, которое касается рода и всех грядущих поколений, дела индивидов в их эфемерной совокупности очень мелки, и поэтому Купидон всегда готов без дальней думы принести эти индивиды в жертву. Ибо он относится к ним, как бессмертный к смертным, и его интересы относятся к их интересам, как бесконечные к конечным. Итак, Купидон в сознании того, что он ведает заботы гораздо высшего порядка, нежели те, которые касаются только индивидуального благополучия и горя, отдается им с возвышенной невозмутимостью — в шуме войны, в сутолоке практической жизни или в разгар чумы, и они влекут его даже в уединенные кельи монастыря.
Выше мы видели, что интенсивность влюбленности возрастает с ее индивидуализацией: мы указали, что физические свойства обоих индивидов могут быть таковы, что в целях возможно лучшего восстановления родового типа один индивид служит вполне специфическим и совершенным восполнением другого и поэтому чувствует вожделение исключительно к нему. В этом случае возникает уже серьезная страсть, которая — именно потому, что она обращена на единственный объект и только на него, т. е. действует как бы по специальному поручению рода, — и получает непосредственно более возвышенный и благородный характер. Наоборот, обыкновенное половое влечение пошло, так как, чуждое индивидуализации, оно направлено на всех и стремится к сохранению рода только в количественном отношении, без особого внимания к его качеству. Индивидуализация же, а с нею и интенсивность влюбленности может иногда достигать такой высокой степени, что если ей не дают удовлетворения, то все блага мира и даже сама жизнь теряют для нас всякую цену. Она превращается тогда в желание, которое возрастает до совершенно необычайной напряженности, ради которого мы готовы на всякие жертвы и которое, если нам бесповоротно отказывают в его осуществлении, способно довести до сумасшествия или до самоубийства. В основе такой чрезмерной страсти, вероятно, лежат
460
какие-то другие бессознательные
побуждения, помимо указанных выше, — для нас не столь очевидные. Мы должны
поэтому допустить, что здесь не только телесные организации, но и воля
мужчины и интеллект женщины, находятся между собою в каком-то специальном
соответствии, в результате чего только они именно, этот мужчина и эта женщина, и
могут породить вполне определенную особь, существование которой задумал гений
рода по соображениям, коренящимся в сущности вещи в себе и потому для нас
недоступным. Или, говоря точнее: воля к жизни хочет здесь объективироваться в
совершенно определенном индивиде, который может произойти только от этого отца
и от этой матери. Это метафизическое вожделение воли, как таковой, не имеет непосредственно
другой сферы действия в ряду живых существ, кроме сердец будущих родителей,
которые поэтому и охвачены любовным порывом и мнят, будто они только ради самих
себя желают того, на самом деле пока еще имеет цель только чисто
метафизическую, т. е. лежащую вне сферы реально наличных вещей. Таким
образом, вытекающее из первоисточника всех существ стремление будущего
индивида, который здесь только становится возможным, стремление этого индивида войти
в бытие — вот что в явлении представляется нам как высокая, всем другим
пренебрегающая страсть будущих родителей друг к другу; а на самом деле это —
беспримерная иллюзия, в силу которой влюбленный готов отдать все блага мира за
то, чтобы совокупиться именно с этой женщиной, между тем как в действительности
она не даст ему больше, чем всякая другая. А то, что все дело здесь именно в
совокуплении, вытекает из того, что даже эта высокая страсть, как и всякая
другая, гаснет в наслаждении, к великому изумлению ее участников. Она гаснет и
тогда, когда, к примеру, бесплодность женщины (по Гуфеланду, это бывает в силу
девятнадцати случайных недостатков телосложения) разрушает истинную метафизическую
цель, как рушится последняя и ежедневно, в миллионах растаптываемых зародышей,
в которых ведь тоже стремится к бытию то же метафизическое жизненное начало; в
этой потере нет другого утешения, кроме того, что воле к жизни открыта
бесконечность пространства, времени, материи, а следовательно, и неисчерпаемая
возможность вернуться в бытие. По-видимому, Теофраст Парацельс, который
не обсуждал этой темы и был очень далек от всего строя моих воззрений, все-таки
предвосхитил, хотя и мимолетно, изложенную здесь мысль: дело в том, что в
совершенно другом контексте и в своей обычной беспорядочной манере он записал однажды
следующее интересное замечание: «Hi sunt, quos Deus copulavit, ut earn,
quæ fuit Uriæ et David; quamvis ex diametro (sic enim sibi humana
mens persuadebat) cum iusto et legitimo matrimonio pugnaret hoc. …sed propter
Sal
461
Тоска любви, ἴμερος, которую поэты всех времен неутомимо воспевали на разные и бесконечные лады и которую все-таки не исчерпали, которая даже не под силу их изобразительной мощи; эта тоска, которая с обладанием определенной женщиной соединяет представление о бесконечном блаженстве и невыразимую боль соединяет с мыслью, что такое обладание недостижимо, — эта тоска и эта боль любви не могут извлекать своего содержания из потребностей какого-нибудь эфемерного индивида: нет, это — вздохи гения рода, который видит, что здесь ему суждено обрести или потерять незаменимое средство для своих целей, и потому он горько стенает. Только род имеет бесконечную жизнь, и поэтому только он способен к бесконечным желаниям, к бесконечному удовлетворению и к бесконечным скорбям. Между тем здесь все это заключено в тесную грудь смертного существа: что же удивительного, если эта грудь иногда готова разорваться и не может найти выражения для переполняющих ее предчувствий бесконечного блаженства или бесконечной скорби. Вот что, следовательно, дает содержание высоким образцам эротической поэзии, которая поэтому и изливается в трансцендентных метафорах, воспаряющих над всем земным. Об этом пел Петрарка, это — материал для создания образов Сен-Прё, Вертера и Джакопо Ортизи, которых иначе нельзя было ни понять, ни объяснить. Ибо на каких-нибудь духовных, вообще объективных, реальных преимуществах любимой женщины не может основываться та бесконечно высокая оценка, которую мы даем нашей возлюбленной, хотя бы уже потому, что последняя для этого часто недостаточно знакома влюбленному, как это было в случае с Петраркой. Только дух рода один может видеть с первого же взгляда, какую цену имеет женщина для него, для его целей. И великие страсти возникают обыкновенно с первого же взгляда:
Who ever lov’d, that lov’d not at first sight?
Shakespeare, As you like it, III, 5*.
Замечательно в этом отношении одно место из знаменитого вот уже двести пятьдесят лет романа «Guzman de Alfarache», Матео Алемана: «No es necessario, para que uno ame, que pase distancia de tiempo, que siga discurso, ni haga eleccion, sino que con aquella primera y sola vista, concurran juntamente rierta correspondencia ó consonancia, ó lo que acá solemos vulgarmente decir, una cońfrontation de sangre, à que por particular influxo suelen mover las estrellas». («Для того чтобы полюбить, не нужно много времени, не нужно размышлять и делать выбор: необходимо только, чтобы при первом и единственном взгляде возникло некоторое взаимное соответствие и сочувствие — то, что в обыденной жизни мы называем обыкновенно симпатией крови и к чему побуждает обыкновенно особое влияние созвездий», p. 2, 1. 3, cap. 5.) Вот почему и утрата любимой женщины, похищенной соперником или смертью, составляет для страстно влюбленного такую скорбь, горше которой нет ничего: эта скорбь имеет характер трансцендентный, потому что она поражает
462
человека не как простого индивида, а в его essentia æterna*, в жизни рода, чью специальную волю и поручение он исполнял своей любовью. Оттого-то ревность столь мучительна и яростна, и отречься от любимой женщины — это значит принести величайшую из жертв. Герой стыдится всяких жалоб, но только не жалоб любви; ибо в них вопит не он, а род. В «Великой Зиновии» Кальдерона есть во втором акте сцена между Зиновией и Децием; последний говорит:
Cielos, luego tu me quieres?
Perdiera tien mil victorias,
Volviérame, etc.
(О небо, значит, любишь ты
меня?!
За это я отдал бы тысячи
побед,
отступил бы с поля брани и т. д.)
Таким образом, честь, которая до сих пор преобладала над
всеми интересами, сейчас же уступает
поле битвы, как только в дело вмешивается половая
любовь, т. е. интерес рода; на стороне любви оказываются решительные преимущества, потому что
интерес рода бесконечно сильнее, чем
самый важный интерес, касающийся только индивидов. Исключительно перед интересом рода отступают честь, долг
и верность, которые до сих пор
противостояли всяким другим искушениям и даже угрозам смерти. Обращаясь к частной жизни, мы тоже видим, что ни в одном пункте совестливость не
встречается так редко, как именно здесь:
даже люди вполне справедливые и честные иногда поступаются своею честностью и не задумываясь изменяют
супружескому долгу, когда ими
овладевает страстная любовь, т. е. интерес рода. И кажется даже, что в этом случае они отчетливо
верят в то, что имеют оправдание более
высокое, нежели то, какое могли бы представить какие бы то ни было интересы индивидов, — именно потому,
что они поступают в интересах рода.
Замечательно в этом смысле изречение Шамфора: « Quand un h
463
соединению двух страстно влюбленных существ: в стремлении к своим целям, направленным на бесконечные ряды грядущих поколений, как пух сдувает он со своего пути все подобные условности и соображения человеческих уставов. В силу тех же глубоких оснований, там, где дело идет о цели, к которой стремится любовная страсть, человек охотно идет на всякую опасность, и даже робкий становится тогда отважным. Точно так же и в драмах и романах мы с участием и отрадой видим, как молодые герои борются за свою любовь, т. е. за интересы рода, как они в этой борьбе одерживают победу над стариками, которые думают только о благе индивидов. Ибо стремления влюбленных представляются нам настолько более важными, возвышенными и потому более справедливыми, чем всякое другое стремление, им противодействующее, насколько род значительнее индивида. Вот почему основной темой почти всех комедий служит появление гения рода с его целями, которые противоречат личному интересу изображаемых индивидов и потому грозят разрушить их счастье. Обыкновенно гений рода достигает своих целей, и это, как соответствующее поэтической справедливости, дает зрителю удовлетворение: ведь последний чувствует, что цели рода значительно возвышаются над целями индивидов. И оттого в последнем действии зритель вполне спокойно покидает увенчанных победой любовников, так как и он разделяет с ними ту иллюзию, будто они воздвигли этим фундамент собственного счастья, между тем как на самом деле они пожертвовали им для блага рода, вопреки желанию предусмотрительных стариков. В некоторых, неестественных комедиях были попытки представить все дело в обратном виде и упрочить счастье индивидов в ущерб целям рода: но тогда зритель чувствует ту скорбь, какую испытывает при этом гений рода, и его не утешают приобретенные такой ценой блага индивидов. Как примеры этого рода можно назвать две очень известные маленькие пьесы: «La reine de 16 ans» и «Le mariage de raison»*. В большинстве трагедий с любовной интригой, когда цели рода не осуществляются, влюбленные, которые служили его орудием, тоже погибают, например в «Ромео и Джульетте», «Танкреде», «Дон Карлосе», в «Валленштейне», «Мессинской невесте» и т. д.
Когда человек влюблен, то это часто порождает комические, а иногда и трагические явления — и то и другое потому, что, одержимый духом рода, он всецело подчиняется его власти и не принадлежит больше самому себе: вот отчего его поступки и не сообразны тогда индивидуальному интересу. Если на высших степенях влюбленности его мысли получают возвышенную и поэтическую окраску, если они принимают даже трансцендентное и сверхъестественное направление, в силу которого он, как это кажется, совершенно теряет из виду свою настоящую цель, — то это объясняется тем, что он вдохновлен теперь гением рода, дела которого бесконечно важнее, чем все касающееся только индивидов, вдохновлен для того, чтобы во исполнение его специального поручения заложить основание всей жизни для неопределенно долгого ряда грядущих поколений, отличающихся именно данными, индивиду-
464
ально и строго определенными свойствами, которые они, эти поколения, могут получить только от него, как отца, и от его возлюбленной, как матери, причем самые эти поколения, как таковые, иначе, т. е. помимо него, никогда не могли бы достигнуть бытия, между тем как объективация воли к жизни этого бытия решительно требует. Именно смутное сознание того, что он действует в интересах такой трансцендентной важности, — вот что поднимает влюбленного столь высоко над всем земным, даже над самим собою, и дает его весьма приземленным физическим желаниям такое сверхфизическое облачение, что любовь является поэтическим эпизодом даже в жизни самого прозаического человека (в последнем случае дело принимает иногда комический вид). Это поручение воли, объективирующейся в роде, представляется сознанию влюбленного под личиной предчувствия бесконечного блаженства, которое он будто бы может найти в соединении именно с этой, индивидуальной женщиной. При высших степенях влюбленности эта химера облекается в такое сияние, что в тех случаях, когда она не может быть достигнута, жизнь теряет для человека всякую прелесть и обращается в нечто столь безрадостное, пустое и противное, что отвращение к ней перевешивает даже страх смерти и люди в этом положении часто добровольно обрывают свою жизнь. Воля такого человека попадает в водоворот воли рода; иначе говоря, последняя настолько получает перевес над индивидуальной волей, что если та не может действенно проявиться в своем первом качестве, как воля рода, то она презрительно отвергает действенность и в качестве последнем, как воли индивидуальной. Индивид является здесь слишком слабым сосудом для того, чтобы он мог вместить в себе беспредельную тоску воли рода, тоску, которая сосредоточена на каком-нибудь определенном объекте. Вот почему в этих случаях исходом бывает самоубийство, иногда одновременное самоубийство влюбленных; помешать ему может только природа, когда она для спасения жизни посылает безумие, которое при помощи своего покрова скрывает от человека сознание этого безнадежного положения. Года не проходит, чтобы несколько случаев каждого рода не подтверждали всей реальности того, о чем я говорю.
Но не только неудовлетворенная любовь имеет порою трагический исход: нет, и удовлетворенная тоже чаще ведет к несчастью, чем к счастью. Ибо ее притязания нередко так сильно сталкиваются с личным благополучием влюбленного, что подрывают последнее, так как они несоединимы с прочими сторонами его существования и разрушают построенный на них план его жизни. Да и не только с внешними обстоятельствами любовь часто вступает в противоречие, но даже и с собственной индивидуальностью человека, ибо страсть направляется на такие существа, которые, помимо половых отношений, способны возбуждать у влюбленного одно только презрение и даже прямое отвращение. Но воля рода настолько могущественнее воли индивида, что влюбленный закрывает глаза на все эти непривлекательные для него свойства, ничего не видит, ничего не сознает и навсегда соединяется с предметом своей страсти так ослепляет его эта иллюзия, которая, лишь только воля рода получит себе удовлетворение, исчезает и взамен
465
себя оставляет ненавистную спутницу жизни. Только этим и объясняется то, что очень умные и даже выдающиеся мужчины часто соединяются с какими-то чудовищами и дьяволами в образе супруги, и мы тогда удивляемся, как это они могли сделать подобный выбор. Вот почему древние и изображали Амура слепым. Влюбленный может даже ясно видеть и с горечью сознавать невыносимые недостатки в темпераменте и характере своей невесты, сулящие ему несчастную жизнь, и тем не менее это не пугает его:
I ask not, I care not,
If guilt’s thy heart;
I know that I love thee,
Whatever thou art*.
Ибо, в сущности, влюбленный преследует не свои интересы, а интересы кого-то третьего, который должен еще только возникнуть, хотя его и пленяет иллюзия, будто он печется здесь о своем личном деле. Но именно это стремление не к своим интересам, как признак всего великого, и придает страстной любви оттенок возвышенного и делает ее достойным объектом поэтического творчества. Наконец, половая любовь уживается даже с сильнейшей ненавистью к ее предмету; вот почему еще Платон сравнил ее с любовью волков к овцам37. Это бывает именно тогда, когда страстно влюбленный, несмотря на все свои усилия и мольбы, ни за что не может добиться благосклонности:
I love and hate her.
Shakespeare, Cymb., III, 5*.
Зажигающаяся тогда ненависть к любимой женщине заходит порою столь далеко, что влюбленный убивает ее, а затем и себя. По нескольку случаев такого рода обыкновенно происходит каждый год: прочтите в английских и французских газетах. Совершенно верны поэтому следующие стихи Гете:
Постылые
исчадья преисподней!
Мне
жаль, что нет ругательств попригодней!39
Это в самом деле не гипербола, когда влюбленный называет жестокостью холодность возлюбленной и тщеславное удовольствие, которое она испытывает, глядя на его страдания. Ибо он находится во власти такого побуждения, которое, будучи родственно инстинкту насекомых, заставляет его, вопреки всем доводам рассудка, неуклонно стремиться к своей цели и ради нее пренебрегать всем другим: он не может поступать иначе. На свете был не один Петрарка: их было много — людей,
466
которые неудовлетворенную тоску своей любви должны были в течение всей своей жизни влачить на себе, как вериги, как оковы на ногах, и в одиночестве лесов изливали свои стоны; но только одному Петрарке был в то же время присущ и поэтический гений, так что к нему относятся прекрасные стихи Гете:
И
если человек в страданьях нем,
Мне
бог дает поведать, как я стражду40.
И в самом деле, гений рода ведет постоянную борьбу с гениями — хранителями индивидов; он — их гонитель и враг, он всегда готов беспощадно разбить личное счастье, для того чтобы достичь своих целей, и даже благо целых народов иногда приносилось в жертву его капризам: пример этого дает нам Шекспир в Генрихе VI (ч. 3, действ. 3, явл. 2 и 3). Все это объясняется тем, что род, в котором укоренено наше существо, имеет на нас более непосредственное и исконное право, чем индивид; вот почему интересы рода преобладают в нашей жизни. Это чувствовали древние, и потому они олицетворяли гений рода в Купидоне: несмотря на свой детский облик, это был неприязненный, жестокий и оттого обесславленный бог — капризный, деспотический демон, но в то же время владыка богов и людей:
Tu,
deorum h
Смертоносный лук, слепота и крылья — вот его атрибуты. Последние указывают на его непостоянство: оно обыкновенно возникает лишь вместе с разочарованием, которое появляется в результате удовлетворения.
Ибо, так как страсть основана на иллюзии, которая представляет как нечто ценное для индивида лишь то, что имеет цену для рода, то по достижении цели рода эти чары должны исчезнуть. Дух рода, овладевший было индивидом, теперь снова отпускает его на волю. И, отпущенный им, индивид снова впадает в свою первоначальную ограниченность и убожество; и с изумлением видит он, что после столь высоких, героических и беспредельных стремлений он не получил другого наслаждения, кроме того, которое дается всяким удовлеворением[287] полового влечения; против ожидания, он не чувствует себя счастливее, чем прежде. Он замечает, что его обманула воля рода. Вот почему осчастливленный Тезей обыкновенно покидает свою Ариадну. Если бы страсть Петрарки обрела себе удовлетворение, то с этого момента смолкли бы его песни, как замолкает птица, когда она снесет свои яйца. Замечу кстати, что хотя моя метафизика любви должна особенно не понравиться именно тому, кто опутан сетями этой страсти, тем не менее если доводы рассудка вообще могут иметь какую-нибудь силу в борьбе с нею, то раскрытая мною истина должна больше всего другого способствовать победе над страстью. Но, конечно, всегда останется в силе
467
изречение древнего комика: «Quæ res in se neque consilium, neque modum habet ullum, eam consilio regere non potes»*.
Браки по любви заключаются в интересах рода, а не индивидов. Правда, влюбленные мнят, что они идут навстречу собственному счастью, но действительная цель их любви чужда им самим, потому что она заключается в рождении индивида, который может произойти только от них. Соединенные этой целью, они вынуждены впоследствии уживаться друг с другом как могут; но очень нередко чета, соединенная этой инстинктивной иллюзией, которая составляет сущность страстной любви, во всех других отношениях представляет нечто весьма разнородное. Это обнаруживается тогда, когда иллюзия, как то и должно быть по необходимости, исчезает. Вот почему браки по любви и бывают обыкновенно несчастливы: в них настоящее поколение приносится в жертву ради блага поколений грядущих. «Quien se casa por amores, ha de vivir con dolores»**, — говорит испанская пословица. Противоположным образом обстоит дело с браками по расчету, которые большею частью заключаются по выбору родителей. Соображения, господствующие здесь, какого бы рода они ни были, по меньшей мере реальны, и сами по себе они не могут исчезнуть. В них забота направлена на благо текущего поколения, хотя, правда, и в ущерб поколению грядущему, причем это благо текущего поколения остается все-таки проблематично. Мужчина, для которого при женитьбе важны деньги, а не удовлетворение своей склонности, живет больше индивидуальными интересами, чем родовыми, — а это прямо противоречит истинной сущности мира, является чем-то противоестественным и возбуждает известное презрение. Девушка, которая вопреки совету своих родителей отвергает предложение богатого и нестарого человека, для того чтобы, отбросив всякие условные соображения, сделать выбор исключительно по инстинктивному влечению, приносит в жертву свое индивидуальное благо ради блага рода. Но именно потому ей нельзя отказать в известном одобрении, так как она предпочла более важное и поступила сообразно с духом природы (точнее — рода), между тем как совет родителей был проникнут духом индивидуального эгоизма. В силу всего этого дело получает такой вид, как будто при заключении брака надо поступаться либо индивидом, либо интересами рода. И действительно, в большинстве случаев так и бывает: ведь это очень редкий и счастливый случай, чтобы расчет и страстная любовь шли рука об руку. Если большинство людей в физическом, моральном или интеллектуальном отношении столь жалки, то отчасти это, вероятно, объясняется тем, что браки обыкновенно заключаются не по прямому выбору и склонности, а в силу разного рода внешних соображений и под влиянием случайных обстоятельств. Если наряду с расчетом в известном смысле принимается в соображение и личная склонность, то это представляет собою как бы сделку с гением рода. Как известно, счастливые браки редки: уж такова
468
сама сущность брака, что главною целью его служит не настоящее, а грядущее поколение. Но в утешение нежным и любящим душам прибавлю, что иногда к страстной половой любви присоединяется чувство совершенно другого происхождения — именно настоящая дружба, основанная на согласии взглядов и мыслей; впрочем, она большей частью является лишь тогда, когда собственно половая любовь, удовлетворенная, угасает. Такая дружба в большинстве случаев возникает оттого, что те физические, моральные и интеллектуальные свойства обоих индивидов, которые дополняют друг друга и между собою гармонируют и из которых в интересах будущего дитяти зародилась половая любовь, — эти самые свойства, такие, как противоположные черты темперамента и особенности интеллекта, и по отношению к самим индивидам восполняют одни другие и этим создают гармонию душ.
Вся изложенная здесь метафизика любви находится в тесной связи с моей метафизикой вообще, и истолкование, которое она дает последней, можно резюмировать в следующих словах.
Мы пришли к выводу, что тщательный и через бесконечные ступени до уровня страстной любви восходящий выбор при удовлетворении полового влечения основывается на том в высшей степени серьезном участии, какое человек принимает в специфически личных свойствах грядущего поколения. Это необыкновенно примечательное участие подтверждает две истины, изложенные мною в предыдущих главах: 1) то, что неразрушима внутренняя сущность человека, которая продолжает жить в грядущем поколении. Ибо это столь живое и ревностное участие, которое возникает не путем размышления и преднамеренности, а вытекает из самых сокровенных влечений и побуждений нашего существа, не могло бы отличаться таким неискоренимым характером и такой великой властью над человеком, если бы он был существом абсолютно преходящим и если бы поколение, от него реально и безусловно отличное, приходило ему на смену только во времени; 2) то, что внутреннее существо человека лежит больше в роде, чем в индивиде. Ибо тот интерес к специфическим особенностям рода, который составляет корень всяческих любовных отношений, начиная с мимолетнейшей склонности и кончая самой серьезной страстью, — этот интерес, собственно говоря, представляет для каждого самое важное дело в жизни: удача в нем или неудача затрагивает человека наиболее чувствительным образом; вот почему такие дела по преимуществу и называются сердечными делами. И если этот интерес выражен решительно и сильно, то перед ним отступает всякий другой интерес, направленный только на собственную личность индивида, и в случае нужды приносится ему в жертву. Этим, следовательно, человек свидетельствует, что род для него ближе, чем индивид, и что он более непосредственно связан с первым, нежели с последним. Итак, почему же влюбленный так беззаветно смотрит и не насмотрится на свою избранницу и готов для нее на всякую жертву? Потому что к ней тяготеет бессмертная часть его существа; всего же иного желает только его смертное начало. Таким образом, то живое или даже пламенное томление, с каким мужчина смотрит на какую-нибудь определенную женщину, представляет собой непосредственный залог
469
неразрушимости ядра нашего существа и его бессмертия в роде. И считать такое бессмертие за нечто малое и недостаточное — это заблуждение; объясняется оно тем, что под грядущей жизнью в роде мы не мыслим ничего иного, кроме грядущего бытия подобных нам, но ни в каком отношении не тождественных с нами существ; а такой взгляд, в свою очередь, объясняется тем, что, исходя из познания, направленного вовне, мы представляем себе только внешний облик рода, как мы его воспринимаем наглядно, а не внутреннюю сущность его. Между тем именно эта внутренняя сущность и есть то, что лежит в основе нашего сознания как его ядро, что поэтому более непосредственно даже, чем самое сознание и что как вещь в себе, свободная от principio individuationis, представляет собою единое и тождественное начало во всех индивидах — существуют ли они одновременно, или друг за другом. Эта внутренняя сущность — воля к жизни, т. е. именно то, что столь настоятельно требует жизни и продолжения существования, то, что в силу этого недоступно для беспощадной смерти и избегает ее. Но и, с другой стороны, эта внутренняя сущность, эта воля к жизни не может обрести себе лучшего состояния, нежели то, каким является ее настоящее; а поэтому вместе с жизнью для нее неизбежны беспрерывные страдания и смерть индивидов. Освобождать ее от страданий предоставлено отрицанию воли к жизни, посредством которого индивидуальная воля отрешается от ствола рода и прекращает в нем свое собственное бытие. Для определения того, чем тогда становится воля к жизни, у нас нет никаких понятий и даже никакого материала для них. Мы можем охарактеризовать это лишь как нечто такое, что имеет свободу быть или не быть волей к жизни. Для последнего случая у буддизма есть слово нирвана, этимологию которого я дал в примечании к концу 41-й главы. Это — предел, который навсегда останется недоступным для всякого человеческого познания как такового.
Когда с достигнутой в рамках этого последнего рассуждения точки зрения мы оглянемся на сутолоку жизни, мы увидим, что все несет в ней тягостные труды и заботы и напрягает последние силы для того, чтобы удовлетворить бесконечные потребности и отразить многообразные страдания, и притом безо всякой, даже робкой надежды получить за все это что-нибудь другое, кроме сохранения на краткий миг времени именно этого, мучительного индивидуального существования. Между тем среди шумного смятения жизни мы замечаем страстные взоры двух влюбленных, но почему же их взоры так пугливы, тайны и украдчивы? Потому, что эти влюбленные — изменники, и тайно помышляют они о том, чтобы продолжить и повторить все муки и терзания бытия, которые иначе нашли бы себе скорый конец; но влюбленные не допускают этого конца, как и раньше не допускали его подобные им. Впрочем, данная мысль относится уже к содержанию следующей главы.
470
Οὑτως
ἀναιδῶς ἐξεκίνησας
τόδε
Το ῥή͂μα ̓ καἱ που τοῦτο φεύξεσθαι
δοκεῖς;
Πεφευγἀ τ̓
αληϑὲς γὰρ ἰοχυρὸν τρἑφω
Soph.**
На с. 453 этого издания я мельком упомянул о педерастии и назвал ее извращением инстинкта. При обработке второго издания моей книги такое определение казалось мне вполне достаточным. С тех пор я много думал об этой аномалии и обнаружил связанную с ней удивительную проблему, а вместе с тем и ее решение. Последнее уже содержится в предыдущей главе, но и, со своей стороны, бросает свет на нее и таким образом служит дополнением и иллюстрацией к изложенной в ней основополагающей позиции.
Рассматриваемая сама по себе, педерастия является не только противоестественным, но и в высшей степени гнусным и отвратительным уродством, таким деянием, на которое, и то лишь изредка, в совершенно исключительных случаях, должны бы быть способны только вполне извращенные, испорченные и выродившиеся натуры. Однако если мы обратимся к указанию опыта, то найдем нечто совсем другое: а именно, мы увидим, что этот порок, несмотря на всю его отвратительность, процветал во все времена и во всех странах мира и предавались ему люди весьма часто. Общеизвестно, что он был распространен среди греков и римлян; в нем публично признавались, его практиковали без смущения и стыда. Об этом более чем достаточно свидетельствуют все древние писатели. В особенности поэты, все и каждый, говорят о нем; даже целомудренный Виргилий[288] не составляет здесь исключения (Ecl. 2). Его приписывают даже поэтам седой старины, Орфею (которого за это растерзали менады) и Фамирису; его приписывают самим богам. Точно так же и философы говорят гораздо больше о нем, чем о любви к женщинам; в особенности Платон не знает, по-видимому, почти никакой другой формы любви, равно как и стоики, которые упоминают о педерастии как о чем-то достойном мудреца (Stob. ecl. eth., 1. II, с. 7). Даже в Сократе Платон, в своем «Пире», прославляет как беспримерный подвиг то, что он отверг соответственные предложения Алкивиада. В «Меморабилиях» Ксенофонта Сократ говорит о педерастии как о невинной и даже похвальной вещи (Stob. Flor., I, 57). Точно так же и в «Меморабилиях» (1. I, с. 3, § 8), там, где Сократ предостерегает от опасностей любви, он столь исключительно говорит о любви к мальчикам, что можно бы думать, будто в Греции совсем не было женщин. И Аристотель (Pol. II, 9) говорит о педерастии как о чем-то обычном, не порицает ее, замечает, что у кельтов она пользовалась почетом и общественным признанием, а у критян — покровительством законов, как средство против избытка населения; он сообщает (с. 10) о мужелюбии
471
законодателя Филолая и т. д. Цицерон говорит даже: «Apud Graecos opprobrio fuit adolesccntibus, si amatores non haberent»*. Вообще, образованные читатели не нуждаются здесь ни в каких примерах: они сами припомнят их сотнями, потому что у древних — непочатый край таких фактов. Но даже у народов более грубых, именно у галлов, этот порок был очень развит. Если мы обратимся к Азии, то увидим, что все страны этой части света, и притом с самых ранних времен вплоть до сегодняшнего дня, сильно заражены этим пороком и притом опять-таки они даже не особенно скрывают его: он знаком индусам и китайцам не в меньшей степени, чем народам ислама, поэтов которых тоже гораздо больше занимает любовь к мальчикам, чем любовь к женщинам, например в «Гулистане» Саади книга «О любви» говорит исключительно о любви к мальчикам. Не чужд был этот порок и евреям: и Ветхий, и Новый Завет упоминают о нем как о преступлении, требующем кары. В христианской Европе, наконец, религия, законодательство и общественное мнение должны были всеми силами бороться с ним: в средние века за него везде полагалась смертная казнь; во Франции еще в XVI столетии виновные в нем подвергались сожжению на костре, а в Англии еще в первой трети XIX столетия он беспощадно карался смертной казнью; в наши дни за него полагается пожизненная ссылка. Такие, следовательно, серьезные меры нужны были для того, чтобы остановить развитие этого порока; в значительной степени это и удалось, но вполне искоренить его было невозможно, и, под покровом глубочайшей тайны, он прокрадывается всегда и всюду, во всех странах и во все классы общества и часто вдруг обнаруживается там, где его меньше всего ожидали. Да и в прежние века, несмотря на все смертные казни, дело обстояло не иначе: об этом свидетельствуют упоминания и намеки в произведениях всех этих эпох. И вот, если мы подумаем обо всем этом и как следует взвесим эти обстоятельства, то увидим, что педерастия во все времена и во всех странах обнаруживается совсем не так, как мы это полагали a priori, когда рассматривали ее сначала саму по себе. Именно общераспространенность и упорная неискоренимость этого порока показывают, что он каким-то образом вытекает из самой человеческой природы; в самом деле, только на этой почве мог он неуклонно вырастать повсюду и всегда, как бы в подтверждение известного правила:
Naturam
expelles
furca, tarnen usque recurret*.
От этого вывода нам совершенно нельзя уклониться, если только мы добросовестно отнесемся к делу. Пренебречь же таким положением вещей и ограничиться порицанием и бранью по отношению к пороку было бы, конечно, легко, но не такова моя манера справляться с проблемами: нет, верный и здесь своему врожденному призванию всюду искать истину и доходить до корня вещей, я прежде всего признаю возникающий перед нами и требующий объяснения феномен, со всеми неизбежными следствиями из него. Но чтобы нечто, столь глубоко проти-
472
воестественное и даже противодействующее природе в ее самой важной и нарочитой цели, проистекало все-таки из недр самой природы, — это такой неслыханный парадокс, что объяснение его представляется очень трудной задачей; и вот я теперь попробую решить ее, разоблачив лежащую в ее основе тайну природы.
Исходным пунктом послужит для меня одно место у Аристотеля (Polit., VII, 16). Там он доказывает, во-первых, что слишком молодые люди производят на свет дурных, слабых, болезненных и тщедушных детей и что, во-вторых, то же самое надо сказать и о потомстве людей слишком старых: «Nam, ut juniorum, ita et grandiorum natu foetus inchoatis atque imperfectis corporibus mentibusque nascuntur: eorum vero, qui senio confecti sunt, suboles infirma et imbecilla est»*. То, что Аристотель выводит, как правило, для отдельных личностей, — это самое Стобей, в конце своего изложения перипатетической философии, устанавливает как закон для общества (Eel. eth., 1. II, с. 7 in fine): «Oportet, corporum roboris et perfectionis causa, nee juniores justo, nee seniores matrimonio jungi, quea circa utramque ætatem proies fieret imbedllis et imperfecta»**. Поэтому Аристотель и советует, чтобы человек, достигший 54 лет, больше не производил детей, хотя для своего здоровья или ради какой-нибудь другой цели он может все-таки иметь половые сношения. Как именно осуществить это, Аристотель не говорит; но очевидно, мнение его склоняется к тому, что детей, рожденных в таком возрасте, надо устранять путем аборта: несколькими строками выше он его рекомендует. Природа, со своей стороны, не может отрицать того факта, на котором основывается совет Аристотеля; но она не может и уничтожить его. Ибо, согласно своему основному закону: «natura non faat saltus»*** — она не может сразу прекратить у мужчины выделение семени: нет, здесь, как и при всяком отмирании, ослабление функции должно совершаться постепенно. Но в этом периоде акт деторождения может давать миру только слабых, тупых, хилых, жалких и недолговечных людей. Так это часто и бывает: дети, рожденные от старых родителей, по большей части рано умирают и во всяком случае никогда не достигают старости. Все они в большей или меньшей степени тщедушны, болезненны, слабы; их собственные дети отличаются такими же свойствами. Сказанное о деторождении в преклонном возрасте относится и к деторождению в возрасте незрелом. Между тем природа ничего так близко не принимает к сердцу, как сохранение вида и его подлинного типа, и средствами к этой цели служат для нее здоровые, бодрые, сильные индивиды: лишь таких хочет она. Мало того, как я уже показал в 41-й главе, она в сущности рассматривает индивиды только как средство, — так она с ними и обращается; целью же ее служит только вид. Таким образом, природа, в силу своих собственных законов и целей,
473
попала здесь в очень затруднительное положение. На какой-нибудь насильственный и от чужого произвола зависящий исход, вроде указываемого Аристотелем, она по самой сущности своей не могла рассчитывать, как не могла рассчитывать и на то, чтобы люди, наученные опытом, поняли вред слишком раннего и слишком позднего деторождения и, руководимые доводами холодного рассудка, обуздали поэтому свои вожделения. Ни на том, ни на другом исходе природа в таком важном деле, следовательно, не могла остановиться. И вот ей не оставалось ничего другого, как из двух зол выбрать меньшее. А с этой целью она должна была и здесь заинтересовать в своей заботе свое излюбленное орудие — инстинкт, который, как я показал в предыдущей главе, непрестанно руководит столь важным делом деторождения и создает при этом столь своеобычные иллюзии; осуществить же это природа могла только так, что повела его по ложному пути, извратила его (lui donna le change). Ведь природа знает только физическое, а не моральное: между нею и моралью существует даже решительный антагонизм. Сохранить индивиды, особенно же вид, как можно более совершенным — вот ее единственная цель. Правда, и в физическом отношении педерастия вредна для совращенных к занятию ей юношей, но не в такой сильной степени, чтобы это не было из двух зол меньшим, которое она, природа, и избирает для того, чтобы заранее предотвратить гораздо большее зло — вырождение вида и таким образом отразить хроническое и возрастающее несчастье.
В силу этой предусмотрительности природы, приблизительно в том возрасте, о котором говорит Аристотель, мужчина обыкновенно начинает испытывать легкое и все возрастающее влечение к педерастии, и оно мало-помалу становится все явственнее и сильнее в той мере, в какой уменьшается его способность производить здоровых и сильных детей. Так устроила это природа; впрочем, надо заметить, что от зарождения этой склонности до самого порока расстояние еще очень велико. Правда, если ей совершенно не препятствовать, как это было в Древней Греции и Риме или во все времена в Азии, то, поощряемая примером, она легко может довести до порока, который тогда и получает вследствие этого широкое распространение; что же касается Европы, то этой склонности противодействуют в ней столь могучие мотивы религии, морали, законов и чести, что почти всякий содрогается при одной мысли о ней, и можно поэтому сказать, что на триста человек, испытывающих подобное влечение, найдется разве лишь один, настолько слабый и безмозглый человек, который бы поддался ему; это тем более верно, что педерастическая наклонность возникает лишь в возрасте, когда кровь охлаждена и половое влечение вообще ослаблено и когда, с другой стороны, эта ненормальная наклонность находит себе в созревшем разуме, в укрепленной опытом рассудительности и в многократно испытанной твердости духа таких сильных противников, что только вконец испорченная натура может не устоять перед нею.
Цель, которую имеет при этом в виду природа, она достигает тем, что педерастическая наклонность влечет за собою равнодушие к женщинам, которое все более и более усиливается и доходит до полного нерасположения и даже возрастает, наконец, до отвращения к ним.
474
И тем вернее достигает здесь природа своей истинной цели, что по мере ослабления в мужчине производительной силы все решительнее становится ее противоестественная направленность. Соответственно этому мы находим, что педерастия является пороком исключительно старых мужчин. Только их время от времени уличают в нем, скандализируя общество. Людям настоящего мужественного возраста педерастическая наклонность чужда и даже непонятна. Если же иногда и бывают исключения из этого правила, то я думаю, что они объясняются только случайным и преждевременным вырождением производительной силы, которая могла бы создать лишь дурное потомство, — и вот природа, для того чтобы предотвратить последнее, отклоняет эту силу в другое русло. И потому гомосексуалисты, в больших городах, к сожалению, не редкие, всегда обращаются со своими намеками и предложениями к пожилым господам и никогда не пристают к людям зрелого возраста, а тем более к юношам. Даже и у греков, среди которых пример и привычка, вероятно, не раз создавали исключения из этого правила, — даже у них писатели, в особенности философы, а именно Платон и Аристотель, обыкновенно изображают любовника человеком пожилым. Особенно замечательно в этом отношении одно место у Плутарха, в «liber amatorius», с. 5: «Puerorum amor, qui, quum tarde in vita et intempestive, quasi spurius et occultus, exstitisset, germanum et natu majorem amorem expellit»*. Мы видим, что даже и среди богов имеют любовников-мужчин только пожилые среди них — Зевс и Геркулес, а не Марс, Аполлон, Вакх, Меркурий. Впрочем, на Востоке, где вследствие полигамии возникает недостаток в женщинах, время от времени появляются вынужденные исключения из этого правила; так это бывает и в новых и потому еще бедных женщинами колониях, какова Калифорния и т. д. Далее, ввиду того что незрелое семя, как и семя, выродившееся от старости, может давать лишь слабое, дурное и несчастное потомство, эротическое влечение подобного рода часто возникает не только в старости, но и в молодости, среди юношей; но только в высшей степени редко ведет оно к действительному пороку, потому что, кроме названных выше мотивов, ему противодействуют невинность, чистота, совестливость и стыдливость юношеского возраста.
Из сказанного выясняется, что хотя рассматриваемый порок, казалось бы, решительно противоборствует целям природы, и притом самым важным и дорогим для нее целям, тем не менее в действительности он должен служить именно последним, хотя лишь косвенным образом, в качестве предохранительного средства против большего зла. Дело в том именно, что феномен умирающей, а также и незрелой еще детородной силы грозит опасностью виду; и хотя по моральным основаниям этой силе лучше бы и на той и на другой стадии совсем иссякнуть, на это, однако, здесь нельзя было рассчитывать, так как природа вообще в своей деятельности не принимает в соображение чисто моральные начала. Вот почему, собственными же законами притиснутая к стене, природа
475
путем извращения инстинкта прибегла к некоторому крайнему средству, к некоторой стратагеме; хочется даже сказать: она создала себе искусственную лазейку, для того чтобы, как я сказал выше, из двух зол избегнуть большего. Она имеет в виду важную цель — предотвратить появление неудачного потомства, которое могло бы постепенно довести до вырождения целый вид; и, как мы видели, для достижения этой цели она не брезглива в выборе средств. Она действует здесь в том же духе, в котором, как это я показал выше, в главе 27, она заставляет ос убивать своих детенышей: в обоих случаях она прибегает ко злу, для того чтобы избегнуть злейшего; она извращает половое влечение, для того чтобы предотвратить наиболее гибельные его последствия.
Моей целью в связи с вышеизложенным было прежде всего решение указанной выше удивительной проблемы, а затем и подтверждение той моей изложенной в предыдущей главе теории, согласно которой во всякой половой любви инстинкт держит бразды правления и создает иллюзии, так как для природы интересы рода важнее всех остальных, и это сохраняет свою силу даже и здесь, в описанном отвратительном заблуждении и вырождении полового влечения, потому что и здесь последним основанием оказываются цели рода, хотя в данном случае они имеют чисто отрицательный характер и составляют лишь профилактические мероприятия природы. Высказанные мною соображения проливают, таким образом, свет и на всю мою метафизику половой любви. Вообще же своими замечаниями я вывел наружу одну доселе сокрытую истину, которая при всей своей необычности проливает новый свет на внутреннюю сущность, дух и творчество природы. Вот почему я имел здесь в виду не моральное предупреждение от порока, а только уразумение сущности дела. Впрочем, истинная, последняя, глубоко метафизическая причина гнусности педерастии заключается в том, что в то время как воля к жизни находит себе в ней утверждение, следствие этого утверждения, открывающее путь к избавлению, т. е. возобновление жизни, совершенно исключается. Наконец, изложением этих своих парадоксальных мыслей я хотел оказать маленькую услугу профессорам философии, которые теперь очень смущены все большею и большею известностью моей философии, столь тщательно ими замалчиваемой: а именно я дал им повод к клевете, будто я взял под свою защиту и рекомендовал педерастию.
Глава 45*
Об утверждении волн к жизни
Если бы воля к жизни выражалась только как влечение к самосохранению, то это было бы лишь утверждением индивидуального явления на короткое время отмеренного ему природой века. Труды и заботы такой жизни были бы невелики, и существование поэтому протекало бы легко и отрадно. Но так как воля хочет жизни безусловно и на все времена, то она, воля, проявляется также и в виде полового влечения, которое
476
рассчитывает на бесконечный ряд поколений. Это влечение уничтожает ту беззаботность, ясность и невинность, которые сопровождали бы чисто индивидуальное бытие, потому что оно вносит в сознание тревогу и меланхолию, а в жизнь — заботу, невзгоды и горе. Если же, в виде редких исключений, оно добровольно подавляется, то это представляет собою обращение воли, которая избирает новую дорогу. Она растворяется тогда в индивиде и не выходит за его пределы. Правда, это возможно только путем мучительного насилия, которое индивид учиняет над самим собой. Но коль скоро это уже случилось, к сознанию возвращается беззаботность и ясность чисто индивидуального бытия, притом в повышенной степени. Удовлетворение же этого сильнейшего из всех влечений и желаний дает начало новому существованию, т. е. жизнь возобновляется со всеми ее тяготами, заботами, невзгодами и скорбями, правда, в другом индивиде; но если бы оба эти индивида были безусловно и сами по себе так же различны между собою, как они различны в явлении, то где же была бы здесь вечная справедливость? Жизнь представляется нам как задача, как урок, который надо отработать, и поэтому в большинстве случаев она являет собою непрерывную борьбу с невзгодами. Вот почему каждый норовит отделаться от нее, вот почему каждый отбывает жизнь как барщину, как повинность. Но кто же заключил договор об этой повинности? Родитель, в утехе сладострастия. Таким образом, за то, что один испытал наслаждение, другой должен жить, страдать и умереть. Но мы уже видели и припоминаем теперь, что различие однородного обусловливается пространством и временем, которые я в этом смысле и назвал principium individuationis. Иначе вечная справедливость безнадежно погибла бы. Именно на том, что родитель узнает в рожденном самого себя, и основана отцовская любовь, в силу которой отец готов больше делать, страдать и рисковать ради своего ребенка, чем ради себя самого, и притом считает это своей обязанностью.
В жизни человека с ее бесконечными трудами, нуждой и страданиями надо видеть объяснение и парафразу акта деторождения, т. е. решительного утверждения воли к жизни; сюда же, к этому утверждению, относится еще и то, что человек повинен природе смертью и с тоскою думает об этом долге. Не свидетельствует ли это о том, что наша жизнь заключает в себе некую задолженность? И тем не менее, периодически уплачивая дань рождения и смерти, мы беспрестанно существуем и последовательно вкушаем все горести и все радости жизни, так что ни одна из них не может нас миновать: это и есть плод утверждения воли к жизни. При этом, следовательно, страх смерти, который, несмотря на все терзания жизни, привязывает нас к ней, является, собственно говоря, иллюзией; но столь же иллюзорно и то влечение, которое заманило нас в жизнь. Объективный образ самой этой приманки можно увидеть, глядя на страстные взоры, которыми обменивается чета влюбленных: эти взоры — чистейшее выражение воли к жизни в ее утверждении. Как эта воля здесь кротка и нежна! Блаженства хочет она, хочет спокойного наслаждения и тихой радости для себя, для других, для всех. Это — тема Анакреона. Так обольщает и манит она самое себя к жизни. Но как только войдет она в жизнь, мука влечет за собою преступление и пре-
477
ступление — муку: ужас и опустошение заполняют собою все поприще жизни. Это — тема Эсхила.
Тот акт, в котором утверждает себя воля и благодаря которому
возникает человек, это —·деяние, которого все в глубине души стыдятся и которое
поэтому заботливо скрывают; и если нас застигнут в момент совершения его, мы
ужасаемся, как будто бы нас уличили на месте преступления. Это — такое деяние,
воспоминание о котором для нас, в минуты спокойного размышления, по большей
части неприятно, а при особом настроении духа вызывает даже отвращение. Более
обстоятельные соображения о нем в этом духе высказывает Монтень в 5-й
главе третьей книги <«Опытов»> под рубрикой « Ce que c’est que l’amour »*. Своеобразная грусть и раскаяние следуют за этим актом; с особенной силою
чувствуются они после того, как он совершится в первый раз, и в общем — тем
явственнее, чем благороднее характер человека. Даже Плиний, язычник, говорит
поэтому: «H
Относительно первой основной мысли моего учения уместно будет заметить здесь, что указанный выше стыд перед актом деторождения распространяется даже и на служебные ему органы, хотя они, как и все другие, присущи нам от рождения. Это опять-таки служит разительным доказательством того, что не только деяния, но уже и само тело человека следует рассматривать как явление, объективацию его воли и ее дело. Ибо не мог бы человек стыдиться того, что существовало бы помимо его воли.
Далее: акт зачатия так относится к миру, как решение к загадке. А именно, мир обширен в пространстве, стар по времени своего существования и неисчерпаемо разнообразен в своих формах. Но все это — только проявление воли к жизни; а концентрация, фокус этой воли
478
—[290] акт зачатия. В последнем, таким образом, явственнее всего сказывается внутренняя сущность мира. В этом отношении примечательно то, что по-немецки самый этот акт просто-напросто обозначают словом «der Wille» (похоть) — в очень характерном обороте речи: «Er verlangte von ihr, sie sollte ihm zu Willen sein»46. Итак, будучи самым явственным выражением воли, этот акт представляет собою зерно, компендий, квинтэссенцию мира. Поэтому он и проливает свет на сущность и дела мира: он ответ загадки. Это его разумеют под словами «древо познания», ибо после ознакомления с ним у каждого раскрываются глаза на жизнь, как это говорит и Байрон:
The tree of Knowledge has been
pluck’d — all’s known**.
«D. Juan», I, 127.
Не менее соответствует характеру этого акта и то обстоятельство, что он является великим ῍αρρητον****, секретом Полишинеля, о котором никогда и нигде нельзя явно упоминать, но который всегда и повсюду разумеется сам собою, как нечто главное в жизни; он всегда находится в мыслях у каждого, и оттого самый легкий намек на него мгновенно понимается всяким. Важности этого punctum saliens*** мирового яйца вполне отвечает та главная роль, которую половой акт и все, что к нему относится, играет в мире: ведь любовные интриги, с одной стороны, повсюду царят, с другой стороны, везде предполагаются. То забавное, что есть в этом, заключается лишь в постоянном умалчивании этой главной стороны жизни.
Однако посмотрите, как молодой невинный человеческий интеллект приходит в ужас перед безмерностью этой великой мировой тайны, когда она впервые раскрывается перед ним! Причина этого лежит в том, что на протяжении той дальней дороги, которую должна была пройти первоначально чуждая познанию воля, прежде чем она возвысилась до уровня интеллекта, в особенности человеческого, разумного, она сделалась настолько чуждой самой себе, что теперь уже не знает больше своего источника, своего poenitenda origo****, и с высоты своего чистого и потому невинного познания ужасается перед ним.
Итак фокусом воли, т. е. ее концентрацией и высшим выражением, служит, значит, половое влечение и его удовлетворение; поэтому весьма характерно то наивно выражаемое на символическом языке природы обстоятельство, что индивидуализированная воля, т. е. человек и животное, вступают в мир через врата половых органов.
Утверждение воли к жизни, которое, таким образом, имеет свой центр в акте рождения, для животного неизбежно. Ибо только у человека воля, эта natura naturans*****, приобретает сознательный характер. Приобрести сознательный характер — это значит познавать не только ради минутных потребностей индивидуальной воли, для удовлетворения
479
настоятельной нужды
в данный момент, как это бывает у животного, соразмерно степени его совершенства и его потребностей, всегда
идущих параллельно; это значит
обрести большую широту познания путем отчетливых
воспоминаний о прошлом, приблизительного предвосхищения будущего и, следовательно, всестороннего проникновения в
индивидуальную жизнь, свою и чужую,
да и в бытие вообще. Действительно, жизнь
всякого животного вида за все тысячелетия его существования до известной степени подобна одному
мгновению, ибо эта жизнь представляет собою
сознание только одного настоящего, без всякого сознания прошедшего и будущего, т. е. смерти.
В этом смысле ее надо рассматривать
как неподвижное мгновение, как некоторое nunc stans*. Здесь,
кстати, мы видим самым явственным образом, что вообще непосредственной формой жизни, или формой проявления
сознающей воли, прежде всего служит
одно только настоящее: прошедшее и будущее появляется только у человека, и притом лишь в виде понятия,
познаются in abstracto и в лучшем
случае проясняются образами фантазии. Итак, когда
воля к жизни, т. е. внутренняя сущность природы, в беспрерывном стремлении к совершеннейшей объективации и
к совершеннейшему наслаждению пройдет
всю лестницу животного царства, — а это часто совершается в многократных сменах преемственных, вновь и вновь возникающих генераций животного мира на одной
и той же планете, — она в конце
концов в существе, одаренном разумностью, в человеке, приобретает сознательный характер. И вот здесь, на этой стадии,
она задумывается: здесь возникает
перед нею вопрос, откуда и для чего все это
и, главным образом, окупаются ли какой-нибудь прибылью все труды и скорби ее жизни, ее усилия? Le jeu vaut-il bien la chandelle ?** Поэтому именно здесь находится тот
пункт, где она при свете ясного познания
определяет самое себя к утверждению или отрицанию, хотя последнее она обыкновенно может сделать доступным сознанию только в каком-нибудь мифическом облачении. Вот
почему у нас нет оснований предполагать,
что где-либо еще дело может дойти до более высоких степеней объективации воли — здесь последняя уже достигает пункта своего обращения.
Глава 46***
О ничтожестве и
страданиях жизни
Пробудившись к жизни из ночи бессознательности, воля видит себя индивидом в каком-то бесконечном и безграничном мире, среди бесчисленных индивидов, которые все к чему-то стремятся, страдают, блуждают; и как бы испуганная тяжелым сновидением, спешит она назад к прежней бессознательности. Но пока она не вернется к ней, ее желания
480
безграничны, ее притязания неисчерпаемы, и каждое удовлетворенное желание рождает новое. Нет в мире такого удовлетворения, которое могло бы усмирить ее порывы, положить конец ее вожделениям и заполнить бездонную пропасть ее сердца. И при этом обратите внимание на то, в чем обыкновенно состоит для человека всякое удовлетворение: чаще всего это не более чем скудное поддержание самого существования, которое необходимо неустанным трудом и вечной заботой отвоевывать каждый день в борьбе с нуждой и предельным горизонтом которого является смерть. Все в жизни говорит нам, что человеку суждено познать в земном счастье нечто обманчивое, простую иллюзию. Задатки к этому лежат глубоко в сущности вещей. И оттого жизнь большинства людей печальна и кратковременна. Сравнительно счастливые люди по большей части счастливы только на вид, или же они, подобно людям долговечным, представляют редкое исключение, для которого природа должна была оставить возможность, как подсадную утку. Жизнь рисуется нам как беспрерывный обман — и в малом, и в великом. Если она дает обещания, она их не сдерживает или сдерживает только для того, чтобы показать, сколь недостойно желания было желаемое: так обманывает нас то надежда, то ее содержание. Если жизнь что-нибудь дает, то лишь для того, чтобы отнять. Очарование дали показывает нам райские красоты, но они исчезают, подобно оптической иллюзии, когда мы поддаемся их соблазну. Счастье, таким образом, всегда лежит в будущем или же в прошлом, а настоящее подобно маленькому темному облаку, которое ветер гонит над озаренной солнцем равниной: перед ним и за ним все светло, только оно само постоянно отбрасывает тень. Настоящее поэтому никогда не удовлетворяет нас, будущее же неопределенно, а прошедшее невозвратно. Жизнь с ее ежечасными, ежедневными, еженедельными и ежегодными малыми, большими и огромными невзгодами, с ее обманутыми надеждами, с ее разрушающими все расчеты несчастными случаями носит на себе такой явный отпечаток неминуемого страдания, что трудно понять, как можно этого не видеть, как можно поверить, будто жизнь существует для того, чтобы с благодарностью наслаждаться ею, как можно поверить, будто человек существует для того, чтобы быть счастливым. Нет, это вечное заблуждение и разочарование, а также характер жизни в целом видятся нам скорее как рассчитанные и предназначенные только для того, чтобы пробудить в нас убеждение, что нет ничего на свете достойного наших стремлений, борьбы и желаний, что все блага ничтожны, что мир оказывается полным банкротом и жизнь — такое предприятие, которое не окупает своих издержек; и это убеждение должно отвратить нашу волю от жизни.
Это ничтожество всех объектов нашей воли явно раскрывается перед интеллектом, имеющим свои корни в индивиде, прежде всего во времени. Оно — та форма, в которой ничтожество вещей открывается перед нами как их бренность: ведь это оно, время, у нас в руках превращает в ничто все наши наслаждения и радости, и мы потом с удивлением спрашиваем себя, куда они подевались. Само это ничтожество является, следовательно, единственным объективным содержанием происходящего во времени, другими словами, только оно, это
481
ничтожество, и есть то, что соответствует ему, времени, в самой по себе сущности вещей, следовательно, есть то, чего оно, время, является выражением. Вот почему время и служит a priori необходимой формой всех наших созерцаний: в нем должно появляться все, даже мы сами. И оттого наша жизнь прежде всего подобна платежу, который весь набран из медных копеек и который надо все-таки погасить: эти копейки — дни, это погашение — смерть. Ибо в конце концов время оглашает приговор природы о ценности всех появляющихся в природе существ и обращает их в ничто:
И
с основаньем; ничего не надо,
Нет
в мире вещи, стоящей пощады,
Творенье
не годится никуда47.
Так старость и смерть, к которым неуклонно спешит всякая жизнь, являются осуждающим приговором над волей к жизни: выносит этот приговор сама природа, и гласит он, что эта воля — стремление, которому во веки веков не суждено осуществиться. «Чего ты хотел, — гласит он, — имеет такой конец: пожелай же чего-нибудь лучшего». Таким образом, урок, который всякий выносит из своей жизни, заключается в общем виде в том, что предметы наших желаний всегда обманывают нас, колеблются и гибнут, приносят больше муки, чем радости, пока, наконец, не провалится та почва, на которой все они обретаются, и не погибнет самая наша жизнь, в последний раз подтверждая, что все наши стремления и желания были извращением, были ошибкой:
Then old age and experience,
hand in hand,
Lead him to death[291], and make him
understand,
After a search so painful and
so long,
That all his life he has been
in the wrong*.
Рассмотрим, однако, данный вопрос более обстоятельно, потому что именно эти мои взгляды[292] вызвали основной поток возражений. И прежде всего я представлю следующие подтверждения данному мною в тексте доказательству того, что всякое удовлетворение, т. е. всякое удовольствие и всякое счастье, имеет отрицательный характер, между тем как страдание по своей природе положительно.
Мы чувствуем боль, но не чувствуем безболезненности; мы чувствуем заботу, но не чувствуем беззаботности, ощущаем страх, но не безопасность. Мы чувствуем желание так же, как чувствуем голод и жажду; но как только это желание удовлетворено, с ним происходит то же, что со съеденным куском, который перестает существовать для нашего чувства в то самое мгновение, когда мы его проглотили. Болезненно жаждем мы наслаждений и радостей, когда их нет; отсутствие же страданий, хотя бы и они прекратились после того, как долго мучили нас, непосредственно нами не ощущается, мы можем думать об их отсутст-
482
вии разве что намеренно,
рефлектируя. Страдания и лишения могут ощущаться нами только положительно и
оттого сами заявляют о себе; благополучие же, наоборот, имеет чисто отрицательный
характер. Вот почему три высших блага жизни — здоровье, молодость и свобода не осознаются
нами как таковые, покуда мы их имеем; мы замечаем их лишь тогда, когда они
уступают свое место дням несчастным. В той мере, в какой возрастают
наслаждения, уменьшается восприимчивость к ним: привычное уже не ощущается нами
как наслаждение. Но именно поэтому возрастает восприимчивость к страданию, так
как утрата привычного заставляет нас очень страдать. Таким образом, обладание расширяет
меру необходимого, а с нею и способность чувствовать боль. Часы протекают тем
быстрее, чем они приятнее, и тем медленнее, чем они мучительнее, ибо боль, а не
наслаждение — вот то положительное, наличность чего нами ощущается. Точно так
же, скучая, мы замечаем время, а развлекаясь — нет. Это доказывает, что наше
существование счастливее всего тогда, когда мы его меньше всего замечаем; а
отсюда следует, что лучше было бы не существовать вовсе. Великие, живые радости
можно представить себе лишь как результат предшествовавших больших лишений,
потому что состояние длительной удовлетворенности может дополниться только некоторыми
развлечениями или удовлетворением тщеславия. Оттого все поэты вынуждены ставить
своих героев в самые тягостные и мучительные положения, для того чтобы потом снова
освобождать их: драма и эпос всегда изображают нам одних только борющихся,
страдающих и угнетаемых людей, и всякий роман — это панорама, в которой видны
спазмы и конвульсии страдающего человеческого сердца. Эту эстетическую
необходимость наивно выразил Вальтер Скотт в «Заключении» к своей
новелле «Old Mortality»*. В точном соответствии с доказанной мною
истиной говорит и Вольтер, столь облагодетельствованный природой и
одаренный счастьем: «Le honneur n’est
qu’un rève, et la douleur est réelle»**, и к этому прибавляет: «il y a quatrevingts ans que je l’éprouve.
Je n’y sais autre chose que me résigner, et me dire que les mouches sont
nées pour être mangées par les araignées, et les h
Прежде чем утверждать с уверенностью, что жизнь — благо, достойное желаний и нашей признательности, сравните-ка беспристрастно сумму всех мыслимых радостей, какие только человек может испытать в своей жизни, и сумму всех мыслимых страданий, какие он в своей жизни может встретить. Я думаю, что подвести баланс будет нетрудно. Но, в сущности, совсем излишне спорить, чего на свете больше — блага или зла: ибо уже самый факт существования зла решает вопрос; ведь зло никогда не уничтожается тем добром, которое существует наряду с ним или возникает после него:
483
Mille piacer’ non vagliono un tormento.
Petr.*
Ибо то обстоятельство, что тысячи людей утопали в счастье и наслаждении, не устраняет страхов и смертных мук одного человека; и точно так же мое настоящее благополучие не уничтожает моих прежних страданий. Если бы поэтому зла в мире было и во сто раз меньше, чем его существует ныне, то и в таком случае самого факта его существования было бы уже достаточно для обоснования той истины, которую можно выражать на разные лады, но которая никогда не найдет себе вполне непосредственного выражения — той истины, что бытие мира должно не радовать нас, а скорее печалить, что его небытие было бы предпочтительнее его бытия, что он представляет собою нечто такое, чему бы, в сущности, не следовало быть, и т. д. Необычайно выразительно выражает эту мысль Байрон:
Our life is a falcenature, — ’tis not in
The harmony of things, this
hard decree,
This uneradicable taint of
sin,
This boundless Upas, this
all-blasting tree
Whose root is earth, whose
leaves and branches be
The skies, which rain their
plagues on men like dew —
Disease, death, bondage — all
the woes we see —
And worse, the woes we see not
— which throb through
The immedicable soul, with
heart-aches ewer new**.
Если бы жизнь и мир были сами себе целью и поэтому теоретически не нуждались в оправдании, а практически — в компенсации или заглаживании вины; если бы они, как это изображают Спиноза и современные спинозисты, существовали в качестве единой манифестации некоего бога, который animi causa*** или ради самоотражения затеял подобную эволюцию с самим собой; если бы существование мира не нуждалось, таким образом, ни в оправдании из его оснований, ни в объяснении из его следствий, то страдания и горести жизни не то что должны были бы вполне уравновешиваться наслаждениями и благополучием в ней (это невозможно, как я уже сказал, потому, что моя теперешняя боль никогда не уничтожается будущими радостями, ведь они так же наполняют свое время, как она — свое), но в жизни их совсем не должно было бы существовать, или она не должна была бы представлять для нас ничего страшного. Лишь в таком случае жизнь окупала бы себя.
А так как наше положение в мире представляет собою нечто такое, чему бы лучше вовсе не быть, то все окружающее нас и носит следы этой безотрадности, подобно тому как в аду все пахнет серой; все на свете
484
несовершенно и обманчиво, все
приятное перемешано с неприятным, каждое наслаждение услаждает только
наполовину, всякое удовольствие разрушает самое себя, всякое облегчение ведет к
новым тяготам, всякое средство, которое могло бы помочь нам в нашей ежедневной
и ежечасной нужде, каждую минуту готово покинуть нас и отказать в своей услуге;
ступеньки лестницы, на которую мы поднимаемся, часто ломаются под ногами;
большие и малые невзгоды составляют стихию нашей жизни, и мы, одним словом,
уподобляемся Финею, которому гарпии обгаживали все яства и делали их
несъедобными. Все, за что мы ни беремся, противится нам потому, что оно имеет
свою собственную волю, которую необходимо пересилить. Два средства употребляют
против этого: во-первых, εὐλάβεια,
т. е. благоразумие,
предусмотрительность, хитрость; но
оно ничему не научает, ничего не достигает и терпит неудачу; во-вторых, стоическое равнодушие, которое думает
обезоружить всякую невзгоду тем,
что готово принять их все и презирает все; на практике оно обращается в циническое порабощение, которое
предпочитает раз и навсегда
отвергнуть все подспорья и облегчения и которое делает из нас собак вроде Диогена в его бочке. Истина же такова:
мы должны быть несчастны, и мы
несчастны. При этом главный источник самых
серьезных зол, постигающих человека, — это сам человек: h
Нас же, людей другого общественного положения, малейшие невзгоды могут сделать вполне несчастными, а вполне счастливыми не может сделать нас ничто на свете. Что бы ни говорили, самое счастливое мгновение счастливого человека — это когда он засыпает, как самое
485
несчастное мгновение несчастного — это когда он пробуждается. Косвенное, но бесспорное доказательство того, что люди чувствуют себя несчастными, а следовательно, таковы и на самом деле, в избытке дает еще и присущая всем лютая зависть, которая просыпается и не может сдержать своего яда во всех случаях жизни, как только возвестят о себе чья-нибудь удача или заслуга, какого бы рода они ни были. Именно потому, что люди чувствуют себя несчастными, они не могут спокойно видеть человека, которого считают счастливым; кто испытывает чувство неожиданного счастья, тот хотел бы немедленно осчастливить все кругом себя и восклицает:
Que tout le monde ici soit heureux de ma joie*.
Если бы жизнь сама по себе была ценным благом и если бы ее решительно следовало предпочитать небытию, то не было бы нужды охранять врата ее исхода такими ужасными привратниками, как смерть и ее ужасы. Кто хотел бы оставаться в жизни, какова она есть, если бы смерть была не так страшна? И кто мог бы перенести самую мысль о смерти, если бы жизнь была бы радостью! Однако смерть имеет по крайней мере всегда ту хорошую сторону, что она — конец жизни, и в страданиях мы утешаем себя смертью и в смерти утешаем себя страданиями жизни. Истина же в том, что и смерть, и жизнь с ее страданиями представляют одно неразрывное целое, один лабиринт заблуждений, выйти из которого столь же трудно, как и желательно.
Если бы мир не был чем-то таким, чему в практическом отношении лучше бы не существовать, то и в теоретическом отношении он не представлял бы собой проблемы: его существование или совсем не нуждалось бы в объяснении, так как оно было бы настолько понятно само собою, что никому бы и в голову не приходило ни удивляться ему, ни спрашивать о нем; или же цель этого существования была бы для всех очевидна. На самом деле мир представляет собой совершенно неразрешимую проблему, так как даже в самой совершенной философии всегда будет еще некоторый необъясненный элемент, подобно тому неразложимому химическому остатку или тому остатку, который всегда получается в иррациональном отношении двух величин. Поэтому, когда кто-нибудь решается задать вопрос, почему бы этому миру лучше вовсе не существовать вовсе, то мир не может оправдать себя из себя самого, не может найти основания и конечной причины своего бытия в себе самом и доказать, что существует он ради себя самого, т. е. для собственной пользы. Согласно моей теории, это, конечно, объясняется тем, что принцип бытия мира не имеет решительно никакого основания, т. е. представляет собой слепую волю к жизни, а эта воля как вещь в себе не может быть подчинена закону основания, который служит только формой явлений и который один оправдывает собою всякое «почему». А это вполне отвечает и характеру мира, ибо только слепая, а не зрячая воля могла поставить самое себя в такое положение, в каком мы себя видим. Зрячая воля, напротив, скоро вычислила бы, что предприятие не
486
покрывает своих издержек, ибо жизнь, исполненная необузданных стремлений и борьбы, требующая напряжения всех сил, обремененная вечно заботой, страхом и нуждой, неминуемо влекущая к разрушению всякого индивидуального бытия, — такая жизнь не оправдывает себя самим существованием человека, которое завоевано столь трудной ценою, эфемерно и у нас в руках расплывается в ничто. Вот почему объяснение мира из некоторого анаксагоровского νοῦς т. е. из некоторой воли, руководимой познанием, непременно требует известного приукрашивания в форме оптимизма, который и находит себе тогда своих защитников и глашатаев — наперекор вопиющему свидетельству целого мира, исполненного несчастий. Оптимизм изображает нам жизнь в виде какого-то подарка, между тем как со всей очевидностью ясно, что если бы нам заранее показали и дали попробовать этот подарок, то всякий с благодарностью отказался бы от него; недаром Лессинг удивлялся уму своего сына, который ни за что не хотел выходить на свет, был насильно извлечен в него акушерскими щипцами и, не успев явиться, сейчас же поспешил уйти из мира. Правда, говорят, что жизнь от одного своего конца и до другого представляет собой не что иное, как назидательный урок; но на это всякий может ответить: «Именно поэтому я и хотел бы, чтобы меня оставили в покое самодовлеющего ничто, где я не нуждался бы ни в уроках, ни в чем бы то ни было». И если к этому оправданию мира еще прибавляют, что всякий человек должен будет в свое время дать отчет о каждом часе своей жизни, то скорее мы сами вправе требовать, чтобы сначала нам дали отчет в том, за что нас лишили прежнего покоя и ввергли в такое несчастное, темное, трудное и скорбное положение. Вот куда, следовательно, приводят ложные принципы. Поистине, человеческое бытие — отнюдь не подарок: напротив, оно скорее представляет собой долг, который мы должны заплатить по договору. Взыскание по этому обязательству представляется нам в виде неотложных потребностей, мучительных желаний и бесконечной нужды, пронизывающих все наше бытие. На уплату этого долга уходит обыкновенно вся наша жизнь, но и она погашает одни только проценты. Возмещение же капитала производится в момент смерти. Но когда же заключили мы это самое долговое обязательство? В момент зачатия.
Если, таким образом, смотреть на человека как на существо, жизнь которого представляет некую кару и искупление, то она предстанет перед нами уже в более правильном свете. Миф о грехопадении (впрочем, заимствованный, вероятно, как и все иудейство, из Зенд-Авесты, «Bun-Dehesch», 15) — вот единственное в Ветхом Завете, за чем я могу признать некоторую метафизическую, хотя и аллегорическую только, истинность; лишь он один примиряет меня с Ветхим Заветом. Ибо ни на что так не похожа наша жизнь, как на плод некоторой ошибки и преступного пожелания. Новозаветное христианство, этический дух которого тот же, что и у брахманизма и буддизма, и чужд, следовательно, в целом оптимистическому духу Ветхого Завета, тоже, в высшей степени мудро, связало себя с этим мифом; без него оно совсем не имело бы никакой точки соприкосновения с иудаизмом. Если вы хотите измерить степень вины, которая тяготеет над нашим бытием, то взгляните на страдания, с которыми связано последнее. Всякая великая боль, будь то физическая
487
или духовная, говорит нам, чего мы заслуживаем: она не могла бы постигнуть нас, если бы мы ее не заслужили. То, что и христианство рассматривает нашу жизнь именно в этом свете, доказывает одно место из лютеровского комментария к третьей главе «Послания к Галатам»; у меня оно имеется только по-латыни (гл. 3): «Sumus autem nos о т nes corpohbus et rebus subiecti Diabolo, et hospites sumus in mundo, cuius ipse prineeps et Deus est. Ideo panis, quem edimus, potus, quem bibimus, vestes, quibus utimur, imo aer et totum, quo vivimus in came, sub ipsius imperio est»*. Кричали, что моя философия меланхолична и безотрадна: но это объясняется просто тем, что я, вместо того чтобы в виде эквивалента грехов изображать некоторый будущий ад, показал, что там, где есть вина, т. е. в мире, находится уже и нечто подобное аду; кто вздумал бы отрицать это, тот легко может когда-нибудь испытать это на самом себе.
И этот мир, эту сутолоку измученных и истерзанных существ, которые живут только тем, что пожирают друг друга, этот мир, где всякое хищное животное представляет собой живую могилу тысячи других и поддерживает свое существование целым рядом чужих мученических смертей, этот мир, где вместе с познанием возрастает и способность чувствовать боль, способность, которая поэтому в человеке достигает своей высшей степени, тем более высокой, чем он интеллигентнее, — этот мир хотели приспособить к системе оптимизма и логически представить его как лучший из возможных миров. Нелепость вопиющая!.. Но вот оптимист приглашает меня раскрыть глаза и посмотреть на мир — как он прекрасен в солнечных лучах, со своими горами, долинами, потоками, растениями, животными и т. д. Но разве мир — панорама? Как зрелище — все эти вещи, конечно, прекрасны; но быть ими — это нечто совсем другое. Затем приходит телеолог и восхваляет мне премудрость творения, которая позаботилась о том, чтобы планеты не сталкивались между собою головами, чтобы суша и море не смешались в кашу, а как следует были разделены между собою, чтобы вселенная не оцепенела в беспрерывной стуже и не изжарилась от зноя, чтобы, с другой стороны, вследствие наклона эклиптики не царила вечная весна, когда ничего не могло бы достичь зрелости, и т. д. Но ведь все эти вещи и подобные им — только conditiones sine quibus non**. Коль скоро вообще должен существовать какой-нибудь мир, коль скоро его планеты не должны, подобно сыну Лессинга, сейчас же по рождении возвращаться назад, а должны существовать, по крайней мере, столько времени, сколько нужно для того, чтобы к ним успел дойти световой луч от какой-нибудь отдаленной и неподвижной звезды, то, разумеется, этот мир и нельзя было сколотить так неумело, чтобы уже самый остов его грозил падением. Когда же мы перейдем к результатам восхваляемого произведения, когда мы присмотримся к актерам, которые действуют на столь прочно устроенной сцене, когда мы увидим, что вместе с чувст-
488
венностью появляется и боль, возрастая в той мере, в какой чувственность развивается до интеллигенции, и что рука об руку с последней все больше и больше выступают и усиливаются жажда и страдание, пока, наконец, человеческая жизнь не обращается в сплошной материал для одних только комедий и трагедий, — тогда ни один человек, если только он не лицемер, не почувствует склонности петь славословия. Впрочем, настоящий, хотя и скрываемый источник последних беспощадно, но с победоносной убедительностью, выяснил нам Давид Юм в своей «Natural history of Religion», sect. 6, 7, 8 and 13. Этот же писатель в 10-й и 11-й книгах своих «Dialogues on natural Religion» откровенно изображает посредством очень метких, хотя и совершенно иных, чем у меня, аргументов скорбное положение этого мира и несостоятельность всякого оптимизма, причем он атакует последний в самом его источнике. Оба сочинения Юма настолько же примечательны, насколько и неизвестны современной Германии, где зато, из патриотизма, несказанно услаждаются скучной болтовней местных, надутых посредственностей и провозглашают их великими людьми. Между тем эти «Dialogues» Гаман перевел, Кант просмотрел перевод уже в старости и склонял сына Гамана издать эту работу, потому что издание, сделанное Платнером, не удовлетворяло его (см. биографию Канта, составленную Ф. В. Шубертом, с. 81 и 165). Из каждой страницы Давида Юма можно извлечь больше, чем из полного собрания философских сочинений Гегеля, Гербарта и Шлейермахера, вместе взятых.
Основателем же систематического оптимизма является Лейбниц. Я не думаю отрицать его заслуги перед философией, хотя мне ни разу и не удалось настоящим образом вникнуть в его монадологию, предустановленную гармонию и «identitas indiscernibilium»*. Что же касается его «Nouveaux essais sur l’entendement»**, то это простой экстракт, снабженный обстоятельной, нацеленной на исправление ошибок, но слабой критикой знаменитого по праву сочинения Локка, против которого он выступает здесь так же неудачно, как и против Ньютона в своем критикующем систему тяготения «Tentamen de motuum caelestium causis»***. Именно против этой лейбнице-вольфианской философии специально и направлена «Критика чистого разума», которая относится к этой философии враждебно и даже уничтожает ее, между тем как по отношению к философии Локка и Юма она служит продолжением и дальнейшим развитием. Если современные профессора философии всячески стараются опять поставить на ноги Лейбница со всеми его вывертами и даже возвеличить его; если они, с другой стороны, хотят как можно больше принизить и устранить со своей дороги Канта, то это имеет свое полное основание в принципе primum vivere****: ведь «Критика чистого разума» не позволяет выдавать иудаистскую мифологию за философию и без околичностей говорить о «душе» как о некоторой данной реальности, как о всем известной и внушающей глубокое доверие особе, — нет, она требует отчета в том, как философы дошли до этого
489
понятия и кто им дал право на его научное употребление. Но primum viveri, deinde philosophari!* Долой Канта! Vivat наш Лейбниц! Возвращаясь к последнему, я должен сказать следующее: за его «Теодицеей», этим методическим и пространным развитием оптимизма, я, в данном ее качестве, не могу признать никакой другой заслуги, кроме той, что она впоследствии послужила поводом для бессмертного «Кандида» великого Вольтера; в чем, правда, неожиданно для самого Лейбница нашел себе подтверждение тот аргумент, с помощью которого он столь часто и столь плоско извинял существование зла в мире: дурное иногда влечет за собой хорошее. Вольтер уже в самом имени своего героя намекает на то, что достаточно одной только искренности, для того чтобы признать как истину нечто противоположное оптимизму. И действительно, на этой арене греха, страдания и смерти оптимизм производит такое странное впечатление, что его следовало бы считать иронией, если бы, как я уже упомянул, благодаря Юму, который так восхитительно вскрыл его потайной источник, нам не было достаточно ясно его происхождение (это — лицемерная лесть вкупе с оскорбительной уверенностью в ее успехе).
Однако откровенно софистическому доказательству Лейбница, будто этот мир — лучший из миров, можно даже вполне серьезно и добросовестно противопоставить доказательство того, что этот мир — худший из возможных миров. Ибо «возможное» — это не то, что вздумается кому-нибудь нарисовать себе в своей фантазии, а то, что действительно может существовать и устоять. И вот, наш мир устроен именно так, как его надо было устроить, для того чтобы он мог еле-еле держаться; если бы он был еще хоть немного хуже, он бы совсем уже не мог существовать. Следовательно, мир, который был бы хуже нашего, совсем невозможен, потому что он не мог бы и существовать, и значит, наш мир — худший из возможных миров. В самом деле: не только в том случае, если бы планеты сшибались между собою головами, но если бы из действительно происходящих пертурбаций их движения какая-нибудь одна, вместо того чтобы постепенно уравняться с другими, продолжала возрастать, то миру скоро пришел бы конец: астрономы знают, от сколь случайных обстоятельств это зависит, главным образом от иррациональности во взаимном отношении периодов круговращения планет; и они старательно высчитали, что при таких условиях катастрофы не будет и мир, таким образом, может продолжать свое существование. Хотелось бы надеяться, что они не ошиблись в своих вычислениях (хотя Ньютон и был противоположного мнения) и что механическое perpetuum mobile**, осуществляемое в подобной системе планет, не остановится в конце концов, как останавливается всякое другое. С другой стороны, под твердой корой планеты живут могучие природные силы, и если какая-нибудь случайность выпускает их на свободу, то они неминуемо разрушают эту оболочку со всем обитающим на ней; на нашей планете это случилось уже по крайней мере три раза. Лиссабонское землетрясение, землетрясение в Гаити, разрушение Помпеи — все
490
это только маленькие шаловливые намеки на возможную катастрофу. Ничтожное, даже недоступное для химической регистрации изменение в атмосфере влечет за собою холеру, желтую лихорадку, чуму и т. д., уносящие жизни миллионов людей, и если бы такое изменение было несколько более значимым, то оно погасило бы всякую жизнь. Даже весьма незначительное повышение температуры могло бы высушить все источники и реки. Животным, в их органах и силах, отмерено как раз именно столько, сколько необходимо для того, чтобы они ценою крайнего напряжения могли поддерживать свою жизнь и кормить свое потомство; вот почему животное, лишившись какого-нибудь члена или просто даже способности полноценно пользоваться им, по большей части обречено на гибель. Даже среди людей, несмотря на те могучие орудия, которые они имеют в своем рассудке и в своем разуме, — даже среди них девять десятых живут в постоянной борьбе с нуждою, вечно стоят на краю гибели и с трудом и усилиями балансируют у этой черты. Таким образом, как для жизни целого, так и для жизни каждого отдельного существа условия даны лишь в обрез и скупо, не более того, сколько нужно для удовлетворения потребностей; оттого жизнь индивида проходит в беспрерывной борьбе за самое существование — на каждом шагу ей угрожает гибель. Именно потому, что эта угроза так часто приводится в исполнение, появилась нужда в невероятно большом избытке зародышей, для того чтобы вместе с индивидами не гибли и роды, в которых только природа и заинтересована серьезно. Мир, таким образом, плох настолько, насколько он может быть плох, коль скоро ему следует быть вообще. Что и требовалось доказать. Окаменелости видов, которые некогда обитали на нашей планете, совершенно не похожи на нынешние породы животных и представляют собой образчики и документальные свидетельства о мирах, дальнейшее существование которых стало уже невозможным и которые, следовательно, были еще несколько хуже, чем худший из возможных миров.
Оптимизм — это, в сущности, незаконное самовосхваление истинного родоначальника мира, т. е. воли к жизни, которая самодовольно любуется на себя самое в своем творении; и вот почему оптимизм — не только ложное, но и пагубное учение. В самом деле: он изображает перед нами жизнь как некое желанное состояние, целью которого является будто бы счастье человека. Исходя из этого, каждый думает, что он имеет законнейшее право на счастье и наслаждение; и если, как это обыкновенно бывает, последние не выпадают на его долю, то он считает себя несправедливо обиженным и не достигшим цели своего бытия; между тем гораздо более правильным было бы видеть цель нашей жизни в труде, лишениях, нужде и страданиях, венчаемых смертью (как это и делают брахманизм и буддизм, а также и подлинное христианство), потому что именно эти невзгоды приводят нас к отрицанию воли к жизни. В Новом Завете мир изображается как юдоль печали, жизнь — как процесс очищения и символом христианства служит орудие пытки. Поэтому, когда Лейбниц, Шефтсбери, Боллингброк и Поп выступили со своим оптимизмом, то общее смущение, с которым их встретили, было вызвано главным образом тем, что оптимизм и христианство несовместимы, как это основательно выяснил Вольтер в предисловии
491
к своему прекрасному стихотворению «Le désastre de Lisbonne»*, которое тоже явным образом направлено против оптимизма. То, что ставит этого великолепного мужа, которого я, вопреки поношениям продажных немецких бумагомарак, так охотно прославляю, — то, что ставит его гораздо выше Руссо, обнаруживая в нем большую глубину мысли, это — следующие три пункта его воззрений: 1) он был глубоко проникнут сознанием подавляющей силы зла и скорби человеческого существования; 2) он был убежден в строгой необходимости волевых актов; 3) он считал истинным положение Локка, согласно которому мыслящее начало вселенной может быть и материальным; между тем Руссо посредством декламаций оспаривал все это в своей «Profession de foi du vicaire Savoyard»**, этой плоской философии протестантских пасторов; в этом же духе он выступал в защиту оптимизма с нелепым, поверхностным и логически неправильным рассуждением против только что упомянутого прекрасного стихотворения Вольтера — в специально посвященном этой цели длинном письме к последнему от 18 августа 1756 г. Вообще, основная черта и πρῶτον ψεῦδος*** всей философии Руссо заключается в том, что вместо христианского учения о первородном грехе и изначальной испорченности человеческого рода он утвердил принцип изначальной доброты последнего и его безграничной способности к совершенствованию, которая будто бы сбилась с пути только под влиянием цивилизации и ее плодов; на этом и основывает Руссо свой оптимизм и гуманизм.
Подобно Вольтеру, который в «Кандиде» вел войну с оптимизмом в своей шутливой манере, Байрон в своем бессмертном шедевре «Каин» выступал против него в своей трагической и серьезной манере, за что и его также прославили инвективы обскуранта Фридриха Шлегеля. Если бы, наконец, в подтверждение своих взглядов я хотел привести изречения великих умов всех времен в этом враждебном оптимизму духе, то моим цитатам не было бы конца, ибо почти всякий из этих умов в сильных словах высказался по поводу постигнутой им безотрадности нашего мира. Поэтому не для подтверждения своих взглядов, а только для украшения этой главы я закончу несколькими изречениями подобного рода. Прежде всего упомяну, что греки, как ни далеки они были от христианского и возвышенного азиатского мировоззрения, как ни решительно занимали они позицию утверждения воли, — все-таки были глубоко проникнуты сознанием горести бытия. Об этом свидетельствует уже то, что именно они создали трагедию. Другое подтверждение этого дает нам впервые сообщенный Геродотом (V, 4), а впоследствии неоднократно упоминаемый другими писателями фракийский обычай приветствовать новорожденного причитаниями и перечислять перед ним все злополучия, которые отныне угрожают ему, тогда как мертвого фракийцы хоронили весело и с шутками, потому что он отныне избыл множество великих страданий; это в прекрасных стихах, которые сохранил для нас Плутарх (De audiend. poet, in fine), звучит следующим образом:
492
Lugere
genitura, tanta gui intrarit mala:
At
morte si quis firnisset mi serias,
Hunc
laude aicos atque lætitia exsequl*.
Не историческому родству народов, а моральному тождеству самого факта надо приписать то, что мексиканцы приветствовали новорожденного словами: «Дитя мое, ты родилось для терпения: терпи же, страдай и молчи». И, повинуясь тому же чувству, Свифт (как это передает Вальтер Скотт в его биографии) уже смолоду приобрел привычку отмечать день своего рождения не как момент радости, а как момент печали, и в этот день всегда он читал то место из Библии, где Иов оплакивал и проклинал день, когда сказали в доме отца его: родился сын.
Было бы слишком долго переписывать то известное место из «Апологии Сократа», где Платон в уста этого мудрейшего из смертных влагает слова, что если бы смерть даже навсегда похищала у нас сознание, то она все-таки была бы дивным благом, ибо глубокий сон без сновидений лучше любого дня самой счастливой жизни56.
Одно изречение Гераклита гласило:
Vitæ
n
(«Etymologicum
magnum», voce Βίος; также Eustath. ad
Iliad., I, p. 31.)
Знамениты прекрасные стихи Феогнида:
Optima
sors h
Adspexisse
diem, flammiferumque jubar.
Altera
jam genitum demitti protinus Orco,
Et
pressum multa mergere corpus humo***.
Софокл в «Эдипе в Колоне» (1225) так сократил это
изречение: «Natum non esse sortes vincit alias
Еврипид говорит:
Omnis
h
Nes
datur laborum remissio.
Hippol.
189**********.
493
Да уже и Гомер сказал:
Non
enim quidquam alicubi est calamitosius h
Omnium,
quotquot super terram spirantque et moventur.
Il. XVII.446*.
Даже Плиний говорит: «Qua propter hoc primum quisque
in remediis animi sui habeat, ex
Шекспир в уста старого короля Генриха IV влагает следующие слова:
О heaven! that one might read the book of fate,
And see the revolution of the times,
…how chances mock,
And changes fill the cup of alteration
With divers liquors! O, if this were seen,
The happiest youth, — viewing his progress through,
What perils past, what crosses to ensue, —
Would shut the book, and sit him down and die.
(Когда б могли мы, боже,
книгу рока
Читать и видеть перемены дней
— … как шутят
Случайности, как в чашу
перемен
Превратность льет различные
напитки!
Узнав все это, юноша
счастливый,
Свой путь узрев, опасности
былые,
Грядущие невзгоды, — эту
книгу
Закроет тотчас, ляжет и умрет51.)
Наконец, Байрон сказал так:
Count o’er the joys thine
hours have seen,
Count o’er thy days tr
And know, whatever thou hast
been,
’Tis s
И Бальтазар Грасиан в самых мрачных красках рисует нам горести нашего бытия в своем «Criticon», parte I, crisi 5, в самом начале, и crisi 7, в конце, где он обстоятельно изображает жизнь как трагический фарс.
Никто, однако, столь основательно и исчерпывающе не разработал вопрос, как в наши дни Леопарди. Он всецело проникся своим предметом: его постоянной темой служит насмешливость и горечь нашего бытия; на каждой странице своих произведений рисует он их, но в таком изобилии форм и сочетаний, в таком богатстве образов, что это никогда не надоедает, а, наоборот, представляет живой и волнующий интерес.
494
К этике***
Здесь перед нами — большой пробел; он образовался в этих дополнениях потому, что мораль в узком смысле слова я сделал предметом специального исследования в двух своих конкурсных сочинениях, изданных под названием «Основные проблемы этики», знакомство с ними, как уже было сказано, я предполагаю в своих читателях, для того чтобы избежать бесполезных повторений. Поэтому здесь мне остается только добавить несколько отдельных соображений, которые в названных работах, в своем основном содержании предопределенных академиями, не могли себе найти места; меньше всего при этом я мог остановиться там на тех мыслях, которые требуют более возвышенной точки зрения, нежели та общая для всех точка зрения, которую я вынужден был отстаивать в упомянутых работах. Да не удивится поэтому читатель, если указанные мысли он найдет здесь в очень фрагментарном изложении. Они, в свою очередь, нашли себе продолжение в восьмой и девятой главах второго тома «Парерги».
Если исследования по вопросам нравственности несравненно важнее, чем работы по физике и вообще все другие, то объясняется это тем, что они почти непосредственно касаются вещи в себе, т. е. того проявления последней, в котором она, непосредственно озаренная светом познания, раскрывает свою сущность как волю. Истины же физического порядка всецело остаются в сфере представления, т. е. явления, и показывают только, каким образом самые низшие проявления воли закономерно выражаются в представлении. Далее, изучение мира с его физической стороны, как бы далеко и как бы удачно оно ни продвигалось, в своих результатах всегда будет для нас безотрадно: утешения можем мы искать только в моральной стороне мира, потому что здесь для наблюдения открываются глубины нашего собственного внутреннего существа.
Моя философия, между тем, — единственная, которая воздает морали все сполна, что ей по праву причитается: ибо только в том случае, если признать, что сущность человека составляет его собственная воля и что он, следовательно, в самом строгом смысле слова, является своим собственным произведением, только в этом случае его поступки действительно суть всецело его поступки и могут быть ему вменяемы. Если же по своему происхождению человек имеет другой источник или является произведением какого-то отличного от него существа, то любая его вина падает на этот источник или на этого творца. Ибо operari sequitur esse****.
Определить связь между силой, которая создает феномен мира и, следовательно, определяет характер последнего, и моральным умонастроением и явить таким образом нравственный миропорядок как основу миропорядка физического, — в этом со времени Сократа заключалась проблема философии. Теизм решал ее по-детски, а этот способ решения не мог удовлетворить созревшее человечество. Поэтому против него
495
и выступил пантеизм (как только он отважился это сделать) и показал, что природа в себе самой несет ту силу, благодаря которой она существует. Но при этом должна была погибнуть этика. Правда, Спиноза местами пытается спасти ее с помощью софизмов, но большей частью он прямо жертвует ею и со смелостью, вызывающей изумление и негодование, провозглашает различие между правдой и неправдой и вообще между добром и злом совершенно условным, т. е. в сущности своей ничтожным (например, Eth. IV, prop. 37, schol. 2). Вообще, после того как Спинозой в течение более чем ста лет незаслуженно пренебрегали, в нынешнем веке обратное движение маятника общественного мнения вновь привело к завышенной оценке его философии. Любой пантеизм в конечном счете неминуемо терпит крушение перед лицом неотвратимых требований этики, а затем в свете наличия в мире зла и страданий. Если мир есть теофания61, то все, что делает человек и даже животное, одинаково божественно и прекрасно: ничто более другого не заслуживает ни похвалы, ни порицания: иными словами — нет никакой этики. Именно поэтому обновленный спинозизм наших дней, т. е. пантеизм, и привел к тому, что этика пала так низко и стала такой плоской, и из нее сделали простое руководство к надлежащей государственной и семейной жизни, — точно в последней, т. е. в методическом, законченном, сибаритском и уютном филистерстве, и состоит конечная цель человеческого бытия. Разумеется, к такой пошлости пантеизм мог прийти лишь потому, что Гегеля, этот ординарный ум, выдали с помощью известных фальшивомонетчикам приемов за великого философа (страшное злоупотребление принципом «e quovis ligno fit Mercurius»* и стали внимательно прислушиваться к кучке его последователей, сначала слепо следовавших авторитету, а затем и просто ограниченных людей. Такие посягательства на человеческий дух не остаются безнаказанными: семена взошли. В этом же смысле стали затем утверждать, что этика должна иметь своим объектом поведение не отдельных лиц, а народных масс и лишь последнее будто бы является достойным ее предметом. Ничего не может быть несуразнее такого мнения, которое основывается на самом плоском реализме. Ибо в каждом отдельном существе проявляется сполна цельная неделимая воля к жизни, внутренняя сущность мира, и микрокосм равен макрокосму. Массы не содержат в себе чего-то большего, чем всякая отдельная личность. Не о поступках и достижениях трактует этика, а только о желании; самое же желание всегда вершится только в индивиде. Не судьба народов, которая существует только в явлении, а судьба отдельной личности — вот что находит себе моральное определение. Народы, собственно говоря, — простые абстракции; реально существуют одни только индивиды. Таково, стало быть, отношение пантеизма к этике. А зло и страдания уже не согласуются с теизмом: вот почему и пытались его спасти с помощью разных отговорок и теодицей, которые безвозвратно были разрушены аргументацией Юма и Вольтера. Что же касается пантеизма, то он утрачивает всякую состоятельность перед лицом этой дурной стороны мира. Ибо в том случае, если рассматривать мир с чисто внешней и физической его стороны и видеть
496
в нем не что иное, как постоянно возрождающийся порядок и, значит, сравнительное постоянство целого, лишь в этом случае, да и то в чисто метафорическом смысле, можно, пожалуй, считать его Богом. Если же проникнуть в его внутреннее существо, если принять в расчет еще и субъективную и моральную его сторону, где господствуют нужда, страдания и мука, вражда, злоба, бесчестие и извращения, то мы сейчас же с ужасом убедимся, что перед нами как раз не что иное, как теофания. Я уже показал, а в своем сочинении «О воле в природе» и доказал, что движущая и творческая сила в природе тождественна с живущей в нас волей. Вследствие этого моральный миропорядок действительно вступает в непосредственную связь с той силой, которая создает феномен мира. Ибо характер воли и ее явление строго соответствуют друг другу: на этом основывается описанная мною в § 63, 64 вечная справедливость; и мир, хотя он и держится собственной силой, получает вполне явственно некоторую первого тома моральную тенденцию. Таким образом, лишь теперь предлагается действительное решение той проблемы, которую впервые поставил Сократ, и лишь теперь находит удовлетворение потребность мыслящего разума, направленного на моральные предметы. Однако я никогда не дерзал провозглашать такую философию, которая не оставляла бы открытым ни одного вопроса. В этом последнем смысле философия действительно невозможна: она была бы тогда наукой всезнания. Но «est quadam prodire tenus, si non datur ultra»*: существует такая граница, которую человеческое мышление все-таки может достигнуть и в ее пределах рассеять ночь нашего бытия, хотя горизонт навсегда останется темным. Этой границы достигает мое учение о воле к жизни, воле, которая в своем собственном явлении либо утверждает, либо отрицает самое себя. Мечтать о том, чтобы перешагнуть и эту границу, это, по-моему, все равно что желать подняться над атмосферой. Здесь — предел, у которого мы должны остановиться, хотя бы разрешенные проблемы и порождали новые. Надо иметь в виду и то, что действие закона достаточного основания распространяется только на область явлений: это было предметом моего первого, еще в 1813 г. появившегося трактата об этом законе.
А теперь я дополню некоторые свои отдельные соображения. Начну с того, что приведу две цитаты из классических поэтов для иллюстрации данного мною в § 67 первого тома объяснения плача; я говорю там, что плач появляется из-за сострадания, предметом которого являемся мы сами. В конце восьмой песни «Одиссеи» Одиссей, которого, несмотря на его многострадальность, Гомер никогда не изображает плачущим, разражается слезами, когда он, еще не узнанный, слышит у феакийского царя, как певец Демодок воспевает его прежнюю героическую жизнь и подвиги; он плачет потому, что воспоминание о блестящей поре жизни составляет контраст с его настоящими горестями. Значит, не сами горести непосредственно, а только объективная дума о них, картина его теперешнего положения, оттененная прошлым, вот что вызывает у него слезы: он чувствует сострадание к самому себе. То же ощущение выражает Еврипид устами невинно осужденного и оплакивающего собствен-
497
ную участь Ипполита: «Heu, si liceret mihi, me ipsum extrinsecus spectare, quantopere deflerem mala, quæ patior»* (1084). Наконец, для подтверждения этой мысли уместно будет привести здесь один анекдот, который я заимствую из английской газеты «Herald» от 16 июля 1836 г. Один подсудимый, слушая, как его адвокат излагал перед судом его дело, разразился слезами и воскликнул: «Я и не знал, что претерпел половину этих страданий, пока не услышал об этом здесь!»
Каким образом, несмотря на неизменность характера, т. е. действительного основного воления человека, возможно настоящее моральное раскаяние, — это я выяснил уже в § 55 первого тома, но прибавлю еще к этому следующее замечание, которому я должен предпослать несколько определений. Склонность — это любая более или менее сильная восприимчивость воли к мотивам известного рода. Страсть — это столь сильная склонность, что возбуждающие ее мотивы приобретают над волей такую власть, которая сильнее, чем власть всякого другого, противодействующего им мотива; оттого их господство над волей становится абсолютным, и воля сохраняет к ним пассивное, страдательное отношение. При этом необходимо, однако, заметить, что страсти редко достигают такой степени, которая вполне отвечала бы данной мною дефиниции, гораздо чаще они выступают под именем страсти только потому, что приближаются к ней; и в этом последнем случае все-таки имеются противодействующие мотивы, которые всегда могут сдержать влияние страсти, если только они вполне ясно осознаны. Аффект — это тоже неодолимое, но преходящее возбуждение воли, обусловленное таким мотивом, сила которого определена не какой-нибудь глубоко укоренившейся склонностью, а только тем, что, внезапно зародившись, он на данный момент исключает противодействие всех других мотивов и является таким представлением, которое, благодаря своей необычайной живости, совершенно затмевает другие представления или как бы заслоняет их своей слишком большой близостью, так что они не могут проникнуть в сознание и воздействовать на волю, вследствие чего способность трезвого размышления, а с нею и интеллектуальная свобода** до известной степени подавляется. Таким образом, аффект относится к страсти, как горячечный бред к безумию.
Так вот, моральное раскаяние обусловлено тем, что до совершения поступка склонность к нему не оставляет интеллекту свободы действий и не дает ему отчетливо и в совершенстве рассмотреть противодействующие поступку мотивы, а, наоборот, все время навязывает ему именно такие мотивы, которые к этому поступку склоняют. Когда же последний совершается, эти настоятельные мотивы самим поступком нейтрализуются, т. е. теряют свою силу. И вот теперь действительность показывает интеллекту противоположные мотивы, в силу уже наступивших последствий поступка, и интеллект узнает теперь, что они оказались бы сильнее своих соперников, если бы только он надлежащим образом рассмотрел
498
и взвесил их. Человек убеждается, таким образом, что он сделал нечто такое, что собственно не соответствовало его воле: это сознание и есть раскаяние. Он поступал прежде не с полной интеллектуальной свободой, потому что не все мотивы достигли тогда действенной силы. То, что подавило мотивы, противодействовавшие поступку, это, если последний был поспешен, — аффект, если он был обдуман, — страсть. Часто бывает и так, что разум, хотя и показывает человеку in abstracto противоположные мотивы, не находит себе опоры в достаточно сильной фантазии, которая позволила бы ему образно представить всю их весомость и истинное значение. Примерами сказанного могут быть те случаи, когда жажда мести, ревность, корыстолюбие доводят человека до убийства; когда же последнее совершается, все эти мотивы угасают, и теперь подают свой голос справедливость, жалость, воспоминание о прежней дружбе и произносят все то, что они сказали бы и раньше, если бы только им предоставили слово. И тогда приходит горькое раскаяние и говорит: «Если бы этого не случилось, этого не случилось бы никогда». Несравненное изображение данного состояния дает знаменитая старинная шотландская баллада, переведенная Гердером: «Эдвард, Эдвард!» В силу аналогичных причин эгоистическое раскаяние может возникнуть и в том случае, когда мы пренебрегли собственным благом; так бывает, например, когда человек под действием любовной страсти вступает в брак, во всех прочих отношениях для него нежелательный, в силу чего затем угасает и сама эта страсть, так что лишь теперь осознаются противоположные мотивы, связанные с личным интересом, утраченной независимостью и т. п., и говорят нашей воле так, как они говорили бы и раньше, если бы им предоставили слово. Таким образом, все подобные поступки вытекают, по сути, из относительной слабости нашего интеллекта, который уступает воле там, где он должен был бы без помехи с ее стороны неумолимо исполнять свою функцию предъявления мотивов. Пылкость воли лишь опосредованно является здесь причиной, именно постольку, поскольку она мешает интеллекту и этим приуготовляет для себя раскаяние. Противоположное страстности благоразумие характера, σωφροσύνη[293], заключается, собственно, в том, что воля никогда не пересиливает интеллект настолько, чтобы помешать ему в правильном исполнении его функции, т. е. в отчетливом, законченном и ясном предъявлении мотивов, in abstracto — для разума, in concreto — для фантазии. Эта власть интеллекта может иметь своей причиной либо умеренность и уступчивость воли, либо силу самого интеллекта. Необходимо только, чтобы последний был достаточно силен относительно, т. е. по сравнению с данной волей; другими словами, необходимо, чтобы интеллект и воля находились между собой в надлежащем соотношении.
Мне надлежит еще сделать нижеследующие разъяснения к основным чертам моего учения о праве, изложенным мною в § 62 первого тома, а также в § 17 моего конкурсного сочинения «Об основании морали».
Те, кто вместе со Спинозой отрицают, что вне государства может существовать какое бы то ни было право, смешивают средства к осуществлению права с самим правом. Охрана пра́ва, разумеется, обеспечена только в государстве, но само право существует независимо от
499
последнего, ибо насилие может только подавить его, но не уничтожить. Вот почему государство — это не что иное, как охранительное учреждение, ставшее необходимым вследствие тех бесконечных посягательств, которым подвергается человек и которые он в состоянии отражать не в одиночку, а только в союзе с другими людьми. Таким образом, цели государства таковы.
1) Прежде всего — внешняя защита, которая может сделаться
необходимой как против стихийных сил природы или диких зверей, так и против
людей, т. е. других народностей, хотя последний случай — самый частый и
важный, потому что злейший враг человека — это человек: h
2) Внутренняя защита, т. е. защита членов какого-нибудь государства друг от друга, иначе говоря, обеспечение частного права, осуществляемое поддержанием правового состояния, которое заключается в том, что сконцентрированные силы всех защищают каждую отдельную личность, отсюда возникает такой феномен, как если бы все были правомерны, т. е. справедливы, и никто друг друга не хотел обижать.
Но так как во всех человеческих делах устранение одного зла обыкновенно открывает дорогу новому злу, то обеспечение этой двойной охраны влечет за собою потребность в третьей, т. е. оказывается необходимой.
3) Защита от защитника, т. е. от того или тех, кому общество поручило заниматься защитой, иными словами, обеспечение публичного права. Лучше всего это обеспечение, по-видимому, осуществляется тогда, когда раздробляют триединство охраняющей власти, т. е. отделяют и разъединяют одну от другой власти законодательную, судебную и исполнительную, так что каждая из них поручается разным лицам и осуществляется независимо одна от другой. Великая ценность и основная идея королевской власти заключается, по-моему, в следующем: так как люди остаются людьми, то один из них должен быть поставлен так высоко, его необходимо наделить такой властью, богатством, безопасностью и абсолютной неприкосновенностью, чтобы ему лично для себя не оставалось уже ничего больше желать, бояться и не надо было на что-либо надеяться; вследствие этого присущий ему, как и всякому другому человеку, эгоизм, как бы в силу нейтрализации, уничтожается, и он, как будто бы он не человек, оказывается способным наблюдать
500
справедливость и иметь в виду уже не свое личное, а только общее благо[294]. В этом источник того как бы сверхчеловеческого характера, который везде сопутствует королевскому сану и столь кардинально отличает его от простой президентской власти. Поэтому королевская власть должна быть наследственной, а не выборной, отчасти для того, чтобы никто не мог видеть в короле равного себе, отчасти для того, чтобы заботы короля о своем потомстве могли выражаться только в виде забот о благе государства, которое вполне совпадает с благом его семьи.
Когда помимо этой цели охраны измышляют еще и другие какие-нибудь цели государства, то это легко может сделаться опасным для истинной его цели.
Право собственности возникает, на мой взгляд, только через обработку вещей64. Эта уже не раз высказанная истина находит себе замечательное подтверждение в том, что она приобрела себе даже практическую силу — в одном заявлении североамериканского экс-президента Куинси Адамса, которое можно найти в «Quarterly Review», № 130 за 1840 г., как и по-французски в «Bibliothèque universelle de Genêve» за 1840 г., июль, № 55. Я предложу его в переводе: «Некоторые моралисты подвергли сомнению право европейцев селиться в землях американских туземцев. Но зрело ли обсудили они этот вопрос? По отношению к большей части страны право собственности самих индейцев имеет под собою сомнительную почву. Конечно, естественное право обеспечивает за ними их возделанные поля, их жилища, достаточное количество земли для существования и все, что сверх этого доставит каждому его личный труд. Но какое право имеет охотник на громадный лес, который он случайно обежал, преследуя свою добычу?» и т. д. Точно так же и те лица, которые в наши дни считали себя вынужденными оспаривать коммунизм логическими доводами (например, парижский архиепископ в одном из своих пастырских посланий, в июне 1851 г.), — данные лица всегда на первый план выдвигали тот аргумент, что собственность — это прибыль от труда и не что иное, как воплощенный труд. Это еще раз показывает, что право собственности можно обосновать только трудом, затраченным на создание вещи; только в этом качестве оно находит себе свободное признание и приобретает моральную ценность[295].
Совершенно своеобразное подтверждение этой же истины дает тот моральный факт, что в то время как закон так же строго — а в некоторых странах и еще строже — наказывает браконьерство, как и кражу денег, тем не менее гражданская честь в результате совершения последней уничтожается навечно, а от первого, т. е. от браконьерства, не терпит значительного урона, и браконьер, поскольку за ним нет никакой другой вины, хотя и не считается безгрешным, но, в противоположность вору, не слывет за бесчестного и не подвергается всеобщему отвержению. Ибо принципы гражданской чести основываются на моральном, а не на чисто позитивном праве; дичь же не является предметом обработки, а потому не представляет собой и предмет морально значимого владения: право на нее имеет поэтому совершенно позитивный характер и с моральной точки зрения не признается.
В основе уголовного права должен бы, по моему мнению, лежать тот принцип, что наказуется, собственно, не человек, а только поступок, для
501
того чтобы последний не был совершен еще раз: преступник — это лишь объект карающего воздействия, чтобы закон, в результате применения которого наступает наказание, сохранял свою устрашающую силу. Это и надо понимать под выражением: «Он подвергся действию закона». Согласно представлению Канта, которое сводится к ius talionis*, наказанию подвергается не поступок, а человек65. И пенитенциарная система стремится наказать не столько поступок, сколько человека, чтобы он исправился. Этим она устраняет истинную цель наказания — устрашение до совершения поступка, чтобы достигнуть весьма проблематичной цели — исправления. Вообще же никогда нельзя одним средством стремиться к достижению двух разных целей; еще в большей степени это относится к тем случаям, когда обе цели в том или другом смысле противоположны. Воспитание — это благодеяние, наказание должно быть страданием: пенитенциарная система направлена одновременно на осуществление и того и другого. Далее, как бы ни было велико то участие, которое грубость и невежество, усиленные внешними обстоятельствами, принимают во многих преступлениях, все-таки нельзя приписывать им значение главной причины таковых, потому что бесчисленное множество других людей, живущих в той же грубости и в совершенно сходных обстоятельствах, не совершают преступлений. Главную роль в последних играет поэтому личный, моральный характер, а он, как я это выяснил в своем конкурсном сочинении «О свободе воли», вообще не меняется. Поэтому действительное моральное исправление даже и невозможно: возможно только устрашение. Наряду с этим, конечно, можно достигнуть того, чтобы преступник просветлел умом и чтобы в нем проснулась любовь к труду: результат покажет, насколько это возрождение продолжительно. Кроме того, из установленной мною в тексте цели наказания явствует, что связанное с ним мнимое страдание, насколько возможно, должно преобладать над действительным: между тем одиночное заключение достигает обратного. А великой муки его (одиночного заключения) никто не свидетель, и тот, кто еще не испытал ее, совсем не может ее предугадать, и оттого она его не отпугивает. Человеку, которого нужда и горе подталкивают к преступлению, она грозит противоположным полюсом человеческого страдания — скукой; но, как справедливо замечает Гете: Если ждет нас тягостная мука,
Если
ждет нас тягостная мука,
Нам
желанной гостьей будет скука66.
И для человека, находящегося в таком положении нужды, перспектива одиночного заключения так же не страшна, как и вид тех чертогообразных тюрем, которые честные люди строят для мошенников. Если же рассматривать одиночные тюрьмы как учреждения воспитательные, то остается сожалеть, что попасть туда можно, только совершив преступление, вместо того чтобы, как то было задумано, пребывание в них предупреждало это преступление[296].
Если, как учил Беккариа, наказание должно строго соответствовать преступлению, то это основывается не на том, что первое должно быть
502
расплатой за содеянное, а на том, что залог должен соответствовать ценности того, за что он оставлен. В силу этого каждый вправе требовать в залог безопасности собственной жизни чужую жизнь; но он не вправе требовать того же в залог безопасности своего имущества, потому что для последнего достаточным залогом является чужая свобода и т. д. Вот почему для гарантии безопасности жизни граждан смертная казнь безусловно необходима. Тем, кто хотел бы ее упразднить, следует сказать: «Удалите прежде из мира убийство, а за ним последует и смертная казнь». По той же причине смертная казнь должна следовать и за умышленное покушение на убийство, как и за само убийство: ибо закон хочет карать поступок, а не мстить за его исход. Вообще, правильным масштабом для грозящего наказания являются те вредные последствия, которые желательно предотвратить, а не нравственная несостоятельность запрещенного деяния. Вот почему закон имеет право карать за допущенное падение с окна цветочного горшка — исправительной тюрьмой, за курение летом табака в лесу — каторгой, разрешая его, однако, зимой. Но, как это существовало в Польше, карать смертью за убийство зубра — это слишком, так как за сохранение породы зубров нельзя платить ценою человеческой жизни. При определении степени наказания, наряду с размерами предупреждаемых вредных последствий, необходимо принимать в расчет и силу мотивов, побуждающих к запретному деянию. Совсем другое мерило для наказания следовало бы употреблять, если бы истинным основанием для него служили расплата, возмездие «ius talionis». Но уголовный кодекс не должен быть ничем иным, как перечнем мотивов, противодействующих возможным преступным деяниям; и оттого каждый из этих мотивов должен значительно перевешивать побудительные мотивы этих деяний, и тем в большей степени, чем сильнее тот вред, который может нанести предотвращаемое законом деяние, чем сильнее искушение к совершению последнего и чем труднее изобличение преступника; конечно, все это должно опираться на ту верную предпосылку, что воля не свободна, а определяется мотивами: иначе к ней нельзя было бы даже подступиться. Вот что я хотел сказать по поводу своего учения о праве.
В своем конкурсном сочинении «О свободе воли» (с. 50 и сл.) я выяснил изначальность и неизменность прирожденного характера, из которого вытекает моральное содержание нашего образа жизни. Это — установленный факт. Но для того чтобы брать проблемы во всей их значимости, необходимо время от времени резко противопоставлять друг другу противоположные элементы. На них можно убедиться, как невероятно велико врожденное различие между отдельными людьми как в моральном, так и в интеллектуальном отношениях. Здесь — благородство и мудрость, там — злоба и глупость. Глаза одного светятся добротою сердца, или же печать гения на его челе. Низменная физиономия другого носит на себе черты морального ничтожества и интеллектуальной тупости, неистребимо и неоспоримо запечатленные руками самой природы: человек имеет такой вид, точно он должен стыдиться своего собственного существования. И этой внешности соответствует и внутреннее содержание человека. Невозможно допустить, чтобы такие
503
черты различия, которые изменяют всю сущность человека и ничем не могут быть устранены, которые, далее, в конфликте с обстоятельствами определяют весь его жизненный путь, — невозможно, говорю я, допустить, чтобы такие черты различия были присущи их носителю безо всякой вины или заслуги с его стороны и являлись делом простого случая. Уж отсюда-то явствует, что человек в известном смысле должен быть своим собственным произведением. Правда, с другой стороны, источник этих различий мы можем эмпирически указать в свойствах родителей каждого данного субъекта; к тому же сама встреча и союз этих родителей, очевидно, являются результатом в высшей степени случайных обстоятельств. Такие соображения неизбежно приводят нас к осознанию различия между явлением и внутренней сущностью вещей, которое одно только и может заключать в себе решение данной проблемы. Только через посредство форм явления раскрывается вещь в себе: поэтому то, что вытекает из последней, должно все-таки принимать эти формы, а значит, и вступать в сферу причинности. Вот почему отраженная в явлении вещь в себе и то, что из нее вытекает, представляются нам делом какого-то непостижимого и таинственного хода вещей, простым орудием которого служит внешняя, эмпирическая связь, где, однако, все, что совершается, имеет свои причины, т. е. наступает необходимо и определяется извне; между тем как истинная причина этого закономерного течения вещей коренится внутри той сущности, которая выступает в этой форме явления. Разумеется, здесь мы обнаруживаем, что перспектива решения данной проблемы весьма неопределенна, и если мы начнем размышлять о ней, то погрузимся в целую бездну мыслей, таких мыслей, которые Гамлет называет thoughts beyond the readies of our souls*. Свои мысли об этом таинственном ходе вещей, который можно вообразить себе лишь метафорически, я изложил в статье «О кажущейся преднамеренности в судьбе отдельного человека» в первом томе «Парерги».
В § 14 моего конкурсного сочинения «Об основе морали» вы найдете характеристику эгоизма в его внутренней сущности; в качестве дополнения к ней необходимо рассматривать нижеследующую попытку вскрыть его корни. Природа противоречит самой себе, в зависимости от того, проявляет ли она себя в частном или в общем, изнутри или извне, в центре или на периферии. В самом деле, свой центр она имеет в каждом индивиде, потому что каждый индивид — это вся воля к жизни в целом. Поэтому, будь этот индивид хотя бы простым насекомым или червем, сама природа так говорит в нем: «Я и только я есть все во всем: важно только мое сохранение, остальное может погибнуть, оно, собственно, ничего не значит». Так говорит природа с частной точки зрения, т. е. с точки зрения самосознания, и на этом основывается эгоизм каждого живого существа. С общей же точки зрения, каковой является точка зрения осознания других вещей, т. е. с точки зрения объективного познания, которое на данный момент отрешается от самого индивида, коему присуще познание, другими словами, извне, на периферии, природа говорит так: «Индивид — ничто и меньше, чем ничто. Каждый день
504
игры и забавы ради я уничтожаю миллионы индивидов: их судьбу я отдаю на произвол самому шаловливому и капризному из моих детей — случаю, который себе на потеху охотится на них. Каждый день я творю миллионы новых индивидов, и моя производительная сила от этого нисколько не слабеет, как не иссякает сила зеркала от множества тех солнечных бликов, которые оно один за другим отбрасывает на стену. Индивид — ничто». Лишь тот, кто действительно мог бы примирить и разрешить это явное противоречие природы, сумел бы дать истинный ответ на вопрос о тленности или нетленности своей собственной самости. Мне думается, что в первых четырех главах этой четвертой книги дополнений я дал полезное руководство к изысканию подобного ответа. Впрочем, сказанное выше можно пояснить еще и следующим образом. Всякий индивид, обращая взгляд в собственную глубину, узнает в своем существе, которое представляет собою его волю, вещь в себе, т. е. то, что есть высшая и единственная реальность. Вот почему он постигает себя как ядро и средоточие мира и считает себя бесконечно важным. Когда же он обращает свой взор вовне, то оказывается в сфере представления, простого явления, и там он видит себя индивидом среди бесконечного множества других индивидов, он видит себя чем-то совершенно незначительным и даже совершенно ничтожным. Следовательно, каждый, даже самый незначительный индивид, каждое Я, рассматриваемое изнутри, есть все во всем; рассматриваемое же извне, каждое Я — ничто или равно ничто. Вот на этом, таким образом, и основывается большое различие между тем, чем каждый необходимо является в своих собственных глазах, и тем, чем он является в глазах остальных, иными словами, на этом основывается тот эгоизм, в котором каждый упрекает каждого.
В силу этого эгоизма основная наша ошибка заключается в том, что мы друг для друга составляем не-Я. А быть честным, благородным, человеколюбивым — это, напротив, значит не что иное, как претворять в действие мою метафизику. Сказать, что время и пространство не что иное, как формы нашего познания, а не определения вещей в себе, — это все равно как если сказать, что учение о метемпсихозе: «Ты когда-нибудь возродишься в виде того существа, которое ты теперь обижаешь, и потерпишь от него такую же обиду», — что это учение тождественно с неоднократно упомянутой нами брахманистской формулой «Tat twan asi» («Это — ты»). Как я не раз уже доказывал, особенно в § 22 моего конкурсного сочинения «Об основании морали», из непосредственного и интуитивного познания метафизического тождества всех существ проистекает любая истинная добродетель. Но отсюда еще не следует, что она является результатом какой-нибудь особенной силы интеллекта; напротив, достаточно самого слабого рассудка, для того чтобы преодолеть грань principium individuationis, ведь именно в этом и заключается первооснова добродетели. Вот почему самый прекрасный характер можно встретить в сочетании даже с очень слабым интеллектом, и для того чтобы пробудилось наше сострадание, нет нужды в каком-либо напряжении со стороны нашего ума. Наоборот, требуемое проникновение за грань principo individuationis могло бы осуществляться в каждом человеке, если бы этому не противилась его воля, которая в силу своего
505
непосредственного, тайного и деспотического влияния на интеллект по большей части мешает этому проникновению, так что в конечном счете вина падает на волю, как это и соответствует сути дела.
Упомянутое выше учение о метемпсихозе только тем отступает от истины, что оно переносит в будущее то, что существует уже теперь. Оно гласит, что моя внутренняя сущность будет жить в других только после моей смерти, между тем как поистине она живет в них уже и теперь, и смерть только разрушает ту иллюзию, в силу которой я этого не замечаю; подобно тому как бесчисленные сонмы звезд сияют над нашей головой, но становятся видимы для нас лишь тогда, когда закатится именно одно, близкое к нам земное солнце. С этой точки зрения мое индивидуальное существование, как ни озаряет оно для меня, подобно этому солнцу, все на свете, на самом деле, однако, представляет собой только преграду, которая стоит между мной и познанием истинного объема моего существа. И так как эта преграда возникает перед каждым индивидом в его познавательной деятельности, то именно индивидуация и есть то, что держит волю к жизни в заблуждении относительно ее собственного существа: она — Майя брахманизма. Смерть — опровержение этого заблуждения, смерть разоблачает его. Я думаю, в момент смерти мы проникаемся сознанием, что только в силу иллюзии мы ограничивали наше бытие своей личностью; даже эмпирические следы этого можно видеть в некоторых состояниях, родственных смерти, при них прекращается концентрация сознания в мозгу; из этих состояний самое замечательное — магнетический сон; когда он наиболее глубок, наше бытие выходит за пределы нашей личности и в разного рода симптомах сказывается в других существах; самые поразительные из этих симптомов — это непосредственное участие в мыслях другого индивида и, в конце концов, даже способность познавать отсутствующее, отдаленное и даже будущее, т. е. своего рода повсеместное присутствие.
На этом метафизическом тождестве воли, как вещи в себе, при бесчисленном множестве ее проявлений, основаны вообще три феномена, которые можно объединить под общим понятием симпатии: 1) сострадание, которое, как я показал, является основой справедливости и человеколюбия (cahtas); 2) половая любовь, прихотливая в своем выборе (amor), которая представляет собой жизнь рода, которая отстаивает свое первенствующее значение по сравнению с жизнью индивидов; 3) магия, к которой относятся также животный магнетизм и симпатическое лечение. Итак, симпатию можно определить следующим образом: эмпирическое обнаружение метафизического тождества воли, проходящего через физическое множество ее проявлений, посредством чего раскрывается такая связь вещей, которая совершенно отлична от связи, обусловленной формами явления и постигаемой нами с помощью закона основания.
506
Глава 48*
К учению об отрицании воли к жизни
Бытие и сущность человека либо соответствуют его собственной
воле, и тогда он согласен с ними, либо нет: в последнем случае такое
существование, отравленное многочисленными и неминуемыми страданиями, представляло
бы собой вопиющую несправедливость. Древние, а именно стоики, а также
перипатетики и академики тщетно пытались доказать, что одной добродетели
достаточно для того, чтобы сделать жизнь счастливой: этому совершенно не
соответствовал опыт. Собственно, в основе таких попыток лежала предпосылка, не
вполне осознаваемая самими философами, что справедливо следующее отношение
между добродетелью и счастьем: тот, на ком нет вины, должен быть
свободен от страданий, т. е. счастлив. Но серьезное и глубокое решение
этой проблемы содержится в том постулате христианского учения, согласно
которому дела не оправдывают; следовательно, если бы даже человек проявлял справедливость
и человеколюбие, т. е. ’αγαϑόν, honestum, он все-таки, вопреки Цицерону,
еще не «culpa
507
делать. Вот почему мы и нуждаемся в совершенном преобразовании нашего разума и существа, т. е. в возрождении, вослед которому наступает освобождение. Хотя вина и ложится на действие, на operari, тем не менее корень вины находится в нашей essentia et existential*, потому что operari необходимо вытекает из последней, как я это выяснил в своем сочинении «О свободе воли». Таким образом, наш единственный настоящий грех — это, собственно, грех первородный. Правда, христианский миф утверждает, что этот грех возник лишь тогда, когда человек уже существовал, и он для этого приписывает человеку, per impossibile**, некую свободную волю: но все это он делает именно в качестве мифа. Сокровеннейшее ядро и дух христианства тождественны с духом брахманизма и буддизма: все эти религии исповедуют, что род человеческий совершает тяжкое прегрешение уже самим своим бытием; но только наша религия, в противоположность этим двум более древним вероучениям, не действует здесь прямо и откровенно и полагает грех не в самом бытии, а считает его источником некое деяние первой человеческой четы. Такое учение было возможно только благодаря фикции некоторого liberi arbitrii indifferentiae***, и было необходимо оно только ввиду основного иудаистского догмата, к которому было привито данное учение. Так как, поистине, уже само возникновение человека является актом его свободной воли и, следовательно, тождественно с его грехопадением; так как поэтому вместе с essentia и existentia возник и первородный грех, плодами которого являются все другие грехи (а между тем основной догмат иудаизма не допускал подобного толкования), то Августин в своих книгах «De libero arbitrio» учил, что человек только в качестве Адама до грехопадения был невинен и имел свободную волю, но затем подпал под необходимость греха. Закон, ὁ νόμος, в библейском смысле этого слова, постоянно требует, чтобы мы изменяли свои поступки, между тем как наше существо должно оставаться неизменным. Но так как это невозможно, то Павел и говорит, что никто не оправдан перед законом: только возрождение во Христе, обусловливаемое благодатью, от которой возникает новый человек и совлекается ветхий (т. е. совершается коренное духовное обновление), только оно может перенести нас из состояния греховности в состояние свободы и избавления. Таков христианский миф в его отношении к этике. Конечно, иудаистский теизм, к которому он был привит, должен был воспринять совершенно удивительные дополнения, для того чтобы приспособиться к нему: при этом легенда о грехопадении представляла собой единственное место, где мог быть привит черенок древнеиндусского ствола. Этой насильственно преодоленной трудности и надо приписать то, что христианские мистерии получили такой необычный и противоестественный для обыденного рассудка вид, который затрудняет дело прозелитизма и вследствие которого пелагианство68, как и современный рационализм, будучи не в состоянии понять глубокий смысл этих мистерий, восстает против них и пытается опровергнуть их своей экзегезой, чем и возвращает христианство к иудаизму.
508
Но оставим мифологический язык: пока наша воля остается прежней, наш мир не может быть иным. Правда, все хотят найти избавление от состояния страдания и смерти; все хотели бы, как говорится, достигнуть вечного блаженства, войти в царство Божие, но войти хотят они туда не на собственных ногах; им хотелось бы, чтобы они были перенесены туда естественным ходом вещей в природе. Однако это невозможно. Ибо природа есть лишь отображение, лишь тень нашей воли. Вот почему природа, хотя она никогда не отречется от нас и не позволит нам обратиться в ничто, не может нас никуда и привести, кроме как в ту же природу. А то, как тяжело существовать в качестве части природы, это на собственном опыте знает всякий из своей жизни и смерти. Итак, на свое бытие мы должны смотреть как на некое заблуждение, избавиться от которого было бы спасением: такой характер оно в самом деле и носит. В этом смысле и понимают человеческое бытие древние саманейские69 религии; так же, хотя и с некоторыми уклонениями, понимает его и настоящее, первоначальное христианство; даже сам иудаизм содержит, по крайней мере в легенде о грехопадении (этой его redeeming feature*), зародыш такого взгляда. Только греческое язычество и ислам совершенно оптимистичны; вот почему в первом противоположная тенденция должна была искать себе выход хотя бы в трагедии; в исламе же, самой молодой и самой дурной религии, данная тенденция выступила в качестве суфизма70 — прекрасном явлении, по своему источнику и духу безусловно индуистском и насчитывающем теперь уже более тысячи лет.
На самом деле нельзя указать иной цели нашего бытия, кроме осознания того, что лучше бы нас не было вовсе. Это — самая важная из всех истин, и надо ее поэтому высказать, как ни противоречит она образу мысли современной Европы; ведь представляет же она во всей немусульманской Азии теперь, как и три тысячи лет назад, общепризнанную истину.
Если мы рассмотрим теперь волю к жизни в целом и объективно, то мы, согласно сказанному, должны мыслить ее как находящуюся во власти некоторой иллюзии. Освободиться от этой иллюзии, т. е. отвергнуть все устремления воли, это и есть то, что религии называют самоотречением, «abnegatio sui ipsius»**: ведь наша истинная самость — это воля к жизни. Моральные добродетели, т. е. справедливость и человеколюбие, в своем чистом виде, постигая principium individuationis, узнают самое себя во всех своих проявлениях; таким образом, эти добродетели представляют собой прежде всего признак или симптом того, что являющаяся воля уже не находится всецело во власти указанной иллюзии, но уже наступило разочарование в ней; говоря метафорически, воля расправляет здесь свои крылья, для того чтобы улететь от этой иллюзии. Наоборот, несправедливость, злоба, жестокость служат симптомами противоположного явления, т. е. глубочайшего порабощения воли этой иллюзией. А кроме того, моральные добродетели представляют средство, споспешествующее самоотвержению и, следовательно, отрицанию воли к жизни. Ибо истинная чест-
509
ность, нерушимая справедливость, эта первая и важнейшая кардинальная добродетель, — столь трудная задача, что человек, отдавшийся ей безусловно и всей душой, должен приносить такие жертвы, которые вскоре отнимают у жизни всю ее сладость, сознание которой необходимо для того, чтобы довольствоваться этой жизнью, и отвращают от нее волю, т. е. ведут к резиньяции. Ведь именно то, что вызывает уважение к честности, — это и есть жертвы, которых она стоит; в мелочах мы ей не удивляемся. Сущность ее заключается, собственно, в том, что праведник не сваливает при помощи хитрости или силы на плечи другого тяготы и страдания, связанные с жизнью, как это делает человек неправедный; нет, он сам влачит на себе то, что ему назначено; и оттого ему приходится нести все бремя зла, тяготеющего над человеческой жизнью. Благодаря этому, справедливость обращается в средство, споспешествующее отрицанию воли к жизни; ведь результатом справедливости являются горе и страдания — это истинное назначение человеческой жизни, а они ведут к резиньяции. Но еще скорее приводит к тому же добродетель человеколюбия, Caritas, которая заходит еще дальше: следуя ей, мы берем на себя даже те страдания, которые сначала предназначались для других, и, таким образом, приобщаемся к большей доле страданий, чем та, которая по логике вещей должна была бы пасть на нашу собственную голову. Кто воодушевлен этой добродетелью, тот в любом другом человеке узнает свою собственною сущность. Вследствие этого он отождествляет свой собственный жребий со жребием человечества вообще: а это — тяжкий жребий труда, страданий и смерти. Таким образом, тот, кто, отказываясь от всякого случайного блага и преимущества, не хочет для себя никакого иного удела, кроме общечеловеческого, не может долго желать и этого последнего: привязанность к жизни и ее утехам должна вскоре исчезнуть и уступить место полному отречению, а с ним наступает и отрицание воли. Так как, следовательно, уже полное осуществление моральных добродетелей влечет за собой бедность, лишения и многообразные страдания, то многие, быть может, справедливо отвергают как излишнюю аскезу в узком смысле этого слова, т. е. отказ от всякой собственности, намеренное стремление ко всему неприятному и противному, самоистязание, пост, власяницу и бичевание. Справедливость — сама власяница, которая причиняет своему обладателю постоянную муку, и человеколюбие, которое отказывает себе в необходимом, само по себе — беспрерывный пост*. Именно поэтому буддизм свободен от той строгой и преувеличенной аскезы, которая в брахманизме играет столь важную роль, — другими словами, он свободен от преднамеренного самоистязания. Он довольствуется безбрачием, добровольной бедностью, смирением и покорностью мона-
510
хов, воздержанием от животной пищи и от всех мирских утех.
Кроме того, поскольку цель, к которой ведут моральные добродетели, есть та, на
которую мы здесь указали, то философия Веданты*
справедливо говорит, что, когда наступает истинное познание и его спутница —
полная резиньяция, т. е. возрождение, тогда становится безразличной
моральность или аморальность прежней жизни; философия эта и здесь прибегает к
своему обычному изречению: «Finditur nodus cordis, dissolvuntur
511
жит в себе ни одного элемента, который мог бы послужить к определению или конструкции нирваны. Вот почему джайны, которые только своим названием отличаются от буддистов, называют верующих в Веды брахманов шабдапраманами; это насмешливое прозвище означает, что последние понаслышке верят в то, чего нельзя ни знать, ни доказать («Asiatic Researches», vol. 6, p. 474).
Если некоторые древние философы, Орфей, пифагорейцы, Платон (напр., в «Федоне», с. 151, 183 и сл., Bip.,
см. также Clem. Alex. Str
В смертный час решается, возвращается ли человек обратно в лоно природы, или же он не принадлежит ей более, а… но для этого противоположения у нас нет образов, понятий и слов именно потому, что все они заимствуются нами из сферы объективации воли, относятся к этой объективации и, следовательно, никоим образом не могут служить для выражения ее абсолютной противоположности, и эта противоположность навсегда остается для нас чем-то совершенно отрицательным. А смерть индивида — это постоянный вопрос, который природа неустанно предлагает воле к жизни: «Довольно ли с тебя? Хочется ли тебе выйти из меня?» Для того чтобы осведомляться об этом можно было бы достаточно часто, жизнь индивидов и сделана столь короткой. В этом и заключается смысл всех обрядов, молитв и напутствий, к которым прибегают брахманы в смертный час (их можно найти во многих местах Упанишад); тот же самый смысл имеет и христианская забота о надлежащей встрече смертного часа в молитве, исповеди, причащении и соборовании; отсюда же ведут свое начало и христианские молитвы об избавлении от неожиданной кончины. А если в наши дни многие желают себе именно такой кончины, то это показывает лишь, что они стоят уже не на христианской точке зрения, которая учит отрицанию воли к жизни, а на той языческой точке зрения, которая учит утверждению этой воли.
Но меньше всего будет бояться полного уничтожения в результате смерти тот, кто познал, что он уже и теперь ничто, и кто поэтому не принимает уже никакого участия в своем индивидуальном явлении, так как познание как бы сожгло и истребило в нем волю, и в нем не осталось больше воли, тем самым не осталось и жажды индивидуального бытия.
Индивидуальность прежде всего, конечно, присуща интеллекту, отражая явление, он сам принадлежит явлению, а оно своею формой имеет prinapium individuationis. Но индивидуальность присуща также и воле, поскольку характер индивидуален; последний, однако, сам упраздняется в отрицании воли. Таким образом, индивидуальность присуща воле только в ее утверждении, а не в ее отрицании. Уже та святость, которая характеризует каждый чисто моральный поступок, основана на том, что последний в конечном счете происходит из непосредственного уразумения тождества всех живых существ по их внутренней сущности*. Однако
512
это тождество существует, собственно, лишь в состоянии отрицания воли (нирвана), так как утверждение воли (сансара) имеет своею формой множественное явление последней. Утверждение воли к жизни, мир явлений, разнообразие всех существ, индивидуальность, эгоизм, ненависть, злоба — все это происходит из одного корня; точно так же, с другой стороны, из одного корня происходит мир вещей в себе, тождество всех существ, справедливость, человеколюбие, отрицание воли к жизни. И если, как я достаточно убедительно показал, моральные добродетели возникают уже из сознания этого тождества всех существ, которое между тем лежит не в явлении, а только в вещи в себе, в корне всех существ, то добродетельный поступок представляет собой мимолетное прохождение человека через ту точку, вернуться к которой навсегда можно путем отрицания воли к жизни.
Сказанное приводит нас к заключению, что у нас нет никакого основания допускать, будто существуют еще более совершенные интеллигенции, чем интеллигенция человеческая. В самом деле: мы видим, что уже и последней достаточно для того, чтобы сообщить воле познание, в результате которого она себя отрицает и упраздняет, в силу чего отпадает индивидуальность, а следовательно, и интеллигенция, которая служит только орудием индивидуальной, т. е. животной, природы. Это покажется нам не столь странным, если мы сообразим, что даже наисовершеннейшие интеллигенции, какие только можно было бы в виде опыта вообразить себе, мы все-таки не могли бы мыслить существующими в течение бесконечного времени: последнее оказалось бы слишком скудным для того, чтобы постоянно доставлять им все новые и новые, достойные их объекты. Так как сущность всех вещей в своей основе одна, то всякое познание ее по необходимости тавтологично: если бы эта сущность была однажды постигнута (она и была бы наскоро постигнута этими совершеннейшими интеллигенциями), то что оставалось бы им для заполнения бесконечного времени, как не простое повторение со всей его скукой? Таким образом, и с этой стороны мы невольно приходим к тому выводу, что целью всякой интеллигенции может быть только реакция на волю; а так как всякое воление — заблуждение, то последним делом интеллигенции остается подавление того самого воления, целям которого она до сих пор служила. Поэтому даже самая совершенная из возможных интеллигенции может быть только переходной ступенью к тому, чего не в силах достичь никакое познание; и такая интеллигенция в сущности вещей может занять только место одного мгновения осуществленной полноты прозрения.
В соответствии со всеми этими соображениями и с тем, что, как я показал во второй книге, познание вытекает из воли, которую оно, служа ее целям, тем самым и отражает в ее утверждении, между тем как истинное спасение заключается в ее отрицании, — в соответствии с этим все религии в своей высшей точке завершаются мистикой и мистериями, т. е. мраком и покровом тайны, которые, собственно, намечают лишь пустое для познания место, т. е. тот пункт, где необходимо прекращается всякое познание; и оттого этот пункт может быть выражен для мысли только путем отрицаний, а для чувственного созерцания он знаменуется символическими знаками, в храмах — темнотою и безмолвием, а в брах-
513
манизме — даже требованием приостановки всякого мышления и созерцания, в целях глубочайшего проникновения в недра собственной самости, с помощью мысленного произнесения таинственного слова Ом (Oum)*. Мистика в широком смысле этого слова — это любое указание к непосредственному проникновению в то, куда не проникает ни созерцание, ни понятие, ни, стало быть, вообще какое бы то ни было познание. Мистик противоположен философу в том отношении, что он начинает изнутри, между тем как последний — извне. Мистик исходит из своего внутреннего, положительного, индивидуального опыта, в котором он находит себя как вечное, всеединое существо и т. д. Но сообщить об этом он не может ничего другого, кроме своих собственных утверждений, и остается только принимать их на веру: следовательно, он не может никого убедить. Философ же, наоборот, исходит из общего для всех, из объективного, перед всеми лежащего явления и из фактов самосознания, как они заложены в каждом человеке. Его метод, таким образом, — это размышление над этими исходными посылками и комбинирование содержащихся в них данных: вот почему он может убеждать других. Он должен поэтому остерегаться действовать на манер мистиков и, например, путем провозглашения интеллектуальных созерцаний или мнимых непосредственных внушений разума обманчиво предлагать положительное познание того, что, навеки недоступное ни для какого познания, в лучшем случае может быть обозначено только путем отрицания. Ценность и достоинство философии заключается в том, что она отвергает любые допущения, которых нельзя доказать, и принимает в число своих данных только то, на что можно с достоверностью указать в наглядно данном внешнем мире, в конституирующих наш интеллект формах восприятия этого мира и в общем для всех сознании собственной самости. Вот почему философия должна оставаться космологией и не может становиться теологией. Ее задача должна ограничиваться миром: всесторонне указать на то, что этот мир такое, что он такое в своих глубочайших недрах, — вот все, что она может сделать, оставаясь добросовестной. В соответствии с этим моя философия, достигнув своей вершины, принимает отрицательный характер, т. е. заканчивается отрицанием. Именно в этом пункте она может говорить только о том,
514
что служит предметом отрицания, устранения; а то, что этим приобретается, достигается, она вынуждена (в конце четвертой книги) характеризовать как ничто и в виде утешения может только прибавить, что это лишь относительное, а не абсолютное ничто. Ибо если какая-нибудь вещь есть что-либо из того, что мы знаем, то она, конечно, для нас вообще ничто. Тем не менее отсюда еще не следует, что она есть абсолютное ничто, что она должна быть ничто и с любой возможной точки зрения и в любом возможном смысле: нет, отсюда следует только, что мы ограничены совершенно отрицательным познанием этой вещи, а причина этого вполне может лежать в ограниченности нашей точки зрения. Начиная именно с этого пункта, мистик действует положительно, и далее поэтому не остается ничего другого, кроме мистики. А кто желает иметь подобного рода дополнение к тому отрицательному познанию, к которому только и может подвести его философия, тот в наиболее прекрасном и избыточном виде найдет его в «Oupnekhat», затем в «Эннеадах» Плотина, у Скота Эриугены, местами у Якоба Бёме, особенно же в дивном творении госпожи Гюйон, «Les torrents», у Ангелуса Силезиуса, наконец, еще в стихотворениях суфиев, сборник которых на латинском языке (а другой в немецком переводе) подарил нам Толук, и еще в некоторых других произведениях. Суфии — это гностики ислама; поэтому Саади и называет их словом, которое переводится «глубокомысленные». Теизм, рассчитывая на понимание массы, полагает первоисточник бытия вне нас, как объект; всякая мистика, а следовательно, и суфизм на различных ступенях посвящения постепенно возвращает его, этот первоисточник, в нас, как субъект, и в конце концов адепт с удивлением и радостью узнает, что этот источник — он сам. Этот общий для всякой мистики процесс не только изображен Майстером Экхартом, отцом немецкой мистики, в форме предписания для совершенного аскета: «Не ищи Бога вне самого себя» (соч. Экхарта, изданные Пфейфером, т. I, с. 626). Нет, он нашел себе еще и в высшей степени наивное выражение в том, что духовная дочь Экхарта, познав в себе этот внутренний переворот, направилась к своему духовному отцу и с восторгом воскликнула: «Господин, радуйтесь со мною, Я сделалась Богом!» (там же, с. 465). В этом же духе и вся мистика суфиев выражается преимущественно в том, что ее адепты утопают в сладостном сознании, что люди сами — ядро мира и источник всякого бытия, к которому сводится все. Правда, к этому часто прибавляется еще и призыв к отречению от всякого воления, которое только и может привести к освобождению от индивидуального бытия с его страданием; но этот призыв имеет второстепенное значение, и осуществление его признается чем-то легко осуществимым. В мистике же индуистов эта последняя сторона выступает гораздо сильнее, а в христианской мистике она совершенно преобладает, так что то пантеистическое сознание, которое присуще всякой мистике, появляется здесь лишь во вторую очередь, в результате отречения от всех желаний и как воссоединение с Богом. В соответствии с этим различием в представлениях мусульманская мистика имеет очень радостный характер, мистика христианская имеет характер мрачный и страдальческий, мистика же индуистов, возвышаясь над обеими, сохраняет и в этом отношении середину.
515
Квиетизм, т. е. отречение от всех желаний, аскеза, т. е. намеренное умерщвление своеволия, и мистицизм, т. е. сознание тождества нашей собственной сущности с сущностью всех вещей, или с ядром мира, — все эти три момента находятся между собой в самой тесной связи, так что те, кто исповедуют какой-нибудь один из них, постепенно склоняются и к исповеданию остальных, даже помимо собственного желания. Не может быть ничего поразительнее того обстоятельства, что писатели, излагающие эти учения, несмотря на величайшие различия стран, эпох и религий, которым они принадлежат, вполне согласны друг с другом, и эта солидарность сопровождается незыблемой уверенностью и сердечным доверием, с какими они раскрывают содержание своего внутреннего опыта. Между тем они не образуют даже секты, которая исповедовала бы, защищала и распространяла какой-нибудь теоретически излюбленный, раз и навсегда признанный догмат: нет, они, по большей части, ничего не знают друг о друге; мало того, индуистские, христианские, магометанские мистики, квиетисты и аскеты во всем разнятся между собою, но только не во внутреннем смысле и духе своих учений. В высшей степени поразительный пример этого дает сравнение «Torrents», госпожи Гюйон с учением Вед, а именно с тем местом в «Oupnekhat» (т. 1, с. 63), которое заключает в себе содержание этой французской книги в очень сжатом виде, но со всею точностью и даже в рамках того же образного строя, — а ведь это содержание не могло быть знакомо г-же Гюйон в период около 1680 г. В «Немецкой теологии» (единственное неискаженное издание — Штутгарт, 1851), во второй и третьей главах, говорится, что падение как дьявола, так и Адама заключалось в том, что и первый и последний стали прилагать к себе Я, Меня, Мое и Мне, а на с. 89 мы читаем: «В истинной любви не останется ни Я, ни Меня, ни Мое, ни Ты, ни Твое и т. п.». Соответственно с этим, в «Курале», переведенном с тамильского Graul’ем, на с. 8 говорится: «Вовне идущая страсть Моего и вовнутрь идущая страсть Я прекращается» (ср. стих 346). А в «Manual of Buddhism» by Spence Hardy, с 258, Будда говорит: «Мои ученики отвергают мысль «это Я» или «это Мое». Вообще, если отрешиться от тех форм, которые обусловлены внешними обстоятельствами, и посмотреть в корень вещей, то мы убедимся, что Шакья Муни и Майстер Экхарт проповедуют одно и то же, но только первый имел возможность и мужество высказывать свои мысли прямо, тогда как последний свои мысли вынужден был облекать в покровы христианского мифа и приспосабливать к нему свой способ выражения. Но на этом пути он зашел так далеко, что христианский миф обратился у него едва ли не в простую метафору, почти так же, как эллинская мифология у неоплатоников: Майстер Экхарт толкует христианское сказание чисто аллегорически. В этом же отношении замечательно, что переход святого Франциска от благосостояния к нищенству совершенно похож на тот еще более великий шаг, который сделал Будда Шакья Муни от принца к нищему, и что, соответственно, жизнь, как и орден Франциска, представляет собой лишь нечто вроде саниассинства72. Заслуживает упоминания и то, что родство Франциска с индуистским духом проявляется и в его великой любви к животным: он часто общался
516
с ними и всегда называл их своими сестрами и братьями; его прекрасная «Cantico»*, славящая солнце, луну, звезды, ветер, воду, огонь, землю, тоже обнаруживает в нем прирожденный индуистский дух**.
Даже христианские квиетисты часто мало знали друг о друге, а иногда и вовсе не знали; например, Молинос и госпожа Гюйон не имели никаких сведений о Таулере и «Немецкой теологии», или Гихтель ничего не знал о первых двух. Точно так же не имело существенного влияния на их учение и значительное различие в их образовании, ведь некоторые из них, например Молинос, были образованны, а иные, такие, как Гихтель, и многие другие, были неучами. Тем более их великое внутреннее сродство, соединенное с решительностью и уверенностью высказываний, доказывает, что их устами говорил действительный внутренний опыт, тот опыт, который, правда, доступен не всякому, но дается в удел немногим избранным и, вследствие этого, именуется благодатью, но в действительности которого, по указанным выше причинам, сомневаться нельзя. Но для того чтобы все это понять, нужно прочесть сами произведения мистиков, а не довольствоваться сообщениями из вторых рук, ибо прежде чем судить о ком-нибудь, надо выслушать его самого. Поэтому для ознакомления с квиетизмом я рекомендую, в особенности, Майстера Экхарта, «Немецкую теологию», Таулера, Гюйон, Антуанетту Буриньон, англичанина Баньяна, Молиноса***, Гихтеля; как практическую
иллюстрацию и образец глубокой серьезности аскетизма следует
рекомендовать изданную Рейхлином «Жизнь Паскаля», написанную
Паскалем «Историю Пор-Рояля», а также «Histoire de Sainte Elisabeth»
par le c
конечно, это нисколько не исчерпывает всего значительного в данной
области. Кто читал подобные творения и сравнивал их дух с тем духом
аскезы и квиетизма, который пронизывает все произведения брахманизма
и буддизма и заявляет о себе на каждой их странице, тот согласится,
что всякая философия, которая, оставаясь верна самой себе, вынуждена
отвергать подобный строй мысли (а это возможно только в том случае,
если его представителей она считает обманщиками или сумасшедшими),
уже по одному этому непременно должна быть ложной. Между тем
именно в таком положении находятся все европейские системы философии,
за исключением моей. Поистине, странное это должно было быть
помешательство, которое при самых разнообразных обстоятельствах
и у самых разнообразных лиц находило себе такое единодушное выражение
и которое при этом самые древние и многочисленные народы земли
(около трех четвертей всего населения Азии) удостоили превращения
*
**
*** Michælis de Molinos “Manuduclio spiritualis”: hispanice 1675, italice 1680, latine 1687, galice in libro non adeo rarо, cui titulus: « Recueil de diverses pièces concernant le queiétisme, ou Molinos et ses disciples », Amst. 1688 <Мигель де Молинос. «Духовное руководство». Испанский текст изд. 1675, итальянский 1620, латинский 1687, французский, — не такая редкая книга под заглавием: «Собрание различных отрывков о квиетизме, или Молинос и его ученики». Амстердам, 1688, лат., фр.>.
517
в главное учение своей религии. Нет, проблему квиетизма и аскетизма не должна отвергать ни одна философия, коль скоро перед ней возникает данный вопрос, ибо проблема эта по своему содержанию тождественна проблеме всякой метафизики и этики. Здесь, таким образом, находится тот предел, где я бросаю вызов любой философии с ее оптимизмом и требую, чтобы она высказалась по этому поводу. И если в суждении моих современников парадоксальное и беспримерное согласие моей философии с квиетизмом и аскетизмом составляет явный камень преткновения, то я, наоборот, именно в этом вижу доказательство того, что она—единственно правильная и истинная, как этим же я объясняю и то, что ею благоразумно пренебрегают и ее замалчивают в протестантских университетах.
Ибо не только религия Востока, но и подлинное христианство бесспорно имеет тот основной аскетический характер, который моя философия уточняет как отрицание воли к жизни, хотя протестантизм, особенно в его современном виде, и пытается это затушевать. Ведь недаром выступили в последнее время явные враги христианства, которые уличили его в проповеди лишений, самоотречения, безусловного целомудрия и вообще умерщвления воли; они совершенно правильно называют все это «антикосмической тенденцией», основательно доказывая, что она присуща первоначальному и подлинному христианству. В этом отношении они бесспорно правы. Но то, что они видят в этом явную и неоспоримую укоризну для христианства, между тем как именно в этом заключается его глубочайшая истинность, его величие и возвышенный характер, это свидетельствует о каком-то затмении ума, которое можно объяснить только тем, что умы эти, как и, к сожалению, тысячи других в современной Германии, совершенно испорчены и навсегда загублены жалкой гегельянщиной, этой школой плоскости, этим очагом неразумия и невежества, этой пагубной для умов лжемудростью; теперь, впрочем, ее начинают уже разоблачать и преклонение перед нею скоро останется на долю одной только Датской академии, в чьих глазах Гегель, этот грубый шарлатан, — summus philosophus*, за которого она и пускается в бой:
Car ils suivront la créance et estude,
De l’ignorante et sotte multitude,
Dont le plus lourd sera reçu pour juge.
Rabelais**
Действительно, в истинном и первоначальном христианстве, как оно развилось из ядра Нового Завета в произведениях отцов церкви, аскетическая тенденция неоспорима: она — та вершина, к которой все стремится. Уже в Новом Завете мы находим главное учение, проникнутое тенденцией, а именно — призыв к истинному и чистому целибату (ведь это — первый и самый важный шаг в отрицании воли)***. И Штраус
518
в своей «Жизни Иисуса» (т. I, с. 618 первого издания) говорит о призыве к безбрачию, высказанном у Мф. 19, 11 ел.: «Для того чтобы не оставить в словах Христа ничего противоречащего современным представлениям, поспешили незаконно провести ту мысль, будто Христос призывал к безбрачию, только принимая во внимание обстоятельства своего времени и в целях беспрепятственного осуществления апостолами их деятельности; но в тексте на это имеется еще меньше указаний, чем в сходном месте из 1 Кор. 7, 25 сл., — нет, и здесь мы опять встречаем одно из тех мест, где аскетические принципы, распространенные среди ессеев и, вероятно, еще больше среди прочих евреев, просвечивают и у Христа»74. Эта аскетическая направленность позднее выступила более явственно, чем на первых порах, когда христианство еще искало приверженцев и оттого не могло предъявлять слишком строгих требований; с наступлением же третьего века эта направленность значительно ужесточилась. С точки зрения истинного христианства брак — это только компромисс с греховной природой человека, уступка и снисхождение тем, у кого нет силы стремиться к высшей цели, средство избегнуть большего зла: в этом смысле брак и получает санкцию церкви, для того чтобы узы его были нерасторжимы. Но высшим посвящением в христианство, которое вводит в ряды избранных, считается безбрачие и девственность: только они увенчивают победой, на какую даже и в наши дни указывает еще венец, возлагаемый на гроб безбрачных, как и венец, который снимает с себя невеста в день венчания.
Свидетельством этого, относящимся во всяком случае ко
времени раннего христианства, может служить приводимый Климентом
Александрийским (Str
Дальше всех зашли в этом отношении, конечно, еретики: уже во втором столетии — татианиты, или энкратиты, гностики, маркиониты, монтанисты, валентиниане и последователи Кассиана75; но сделали они это только потому, что с беззаветной последовательностью воздавали должное истине и оттого, согласно духу христианства, проповедовали совершенное воздержание (ἐκρ́ατεια), между тем как церковь мудро провозгласила ересью все, что противоречило ее дальнозоркой полити-
519
ке. О татианитах сообщает Августин:
«Nuptias damnant, atque
520
места из Августина, касающиеся этого
пункта, собраны в книге: «Confessio Augustiniana» e «D. Augustini operibus c
521
было полное отречение от плотского. Личное Я должно отвращаться и воздерживаться ото всего, что доставляет радость только ему и что доставляет ему эту радость только временно. Наконец, еще на с. 288: «Мы согласны с аббатом Захарией, который хотел выводить безбрачие (а не закон безбрачия) прежде всего из учения Христа и апостола Павла».
Противополагается же этому основному учению истинного
христианства всегда и всюду только
Ветхий Завет со своим πάντα
καλὰ λίαν*. Это особенно ясно видно из той важной третьей книги «Str
522
хий Завет был убедительнее и ближе Нового Завета, вменяет им в вину. Он видит в этом вопиющую неблагодарность, вражду и возмущение против Того, Кто создал мир, — против справедливого демиурга, от которого они произошли сами и творениями которого, однако, пренебрегает, в нечестивом возмущении «отрешаясь от естественного миросозерцания» (ὰντιτασσομ́ενοι τῷ ποιητῆ τῶ σφῶν, ... ἐγκρατε͂ια τ͂η πρὸς τὸν πεποιηκότα ἒχϑρα, μὴ Βουλόμενοι χρῆσϑαι το͂ις υπ᾽ αντοῦ κτισϑε͂ισιν ... ἀτεΒε͂ί ϑεομαχῖα τῶν κατὰ φὺτιν ἐκοταντες λογισμ͂ων)*. При этом в своем священном рвении он не хочет признать за маркионитами даже оригинальности, а, вооруженный своей известной ученостью, уличает их, доказывая это с помощью прекрасных цитат, в том, что уже древние философы Гераклит и Эмпедокл, Пифагор и Платон, Орфей и Пиндар, Геродот и Еврипид, а вдобавок еще и Сивилла глубоко оплакивали горестное состояние мира, т. е. проповедовали пессимизм. В этом ученом энтузиазме он не замечает, что именно тем самым льет воду на мельницу маркионитов, доказывая, что
Мудрые
люди всех стран и веков77
проповедовали и воспевали то же, что и они; в своем энтузиазме он не замечает этого и смело и страстно приводит самые решительные и энергичные изречения древних в соответствующем духе. Его, конечно, эти изречения не смущают: пусть мудрецы скорбят о горести бытия, пусть поэты изливаются в потрясающих жалобах на страдания, пусть природа и опыт громко вопиют против оптимизма, — все это не касается нашего отца церкви: он спокоен, ибо твердо держится своего иудаистского откровения. Мир сотворен демиургом, отсюда a priori несомненно, что он прекрасен, а там пусть он выглядит, как ему угодно. Так же точно обстоит и со вторым пунктом, касательно ἐγράτεια, в котором, по его мнению, маркиониты обнаруживают свою неблагодарность к демиургу (ἀχαριστε͂ιν τῷ ϑημιουργῷ) и то ослушание, с каким они отклоняют от себя его дары (δι ἀντἱταξιν πρὸς τὸν δημιουργὸν, τὴν χρῆσιν τῶν κοσμικῶν παραιτούμενοι). И трагики тоже в этом отношении подготовили путь энкратитам (в ущерб их оригинальности) и проповедовали то же самое: именно, оплакивая бесконечную горесть бытия, они прибавляли, что было бы лучше не рожать для подобного мира детей; это Климент опять подтверждает прекрасными цитатами из трагиков и вместе с тем обвиняет пифагорейцев, что они по тем же основаниям воздерживались от полового наслаждения. Но все это нисколько его не смущает: он остается при своем убеждении, будто все эти люди своим воздержанием грешили против демиурга, так как они учили, что не следует вступать в брак, рожать детей, не следует посылать в мир новых страдальцев и обеспечивать смерти новую жатву (δί εγκρατείας ἀσεΒοῦσι εἲς τε τὴν κτις́ιν καὶ τὀν ἂγίων δημιουιγόν, τὸν παντοκράτορα μονόν ϑεόν, και διδάσκουσι, μὴ δειν παραδέχεσϑαι γάμον καὶ παιδαποϊιαν, μηδὲ άντεισάγειν τῷ κοσμώ δυστυχήσοντας ἑτέρους, μηδέ ἐπαχορηγε͂ιν ϑανάτω τροφην, с
523
6)*.
По-видимому, отец церкви, сетуя на ε᾽γκρ́ατεα, не предчувствовал, что сразу же вслед за его временем безбрачие среди христианского духовенства будет все более и более
распространяться и, наконец, в XI веке
станет законом, так как оно соответствует духу Нового Завета. Гностики восприняли этот дух глубже и
поняли лучше, нежели наш отец,
который больше был иудеем, чем христианином. Взгляды гностиков очень ясно выступают в начале девятой
главы «Str
Поистине, не иудаизм с его πάντα καλά λίαν******, а брахманизм и буддизм[297] — вот что родственно христианству по духу и этической тенденции. А ведь именно дух и этическая тенденция составляют сущность всякой религии, а не те мифы, в которые эта сущность облекается. Я не могу поэтому отказаться от убеждения, что учение христианства тем или другим путем вышло из этих перворелигий. Некоторые следы этого я наметил уже во втором томе своей «Парерги», § 179. Здесь надо
524
прибавить следующее: Епифаний (Hæretic. XVIII) сообщает, что первые иерусалимские иудео-христиане, которые называли себя назореями, воздерживались от всякой животной пищи. Ввиду такого характера своего происхождения (или, по крайней мере, такого совпадения) христианство принадлежит к тому древнему, истинному и возвышенному верованию человечества, которое представляет собой противоположность ложного, плоского и пагубного оптимизма в том виде, как он выражен в греческом язычестве, иудаизме и исламе. Зенд-религия до известной степени занимает между ними середину, потому что она в лице Аримана противопоставляет Ормузду пессимистический противовес79. Из этой зендской религии, как основательно показал И. Е. Роде в своей книге «Священное предание зендского народа», произошла иудаистская религия: Ормузд обратился в Иегову, Ариман — в сатану, который, впрочем, играет в иудаизме еще очень второстепенную роль и даже исчезает из него почти совершенно, отчего первенство оказывается на стороне оптимизма, и только миф о грехопадении, тоже имеющий свой источник в Зенд-Авесте (миф Мешиана и Мешианы), остается в качестве пессимистического элемента, но скоро предается забвению, пока вместе с сатаной его вновь не воспринимает христианство. Впрочем, и сам Ормузд ведет свое происхождение из брахманизма, хотя, правда, из низменной сферы последнего: это именно не кто иной, как Индра, — этот второстепенный и часто соперничающий с людьми бог небес и атмосферы; это очень хорошо выяснил замечательный ученый И. И. Шмидт в своей книге «О родстве гностико-теософских учений с религиями Востока». Этот Индра-Ормузд-Иегова должен был потом перейти в христианство, так как оно зародилось в Иудее; но вследствие космополитического характера христианства он потерял свои собственные имена и на родном языке каждого из новообращенных народов стал называться именительным падежом вытесненных им сверхчеловеческих индивидов, — ϑεός, deus, что происходит от санскритского deva[298] (отсюда также devil, Teufel, дьявол); или же, у гностико-германских народов, назывался он словом god, Gott, которое происходит от Odin, или Wodan, Guodan, Godan. Таким же точно образом в исламе, который ведет свое происхождение от иудаизма, он принял имя Аллаха, существовавшее в Аравии уже и раньше. Аналогию этому представляет и то, что боги греческого Олимпа, когда они в доисторические времена были пересажены на почву Италии, приняли имена прежних туземных богов; оттого Зевс называется у римлян Юпитером, Гера — Юноной, Гермес — Меркурием и т. д. В Китае первым затруднением для миссионеров является то, что китайский язык совсем не знает подобного рода имен нарицательных, как и вообще он не имеет слова, соответствующего понятию творения*: ведь все три китайские религии не знают богов ни во множественном, ни в единственном числе.
Как бы то ни было, настоящему христианству πάντα καλά λίαν Ветхого Завета действительно чуждо: в Новом Завете о мире всегда говорится как о чем-то таком, к чему мы не принадлежим, чего мы не
525
любим, господином чего, собственно, является дьявол*. Это соответствует аскетическому духу отвержения собственной самости и преодоления мира, духу, который наряду с безграничной любовью к ближнему, даже к врагу, составляет основную черту христианства, общую для него с брахманизмом и буддизмом и свидетельствующую об их родстве. Нигде не следует так тщательно отделять ядро от скорлупы, как в христианстве. Именно потому, что я высоко ценю это ядро, я иногда мало забочусь о скорлупе; впрочем, она гораздо толще, чем обычно думают.
Протестантизм, элиминировав аскезу и ее центральный пункт, похвальность безбрачия, собственно, уже отрекся этим от сокровеннейшего ядра христианства, и в этом смысле его можно считать отпадением от этого ядра. В наши дни это сказывается в постепенном превращении протестантизма в плоский рационализм, это современное пелагианство80, в конце концов сводящееся к учению о некоем любящем отце, который создал мир для того, чтобы все в нем было весело и приятно (что, конечно, не могло у него получиться), и который, если только в известных отношениях слушаться его, впоследствии позаботится и о другом мире, где все будет еще гораздо милее (жаль только, что вход в этот новый мир так печален). Это, быть может, хорошая религия для любящих комфорт, женатых и просвещенных протестантских пасторов, но это не христианство. Христианство — это учение о глубокой вине человеческого рода, коренящейся уже в самом его бытии, и о порыве души к избавлению от этой вины, которое, однако, может быть достигнуто только ценой самых тяжких жертв, подавлением собственной личности, т. е. путем совершенного переворота человеческой природы. Лютер, с практической точки зрения, т. е. поскольку он стремился положить конец церковным злоупотреблениям своей эпохи, может быть, и был совершенно прав; но не прав он с теоретической точки зрения. Чем возвышеннее какое-нибудь учение, тем более открыто оно для всяческих злоупотреблений, так как человеческая природа в общем низменна и злонамеренна; вот почему в католицизме злоупотреблений гораздо больше и они серьезнее, чем в протестантизме. Так, например, монашество, это методическое и для взаимного поощрения совместно осуществляемое отрицание воли, представляет собой учреждение возвышенного характера, но именно поэтому оно во многих случаях оказывается неверным своему духу. Возмутительные злоупотребления церкви вызвали в честной душе Лютера глубокое негодование. Но в результате он пришел к тому, что старался как можно больше выторговать у самого христианства, и с этой целью он сперва ограничил его изречениями из Библии,
526
а потом в своем благонамеренном рвении покусился на самую сердцевину христианства. Действительно, по устранении аскетического принципа его место вскоре неизбежно занял принцип оптимистический. Но как в религиях, так и в философии оптимизм представляет собой коренную ошибку, которая преграждает дорогу всякой истине. Вот почему мне и кажется, что католицизм — это христианство, подвергшееся бессовестным злоупотреблениям, протестантизм же — это христианство выродившееся; таким образом, христианство вообще испытало на себе ту судьбу, какая выпадает на долю всего благородного, возвышенного и великого, коль скоро ему приходится существовать среди людей.
И тем не менее даже в недрах протестантизма аскетический и энкратический дух, который присущ христианству, опять вырвался на свободу и принял такие величественные и определенные формы, каких, быть может, раньше никогда и не имел. Я говорю о весьма замечательной секте шейкеров в Северной Америке, основанной в 1774 г. англичанкой Анной Ли. Число этих сектантов возросло уже до 6000; распределенные на пятнадцать общин, они заселяют несколько деревень в штатах Нью-Йорк и Кентукки — главным образом в округе Нью-Либанон, при Нассау-виллидж. Основной чертой их религиозной морали является безбрачие и полное воздержание от всякого полового удовлетворения. Как единодушно свидетельствуют английские и североамериканские посетители шейкеров, вообще всячески над ними издевающиеся, это правило соблюдается строго и вполне честно, несмотря на то что братья и сестры живут иногда под одной и той же кровлей, едят за одним столом и даже вместе пляшут в церкви во время богослужения. Дело в том, что, по их учению, тот, кто принес эту жертву целомудрия, самую тяжкую из всех жертв, тот достоин плясать перед Господом: он — победитель, он превозмог. Их церковные песнопения вообще радостны, отчасти даже это — веселые песни. Церковная пляска, следующая за проповедью, также сопровождается песнями остальных участников; пляска идет ритмично, живо и кончается галопом, которому отдаются до изнеможения. В промежутках между плясками кто-нибудь из сектантских вероучителей громко взывает: «Помните, что вы радуетесь о Господе, так как умертвили вашу плоть! Ибо это есть единственное употребление для наших непокорных членов». К безбрачию сама собой примыкает большая часть других правил. У шейкеров нет семьи, а поэтому нет и частной собственности; имущество у них общее. Все они одеваются одинаково, наподобие квакеров, и очень опрятно. Они работящи и прилежны и не терпят праздности. Есть у них и завидное предписание избегать всякого ненужного шума — крика, хлопанья дверьми, бичом, сильного стука и т. д. Правила их жизни один из них охарактеризовал следующим образом: «Ведите жизнь невинности и чистоты, любите ближнего, как самого себя, живите со всеми людьми в мире и воздерживайтесь от войны, кровопролития и всякого насилия по отношению к другим, как и от всяких помыслов о мирских почестях и отличиях. Воздавайте каждому свое и блюдите святость, ибо без нее никто не может созерцать Господа. Делайте всем добро, где только представится случай и насколько достанет ваших сил». Они не уговаривают никого вступать в их общину и всякого желающего вступить подвергают искусу
527
в виде продолжающегося несколько лет новициата. Всякий может свободно выйти из общины; исключают из нее в высшей степени редко: тех, кто преступил ее заветы. Дети, приводимые в общину, получают заботливое воспитание, и только по достижении совершеннолетия они добровольно вступают в члены общины. Сообщают, что споры их настоятелей с англиканскими священниками обыкновенно состоят из новозаветных текстов. Более подробные сведения о шейкерах можно найти главным образом у Maxwell, «Run through the United States», 1841; далее у Benedict’а в «History of all religions», 1830; затем — в «Times», novr. 4. 1837, и в немецком журнале «Columbus», майский выпуск, 1831. Очень похожа на них одна немецкая секта в Америке, именно рапписты; они тоже живут в строгом безбрачии и воздержании; сведения о них можно найти у Ф. Лёхера: «История и положение немцев в Америке», 1853 г. По-видимому, и в России такую же секту представляют собой раскольники. Последователи Гихтеля («ангельские братья») тоже живут в строгом целомудрии. Но и у древних евреев мы находим уже прототип всех этих сект, именно ессеев, о которых говорит даже Плиний (Hist, nat., V, 15) и которые были очень похожи на шейкеров не только безбрачием, но и в других отношениях, даже пляской при богослужении*; это заставляет предполагать, что основательница секты шейкеров взяла за образец ессеев. Сравните же с этими фактами утверждение Лютера: «Ubi natura, quemadmodum a Deo nobis insita est, fertur, ac rapitur, fieri nullo modo potest, ut extra matrimonium caste vivatur»**.
Хотя христианство, в сущности, учит только тому, что уже тогда вся Азия знала давно и даже лучше, тем не менее для Европы христианство было новым и великим откровением, в силу которого совершенно преобразился духовный облик европейских народов. Ибо христианство раскрыло для них метафизическое значение бытия и научило их устремлять свои взоры за пределы узкой, бедной и эфемерной земной жизни и видеть в ней уже не самоцель, а состояние страдания, вины, искус борьбы и очищения, из которого путем моральных заслуг, тяжких лишений и самоотвержения можно вознестись к лучшему бытию, для нас непостижимому. Оно, в оболочке аллегории, учило великой истине утверждения или отрицания воли к жизни; оно говорило, что грехопадение Адама навлекло проклятие на всех нас, что в мир вошел грех и что наследие вины пало на всех, но что жертвенная смерть Христа всех искупила, спасла мир, победила вину и удовлетворила справедливость. Но для того чтобы понять ту истину, которая заключается в этом мифе, надо смотреть на людей не только во времени, как на существа друг от друга независимые, надо постигнуть (платонову) идею человека, которая к смене человеческих поколений относится так же, как вечность сама по себе относится к вечности, расчлененной на отдельные моменты времени; оттого и вечная идея человека, расчлененная во времени на ряд человеческих поколений, благодаря связующей нити рождения, все же представляется во времени как нечто целое. Если иметь в виду эту идею
528
человека, то мы поймем, что грехопадение Адама означает конечную, животную, греховную природу человека, соответственно которой он и являет собой существо, обреченное на конечность, грех, страдание и смерть; наоборот, земная жизнь, учение и смерть Христа знаменуют собой вечную, сверхприродную сторону, свободу, спасение человека. Всякий человек, как таковой и в потенции, представляет собой одновременно и Адама и Христа, смотря по тому, как он постигает себя и сообразно с этим приходит к тому или другому определению своей воли; в результате этого он или терпит осуждение и обрекается на смерть, или же спасен и обретает жизнь вечную. Эти истины как в своем аллегорическом, так и в подлинном смысле были совершенно новы для греков и римлян, которые духом своим еще вполне растворялись в жизни и не смотрели серьезно за ее пределы. Кто сомневается в этом, пусть вспомнит, что еще Цицерон (Pro Cluentio, с. 61) и Саллюстий (Caul, с. 47) говорили о состоянии после смерти. Древние, хотя они далеко опередили других почти во всем, в этом главном пункте оставались детьми и в этом отношении были превзойдены даже друидами, которые, по крайней мере, верили в метемпсихоз. То обстоятельство, что несколько философов, например Пифагор и Платон, думали иначе, в общем нисколько не меняет дела.
Эта великая основная истина, содержащаяся как в христианстве, так и в брахманизме и буддизме, а именно утверждение потребности в освобождении от бытия, подверженного страданиям и смерти, и достижимости этого освобождения путем отрицания воли, т. е. путем решительного противодействия природе, вне всякого сравнения, представляет собой самую важную истину, какая только может быть на свете, но в то же время совершенно противоречащую естественной склонности человеческого рода и в своих истинных основаниях труднопостижимую, как, впрочем, совершенно недоступно огромному большинству человеческого рода и все то, что мыслится только в общих и отвлеченных чертах. Вот почему, для того чтобы ввести эту великую истину в сферу ее практической применимости, необходимо было повсюду облекать ее в мифические покровы, как бы заключать ее в сосуд, без которого она исчезла бы и испарилась. Вот почему истина должна была повсюду заимствовать оболочку легенды и, кроме того, всякий раз вынуждена была стараться приспособиться к исторической данности, к тому, что было уже известно и пользовалось уже почетом. То, что sensu proprio* остается недоступным для человеческой толпы всех времен и народов в силу ее низменных помыслов, интеллектуальной тупости и грубости вообще, все это, для практических целей, надо преподносить ей sensu allegorico**, и лишь тогда оно становится для нее путеводной звездой. Таким образом, названные выше вероучения представляют собой некие священные сосуды, в которых хранится и передается от столетия к столетию великая истина, осознанная и высказанная уже несколько тысячелетий назад и, быть может, существующая с тех пор, как существует человеческий род, — истина, которая, однако, сама по себе для челове-
529
ческой массы всегда остается тайным учением и сообщается ей, сохраняется и передается далее в веках только в меру человеческих сил. Но так как все, что не состоит из одного лишь нетленного материала чистейшей истины, подвержено смерти, то всякий раз как она, смерть, грозит подобному сосуду вследствие его соприкосновения с чуждой ему эпохой, необходимо как-нибудь спасать его священное содержание и переливать его в другой сосуд, для того чтобы оно сохранилось для человечества. Задачей же философии является хранить это содержание, тождественное чистейшей истине, для тех, всегда немногих, кто способен мыслить, хранить его во всей чистоте и незамутненности, т. е. в одних только отвлеченных понятиях, и, стало быть, безо всякой оболочки. При этом философия так относится к религиям, как прямая линия — к нескольким проведенным возле нее кривым, потому что она выражает sensu proprio и, следовательно, обретает прямо то, чего они достигают путями обходными и что показывают лишь под покровами.
Если бы свои последние слова я хотел пояснить примером и, следуя философской моде нашего времени, попытался претворить в основные понятия моей философии глубочайшее таинство христианства, а именно таинство троичности, то я мог бы, с допускаемой при подобных толкованиях вольностью, сделать это следующим образом. Святой Дух — это решительное отрицание воли к жизни; а человек, в котором оно находит себе конкретное выражение, — это Сын. Он тождествен воле, утверждающей жизнь и этим создающей феномен нашего наглядного мира, т. е. Отцу, именно поскольку утверждение и отрицание являются противоположными актами одной и той же воли, способность которой к тому и другому составляет единственную истинную свободу. Впрочем, все мое сравнение следует считать не более чем lusus ingenii*.
Прежде чем закончить эту главу, я хотел бы дать несколько пояснений относительно того, что я в § 68 первого тома обозначил словами δεύτερος πλοῦς**, а именно относительно осуществления отрицания воли путем собственного тяжкого страдания, а не только, следовательно, путем усвоения чужих страданий и обусловленного этим сознания ничтожества и горести нашего бытия. Что испытывает человек при таком подъеме духа, какой процесс нравственного очищения совершается при этом в глубине его души, об этом можно составить себе понятие из того, что испытывает каждый впечатлительный человек при созерцании трагедии: ведь это — явления родственные по природе. Именно в третьем, приблизительно, или четвертом акте трагедии, наблюдая, как счастье героя все более и более меркнет и рушится, мы переживаем скорбное и мучительного чувство; но когда в пятом акте это счастье совершенно гибнет и разбивается вдребезги, мы чувствуем некоторый подъем духа, и это дает нам удовлетворение бесконечно более высокого порядка сравнительно с тем, какое могло бы доставить нам зрелище совершенно осчастливленного героя. В слабых акварельных красках сочувствия, поскольку его может вызывать хорошо сознаваемая иллюзия, это то же самое, что с энергией действительности происходит в ощущении соб-
530
ственной судьбы, когда именно тяжкое несчастье представляет собой то, что наконец приводит человека в тихую пристань полной резиньяции. Этот процесс вызывает все те глубокие перевороты, совершенно изменяющие человека, которые я описал в основном тексте. Между прочим я рассказал там историю обращения Раймунда Луллия; на нее поразительно похожа и, кроме того, замечательна по своему исходу история аббата Рансе; я передам ее в нескольких словах. Юность свою этот человек провел в развлечениях и забавах; наконец, он страстно полюбил некую госпожу де Монбазан и вступил с нею в связь. Однажды вечером, придя к ней, он нашел ее комнату пустой, темной и в беспорядке. Вдруг он наткнулся на что-то: то была ее голова, которую отделили от туловища, потому что тело скоропостижно умершей женщины иначе не могло бы войти в рядом стоявший свинцовый гроб. Пережив остроту безграничной скорби, Рансе в 1663 г. сделался реформатором ордена траппистов, который в это время совершенно уклонился от прежней строгости своего устава. Рансе, непосредственно после катастрофы вступивший в этот орден, довел его до ужасающего величия лишений, в котором он пребывает, в Латраппе, и доныне; методически осуществляемое отрицание воли путем самых тяжких лишений и невероятно сурового и мучительного образа жизни исполняет посетителя священным ужасом, и уже в том приеме, который он встречает себе, его умиляет смирение этих истинных монахов: изможденные постом, стужей, ночным бдением, молитвой и трудами, они становятся на колени перед ним, сыном мира и грешником, для того чтобы испросить его благословения. Во Франции из всех монашеских орденов только он один, после всех переворотов, остался неизменным; это объясняется той глубокой серьезностью, которая для всех очевидна в нем и которая исключает все побочные соображения. Даже упадок религии не коснулся его, потому он укоренен в человеческой природе глубже, чем какое бы то ни было положительное вероучение.
Я упомянул в тексте, что рассматриваемый здесь, философами до сих пор совершенно обойденный, великий и быстрый переворот, который совершается в сокровеннейших недрах человека, происходит чаще всего там, где человек с полным сознанием идет навстречу насильственной и неминуемой смерти, т. е. перед казнью. Впрочем, для того чтобы пояснить это явление еще лучше, я не сочту ниже достоинства философии привести здесь слова некоторых преступников, сказанные ими перед казнью, хоть я, пожалуй, и навлеку на себя насмешливый упрек в том, что ссылаюсь на речи висельников. Я думаю, однако, что виселица — это место совершенно особых откровений, это — высота, с которой для человека, сохраняющего при этом сознание, часто раскрываются более широкие и более ясные перспективы вечности, чем большинству философов в параграфах их рациональной психологии и теологии. Итак, следующую проповедь держал с эшафота 15 апреля 1837 г. в Глочестере некий Бартлетт, убивший свою тещу: «Англичане и земляки! Я скажу вам лишь несколько слов; но я прошу вас, всех и каждого, чтобы этим немногим словам вы дали проникнуть глубоко в ваши сердца, чтобы вы хранили их в памяти не только в течение предстоящего печального зрелища, но чтобы вы унесли их с собою домой и повторили их вашим
531
детям и друзьям. Об этом я молю вас как умирающий, как человек, для которого уже приготовлено орудие смерти. И вот эти немногие слова: отвергните любовь к этому умирающему миру и к его суетным радостям; думайте меньше о нем и больше о Боге вашем. Сделайте это! Обратитесь, обратитесь! Ибо будьте уверены, что без глубокого и истинного обращения, без обращения к вашему небесному Отцу вы не можете питать ни малейшей надежды когда-либо достигнуть той обители блаженства, той страны мира, куда я теперь, как я твердо уповаю, приближаюсь быстрыми шагами» (по «Times» от 18 апреля 1837 г.). Еще более удивительны последние слова известного убийцы Гринакра, который был казнен в Лондоне 1 мая 1837 г. Английская газета «The Post» передает об этом следующее известие, перепечатанное и в «Gallignani’s Messenger» от 6 мая 1837 г.: «Утром в день казни один господин советовал возложить ему свои упования на Бога и через посредничество Христа молить Его о прощении. Гринакр ответил на это: просить о прощении через посредничество Христа — это дело убеждения; он же, со своей стороны, думает, что перед лицом Высшего Существа мусульманин равен христианину и имеет столько же прав на блаженство. С тех пор как он попал в темницу, он обратил свое внимание на богословские предметы и выработал в себе убеждение, что виселица — это пропуск (pass-port) на небо». Именно то равнодушие к положительным религиям, которое сказывается в этих словах, придает им особенное значение: оно показывает, что в основе их лежит не безумная мечта фанатика, а личное, непосредственное убеждение. Упомянем еще о следующей черте, которую «Galignani's Messenger» от 15 августа 1837 г. заимствует из «Limerick Chronicle»: «В прошлый понедельник была казнена Мэри Куни за возмутительное убийство госпожи Анны Андерсон. Эта несчастная была так глубоко проникнута сознанием масштабов своего преступления, что она целовала веревку, накинутую ей на шею, и смиренно молила Бога о милости». Наконец, еще одно известие: «Times» от 25 апреля 1845 г. приводит несколько писем, которые за день до своей казни писал Хоккер, осужденный за убийство Деларю. В одном из них он говорит: «Я убежден, что если не будет сломлено естественное сердце (the natural heart be broken) и если не будет обновлено оно божественной благодатью, то каким бы благородным и достойным ни казалось оно миру, оно никогда не будет в состоянии думать о вечности без внутреннего содрогания». Такова перспектива вечности, которая открывается с высоты смертной казни, и я тем более считаю уместным привести свидетельства этого, что и Шекспир говорит:
…out of these convertites
There is much matter to be
heard and learn’d.
(«As you like it», last scene)*
То, что и христианство приписывает страданию указанную нами очищающую и освящающую силу, а высокому благополучию приписы-
532
вает противоположное влияние, — это выяснил Штраус в своей «Жизни Христа» (том I, раздел II, глава 6, § 72 и 74). А именно он говорит, что заповеди блаженства в Нагорной проповеди имеют другой смысл у Луки (6, 21), чем у Матфея (5, 3): только последний присоединяет к μἂκαριοι οἱ πτωκοί τῷ πνεύματι, а к πεινῶντες — την δικάιοσυνην*; только он, следовательно, имеет в виду простодушных и смиренных и т. д., между тем как Лука подразумевает бедных в собственном смысле этого слова и, таким образом, указывает на противоположность между теперешними страданиями и будущим благополучием. У эбионитов82 главное положение гласит, что кто получит свою часть в этом времени, в будущем не получит ничего, и наоборот. Вслед за заповедями блаженства у Луки поэтому идут столько же ουαι, которые возглашаются πλουσίοις, ἐμπεπλησμένοις и γελῶσι**, в эбионитском смысле. Тот же смысл, говорит он на с. 604, имеет притча (Лк. 16, 19) о богаче и Лазаре, — притча, в которой безусловно не повествуется о какой бы то ни было вине первого или о какой бы то ни было заслуге последнего и в которой масштабом будущего воздаяния признается не сотворенное в этой жизни добро и не содеянное зло, а испытанные здесь страдания и выпавшее на долю благо, — в эбионитском смысле. «Подобную же оценку внешней бедности, — продолжает Штраус, — приписывают Христу и другие синоптики (Мф. 19, 16, Мк. 10, 17, Лк. 18, 18), в рассказе о богатом юноше и в изречении о верблюде и игольном ушке».
Если глубже проникнуть в данный вопрос, то мы убедимся, что даже самые знаменитые места Нагорной проповеди заключают в себе косвенный призыв к добровольной бедности и, следовательно, к отрицанию воли к жизни. В самом деле, завет, повелевающий нам безусловно удовлетворять все предъявляемые к нам требования и тому, кто захочет судиться с нами и взять у нас рубашку (Мф. 5, 40 и след.), отдавать и верхнюю одежду, и т. д., как и завет (там же, 6, 25–34), повелевающий отрешиться от всякой заботы о будущем и даже о завтрашнем дне и, таким образом, жить нуждами каждого дня, — это все такие правила жизни, соблюдение которых неминуемо ведет к полной бедности и которые, следовательно, косвенным образом требуют того самого, что Будда прямо предписывал своим ученикам и что он подтвердил собственным примером: «Отбросьте все прочь и станьте бикшу, т. е. нищими». С еще большей очевидностью это выступает в том месте у Матфея (10, 9–15), где апостолам запрещается иметь какую бы то ни было собственность, даже обувь и посох, и они подвигаются на нищенство. Эти предписания впоследствии сделались основой нищенствующего ордена францисканцев (Bonaventuræ «Vita Saucti Francisa», с. 3). Вот почему я и говорю, что дух христианской морали тождествен духу брахманизма и буддизма. В соответствии с изложенным здесь взглядом говорит и Майстер Экхарт (Сочинения, том I, с. 492): «Быстрейшее животное, которое мчит вас к совершенству, — это страдание».
533
Путь спасения
Существует только одно врожденное заблуждение, и состоит оно в том, будто мы живем для того, чтобы быть счастливыми. Оно свойственно нам потому, что совпадает с самим нашим существованием, и все наше существо — это только его парафраз, и даже тело наше — это его монограмма: ведь мы не что иное, как только воля к жизни; а последовательное удовлетворение всех наших желаний — это и есть то, что мыслится в понятии счастья.
Пока мы будем упорствовать в этом врожденном заблуждении и пока оптимистические догматы будут укреплять нашу веру в него, до тех пор мир будет нам казаться исполненным противоречий. Ибо на каждом шагу, как в великом, так и в малом, все учит нас, что мир и жизнь совсем не приспособлены к тому, чтобы дарить нам счастливое существование. Если человек, неспособный к мысли, чувствует в мире только муки действительности, то для человека мыслящего к реальным страданиям присоединяется еще теоретическое недоумение — почему мир и жизнь, коль скоро они существуют для того, чтобы мы были в них счастливы, так дурно отвечают своей цели? До поры до времени это недоумение разрешается глубокими вздохами: «Ах, зачем же под луною так много слез людских?» и т. п. Но вслед за этим наступают тревожные сомнения в самих предпосылках нашего предвзятого оптимистического догматизма. При этом, конечно, иной попытается возложить вину своего индивидуального неблагополучия или на обстоятельства, или на других людей, или на собственную незадачливость или неумелость; можно постичь и то, как все эти причины соединились вместе, но все это нисколько не изменяет того факта, что настоящая цель жизни, коль скоро она, по нашему мнению, состоит в счастье, не осуществилась. И мысль об этом, в особенности когда жизнь склоняется уже к закату, часто действует на нас угнетающим образом; вот отчего почти все стареющие лица носят отпечаток того, что по-английски называется «disappointment»*. Но кроме того, каждый день нашей жизни уже и раньше учил нас, что радости и наслаждения, если они и выпадают на нашу долю, все-таки сами по себе имеют обманчивый характер, не приносят обещанного, не дают удовлетворения сердцу и в конце концов отравляют удовольствие неприятностями, которые сопровождают их или которые из них возникают, между тем как страдания и печали оказываются вполне реальными и часто превосходят все наши ожидания. Таким образом, несомненно, что все в жизни приспособлено к тому, чтобы вывести нас из первоначального заблуждения, о котором я говорил выше, и убедить нас в том, что цель нашего бытия вовсе не в том, чтобы мы были счастливы. Напротив, если внимательно и беспристрастно присмотреться к жизни, то она покажется нам как бы нарочито приноровленной к тому, чтобы мы не могли себя чувствовать в ней счастливыми; дело в том, что по своему характеру жизнь представляет собой
534
нечто такое, к чему мы не должны чувствовать вкуса, к чему у нас должна быть отбита охота и от чего мы должны отрешиться как от заблуждения, для того чтобы сердце наше исцелилось от стремления к радости и даже к самой жизни, для того чтобы оно отвернулось от мира. В этом смысле правильнее было бы видеть цель жизни в нашем страдании, а не в нашем благе. В самом деле: соображения, которые я предложил в конце предыдущей главы, показали, что чем больше человек страдает, тем скорее достигает он истинной цели жизни, и чем счастливее он живет, тем дальше от него эта цель. Это подтверждает даже заключение последнего письма Сенеки: «Bonum tunc habcbis tuum, quum intelliges infelicissimos esse felices»*, бесспорно, эти слова заставляют предполагать влияние христианства. Своеобразное действие трагедии тоже, в сущности, основывается на том, что она колеблет указанное врожденное заблуждение, наглядно воплощая в великом и разительном примере тщету человеческих стремлений и ничтожество всей жизни и этим раскрывая глубочайший смысл этой жизни; вот почему, кто тем или другим путем исцелился от этого a priori прирожденного нам заблуждения, от этого πρῶτον ψε͂υδος** нашего бытия, тот скоро увидит все в другом свете, и мир тогда будет звучать в унисон если не с его желаниями, то с его мыслью. Всякие невзгоды, как бы велики и разнообразны они ни были, хотя и будут доставлять ему страдания, но уже не будут удивлять его, так как он раз навсегда убедится, что именно боли и печали содействуют истинной цели жизни — тому, чтобы воля отвернулась от нее. И что бы с ним ни случилось, это сознание придаст ему удивительное спокойствие, подобное тому, с каким больной, выдержавший мучительное и долгое лечение, переносит боль последнего — как признак его действенности. Все человеческое бытие достаточно ясно говорит, что страдание — вот истинный удел человека. Жизнь глубоко проникнута страданием и не может избежать его; наше вступление в нее сопровождается слезами, в существе своем она всегда протекает трагически, и особенно трагичен ее конец. Нельзя не видеть в этом отпечаток преднамеренности. Обыкновенно судьба радикальным образом перекрывает человеку путь к главной цели его желаний и стремлений, и жизнь его получает тогда характер трагический, который может освободить его от жажды бытия, воплощаемой в каждом индивидуальном существовании, и привести его к тому, чтобы он расстался с жизнью и в разлуке не испытал тоски по ней и по ее радостям. Страдание — это, поистине, тот очистительный процесс, который один в большинстве случаев освящает человека, т. е. отклоняет его от ложного пути воли к жизни. Вот почему в назидательных христианских книгах так часто говорится о спасительной силе креста и страданий, и вообще очень знаменательно и верно, что символом христианской религии является крест — орудие страдания, а не действия. Даже и Когелет84, еще еврей по духу, но глубокий философ, правильно сказал: «Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше» (7, 3). Под именем
535
δεύτερος πλοῦς* я охарактеризовал страдание как некоторого рода суррогат добродетели и святости, но здесь я должен сказать решительно: по зрелом обсуждении, наше благо и спасение больше зависит от того, что мы терпим, нежели от того, что мы делаем. Именно в этом смысле прекрасно говорит Ламартин, обращаясь к страданию в своем « Hymne a la douleur » :
Tu me traites sans doute en favori des cieux,
Car tu n’épargnes pas les larmes à
mes yeux.
Eh bien ! je les reçois c
Tes maux seront biens, et tes soupirs mes joies
Je sens qu’il est en toi, sans avoir c
Une vertu divine au lieu de ma
vertu,
Que tu n’es pas la mort de l’âme, mais sa
vie,
Que ton bras, en frappant, querit et vivifie**.
Если, таким образом, уже страдания заключают в себе столько освящающей силы, то последняя в еще большей степени присуща смерти, которой мы боимся превыше всяких страданий. Вот почему любой усопший вызывает у нас чувство благоговения, родственное тому, какое мы испытываем перед великим страданием; смерть каждого человека до известной степени представляет собой в наших глазах какой-то апофеоз и канонизацию, и оттого мы не без глубокого благоговения смотрим на труп хотя бы самого незначительного человека, и даже, как ни странно звучит это замечание в данном контексте, военный караул отдает честь любому покойнику. Смерть, бесспорно, является настоящей целью жизни, и в то мгновение, когда смерть приходит, свершается все то, к чему в течение всей своей жизни мы только готовились и приступали. Смерть — это конечный вывод, резюме жизни, ее итог, который сразу объединяет в одно целое все уроки, частично и разрозненно полученные нами от жизни, и говорит нам, что все наши стремления, явлением которых была жизнь, были напрасны, суетны и противоречивы и что в отрешении от них заключается спасение. Как медленный рост растения в целом относится к плоду, который сразу воздает сторицей то, что этот рост давал постепенно и по частям, так жизнь с ее препонами, обманутыми надеждами, неосуществленными планами и постоянным страданием относится к смерти, которая одним ударом разрушает все, чего хотел человек, и, таким образом, венчает тот урок, который предподнесла[299] ему жизнь. Свершившийся путь жизни, на который человек оглядывается в минуту смерти, оказывает на всю жизнь, объективирующуюся в этой гибнущей индивидуальности, такое действие, которое аналогично тому, какое производит мотив на поступки человека: этот ретроспективный взгляд
536
на пройденный путь дает воле новое направление, которое и является моральным и существенным результатом жизни. Именно потому, что при внезапной смерти невозможно, таким образом, оглянуться назад, церковь и усматривает в ней несчастье и молится об избавлении от него. Так как и этот ретроспективный обзор жизни, и ясное предвидение смерти, как обусловленные разумом, возможны только в человеке, а не в животном, и только человек поэтому действительно осушает кубок смерти, то человечество и являет собой единственную ступень, на которой воля может отринуть себя и совершенно уклониться от жизни. Воле, которая себя не отрицает, каждое рождение дает новый и иной интеллект, пока наконец она не познает истинного характера жизни и вследствие этого не перестает ее желать.
При естественном течении жизни отмирание тела в старости идет навстречу отмиранию воли. Жажда наслаждений легко исчезает вместе со способностью к последним. Импульс самых страстных желаний, фокус воли — половое влечение, угасает первым, и вследствие этого человек погружается в такое состояние, которое похоже на то состояние невинности, в каком он пребывал до развития половой системы. Те иллюзии, которые представляли химеры как в высшей степени желанные блага, исчезают, и их место занимает сознание ничтожества всех земных благ. Себялюбие вытесняется любовью к детям, и в силу этого человек начинает уже больше жить в чужом Я, нежели в собственном, которое вскоре перестает существовать. Такой процесс, по крайнем мере, наиболее желателен: он представляет собой эвтаназию воли. В надежде на него брахманам предписывается, когда минет лучшая пора жизни, оставить собственность и семью и вести отшельническую жизнь ([Законы] Ману, том VI). Если же, наоборот, жажда наслаждений переживает способность к ним и человек горюет о том, что его миновали те или другие радости жизни, вместо того чтобы понять пустоту и суетность всех радостей, и если место предметов таких желаний, способность к которым погасла, занимает отвлеченный представитель всех этих предметов, деньги, и возбуждает ныне те же самые бурные страсти, какие некогда, что было более простительно, загорались в человеке от предметов действительного наслаждения и если, следовательно, с омертвевшими чувствами и неиссякаемой жаждой человек устремляется к бездушному, но все равно неиссякаемому предмету, если таким же точно образом существование в чужом мнении заменяет собой существование и деятельность в действительном мире и пробуждает одинаковые страсти, — то в этой скупости или в этом честолюбии воля сублимируется и как бы одухотворяется, и она бежит в свою последнюю крепость, где только смерть еще осаждает ее. Цель бытия не достигнута.
Все эти соображения уясняют описанный в предыдущей главе, под именем δεύτερος πλοῦς, процесс очищения, переворота воли и искупления, который создают страдания жизни и который, бесспорно, совершается наиболее часто. Ибо это — путь грешников, каковы мы все. Другой путь, который ведет туда же через одно только сознание и вслед за тем — усвоение страданий всего мира, этот другой путь — узкая тропа избранных, святых, и оттого его нужно рассматривать как редкое исключение. Помимо первого пути для большинства людей не было бы
537
поэтому никакой надежды на спасение. И тем не менее мы всячески упираемся, не хотим вступить на этот путь; наоборот, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы приготовить себе обеспеченное и приятное существование, и таким образом все крепче и крепче приковываем свою волю к жизни. Совсем иначе поступают аскеты: имея в виду свое истинное и конечное благо, они намеренно делают свою жизнь возможно более скудной, суровой и безрадостной. Но судьба и ход вещей заботятся о нас лучше, нежели мы сами: они повсюду разрушают наши приспособления к беспечальной жизни, вся нелепость которой достаточно видна уже из того, что жизнь коротка, ненадежна, пуста и завершается горестной смертью; да, судьба усыпает терниями наш путь и везде посылает нам спасительное страдание, эту панацею от наших скорбей. Поистине, если наша жизнь имеет такой странный и двусмысленный характер, то это потому, что в ней постоянно перекрещиваются две диаметрально противоположные основные цели: это, во-первых, цель индивидуальной воли, направленная к химерическому счастью в эфемерной, призрачной, обманчивой жизни, где по отношению к прошлому счастье и несчастье безразлично, а настоящее в каждый миг обращается в прошлое; и, во-вторых, цель судьбы, достаточно явно направленная на разрушение нашего счастья, а через это и к умерщвлению нашей воли и к освобождению его от той иллюзии, которая держит нас в оковах этого мира.
Расхожее, в особенности протестантское мнение, что цель жизни заключается единственно и непосредственно в нравственных добродетелях, т. е. в соблюдении справедливости и человеколюбия, обнаруживает свою несостоятельность уже потому только, что среди людей так удручающе редко встречается действительная и чистая моральность. Я уже не говорю о высокой доблести, благородстве, великодушии и самопожертвовании — их вряд ли можно встретить где-нибудь в другом месте, кроме пьесы и романа: нет, я говорю только о добродетелях, которые каждому вменяются в обязанность. Кто стар, пусть припомнит всех, с кем приходилось ему в жизни иметь дело: много ли встречал он людей, действительно и поистине честных? Не было ли подавляющее большинство людей, говоря начистоту, прямой противоположностью чести, хотя они и бесстыдно возмущались при малейшем подозрении в неблагородстве или только несправедливости? Разве господство низменного своекорыстия, безграничной жадности к деньгам, замаскированного плутовства, ядовитой зависти и дьявольского злорадства, — разве все это не было столь обыденным, чтобы малейшее исключение из этого правила возбуждало удивление? А человеколюбие, разве не в крайне редких случаях оно выходило за рамки того, что люди уделяли другим лишь тот излишек, отсутствие которого они никогда не смогут обнаружить? Так неужели в столь чрезвычайно редких и слабых следах моральности заключена вся цель существования? Если же эту цель полагать в совершенном обращении нашего существа (дающего упомянутые дурные плоды), — обращении, которое вызывается чередою страданий, то весь процесс жизни получает известный смысл и начинает соответствовать фактическому положению вещей. Жизнь представляется тогда как процесс очищения, и очищающей кислотою является боль. Когда процесс этот свершится, то предшествовавшие ему безнравствен-
538
ность и злоба
остаются в виде шлаков, и наступает то, о чем говорят Веды: «Finditur
nodus cordis, dissolvuntur
Глава 50
Эпифилософия
В конце этой книги я позволю себе сделать несколько замечаний относительно самой моей философии. Как я уже говорил, она не притязает на объяснение бытия мира из его первопричин: наоборот, она не выходит за пределы фактов внешнего и внутреннего опыта в их общедоступности и показывает их истинную и глубочайшую связь, не переходя в то же время от них к каким-нибудь внемировым вещам и их отношениям к миру. Она, таким образом, не делает никаких заключений о том, что лежит по ту сторону любого возможного опыта, а предлагает только истолкование того, что дано во внешнем мире и в самосознании; она довольствуется тем, что постигает сущность мира в его внутренней согласованности. Она, следовательно, имманентна, в кантовском смысле слова; вот почему она и оставляет много вопросов еще открытыми, как, например, вопрос о том, почему установленное фактически такое, а не иное, и т. д. Но дело в том, что все подобные вопросы, или, скорее, ответы на них, собственно говоря, трансцендентны, т. е. не могут быть объектами мысли в формах и функциях нашего интеллекта, несоизмеримы с ним: интеллект относится к ним так, как наша чувственность относится к таким возможным свойствам тел, для которых у нас не находится внешних чувств. Например, после всех моих объяснений можно еще предложить вопрос: откуда же, собственно, возникла эта воля, которая свободна себя утверждать, создавая этим явление мира, или себя отрицать, создавая этим явление нам неизвестное? В чем заключается лежащая по ту сторону любого опыта фатальность, которая ставит перед волей крайне сомнительную альтернативу либо явиться в виде мира, где царят страдания и смерть, либо отрицать свою собственную внутреннюю сущность? И что могло побудить волю покинуть бесконечно более желанный покой блаженного ничто? Индивидуальная воля — можно прибавить к этому — может склониться к собственной гибели просто в силу ошибки при выборе, т. е. по вине познания; но воля сама по себе, до всякого явления и, следовательно, еще вне познания, — как могла она впасть в заблуждение и оказаться в своем теперешнем гибельном положении? Вообще, откуда тот великий диссонанс, который пронизывает этот мир? Далее, можно спросить, как глубоко во внутреннюю сущность мира погружены корни индивидуальности? На это, правда, еще можно ответить следующим образом: они проникают настолько
539
глубоко, насколько заходит утверждение воли к жизни; они исчезают там, где наступает ее отрицание, потому что возникли они одновременно с ее утверждением. Но можно предложить и такой вопрос: «Чем бы я был, если бы я не был волей к жизни?» — и много подобных вопросов. На все такие вопросы следовало бы прежде всего ответить, что выражением самой общей и всепроникающей формы нашего интеллекта является закон основания, но что именно поэтому он находит себе применение только к явлениям, а не ко внутренней сущности вещей, а ведь только на этом законе и основано всякое откуда и почему. Согласно кантовской философии, закон основания уже не æterna veritas*, а только форма, т. е. функция, нашего интеллекта, в существе своем имеющего церебральный характер и первоначально являющегося простым орудием для служения нашей воле, которую поэтому он вместе со всеми ее объективациями уже предполагает. Между тем к его формам привязано все наше знание и понимание: вот отчего мы обречены все постигать во времени, т. е. как прежде или после, затем как причину и следствие, а равно и как вверху и внизу, как целое и части и т. д., — и мы совершенно не можем выйти из этой сферы, в которой для нас заключается вся возможность нашего познания. Но эти формы совершенно несоизмеримы с предложенными здесь проблемами, и если бы даже нам дано было решение последних, то эти формы не способны были бы вместить его. Вот почему мы со своим интеллектом, этим орудием воли, повсюду наталкиваемся на неразрешимые проблемы как на стены своей темницы. Кроме того, однако, можно допустить, по крайней мере в качестве вероятной гипотезы, что на все эти вопросы невозможен ответ не только для нас, но и ни для какого познания вообще, т. е. никогда и нигде, что эти отношения непостижимы не только относительно, но и абсолютно, что не только никто их не знает, но они и сами по себе непознаваемы, потому что они вообще не входят в форму познания (это соответствует тому, что говорит Скот Эриугена, «de mirabili divina ignorantia, qua Deus non intelligit quid ipse sit»**, «De divisione naturae» lib. II. Ибо познаваемость вообще, с самой характерной для нее и потому всегда необходимой «формой субъекта и объекта, распространяется только на явление, а не на внутреннюю сущность вещей. Где есть познание, т. е. представление, там есть только явление, и мы там уже находимся в области явления: да и вообще познание известно нам только в качестве мозгового феномена, и мы не только не в праве, но и неспособны мыслить его как-нибудь иначе. Что такое мир как мир, это можно понять: он — явление, и мы можем непосредственно из самих себя, путем анализа самосознания, познать то, что в нем является; а тогда уже, с помощью этого ключа к сущности мира, мы в состоянии дешифровать и все явление в его внутренней связи; мне кажется, именно это я и сделал. Но как только мы покидаем мир для того, чтобы ответить на поставленные выше вопросы, то мы тотчас же теряем под ногами ту почву, на которой возможно не только сочетание причины и следствия, но и самое познание вообще,
540
и тогда все дня нас будет «instabilis tellus, innabilis unda»*. Сущность вещей до мира или по ту сторону его, а следовательно, и по ту сторону воли недоступна ни для какого исследования, потому что само познание вообще — только феномен и находит себе место только в пределах мира, как и мир — только в нем. Внутренняя сущность в себе вещей не есть нечто познающее, это не интеллект, а нечто, лишенное способности познания: познание привходит сюда лишь в качестве акциденции и вспомогательного средства для проявления этой сущности; и поэтому оно может воспринимать последнюю только в меру собственных свойств, рассчитанных на совсем иные цели (цели индивидуальной воли), т. е. очень несовершенно. Вот почему и невозможно полное, до конца исчерпывающее познание и всесторонне удовлетворяющее понимание бытия, сущности и происхождения мира. Вот что я хотел сказать о границах моей, да и любой философии вообще.
Εν καὶ π͂αν**, т. е. то, что внутренняя сущность всех вещей повсюду безусловно одна и та же, — этот принцип, которому обстоятельно учили элеаты, Скот Эриугена, Джордано Бруно, Спиноза и который подновил Шеллинг, мое время уже успело понять и уразуметь. Но что именно представляет собой это «одно», и как это оно могло предстать нам в виде множественного, — это проблема, решение которой впервые дал я. Точно так же издревле говорили о человеке как о микрокосме. Я перевернул это положение и выяснил, что мир, это — макроантропос, так как воля и представление исчерпывают сущность и мира, и человека. Очевидно, что правильнее объяснять себе мир из человека, нежели человека из мира, ибо из непосредственно данного, т. е. из самосознания, надо объяснять то, что дается косвенным образом, т. е. данные внешнего восприятия, — а не наоборот.
С пантеистами меня объединяет ἒν καὶ π͂αν, однако не π͂αν ϑεός***, потому что я не выхожу за пределы опыта (взятого в самом широком смысле) и еще меньше становлюсь в противоречие с наличными данными. Скот Эриугена, вполне верный духу пантеизма, видит в каждом явлении некую теофанию; но в таком случае это понятие должно быть перенесено и на явления ужаснейшие и отвратительнейшие — нечего сказать, хорошие теофании! В остальном от пантеистов меня отделяют главным образом следующие пункты. 1) Их ϑεόσ**** представляет собою некоторое x, неизвестную величину, между тем как воля изо всех возможных вещей нам известна ближе всего: только она дана нам непосредственно, и поэтому только она способна объяснять все остальное. Ведь повсюду неизвестное надо объяснять известным, а не наоборот. 2) Их ϑεόσ манифестирует себя animi causa****, для того чтобы раскрыть свое величие или заставить восхищаться собой. Не говоря уже о той суетности, которую они приписывают этим своему Богу, они вынуждены в силу этого, с помощью всякого рода софизмов, отрицать колоссальное зло мира: но мир остается в вопиющем и ужасающем
541
противоречии с той идеей совершенства, которую с фантастическим упорством приписывают ему пантеисты. У меня же воля путем своей объективации, какой бы последняя ни была, приходит к самопознанию, отчего и становится возможным ее подавление, обращение, освобождение. В связи с этим только у меня этика имеет прочный фундамент и выстраивается во всей своей законченности, соответствуя возвышенным и глубокомысленным религиям, т. е. брахманизму, буддизму и христианству, а не только иудаизму и исламу. Точно так же и на метафизику прекрасного всесторонний свет проливают только мои основные истины, и только благодаря мне ей теперь не надо уже прятаться за пустые слова. Только у меня зло мира находит себе во всей своей полноте честное признание: это потому, что ответ на вопрос о происхождении зла совпадает у меня с ответом на вопрос о происхождении мира. Между тем во всех других системах, ввиду их оптимистического характера, вопрос о происхождении зла является рецидивом неисцелимой болезни, и, отягощенные этой болезнью, они влачат жалкое существование с помощью всяких паллиативов и шарлатанских снадобий. 3) Я исхожу из опыта и естественного, каждому человеку присущего самосознания и привожу к воле как единственному метафизическому началу, т. е. выбираю путь восходящий, аналитический. Пантеисты же, наоборот, идут по пути нисходящему, синтетическому; они исходят от своего ϑεός, которого они иногда выпрашивают или требуют для себя под именем субстанции, или абсолюта, и это совершенно неизвестное должно для них объяснять все моменты, более известные. 4) У меня мир не исчерпывает всей возможности бытия во всех его видах, нет, остается еще достаточно места для того, что мы лишь отрицательно обозначаем как отрицание воли к жизни. Пантеизм же по существу — оптимизм: но если лучшее — это мир, то миром, следовательно, все дело и кончается. 5) Для пантеистов наглядный мир, т. е. мир как представление, является преднамеренной манифестацией обитающего в нем Бога; но это вовсе не служит действительным объяснением появления мира, а, наоборот, само нуждается в объяснении; для меня же мир как представление возникает лишь per accidens*, потому что интеллект, со своим внешним созерцанием, является прежде всего лишь медиумом мотивов для более совершенных проявлений воли, который постепенно достигает той степени объективности наглядной формы, в какой предстает мир. В этом смысле я действительно отдаю себе отчет в возникновении мира как наглядного объекта, причем, в противоположность пантеистам, я не опираюсь на несостоятельные фикции.
Так как вследствие кантовской критики всякой спекулятивной теологии почти все философствующие люди в Германии вернулись назад к Спинозе, и вся философия, известная под именем послекантовской, т. е. ряд неудачных попыток, представляет собой, таким образом, не что иное, как безвкусно принаряженный, облаченный в различные непонятные изречения и иными способами изуродованный спинозизм, то я, указав отношение своей философии к пантеизму вообще, постараюсь теперь выяснить ее специальное отношение к спинозизму. Итак, она
542
относится к последнему, как Новый Завет к Ветхому. То общее, что объединяет Ветхий Завет с Новым, — это единый Бог-Творец. По аналогии с этим у меня, как и у Спинозы, мир существует на основе своих внутренних сил и благодаря себе самому. Но у Спинозы его «substantia æterna»*, внутренняя сущность мира, которую он сам называет Deus**, является и по своему нравственному характеру и значению Иеговой, Богом-Творцом, который аплодирует собственному творению и находит, что все Ему прекрасно удалось, πάντα καλὰ λίαν. Спиноза отнял у Иеговы только личность, больше ничего. И для него, таким образом, мир и все в нем, вполне прекрасно и таково, каким должно быть, и поэтому человеку нечего делать, кроме как vivere, agere, suura «esse» conservare, ex fundamento proprium utile quaerendi (Eth. IV, pr. 67)***; человек должен наслаждаться жизнью, пока она длится, совершенно как у «Когелета» (9, 7–10). Одним словом — это оптимизм; вот почему у Спинозы этическая сторона слаба, как и в Ветхом Завете; она даже неверна и порою возмутительна****.
У меня же воля, или внутренняя сущность мира, вовсе не Иегова, а скорее она подобна распятому Спасителю или же распятому разбойнику, смотря по тому, как она себя определяет; вот почему моя этика вполне гармонирует с христианской, вплоть до самых возвышенных ее идеалов, как и с этикой брахманизма и буддизма. А Спиноза не мог победить в себе иудея: «quo semel est imbuta recens servabit odorem»*****. Совершенно иудаистский, а в соединении с пантеизмом одновременно еще и нелепый, и отвратительный характер имеет его презрение к животным, которых и он считает бесправными, потому что видит в них только подручные вещи для наших нужд (Eth. IV, appendix, с. 27). При всем этом, однако, Спиноза — великий человек. Но для того чтобы правильно оценить его значение, необходимо принять во внимание его отношение к Картезию. Последний резко расколол природу на дух и материю, т. е. на мыслящую и протяженную субстанцию, и таким же точно образом установил совершенную противоположность между Богом и миром. Вот и Спиноза, покуда он оставался картезианцем, разделял это учение в своих «Cogitatis metaphyacis», с. 12, 1665. Лишь в последние годы своей жизни Спиноза понял заведомую ложь этого двойного дуализма; вот почему его собственная философия заключается главным образом в косвенном устранении этих двух противоположностей, которому, однако,
543
отчасти для того чтобы не оскорбить своего учителя, отчасти для того чтобы возбудить поменьше соблазна, он придал с помощью строго догматической формы некоторый положительный характер, хотя по своему существу оно, главным образом, и отрицательно. Только этот отрицательный смысл имеет и его отождествление мира и Бога. Ибо называть мир Богом — это не значит объяснять его: мир остается загадкой и под тем и под другим именем. Но обе эти отрицательные истины имели значение для своего времени, как и для всех времен, когда существуют еще сознательные или бессознательные картезианцы. Со всеми философами до Локка он разделяет ту ошибку, что исходит из понятий, не исследовав предварительно их происхождения. Таковы понятия субстанции, причины и т. д.; если не исследовать их источники, то они получают слишком широкое значение. Тех мыслителей новейшего времени, которые не хотели примкнуть к возродившемуся неоспинозизму, отталкивало в нем, как, например, Якоби, страшилище фатализма. Последний — это всякое учение, которое сводит существование мира и критическое положение в нем человеческого рода к некоторой абсолютной, т. е. далее необъяснимой необходимости. Между тем упомянутые мыслители полагали, будто все дело заключается в том, чтобы вывести мир из свободного волевого акта какого-то существа, находящегося вне мира, как будто бы заранее было известно, какая из этих двух гипотез более достоверна или, по крайней мере, лучше для нас. В особенности же предполагается при этом, что non datur tertium*, и вследствие этого всякая философия до сих пор сводилась либо к тому, либо к другому воззрению. Я первый отклонил эту альтернативу, потому что я действительно указал tertium: волевой акт, из которого возникает мир, — это наш собственный акт. Он свободен, потому что закон достаточного основания, от которого необходимость только и получает свое значение, представляет собой не что иное, как форму его проявления. Именно поэтому такое проявление, коль скоро оно уже существует, в своем содержании полностью определяется необходимостью: только в силу этого мы можем узнать из него характер данного волевого акта и, сообразно этому, eventualiter определить свою волю иначе.
Второй, дополнительный том основного
произведения А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» публикуется по
изданию: Шопенгауэр А. Полное собрание сочинений / Пер. Ю. И. Айхенвальда.
Т. 2. М., 1901. Сверка произведена А. К. Судаковым и А. А. Чанышевым
по изданию: Schopenhauer A. Sämtliche Werke. In 5 Bde / Textkritisch
bearbeitet und hg. von Wolfgang Frhr. von Löhneysen. Bd. 2. — Stuttgart /
Frankfurt am Main: Gotta-Insel Verlag, 1976.
Дополнения
к первой книге
1 Сенека, Нравственные письма к Луцилию 79, 17 / Пер. С. А. Ошерова. — 3.
2 Гете. Кроткие Ксении I, 2. — 4.
3 Декарт Р. Начала философии I, 7 и 10. — 5.
4 Шопенгауэр ссылается на издание: Kant I. Samtliche Werke. In 12 Bde. Leipzig, 1838—1842. — 8.
5 Имеется в виду, наверное, Гегель и его последователи, гегельянцы. — 12.
6 Высказывание, приписываемое Платону, заимствовано Шопенгауэром, по-видимому, у Плотина (Эннеады II, 5, 5). — 13.
7 Приводимая Платоном (Государство 435 с, 497 d) пословица, авторство которой приписывается Солону. — 13.
8 Мемнон — царь Эфиопии, погибший в ходе Троянской войны. Одна из двух колоссальных фигур этого царя, воздвигнутых из песчаника вблизи Фив, была повреждена землетрясением. После этого она на рассвете стала издавать звук, который считался приветствием Мемнона своей матери, богине утренней зари[300]. — 26.
9 См.: Бруно Дж. О бесконечном, вселенной и мирах. II, 6 — 15. — Ср.: Аристотель. О небе I, 5, 272 а 21. — 29.
10 Аристотель. Физика IV, 14, 223 а 26. — 30.
11 По топам (для удобства исследования, оценки и опровержения утверждений оппонента) сгруппирован материал в «Топике» Аристотеля — одном из его логических трактатов, служащем руководством для участников публичного спора. — 35.
12 Прокл. Первоосновы теологии 76 / Пер. А. Ф. Лосева. — 36.
13 Аристотель. О Мелиссе, Ксенофане, Горгии I, 974 а 2. — Аристотель в данном случае приводит слова Мелисса. — 40.
14 Положение, восходящее к Аристотелю (см.: Аристотель. История животных I, 588 b 4). — 51.
545
15 Сенека. Нравственные письма к Луцилию 37, 4 / Пер. С. А. Ошерова. — 52.
16 См.: Лейбниц. Новые опыты о человеческом разуме XXVII, 1,3. — 54.
17 Этот афоризм содержится в речи Бюфона во Французской академии 25 августа 1753 г. — 60.
18 Вовенарг. Размышления 131. — 63.
19 См.: Шекспир. Как вам это понравится IV, 1. — 65.
20 Поп А. Дунсиада III, 194. — 65.
21 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов IX, 1, 1.— 66.
22 Ср.: Гельвеций. Об уме III, 8. — 66.
23 Байрон. Дон Жуан I, 214 / Пер. А. К. Толстого. — 67.
24 См.: Аристотель. О душе III, 8, 432 а 2. — 68.
25 Овидий. Метаморфозы I, 16. — 73.
26 См.: Гораций. Об искусстве поэзии 343. — 78.
27 Шиллер. Смерть Валленштейна III, 15 / Пер. Каролины Павловой. — 79.
28 Шопенгауэр, по-видимому, имеет в виду определение юмора, данное Жан Полем (см.: Жан Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981. С. 148 (§ 31). — 83.
29 Шекспир. Гамлет II, 2 / Пер. Б. Пастернака. — 83.
30 Шекспир. Гамлет III, 2 / Пер. Б. Пастернака. — 83.
31 Эпиграф к сборнику Саади «Гулистан». — 84.
32 Эпитоматор — составитель эпитом (греч. «эпитоме», отрывок, выдержка) — сокращений крупных, прежде всего прозаических произведений, значительные выдержки из которых делались в целях быстрого ориентирования. — 85.
33 Шопенгауэр следует здесь Канту в истолковании термина «бытие». Последний считал бытие не свойством вещей, а только общезначимым способом связи понятий, фиксируемым в суждении связкой «есть» (и тем самым переносил онтологическую проблематику в область гносеологии, ограничивая «реальность» сферой субъект-объектных отношений). — 86.
34 Латинское название первой формы гипотетического силлогизма. — 88.
35 Латинское название второй формы гипотетического силлогизма. — 88.
36 Гете. Западно-восточный диван IV, 4 / Пер. В. Левика. — 90.
37 Речь идет о так называемых фигурах Хладни (Эрнст Флоренс Фридрих Хладни, 1756—1827, немецкий физик, основатель экспериментальной акустики), образуемых сухими песчинками вблизи узловых линий на поверхности колеблющейся под воздействием звука пластинке. — 90.
38 Правило первой фигуры силлогизма. — 93.
39 Правило второй фигуры силлогизма. — 93.
40 В этой работе («Ложное мудрствование в четырех фигурах силлогизма», 1762) Кант критикует формальную логику. — 94.
42 Схолиаст — составитель схолий (греч. «схолион», объяснение, толкование), или комментариев, к малопонятным местам древних текстов. — 107.
43 Шиллер. Философы / Пер. В. Соловьева.— 107.
44 Гете. Фауст I, 671 / Пер. Н. Холодковского. — 115.
45 Геродот. История 1, 32 / Пер. Г. Стратановского под ред. Н. Мещерского. — 123.
46 См.: Сенека. Нравственные письма к Луцилию 37, 4. — 124.
47 Аристотель. Никомахова этика VII, 12, 1152 b 15 / Пер. Н. В. Брагинской. — 124.
546
48 Согласно античному преданию, тиран Фаларис из Акраганта, правивший в VI в. до н. э., имел обыкновение сжигать врагов заживо в бронзовом быке (см.: Сенека. Нравственные письма к Луцилию 66). —124.
49 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов VI, 2, 78 / Пер. М. Л. Гаспарова. — 126.
50 Диоген Лаэртский, О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов VI, 2, 44 / Пер. М. Л. Гаспарова. — 127.
51 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов VI, 2, 71 / Пер. М. Л. Гаспарова. — 127.
52 Манцони (Мадзини) А. Обрученные. — 127.
53 См. наст. изд., т. 1, с. 484, примеч. 32. —128.
54 Гораций. Послания I, 1, 106 / Пер. Н. Гинцбурга. — 128.
55 Сенека. Нравственные письма к Луцилию 119, 2 / Пер. С. А. Ошерова. —130.
56 Аристотель. Метафизика I, 2, 982 b 12 / Пер. А. В. Кубицкого под ред. М. И. Иткина. — 132.
57 Шопенгауэр использует латинский перевод Упанишад с персидского А. Дюперрона. —134.
58 Имеется в виду король Пруссии Фридрих II Великий (1712–1786), король-философ (поставивший в 1780 г. под влиянием Д’Аламбера вопрос перед Берлинской академией наук: «Полезно ли обманывать народ?»). Именно в годы его правления (с 1740) вышла в свет первая «Критика» Канта (1781). — 135.
59 Ауспиции (лат.) — наблюдение авгурами (жрецами) за небесными явлениями, полетом и поведением птиц с целью определения воли богов, проводимое в Древнем Риме перед официальными акциями — созывом собраний (комиций), назначением диктатора, выступлением войска в поход и т. п. — 135.
60 Гораций. Сатиры II, 7, 82 / Пер. Д. Дмитриева. — 135.
61 См. наст, изд., т. 1, с. 486, примеч. 79.— 138.
62 Платон. Государство 494 а / Пер. А. Н. Егунова. — 139.
63 См.: Платон. Теэтет 155 d. См. также примеч. 20 к указ. месту в кн.: Платон. Соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1970. С. 563. — 142.
64 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 167. — 144.
65 На самом деле: Аристотель. Метафизика VI, 1, 1026 а 26 — 31 / Пер. А. В. Кубицкого под ред. М. И. Иткина. — 145.
66 Гете. Фауст I, 3225—3234 / Пер. Н. Холодковского. — 149.
67 Ср. фразу, приписываемую Демокриту: «Я знаю только то, что ничего не знаю»[301], — слова, которые свидетельствуют о том, что подлинная мудрость не стыдится своей ограниченности, так как человеческое знание ничтожно в сравнении с божественным. Сократ, по Платону, не произносит таких слов, хотя и говорит нечто близкое по смыслу (см.: Платон. Апология Сократа 21 bd; 22 с; 23 b). —155.
Дополнения
ко второй книге
2 Ларошфуко. Максимы и размышления 4. — 173.
3 Ср.: Гомер. Илиада VIII, 539. — 174.
4 Пер. С. Красильщикова. — 180.
5 Ср.: Гораций. Послания I, 2, 62: «Гнев есть безумие на миг» / Пер. Н. Гинцбурга. — 186.
547
6 Cp.: Ювенал. Сатиры VI, 223.— 187.
7 См.: Гельвеций. Об уме II, 3,4. Ср.: Гораций. Тускуланские беседы V, 36,105. —187
9 См.: Гельвеций. Об уме II, 3, 5. Цитата не дословна. — 188.
10 Шекспир. Король Лир III, 2 / Пер. Б. Пастернака. — 193
11 Афоризм, принадлежащий Гиппократу (Афоризмы I, 1). — 193.
12 См.: Гете И. В. Поэзия и правда. Т. 1. М., 1960. С. 40. 195.
13 См.: Гомер. Илиада V, 250. — 197.
14 См.: Кант И. Критика чистого разума. Трансцендентальная логика. § 16. О первоначально-синтетическом единстве апперцепции. — 209.
15 См.: Гельвеций. Об уме II, 4. — 229.
16 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов IX, 20 / Пер. М. Л. Гаспарова. — 229.
17 См.: Аристотель. О возникновении животных II, 6, 744 а 36. — 233.
18 Гете. Истолкование старинной гравюры на дереве, изображающей поэтическое призвание Ганса Саксена 11 — 14 / Пер. Л. Гинзбурга. — 235.
19 См.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1964. С. 367. Цитата Шопенгауэра уточнена. — 239.
20 Гете. Фауст 1, 1995 сл. — 245.
21 См. наст, изд., т. 1, с. 476, примеч. 5. — 248.
22 Цицерон. Об абсолютном добре и зле V, 9, 26. — 249.
23 Фома Аквинский. Сумма теологии I, 2, 2, 4. — 259.
24 Аристотель. О возникновении животных II, 6, 744 а 36. — 259.
25 Логическая ошибка в доказательстве, связанная с использованием в качестве основания (аргумента), подтверждающего тезис, положение, которое само нуждается в доказательстве. — 262.
26 Гораций. Сатиры I, 5, 100. Смысл этого выражения: пусть верит, кто хочет, только не я! — 264.
27 Ср.: Стобей. Флориды XXXIX, 10. — 264.
28 Определение, применявшееся в старой химии для обозначения сухого осадка, образующегося после нагревания определенных реагентов. — 265.
29 Согласно Симпликию (Комментарии к «Физике» Аристотеля 22; 26 d) — положение, доказываемое греческим философом Ксенофаном (ок. 570—480 до н. э.), основоположником элейской школы. — 266.
30 См.: Критика способности суждения. Ч. 1, § 54 (Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1966. С. 352). — 275.
31 Амфиболия понятий — двусмысленность («амфиболия», греч., двойственность), возникающая при употреблении для обозначения понятий слов, которые могут быть истолкованы различным образом. — 276.
32 Английские ученые[302], которые на средства графа Бриджуотера истолковывали содержание научных публикаций по естествознанию в духе христианских догматов. — 284.
Дополнения
к третьей книге
1 На самом деле: Аристотель. Метафизика XII, 3, 1070 а 17 / Пер. А. В. Кубицкого под ред. М. И. Иткина. — 306.
2 Гораций. Эподы 15, 1 — 2 / Пер. А. Семенова-Тян-Шанского. — 310.
548
3 Гете. Эпиграф к «Параболическому». — 311.
4 Гете. Утешение в слезал / Пер. В. Жуковского. — 314.
5 См.: Жан Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981 С. 86. — 317.
7 Немецкие Kunst и Konnen — слова одного корня. В русском слове «искусство (искусник)» тоже кроется этот смысл умения; но, конечно, это не так ясно, как по-немецки. — Примеч. Ю. Айхенвальда. — 322.
8 Шиллер. Смерть Валленштейна I, 4 / Пер. Каролины Павловой. — 323.
9 Гете. Годы учения Вильгельма Мейстера 1, 14 / Пер. Н. Касаткиной. — 323.
12 Бэкон. О достоинстве и приумножении наук VI, 3 / Пер. Н. А. Федорова. — 328.
13 Макиавелли. Государь XVIII. — 328.
14 Вольтер. Размышление о человеке VI, 172. — 341.
15 Гораций. Наука поэзии 359 / Пер. М. Гаспарова. — 343.
16 Гете. Художник и ценитель / Пер. Н. Вильмонта. — 351.
17 Корнель. Извинение Ариста X, 76. — 356.
19 Согласно Аристотелю, цель трагедии состоит в духовном очищении («катарсисе») страстей, сострадания и страха (см.: Аристотель. Поэтика VI, 1449 b). — 364.
20 Герой драматической поэмы Шиллера «Дон Карлос»[303]. — 366.
22 Шекспир. Генрих V II, 1. — 371.
23 Будда не отрицал существования богов, но считал, что и они подчинены действию кармы (закону морального воздаяния), полагая, что только человек способен, изменив себя, уйти от процесса перерождений и достичь нирваны. Кроме того, религиозная специфика буддизма связана с тем, что не признается бессмертие души и нет церкви: буддистская община (сангха) — духовное братство, создающее условия для самостоятельного продвижения по пути самосовершенствования, в частности жесткую дисциплину и руководство духовных наставников; сангха не является иерархической организацией, а ее члены — священнослужителями; они могут наставлять мирян, вести душеспасительные беседы, но не исповедовать их и отпускать грехи. — 371.
24 Речь идет об обертонах. — 374.
25 Гораций. Послания I, 12, 19. — 376.
26 От лат. apprehensio, схватывание. В данном случае термин «аппрегензия» имеет смысл «восприятие». Ср. кантовское выделение схватывания «многообразного [содержания] созерцания» как «самодеятельной способности познания», соотносительной с соединением (Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1965. С. 124, 258). — 377.
27 Разговор 23 марта 1829 г. (см.: Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М.; Л., 1934. С. 435). — 380.
28 Dur (итал. «твердо») — обозначение мажорной тональности; moll (итал. «мягко») — обозначение минорной тональности. — 382.
29 О преобладании минора в русской церковной музыке можно говорить лишь отчасти. Система осмогласия, на основании которой получила развитие эта музыка, включала восемь гласов, т. е. напевов: из них четыре — минорного звучания, три — мажорного и один уменьшенного. — 383.
30 Allegro (итал. «быстро») — темповое музыкальное обозначение. — 383.
549
Дополнения
к четвертой книге
1 См.: Платон. Федон 81a. — 385.
2 Кор. 15, 32. В русском переводе по синодальному изданию: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» — 386.
3 Вольтер. Письмо г-же маркизе дю Деффан. 1 ноября 1796 г. — 387.
4 Вольтер. Письмо г-ну графу Д’Аржанталь. 27 июля 1768 г. — 387.
5 Шекспир. Гамлет III, 1. — 391.
6 Фреунд Хеин[304] (нем., «дружище Хайн») — смерть. — 391.
8 Гомер. Илиада V, 304 / Пер. Н. Гнедича. — 396.
9 Гомер. Илиада VI, 146 / Пер. Н. Гнедича. — 398.
10 Плутарх. Против Колота XII, 1113 d. — 401.
11 Плотин. Эннеады III, 7, 11. — 403.
12 Спиноза. Этика V, 23, схолия. — 406.
13 Лукреций. О природе вещей I, 149 и 205; II, 287. Ср.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. IV, 4 (о выражении Эпикура и Марка Аврелия): «Ведь из ничего не происходит, и тем более ничего не обращается в ничто» / Пер. М. Л. Гаспарова. — 406.
14 Гораций. Наука поэзии. К Пизонам 1 — 2. — 407.
15 Гете. Фауст I, 2334 / Пер. Б. Пастернака. — 418.
16 Гете. Фауст I, 701 / Пер. Б. Пастернака. — 419.
17 Гете. Фауст I, 1339 сл / Пер. Б. Пастернака. — 419.
18 Ятаки (Джатаки) — сказания о перерождении Будды. — 421.
19 Лингам (санскрит, знак пола) и йони (источник) — символы божественной производительной силы, обозначение мужского детородного органа и женских гениталий в древнеиндийской мифологии. Эта пара символизирует Шиву и его супругу Парвати[305]. — 427.
20 Лукреций. О природе вещей 1 , 1 / Пер. Ф. А. Петровского. — 428.
21 На самом деле: Пропертий. Элегии IV, 8, 20. — 431.
22 Автор — К. Д’Арлевилль. — 432.
23 Гораций. Оды IV, 4, 29 / Пер. О. Румера. — 433.
24 Светоний. Жизнь двенадцати цезарей IV, 6 / Пер. М. Л. Гаспарова. — 434.
25 См.: Платон. Законы IX, 9, 856 е. — 435.
26 Буало. Поэтическое искусство IX, 23. — 444.
27 Герой романа Уго Фасколо «Последнее письмо Джакопо Ортизи» («Ultime lettere di Jacopo Ortis»). — 444.
28 Гораций. Оды I, 3, 108. — 444.
29 См.: Платон. Пир VIII, 180 b. — 449.
31 Платон. Филеб XLI, 65 с. В русском переводе эти слова отсутствуют (см.: Платон. Соч.: В 3 т. Т. 3. Ч. I. M., 1971. С. 57–58). — 452.
32 Гораций. Оды I, 33, 10. — 456.
33 Генандер — женоподобный мужчина; гипоспадей мужчина, страдающий физическим изъяном (неправильным расположением наружного отверстия мочеиспускательного канала), мешающим его способности к зачатию. — 457.
34 Шамфор. Максимы VI, 74. — 463.
36 Т. Мур.
Ирландские мелодии («C
550
37 Ср.: Платон. Федр 241 d. 466.
38 Пер. Т. Щепкиной-Куперник. — 466.
39 Гете. Фауст I, 2805 cл / Пер. Б. Пастернака. — 466.
40 Гете. Торквато Тассо V, 5 / Пер. С. Соловьева. — 467.
42 Теренций. Евнух 57 сл. — 468.
43 Цицерон. О государстве IV, 3, 3 / Пер. В. О. Горенштейна. — 472.
44 Гораций. Послания I, 10, 24 / Пер. Н. Гинцбурга. — 472.
45 Аристотель. Политика VII, 16, 1335 b 29—32 / Пер. С. А. Жебелева под ред. А. И. Доватура. — 473.
46 Буквально: «Он требовал от нее, чтобы она удовлетворила его похоть». Именно слово «похоть» соответствует тому значению немецкого Wille, о котором говорит здесь Шопенгауэр. — Примеч. Ю. Айхенвальда. — 479.
47 Гете. Фауст I, 1340 сл. / Пер. Б. Пастернака. — 482.
48 Вероятно: Рочестер. Сатир против человечества / Пер. А. Фета. — 482.
49 Вольтер. Письмо г-ну Маркизу де Флориану. 16 марта 1774 г. — 483.
50 Петрарка. Сонеты CXCV. — 484.
51 Байрон. Паломничество Чайлд-Гарольда II, 126. — 484.
Ср. поэтический перевод В. Левика:
О наша жизнь! Ты во всемирном хоре
Фальшивый звук. Ты нам из рода в род
Завещанное праотцами горе,
Анчар гигантский, чей отравлен плод,
Земля твой корень, крона — небосвод,
Струящий ливни бед неисчислимых:
Смерть, рабство, голод, тысячи невзгод,
И зримых слез, и хуже — слез незримых,
Кипящих в глубине сердец неисцелимых.
52 Гельвеций. Об уме III, 12 / Пер. И. С. Штерн-Борисовой. — 486.
53 Пер. А. В. Лебедева. — 493.
54 Феогнид. Элегии 57 / Пер. А. Пиотровского. — 493.
55 Пер. Д. С. Мережковского. — 493.
58 Шекспир. Король Генрих IV II, 3, 1. — 494.
59 Байрон, Эвтаназия 9. — 494.
Ср. стихотворный перевод В. Левика:
Он близок, день, зовущий к тризне,
Сочти же блага прошлых дней,
И ты поймешь: кем ни был в жизни,
Не быть, не жить — куда верней.
60 П. Помпонацци. О бессмертии души. — 495.
62 Апулей. О магии XLIII. — 496.
63 Гораций. Послания I, 1, 32 / Пер. Н. Гинцбурга. — 497.
64 Основоположником трудовой теории собственности был Дж. Локк (см.: Локк Дж. Два трактата о государственном правлении // Избр. произв.: В 2 т. М., 1960. Т. 2. С. 18–31). — 501.
551
65 Согласно Канту, «строгое право» (которое — в качестве опирающегося на априорные принципы — он отличает от конкретного свода законов, вытекающего из воли законодателя) исключает моральную классификацию поступков: «Оно основывается, правда, на осознании обязательности каждого по закону, но, для того чтобы быть чистым, не должно и не может ссылаться на это осознание как на мотив; поэтому оно опирается на принцип внешнего принуждения»; «…понятие права можно усмотреть непосредственно в возможности сочетать всеобщее взаимное принуждение со свободой каждого». Именно на этом основании он считает, что законодатель в «правовом государстве» не должен принимать в расчет ни возможность или невозможность раскаяния в содеянном и муки совести, т. е. нравственные характеристики личности преступника, ни выгоду или невыгодность налагаемого по суду наказания для преступника и общества, и предлагает в основу правовой справедливости положить принцип равенства: «…суд склоняется в пользу одной стороны не более, чем в пользу другой… то зло, которое ты причиняешь кому-нибудь другому… ты причиняешь и самому себе». Поэтому единственным принципом справедливого наказания является талион, или право возмездия за равное равным (око за око), которое осуществляется не частным порядком, а в рамках правосудия и подразумевает в том числе в возмещение жизни, отнимаемой преступником, смертную казнь, «приводимой в исполнение по приговору суда, но свободной от всяких жестокостей, которое человечество в лице пострадавшего могло бы превратить в устрашение» (Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 4, ч. 2. С. 141, 256–258). — 502.
67 Шекспир. Гамлет I, 4 / Пер. М. Лозинского. — 504.
68 Пелагианство — христианская ересь, возникшая в начале V в. на основе учения Пелагия. Признавая греховность только результатом сознательного акта единичной воли, пелагиане отрицали реальную силу первородного греха (он значим лишь в смысле первого дурного примера). Шопенгауэр имеет в виду, что самостоятельность человеческой воли, устанавливаемая пелагианством, близка рационалистическому понятию «безразличия свободной воли», т. е. произвольного выбора между злом и добром. — 508.
69 От саманы (на языке пали) — бродячие отшельники. — 509.
70 Суфизм (от араб, «суф» — шерстяной плащ; суфий — носящий такой плащ) — мистико-аскетическое направление в исламе, возникшее в VIII–XIX вв. Посредством поста, самоуглубления и молитвы суфии стремились к слиянию с божеством. — 509.
71 Мф. 16, 24. В русском синодальном издании: «Отвергнись себя». — 509.
72 Т. е., согласно брахманистской традиции, достигшие четвертой степени совершенства, что разрывает цепь рождений. — 516.
73 Рабле. Гаргантюа LVIII, 45–47 / Пер. Ю. Корнеева. 518.
74 Сближение религии ессеев и учения Христа проблематично. Жизнь ессеев (со второй половины XX в. частично или полностью отождествляемых многими исследователями с кумранской общиной) строилась по образцу, совпадавшему в известной мере с евангельским идеалом; они полагали необходимым, в частности, общность имуществ между братьями-общинниками (ср.: Деян. 4, 32–35). Однако между ессеями и христианами было слишком много значимых различий, исключающих возможность того, что Христос был ессеем или их учеником. В то же время кумранская община — это один из важнейших элементов, из которых создавалось христианство I в. н. э. — 519.
552
75 В одном ряду перечислены раннехристианские секты мистико-аскетического направления. — 519.
77 Гете. Коптские песни I, 3. — 523.
78 Климент Александрийский. Строматы III, 14, 95. — 524.
79 См. наст, изд., т. 1, с. 479, примеч. 14. —525.
80 Характеристика протестантизма как современного пелагианства имеет смысл только в свете сближения последнего с рационализмом и в той мере, в какой протестантизм созвучен рационалистическому мировоззрению нового времени. В остальном же протестантизм, одним из центральных тезисов которого был догмат предопределения, резко расходится с пелагианством (согласно Пелагию, человек в силу присущей ему свободы воли способен к достижению спасения самостоятельно, без содействия благодати). — 527.
81 Шекспир. Как вам это понравится V, 4 / Пер. Т. Щепкиной-Куперник. — 532.
82 Эбиониты — раннехристианская секта, получившая свое название по одной из версий от др.-евр. «эйбоним» (бедные), самоназвания первых христиан из евреев. — 533.
83 Сенека. Нравственные письма к Луцилию 124, 24 / Пер. С. А. Ошерова. — 535.
84 См. наст, изд., т. 1, с. 483, примеч. 21. —535.
85 Ламартин. Поэтические и религиозные гармонии II, 7, 59 сл. — 536.
86 Овидий. Метаморфозы I, 16. — 541.
Августин Блаженный — 125, 138, 156, 302, 507, 508, 520, 521
Агриппина — 434
Адамс К. — 501
Аделунг — 317
Александр VI, папа — 434
Александр (Великий) Македонский — 433
Алеман М. — 402
Альба (Альварес де Толедо Фернандо) — 434
Альтгоф Л. К. — 438
Ампер А. М. — 252
Анакреон — 477
Анаксагор — 225, 245, 272, 276
Анвари — 84
Ангелус Силезиус — 515
Андерсон А. — 532
Анжели — 78
Антисфен — 127
Апулей — 127
Аремберг Г. фон — 354
Аристипп — 107, 134
Аристон Хиосский — 107
Аристотель — 29, 30, 34, 35, 38—40, 58, 68, 72, 85, 97, 100, 108, 118, 125, 132, 134, 145, 199, 212, 225, 245, 246, 278, 280, 285—287, 293, 299, 302, 306, 321, 338, 364, 367, 471, 473, 475
Аристофан — 446
Арриан Флавий — 125, 129—131
Афанасий — 520
Байрон Дж. — 67, 121, 179, 197, 329, 362, 439, 456, 484, 492
Бартлетт — 531
Баумгартен А. Г. — 212
Бекхариа Ч. — 502
Белечнаи — 435
Белл Ч. — 227
Беллерман И. И. — 528
Бенедикт Д. — 528
Бевьян Дж. — 517
Беркли Дж. — 4, 5, 8, 11, 12, 262, 394
Бернгард Б. — 51
Бернулли, род — 436
Берцелиус Й. Я. — 253
Бёме Я. — 515
Бёрк Э. — 55
Био Ж. Б.— 118
Бион — 107
Биша К. — 167, 205, 211, 218, 219, 221—224, 330, 417
Болейн
Болингброк Г. — 491
Бонавевтура (св.) —517, 533
Боргезе, род — 353
Борджа Цезарь — 434
Боссуэл Дж. — 189
Брандис И. Д.— 217
Браун Т. — 32, 285
Брокгауз Ф. А.— 438
Бронгньерд А. — 211
Брохэм Г. — 284
Бруно Дж. — 29, 38, 72, 257, 258, 294, 319, 541
Буало —444
Будда (Гаутама Сидтхартха) —140, 334, 407, 421, 516
Бургаве Г. — 438
Бурдах К. Ф. — 201, 210, 211, 283, 290, 291, 399, 426, 431, 440
Буриньон Антуанетта — 517
Бурне Т. — 422
Бурноф Э. — 524
Бэкон Ф. — 35, 180, 189, 193, 235, 284, 285, 287, 328, 356, 438
Бюргер Г. А. — 438, 443
Бюффон Ж. — 60, 437
Вагнер А. — 42, 354
Вальтер Скотт — см. Скотт В.
Ван Гейнс — 434
Ванини Л. — 244, 294
Вергилий — 471
Веспасиан — 435
Виланд К. М. — 176, 354
Вильденов К. Л. — 283
Виндишман К. Й. И. — 425, 511
Витрувий — 345
Вовенарг Л. — 63
Вольтер — 80, 176, 204, 285, 341, 387, 490–492, 496
Вольф К. Ф. — 45, 46, 153, 211
Вольф X. — 280
Вордсворт У. — 176
Вьяса — 407
Гайдн Й. — 439
Гайдн M. — 439
Гален К. — 92
Галлер А. фон — 211, 217, 438
Галль Ф. Й. — 57, 58, 195, 204, 222, 223, 227
Гаман Й. Г. — 489
Гамилькар Б.— 434
Гамильтон У. — 109
Ганнибал — 434
Гарди С. — 420, 421, 516
Гаррик— 81, 237
Гаюи Р. Ж. — 253
554
Гвиччардини —189
Гейне Г. — 83
Гегель Г. В. Ф. — 12, 30, 58, 70, 253, 370, 489, 496, 518
Гельвеций К. А. — 66, 187, 188, 229
Генрих IV — 494
Генрих VIII — 434
Гераклит — 66, 493, 523
Гербарт — 489
Гердер — 331,499
Гермес Трисмегист — 409
Геродот — 123, 372, 492, 523
Гершели, род — 436
Гете И. В. — 4, 26, 46, 90, 106, 118, 119, 139, 157,176, 180, 189, 195, 203, 236, 248, 280, 311, 318, 319, 323, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 342, 351, 354, 356, 361, 362, 366, 380, 437, 438, 466, 467, 502
Гильберт У. — 25
Гиппий — 83
Гихтель И. Г. — 517, 528
Гледич И. Г.— 291, 296
Гоббс Т. — 188, 193
Гольбах П. А. — 12, 145
Гольдберг — 145
Гольдони К. — 366
Гомер — 197, 202, 343, 365, 494, 497
Гораций — 78, 128, 343, 356, 361
Горгий — 83, 85
Гоцци К. — 79, 335
Грасиан Б. — 62, 178, 188, 494
Гринакр — 532
Грисбах И. Я. — 526
Гроуль К. — 516
Гуж Р. —46
Гумбольдт А. — 297
Гуфеланд Г. — 461
Гюйон Ж. М. Б. — 515–517
Д’Аламбер Ж. Л. — 437
Данте Алигьери — 104, 121, 356
Декарт (Картезий) Р. — 5, 28, 46, 109, 158, 197, 202, 222—224, 262, 397, 543
Деларю — 532
Демокрит — 13, 145, 263, 266, 287, 523
Деций Мус — 433
Децкер Дж. — 423
Джонсон С. — 188
Джордано Лука — 353
Дидро Д. — 120, 375, 401
Диоген Лаэртский — 107, 126—128, 130, 131, 134, 389
Диоген Синопский — 126, 127, 485
Дионисий Ареопагит — 71
Доменикино — 350
Домициан — 434, 435
Донат М. — 434
Донателло — 350
Дунс Скотт И. — 54
Дэнис Дж. Ф. — 359
Дюрер А. — 456
Евклид — 100
Еврипид — 363, 364, 366, 493, 497, 523
Елизавета I, англ. — 434
Епифаний — 525
Жан Поль (Рихтер И. П. Ф.) — 26, 75, 83, 317–319
Жюльен С. — 384
Земмеринг — 237
Иероним — 350
Изабелла — 434
Иоанн Секунд — 352
Иоанн Скот Эриугена — 107, 515, 540, 541
Иосиф II. — 436
Иффланд — 175, 366
Кабанис П. Ж. Ж. — 67, 145, 174, 227
Калигула — 434
Кальдерон П. — 361, 448, 463, 507
Кампе И. Г. — 135
Канизий П. — 521
Канова А. —352
Кант И. — 4, 8, 9, 11–13, 18, 19, 26, 28–30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 44–46, 48, 54, 68, 71, 75, 87, 94, 118, 119, 135, 138, 144, 145, 147, 149–153, 157–159, 161, 162, 176, 202, 209, 216, 227, 230, 232, 238, 239, 241, 242, 252, 253, 259, 262–264, 271, 275, 282, 286, 294, 330, 358, 371, 396, 403, 408, 411, 412, 422, 437, 439, 489, 490, 502
Караваджо Микеланджело — 353
Карата — 438
Кардано Дж. — 436
Картезий — см. Декарт Р.
Каспер И. Л. — 420, 421
Кассиан И. М. — 519
Кассини, род — 436
Катулл —431
Кеплер И. — 250
Кёппен — 420
Кереши Ч. — 140
Кернер Ю. — 212
Карове Ф. В. — 521
Кизер Д. Г. — 111,289
Кильмайер К. Ф. — 106
Кимон — 434
Кирби У. — 284, 290–292
Клавдии, род — 433
Клавдий —197
Климент Александрийский — 28, 512, 519, 522
Кнебель К. Л. — 146
Кольбруж Г. Т. — 407, 422, 425
Коммод Л. — 435
Кондильяк Э. Б. де— 12, 19, 253
Кондорсе Ж. А. Н. — 20
Корнель П. — 356
Коцебу А. фон — 366
Кратес — 127
Крауэ — 455
Криз — 430
Ксантиппа — 456
555
Ксенофан — 40
Ксенофонт— 471
Кузен В. — 253
Куни М. — 532
Кювье Г. — 439
Кювье Ф. — 29, 30, 106, 211, 289, 329, 332, 333, 439
Ламарк Ж. Б. — 106, 145
Ламартин А. — 536
Ламберт И. Г.— 46, 97
Лаоцзы — 384
Лаплас П. С. — 45, 46, 271
Ларошфуко Ф. — 123, 199, 444
Лаух Е. — 33
Левкипп — 13, 145, 263, 266
Лейбниц Г. В. — 54, 153, 284, 489, 490, 491
Лемер — 435
Леопарди Дж. — 494
Леруа Ш. Г. — 51, 183
Лессинг Г. В. — 8, 366, 423, 487, 488
Лещинский С. — 356
Ли
Либих Ю. — 251
Линд П. Э. — 521
Линней К. — 440
Лихтенберг Г. К. — 10, 26, 27, 188, 237, 423, 441, 444
Локк Дж. — 11, 18, 19, 35, 68, 159, 227, 238, 253. 262, 489. 492, 544
Лёхер Ф. — 528
Лукреций Кар — 284, 285,356, 428
Луллий Раймунд — 531
Лютер М. — 138, 507, 511, 526, 528
Маженди Ф. —211, 227
Макиавелли Н. — 238
Максвелл — 528
Максим Тирский — 72
Манцони А. —127
Марк Аврелий — 130, 135, 435
Мелисс — 71. 400
Мен де Биран М. Ф. П. — 31, 32, 38
Мерк И. Г.— 189, 354
Мильтиад — 434
Молинос М. де — 517
Монтень М. —102, 202, 478
Мопертюи П. Л. —45
Мост Г. Ф. — 221
Моцарт В. А. —331, 436
Мюллер А. — 439
Мюллер И. П. — 211
Немезий из Эмеса — 422
Нерон — 433, 434
Ницш — 359
Нойман К.— 201
Ньютон И. — 46, 48, 118. 264, 489, 490
Обри Б. —422, 425
Овен — 352
Овидий — 356
Одуэн Ж. В. — 211
Окен Л. — 281
Олимпиодор — 305
Оузи Дж. — 352
Оуэн Р. — 29, 277, 280, 284
Парацельс Т. — 406, 461
Парменид — 28, 400
Паскаль Б. — 517
Перикл — 441
Песталоцци И. Г. — 30
Петрарка Ф. — 104, 361, 462, 466, 467, 484
Пико делла Мирандола Дж. — 56
Пиктет А. — 422
Пиндар — 523
Пинель Ф. — 337
Питт У. — 435
Пифагор — 306, 422, 522, 523, 529
Платнер Э. — 75, 445, 489
Платон — 28, 34, 69, 71, 85, 100, 108, 118, 138, 178, 245, 257, 258, 305, 306, 370, 371, 387, 396, 402, 403, 422, 435, 440, 445, 452, 466, 471, 475, 493, 512, 522, 523, 529
Плиний — 478. 494, 528
Плотин — 38, 403, 515
Плутарх — 107, 125, 306, 400, 475, 492
Поп А. — 65, 189, 491
Пракситель — 351
Преллер Л. — 131
Пристли Дж. — 45, 253
Прободж Чандро Дай — 16
Прокл — 36, 69, 71, 100, 305
Протагор — 83
Пти-Туар — 260
Птолемей — 222, 246
Пуше — 260
Пфейфер Ф. — 515
Пюклер Г. Л. Г. — 285
Рабле — 518
Радиус Ю. — 20, 22
Рамберг А. —439
Рамберг Б. — 439
Расне, аббат — 531
Рафаэль — 197, 331, 436
Рейхлин — 517
Ренни Г. — 353
Реш К. — 210, 212
Рид Т. — 19, 22, 32, 56
Рикарди —353
Ринг Ф. Т. — 135
Риттер Г. —131
Роде И. Е. — 525
Розенкранц К. — 30, 35, 38, 45, 144, 445
Розини Дж. — 189
Руссо Ж. Ж — 128, 294, 436, 445, 492
Рутилий Луп — 85
Саади — 472, 515
Саллюстий — 72, 529
Сангермано — 420, 425
Саути Р. — 176
556
Сафир — 78
Светоний — 433,434
Свифт Дж. — 176, 493
Сенека — 3, 52, 124, 125, 130, 131, 535
Сент-Илер Ж. — 106, 279, 283
Сент-Илер О. — 260
Сервантес М. — 60
Скалигеры, род — 436
Скопас — 351
Скорсби У. — 430
Скотт В. — 176, 196, 438, 483, 493
Сократ — 83, 134, 225, 289, 385, 387, 456, 471
Соути — 176
Софокл — 364, 471, 493
Спалланцани Л. — 204
Спенс Х.—284, 420, 421
Спиноза Б. — 13, 35, 73, 141, 142, 153, 284—287, 294, 406, 445, 484, 496, 499, 541,543
Стобей — 107, 125, 198, 366, 409, 435, 473
Стюарт Д. — 46, 56
Сципионы, род — 434
Танди — 425
Тансен К. фон — 437
Таулер И. — 420, 517
Тертуллиан К. С. Ф. — 138, 423, 520
Тидеман Ф. — 205
Тит Флавий Веспасиан — 434
Тишбейн И. Ф. А. — 84
Толук — 515
Торвальдсен Б. — 352
Тревиранус Г. Р. —205, 246
Туртюаль К. Т. — 20
Унгевиттер Ф. — 422
Унцельман К. В. Ф. — 77
Уфам Э. — 407
Фабии, род — 433
Фабриции. род —433
Фаустина — 435
Феогнид — 493
Феон — 428
Фидий — 351
Филипп Македонский — 433
Филипп IV — 434
Филолай — 472
Филон — 328
Филей — 485
Фит Арари — 187
Фихте И. Г. — 12, 232
Флуранс П. М. Ж. — 168, 205, 211, 221, 224, 333, 437
Фома Аквинский — 35
Франциск Ассизский — 516
Фрауэнштедт Ю. — 45
Фрейсинет Л. К. де — 430
Хатчесон Ф. — 75
Хаэк А. — 33
Хоккер — 532
Холл М. — 214, 215, 223, 227
Хоум Г. — 75
Хрисипп — 125
Хубер Ф. — 291
Цельс — 426
Цицерон Марк Туллий — 74, 76, 124, 125, 130, 131, 187, 321, 388, 472, 507, 529
Чэтем, лорд — 435
Шамфор С. — 327, 328, 463
Шатобриан Ф. — 517
Шваб Г. Б. — 438
Шевроль М. — 264
Шекспир У. — 55, 65, 98, 104, 139, 248, 342, 356, 360, 362, 364–366, 433, 456, 462, 466, 467, 532
Шеллинг Ф. В. Й. — 8, 12, 70, 541
Шенстон У. — 78
Шефтсбери А. Э. К. — 491
Шиллер Ф. — 79, 437, 438
Шлегель А. В. — 439
Шлегель Ф. — 439, 492
Шлейермахер Ф. — 70, 489
Шлихтегролль А. Г. Ф. — 331
Шмидт И. И. — 140, 229, 425, 525
Шнуррер Ф. — 420
Шоппе — 83
Шотт Г. А. — 526
Шпренгель — 283
Шталь Э. Г. — 222
Штраус Д. — 532
Шуберт Ф. В. — 437
Шульц К. X. — 212
Шульце Г. Э. — 102
Эдуард II — 434
Эйлер Л. — 10, 20—22, 120
Эккерман И. П. — 380
Экхарт (Манстер Экхарт) И. — 515, 516, 533, 539
Элиан — 178
Эмпедокл — 229, 245, 246, 287, 400, 523
Эпиктет — 128, 130
Эпикур — 13, 145, 389, 394
Эриугена — см. Иоанн Скот Эриугена
Эскироль Ж. Э. Д. — 302, 337, 438
Эсхил — 363, 478
Юлиан, император — 125, 133
Юм Д. — 11, 32, 33, 284, 423, 437, 489, 490, 496
Юнгхун Ф. В. — 298
Юнг-Штиллинг И. Г. — 57
Юниус — 431
Юстин А. — 423
Юэвелл — 108
Якоби Ф. Г. — 8, 544
Яхманн Р. Б. — 202
Составитель П. Апрышко
Дополнения к первой книге 4
Первая половина. Учение о наглядном представлении —
Глава 1. По поводу основного идеалистического взгляда —
Глава 2. По поводу учения о созерцающем или рассудочном познании 17
Глава 3. О чувствах 23
Глава 4. О познании a priori 28
Вторая половина. Учение об абстрактном представлении, или о мышлении 48
Глава 5. Об интеллекте без разума —
Глава 6. По поводу учения об абстрактном познании, или познании разумом 51
Глава 7. Об отношении наглядного познания к познанию отвлеченному 58
Глава 8. По поводу теории смешного 75
Глава 9. По поводу логики вообще 84
Глава 10. По поводу силлогистики 88
Глава 11. По поводу риторики 97
Глава 12. По поводу наукоучения 99
Глава 13. По поводу методологии математики 107
Глава 14. Об ассоциации мыслей 109
Глава 15. О существенных недостатках интеллекта 113
Глава 16. О практическом применении разума и о стоицизме 122
Глава 17. О метафизической потребности человека 132
Дополнения ко второй книге 157
Глава 18. О познаваемости вещи в себе —
Глава 19. О примате воли в самосознании 165
Глава 20. Объективация воли в животном организме 203
Глава 21. Ретроспективный взгляд и общие соображения 224
Глава 22. Объективное рассмотрение интеллекта 227
Глава 23. Об объективации воли в лишенной познания природе 244
Глава 24. О материи 255
Глава 25. Трансцендентные размышления о воле как вещи в себе 266
558
Глава 26. По поводу телеологии 274
Глава 27. Об инстинкте и влечении к творчеству 287
Глава 28. Характеристика воли к жизни 293
Дополнения к третьей книге 304
Глава 29. О познании идей —
Глава 30. О чистом субъекте познания 307
Глава 31. О гении 315
Глава 32. О безумии 334
Глава 33. Отдельные замечания о красоте в природе 337
Глава 34. О внутренней сущности искусства 339
Глава 35. К эстетике архитектуры 343
Глава 36. Отдельные замечания по эстетике изобразительных искусств 350
Глава 37. К эстетике поэзии 354
Глава 38. Об истории 367
Глава 39. К метафизике музыки 374
Дополнения к четвертой книге 384
Глава 40. Предисловие —
Глава 41. О смерти и ее отношении к неразрушимости нашей внутренней сущности 385
Глава 42. Жизнь рода 425
Глава 43. Наследственность свойств 431
Глава 44. Метафизика половой любви 443
Приложения к предыдущей главе 471
Глава 45. Об утверждении воли к жизни 476
Глава 46. О ничтожестве и страданиях жизни 480
Глава 47. К этике 495
Глава 48. К учению об отрицании воли к жизни 507
Глава 49. Путь спасения 534
Глава 50. Эпифилософия 539
Примечания 545
Указатель имен 554
АРТУР ШОПЕНГАУЭР
Собрание сочинений в шести томах
Том
второй
Заведующий редакцией М.
Беляев
Ведущий редактор П.
Апрышко
Редактор Ж. Крючкова
Художественный редактор Е.
Андрусенко
Технический редактор Е.
Куликова
Корректор Н. Антонова
ЛР № 071673 от 01.06.98 г. ЛР
№ 010273 от 10.12.97 г. Изд. Мг 0201011. Подписано в печать 07.06.99 г. Гарнитура
Тайме. Формат 60×901/16
Печать офсетная. Усл. печ. л.
35,0. Уч.-изд. л. 43,33. Заказ Ne 709.
ТЕРРА-Книжный клуб. 113093,
Москва, ул. Щипок, 2.
Российский государственный информационно-издательский
Центр «Республика» Государственного комитета Российской Федерации по печати.
Издательство «Республика». 125811,
ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Отпечатано в ОАО «Ярославский
полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.