
А. Шопенгауэр
Собрание сочинений
В ШЕСТИ ТОМАХ
Том 1
Мир как воля и представление
Том первый
Москва
ТЕРРА — Книжный клуб
Издательство «Республика» 1999
УДК1
ББК 87.3
Ш19
Перевод с немецкого
Подготовка текста Ю. Н. Попова, А. А. Чанышева
Общая редакция, составление, послесловие и примечания А. А. Чанышева
Шопенгауэр А.
Ш79 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1: Мир как воля и представление: Т. 1 / Пер. с нем.; Под общ. ред. А. Чанышева. — M.: TEPPA— Книжный клуб; Республика, 1999. — 496 с.
ISBN 5-300-02645-Х (т. 1)
ISBN 5-300-02646-8
ISBN 5-250-02691-5
Собрание сочинений Артура
Шопенгауэра (1788— 1860) открывается первым томом его главного труда «Мир как
воля и представление» с приложением «Критика кантовской философии». В Собрание
сочинений войдут все основные произведения выдающегося немецкого мыслителя, оказавшего
большое влияние на развитие мировой философской мысли. Тексты переводов заново
сверены. Издание снабжено необходимым справочным аппаратом.
Адресуется всем, кто
интересуется историей философии и культуры.
УДК1
ББК 87.3
ISBN 5-300-02645-Х (т. 1)
ISBN 5-300-02646-8
ISBN 5-250-02691-5
© TEPPA— Книжный клуб, 1999
© Издательство «Республика», 1999
Мир как воля
и представление
Том первый
Четыре книги и приложение, содержащее критику кантонской философии
И не раскроется ли, наконец, природа?
Гёте
Я хочу объяснить здесь, как следует читать эту книгу, для того чтобы она была возможно лучше понята. То, что она должна сообщить, заключается в одной-единственной мысли. И тем не менее, несмотря на все свои усилия, я не мог найти для ее изложения более короткого пути, чем вся эта книга.
Я считаю эту мысль тем, что очень долго было предметом исканий под именем философии, что именно поэтому людьми исторически образованными было признано столь же невозможно найти, как и философский камень, хотя уже Плиний сказал им: Quam multa fieri non posse, priusquam sint facta, judicantur (Hist. nat. 7, 1)*.
Смотря по тому, с какой из различных сторон рассматривать эту единую мысль, она оказывается и тем, что назвали метафизикой1, и тем, что назвали этикой, и тем, что назвали эстетикой. И, конечно, она должна «быть всем этим», если только она действительно есть то, за что я ее выдаю.
Система мыслей должна постоянно иметь связь архитектоническую, т. е. такую, где одна часть всегда поддерживает другую, но не поддерживается ею, где краеугольный камень поддерживает, наконец, все части, сам не поддерживаемый ими, и где вершина поддерживается сама, не поддерживая ничего. Наоборот, одна-единственная мысль, как бы ни был значителен ее объем, должна сохранить совершенное единство. Если тем не менее в целях передачи она допускает разделение на части, то связь этих частей все-таки должна быть органической, т. е. такой, где каждая часть настолько же поддерживает целое, насколько она сама поддерживается им, где ни одна не первая и не последняя, где вся мысль от каждой части выигрывает в ясности и даже самая малая часть не может быть вполне понята, если заранее не понято целое. Между тем книга должна иметь первую и последнюю строку, и потому в этом отношении она всегда остается очень непохожей на организм, как бы ни походило на него ее содержание: между формой и материей здесь, таким образом, будет противоречие.
Отсюда ясно, что при таких условиях для проникновения в изложенную мысль нет иного пути, как прочесть эту книгу два раза, и притом в первый раз с большим терпением, которое можно почерпнуть только
4[1]
из благосклонного доверия, что начало почти так же предполагает конец, как конец — начало, и каждая предыдущая часть почти так же предполагает последующую, как последующая — первую. Я говорю «почти», ибо вполне так дело не обстоит, но честно и добросовестно сделано все возможное для того, чтобы сначала изложить то, что менее всего объясняется лишь из последующего, как и вообще сделано все, что может способствовать предельной отчетливости и внятности. До известной степени это могло бы и удаться, если бы читатель во время чтения думал только о сказанном в каждом отдельном месте, а не думал (что очень естественно) и о возможных оттуда выводах, благодаря чему, кроме множества действительно существующих противоречий мнениям современности и, вероятно, самого читателя, приходят еще много других, предвзятых и воображаемых[2]. В результате возникает страстное неодобрение там, где пока есть только неверное понимание, тем менее признаваемое, однако, в качестве такового, что обретенная с трудом ясность слога и точность выражения хотя и не оставляют сомнений в непосредственном смысле сказанного, но не могут одновременно обозначить и его отношений ко всему остальному. Поэтому, как я уже сказал, первое чтение требует терпения, почерпнутого из доверия к тому, что во второй раз многое или все покажется совершенно в ином свете. Кроме того, серьезная забота о полной и даже легкой понятности при очень трудном предмете должна служить извинением, если кое-где встретится повторение. Уже самый строй целого — органический, а не похожий на звенья цепи — заставлял иной раз касаться одного и того же места дважды. Именно этот строй, а также очень тесная взаимосвязь всех частей не позволили мне провести столь ценимое мною разделение на главы и параграфы и принудили меня ограничиться четырьмя главными разделами — как бы четырьмя точками зрения на одну мысль. Однако в каждой из этих четырех книг надо особенно остерегаться, чтобы из-за обсуждаемых по необходимости деталей не потерять из виду главной мысли, к которой они принадлежат, и последовательного хода всего изложения. Вот первое и, подобно следующим, неизбежное требование, предъявляемое неблагосклонному читателю (неблагосклонному к философу, потому что читатель сам — философ).
Второе требование состоит в том, чтобы до этой книги было прочитано введение к ней, хотя оно и не находится в ней самой, а появилось пятью годами раньше[3] под заглавием «О четверояком корне закона достаточного основания. Философский трактат». Без знакомства с этим введением и пропедевтикой решительно невозможно правильно понять настоящее сочинение, и содержание названного трактата настолько предполагается здесь повсюду, как если бы он находился в самой книге. Впрочем, если бы он не появился раньше ее на несколько лет, он не открывал бы моего главного произведения в качестве вступления, а был бы органически введен в его первую книгу, которая теперь, поскольку в ней отсутствует сказанное в трактате, являет известное несовершенство уже этим пробелом и постоянно должна восполнять его ссылками на упомянутый трактат. Однако списывать у самого себя или кропотливо пересказывать еще раз уже высказанное однажды мне было бы столь противно, что я предпочел этот путь, несмотря даже на то, что теперь
5
я мог бы лучше изложить содержание своего раннего трактата и очистить его от некоторых понятий, вытекающих из моего тогдашнего чрезмерного увлечения кантовской философией, — каковы, например, категории, внешнее и внутреннее чувство и т. д. Впрочем, и там эти понятия находятся еще только потому, что я до тех пор, собственно, никогда не погружался глубоко в работу над ними. Поэтому они играют побочную роль и совсем не касаются главного предмета, так что исправление таких мест в упомянутом трактате совершится в мыслях читателя само собой благодаря знакомству с «Миром как волей и представлением». Но только в том случае, если из моего трактата «О четверояком корне» будет вполне понятно, что такое закон основания и что он означает, на что распространяется и на что не распространяется его сила; если будет понято, что этот закон не существует прежде всех вещей и что весь мир не является лишь вследствие и в силу него, словно его королларий2, и что, наоборот, закон основания не более чем форма, в которой всюду узнается постоянно обусловленный субъектом объект, какого бы рода он ни был, поскольку субъект служит познающим индивидом, — только в этом случае можно будет приступить к впервые испробованному здесь методу философствования, совершенно отличному от всех существовавших доселе.
То же самое отвращение к буквальному списыванию у самого себя или же пересказу прежнего другими и худшими словами — ибо лучшие я сам у себя предвосхитил — обусловило и другой пробел в первой книге этого произведения, а именно, я опустил все то, что сказано в первой главе моего трактата «О зрении и цвете» и что иначе дословно было бы приведено здесь. Следовательно, здесь предполагается также знакомство и с этим прежним небольшим сочинением.
Наконец, третье требование к читателю могло бы даже безмолвно подразумеваться само собою, ибо это не что иное, как знакомство с самым важным явлением, какое только знает философия в течение двух тысячелетий и которое так близко к нам: я имею в виду главные произведения Канта3.[4] Влияние, оказываемое ими на ум того, кто их действительно воспринимает, можно сравнить, как это уже и делали, со снятием катаракты у больного. И если продолжить это сравнение, то мой замысел надо охарактеризовать так: я хотел вручить очки тем, для кого названная операция была удачна, так что сама она составляет необходимое условие для пользования ими. Хотя поэтому исходным моим пунктом и служит всецело то, что высказал великий Кант, но именно серьезное изучение его творений позволило мне найти в них значительные ошибки, которые я должен был вычленить и отвергнуть, для того чтобы, очищенное от них, его учение могло служить мне основой и опорой во всей своей истине и красоте. Но чтобы не прерывать и не запутывать свое изложение частной полемикой против Канта, я вынес ее в специальное приложение. И насколько, согласно сказанному, моя книга предполагает знакомство с философией Канта, настолько же требует она знакомства и с этим приложением. Поэтому можно было бы посоветовать прочесть сначала приложение, тем более что по своему содержанию оно тесно примыкает именно к первому отделу
6
настоящего труда[5]. С другой стороны, по самому существу предмета нельзя было избегнуть и того, чтобы и приложение подчас не ссылалось на само произведение. Отсюда следует только то, что и приложение, как и главная часть книги, должно быть прочитано дважды.
Таким образом, философия Канта — единственная, основательное знакомство с которой предполагается в настоящем изложении. Но если, кроме того, читатель провел еще некоторое время в школе божественного Платона, то он тем лучше будет подготовлен и восприимчив к моей речи. А если он испытал еще благодетельное воздействие Вед, доступ к которым, открытый Упанишадами, является в моих глазах величайшим преимуществом, каким отмечено наше юное еще столетие сравнительно с предыдущими4, — ибо я убежден, что влияние санскритской литературы будет не менее глубоко, чем в XV веке было возрождение греческой, — если, говорю я, читатель сподобился еще посвящения в древнюю индийскую мудрость и чутко воспринял ее, то он наилучшим образом подготовлен слушать все то, что я поведаю ему. Для него оно не будет тогда звучать чуждо или враждебно, как для многих других; ибо, если бы это не казалось слишком горделивым, я сказал бы, что каждое из отдельных и отрывочных изречений, составляющих Упанишады, можно вывести как следствие из излагаемой мною мысли, но не наоборот — саму ее найти в них нельзя.
Однако большинство читателей уже потеряло терпение, и у них вырывается, наконец, упрек, от которого они так долго и с трудом удерживались: как смею я предлагать публике книгу, выдвигая условия и требования, из которых первые два высокомерны и нескромны, и это в то время, когда всеобщее богатство самобытных идей столь велико, что в одной Германии они, благодаря книгопечатанию, ежегодно становятся общим достоянием в количестве трех тысяч содержательных, оригинальных и совершенно незаменимых произведений и, сверх того, бесчисленных периодических журналов и даже ежедневных газет; в то время, когда нет ни малейшего недостатка в своеобразных и глубоких философах, когда, напротив, в одной Германии их одновременно процветает больше, чем могут предъявить несколько столетий подряд? Как же, спрашивает разгневанный читатель, исчерпать все это, если к каждой книге приступать с такой подготовкой?
Я решительно ничего не могу возразить против этих упреков и
надеюсь лишь на некоторую благодарность со стороны таких читателей за то, что я
заблаговременно предупредил их не терять и часа над книгой, чтение которой не
может быть плодотворно, если не выполнены выставленные требования, и которую поэтому
лучше оставить совсем. К тому же можно смело поручиться, что она вообще не
понравилась бы им, что она всегда будет служить только для paucorum h
7
к той прекрасной точке, где парадокс совершенно отождествляется с ложью, кто же решится почти на каждой странице встречать мысли, прямо противоречащие тому, что он раз и навсегда признал окончательной истиной? И затем, как неприятно разочарованы были бы иные лица, не найдя здесь и речи о том, чего именно здесь, по их крайнему убеждению, и следовало бы искать, ибо образ их спекулятивного мышления совпадает с умозрением одного еще здравствующего великого философа*, который написал поистине трогательные книги и имеет только одну маленькую слабость: все то, что он выучил и одобрил до пятнадцатого года своей жизни, он считает врожденными основными идеями человеческого духа6. Кто бы вытерпел все это? И поэтому я опять советую отложить книгу в сторону.
Но я боюсь, что и этим не отделаюсь. Читатель, дошедший до предисловия, которое его отвергает, купил книгу за наличные деньги, и он спрашивает, как ему возместить убыток. Мое последнее средство защиты — это напомнить ему, что он властен, и не читая книги, сделать из нее то или другое употребление. Она, как и многие другие, может заполнить пустое место в его библиотеке, где, аккуратно переплетенная, несомненно, будет иметь красивый вид. Или он может положить ее на туалетный или чайный столик своей ученой приятельницы. Или наконец — это самое лучшее, и я ему особенно это советую — он может написать на нее рецензию.
А теперь, позволив себе шутку, для которой в нашей сплошь двусмысленной жизни едва ли может быть слишком серьезна какая бы то ни была страница, я с глубокой серьезностью посылаю в мир свою книгу — в уповании, что рано или поздно она дойдет до тех, кому единственно и предназначалась. И я спокойно покоряюсь тому, что и ее в полной мере постигнет та же участь, которая в каждом познании, и тем более в самом важном, всегда выпадала на долю истины: ей суждено лишь краткое победное торжество между двумя долгими промежутками времени, когда ее отвергают как парадокс и когда ею пренебрегают как тривиальностью. И первый удел обыкновенно разделяет с ней ее зачинатель. Но жизнь коротка, а истина влияет далеко и живет долго: будем говорить истину.
Дрезден. Август 1818 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Не современникам, не соотечественникам — человечеству передаю я ныне законченный труд свой в уповании, что он не будет для него бесполезен, хотя бы ценность его была признана поздно: таков везде жребий всего достойного. Ибо только для человечества, не для мимолетного поколения, занятого своей недолговечной мечтой, могла моя голова, почти против моей воли, беспрерывно продолжать свою работу
8
в течение долгой жизни. Недостаток сочувствия к моей работе за это время не мог затмить передо мной ее достоинства, ибо я беспрестанно видел, как лживое, дурное и, наконец, нелепое и бессмысленное* пользовалось всеобщим уважением и почетом. И я думал: если бы те, кто способен узнавать подлинное и истинное, не были так редки, что можно в течение целых двадцати лет тщетно искать их своим взором, то и тех, кто в состоянии творить подлинное и истинное, не было бы так мало, чтобы их создания могли впоследствии составить исключение из преходящих земных вещей, — иначе потеряна была бы живительная надежда на потомство, в которой для собственной поддержки нуждается всякий, кто поставил себе возвышенную цель. И тот, кто серьезно замышляет и творит дело, не ведущее к материальной пользе, никогда не должен рассчитывать на сочувствие современников. Зато в большинстве случаев он увидит, что видимость такого дела имеет между тем значение в мире и пользуется текущим днем, и это в порядке вещей. Ибо само подлинное дело должно совершаться ради него самого; иначе оно не может удаться, так как всякая цель повсюду опасна для понимания сути. Вот почему, как об этом постоянно свидетельствует история литературы, все достойное требовало для своего признания много времени, особенно если оно принадлежало к поучительному, а не к занимательному роду; пока же процветало ложное. Ибо соединить действительное дело с его видимостью трудно, если не невозможно. Именно в том и заключается проклятие нашего мира нужды и потребностей, что им все должно служить и порабощаться. Поэтому он и не создан так, чтобы благородные и возвышенные стремления, каким является стремление к свету истины, могли в нем беспрепятственно процветать и существовать ради самих себя. И даже если иной раз такое стремление сумеет заявить о себе и этим будет введено понятие о нем, то тотчас же и им овладеют материальные интересы, личные цели, чтобы сделать из него свое орудие или свою маску. Вот почему, после того как Кант вернул философии уважение, даже и ей вскоре пришлось стать орудием целей — государственных сверху, личных снизу; впрочем, говоря точнее, не ей самой, а ее двойнику, который сходит за нее. И это не должно нас удивлять, ибо невероятно большое число людей по своей природе решительно неспособно к каким-нибудь иным целям, кроме материальных, и даже не может понимать других целей. Поэтому стремление только к истине слишком велико и эксцентрично, чтобы можно было ожидать, будто все, будто многие, будто просто даже некоторые искренне примут в нем участие. Если же мы все-таки иногда замечаем (как, например, ныне в Германии) поразительное оживление, всеобщие хлопоты, писания и речи, посвященные философии, то можно смело предположить, что действительное primum mobile**, скрытая пружина такого движения, несмотря на все торжественные физиономии и уверения, лежит исключительно в реальных, а не идеальных целях; что здесь имеются в виду личные, служебные, церковные, государственные, короче — материальные интересы; что, следовательно, только партийные цели приводят в столь
9
сильное движение многочисленные перья мнимых мудрецов и что путеводной звездой для этих шумливых господ служат помыслы, а не понимание сути, — и уж, наверное, меньше всего при этом думают они об истине. Она не находит себе сторонников; напротив, среди этой философской сутолоки она может так же спокойно и незаметно проходить свой путь, как и в зимнюю ночь самого мрачного и находящегося во власти закосневшей церковной веры столетия, когда она как тайное учение передается лишь немногим адептам или даже доверяется только пергаменту. Я решаюсь даже сказать, что ни одна эпоха не может быть более неблагоприятна к философии, чем та, когда ею позорно злоупотребляют, делая из нее, с одной стороны, орудие государства, а с другой — средство наживы. Или, быть может, думают, что при таких устремлениях и в подобной суете так, между прочим, появится на свет и истина, хотя на нее вовсе и не рассчитывали? Нет, истина — не продажная женщина, кидающаяся на шею тем, кто ее не хочет; напротив, она — столь недоступная красавица, что даже тот, кто жертвует ей всем, еще не может быть уверен в ее благосклонности.
И если правительства делают философию средством для своих государственных целей, то ученые, с другой стороны, видят в философской профессуре ремесло, которое, как и всякое другое, дает кусок хлеба; они и стремятся к ней, ручаясь за свою благонамеренность, т. е. за свою готовность служить указанным целям. И они держат слово: не истина, не ясность, не Платон, не Аристотель, а те цели, на службу которым они наняты, — вот что является их путеводной звездой, а затем и мерилом для распознания истинного, достойного, замечательного и их противоположности. Поэтому то, что не соответствует подобным целям, хотя бы это было самое важное и выдающееся в их специализации, они либо осуждают, либо, если это кажется опасным, единодушно игнорируют. Посмотрите, с каким единодушным усердием восстают они против пантеизма, — неужели какой-то глупец подумает, что это исходит из убеждения? Да и вообще философия, унижаемая до степени хлебного ремесла, разве не обречена она выродиться в софистику? Именно потому, что это неизбежно и правило «чей хлеб ем, того и песенку пою» действовало с давних пор, — именно поэтому зарабатывать философией деньги было у древних признаком софиста. Но к этому присоединяется еще и то, что так как в этом мире всюду можно ожидать только посредственности и кроме нее ничего нельзя требовать и покупать за деньги, то надо и здесь довольствоваться ею. Вот почему мы и видим, что во всех немецких университетах милая посредственность силится создать собственными средствами еще не существующую философию и притом согласно предписанной мерке и цели, — зрелище, глумиться над которым было бы почти жестоко.
И вот в то время как философия уже давно принуждена была всецело служить средством для официальных целей — с одной стороны, и для частных — с другой, я, не смущаясь этим, свыше тридцати лет следовал течению своих мыслей — тоже только потому, что я должен был это делать и не мог иначе по какому-то инстинктивному влечению. Оно, правда, находило себе опору в уверенности, что то истинное, которое кто-то мыслил, и то сокровенное, которое он осветил, все же будет
10
некогда воспринято другим мыслящим духом, будет близко ему, будет радовать и утешать его; к такому человеку обращена наша речь, как и нам подобные обращались к нам, став нашим утешением в этой жизненной пустыне. Пока же мы совершаем свое дело ради него самого и для самих себя. Но в философских размышлениях удивительным образом только то, что каждый продумал и исследовал для себя самого, впоследствии идет впрок и другим, а не то, что уже с самого начала было предназначено для других. В первом случае размышления отличаются прежде всего безусловной честностью: ведь самих себя мы не стараемся обманывать и не дарим себе пустых орехов; вот почему всякая софистика и всякое пустословие отпадают, и каждый написанный раздел тотчас же вознаграждает усилия, потраченные на его прочтение. Вот почему мои сочинения так явно носят на своем челе печать честности и искренности, что уж одним этим они резко отличаются от произведений трех знаменитых софистов послекантовского периода: меня постоянно находят на точке зрения рефлексии, т. е. разумного обсуждения и честного изложения, и никогда не находят на пути инспирации[6], именуемой интеллектуальным созерцанием2, или абсолютным мышлением3 (действительное же имя ее — пустозвонство и шарлатанство). Работая в этом духе и беспрерывно наблюдая, как ложное и дурное пользуется всеобщим признанием, как пустозвонство*[7] и шарлатанство**4 пользуются крайним уважением, я давно уже отказался от одобрения своих современников. Невозможно, чтобы то современное общество, которое в течение двадцати лет провозглашало величайшим из философов какого-то Гегеля, этого умственного калибана3, и провозглашало так громко, что эхо звучало по всей Европе, — невозможно, чтобы оно соблазняло своим одобрением того, кто это наблюдал. Оно больше не имеет почетных венков для раздачи, его хвала продажна, и его порицание ничего не стоит. Что я говорю это искренне, видно из следующего: если бы я хоть несколько стремился к одобрению со стороны своих современников, я должен был бы вычеркнуть двадцать мест, которые, несомненно, от начала до конца противоречат всем их воззрениям и отчасти даже оскорбительны для них. Но я счел бы преступлением со своей стороны пожертвовать ради этого одобрения хотя бы одним слогом. Моей путеводной звездой действительно была истина, следуя за нею, я имел право думать прежде всего только о своем собственном одобрении, я совершенно отвернулся от века, который глубоко пал по отношению ко всем высшим стремлениям духа, и от деморализованной, за редким исключением, национальной литературы, в которой искусство связывать высокие слова с низменными побуждениями достигло своего апогея. Конечно, я никогда не избегну недостатков и слабостей, необходимо вытекающих из моей природы, как это свойственно всем людям, но я не буду их увеличивать недостойным приспособлением к обстоятельствам.
По поводу этого второго издания я радуюсь прежде всего тому, что я не должен ничего брать назад по прошествии двадцати пяти лет, и,
11
таким образом, мои основные убеждения вполне подтвердились, по крайней мере, для меня самого. Изменения первого тома, который один и содержит в себе текст первого издания, нигде поэтому не затрагивают существа дела, а касаются только второстепенных вещей, по большей же части состоят в кратких пояснительных добавлениях, приложенных к отдельным местам. Только критика кантовской философии подверглась значительным исправлениям и обстоятельным вставкам, потому что их нельзя было собрать в дополнительную книгу, как я это сделал во втором томе для каждой из четырех книг, излагающих мое собственное учение. Для последних я избрал такую форму дополнения и исправления потому, что за двадцать пять лет, прошедших со времени их написания, форма и тон моего изложения очень заметно изменились, и было бы неудобно сливать в одно целое содержание второго тома с содержанием первого, ибо от такого соединения пострадали бы оба. Вот почему я издаю обе работы отдельно и в своем прежнем изложении ничего не изменил даже там, где теперь я выразился бы совершенно иначе: я боялся придирчивой критикой старости испортить работу моих юных лет. То, что в этом отношении требует поправки, само собою восстановится в уме читателя с помощью второго тома. Оба тома в полном смысле слова служат дополнением друг другу — именно по той же причине, по какой один возраст человека является в интеллектуальном отношении дополнением другого; вот почему не только каждый том содержит то, чего нет в другом, но и преимущества одного представляют собой именно то, чего недостает другому. Поэтому если первая половина моего произведения имеет сравнительно с другой те достоинства, которые присущи только огню молодости и энергии первого замысла, то, с другой стороны, вторая половина превосходит первую той зрелостью и совершенной проработкой мыслей, которая достается в удел исключительно плодам долгой жизни и ее труда. Ибо когда я был в силах первоначально охватить основную мысль своей системы, непосредственно проследить ее в четырех ее разветвлениях, вернуться от них к единству их корня и затем ясно представить целое, тогда я не смог еще проработать все части системы с той законченностью, глубиной и основательностью, которые достигаются лишь многолетним размышлением над нею, необходимым для того, чтобы испытать и прояснить ее на бесконечных фактах, обосновать ее разнообразными доказательствами, ярко осветить ее со всех сторон, смело противопоставить ей контраст иных точек зрения, тщательно выделить в ней разные элементы и изложить их в стройном порядке. И хотя читателю, разумеется, было бы приятнее иметь мое произведение в цельном виде, а не в двух половинах, которые надо соединять при чтении, — но пусть же примет он во внимание, что для этого я в течение одной жизненной поры должен был бы совершить то, что возможно только для двух, так как мне надо было бы обладать в одном и том же возрасте жизни качествами, которые природа распределила между двумя совершенно различными возрастами. Таким образом, изложить мое произведение в двух дополняющих одна другую половинах было так же необходимо, как, ввиду невозможности изготовить ахроматический объектив из одного куска, его необходимо составлять из выпуклого стекла, флинтглаза, и вогнутого стекла,
12
кронглаза, — и только их соединенное действие достигает цели. С другой стороны, неудобство одновременного пользования двумя томами будет несколько возмещено для читателя разнообразием и отдыхом, которые влечет за собой обсуждение одного и того же предмета одним и тем же умом, в одном и том же духе, но в очень различные годы. Однако для того, кто еще не знаком с моей философией, было бы очень полезно прочитать сначала первый том, не заглядывая в дополнения, и воспользоваться ими только при втором чтении; иначе трудно будет охватить систему в ее связи, т. е. как она изложена лишь в первом томе, между тем как во втором дается более подробное обоснование и полное развитие главных учений в отдельности. Даже тот, кто не решится вторично прочесть первый том, сделает лучше, если прочтет второй лишь после первого и как самостоятельный, в прямом порядке его глав; последние, конечно, как-то связаны между собою, хотя и весьма свободно, а там, где эта связь отсутствует, ее всецело восполнит воспоминание о первом томе, если его хорошо усвоить. Кроме того, такой читатель всюду найдет ссылки на соответствующие места первого тома, в котором я с этой целью пронумеровал во втором издании в качестве параграфов отделы, отмеченные в первом издании только разделительными линиями. Уже в предисловии к первому изданию я указал, что моя философия исходит из кантовской и поэтому предполагает основательное знакомство с нею. Я повторяю это здесь, ибо учение Канта производит в каждом уме, его постигнувшем, такой великий и коренной переворот, что его можно считать духовным возрождением. Только это учение в силах действительно устранить врожденный интеллекту и вытекающий из его первоначального строя реализм, для чего недостаточно было ни Беркли, ни Мальбранша6, ибо они рассматривали вопрос в очень общем виде, между тем как Кант входит в частности и делает это так, что не имеет себе ни образца, ни подражания и оказывает на ум совершенно особое, можно сказать, непосредственное воздействие: в результате последнего ум испытывает глубокое разочарование и начинает видеть все вещи в другом свете. Но лишь через это становится он восприимчив для более положительных разъяснений, которые я могу предложить. Кто же не овладел кантовской философией, тот, чем бы вообще он ни занимался, находится как бы в состоянии невинности, т. е. остается в плену у того естественного и младенческого реализма, в котором мы все родились и который делает способным ко всевозможным вещам, но только не к философии. Поэтому такой человек относится к усвоившему кантовскую философию, как несовершеннолетний к взрослому. То, что эта истина в наши дни звучит парадоксом (чего совершенно не могло бы случиться в первые тридцать лет после появления «Критики чистого разума»), объясняется следующим: с тех пор выросло поколение, собственно, не знающее Канта, ибо для этого мало беглого, нетерпеливого чтения или передачи из вторых рук. А это, в свою очередь, происходит от того, что благодаря дурному руководству это поколение загубило свое время на философемы ординарных, т. е. непризванных, умов или даже пустозвонных софистов, которых ему безответственно восхваляли. Отсюда путаница в основных понятиях и вообще вся та неописуемая топорность и примитивность, что проступают за напыщенным и претен-
13
циозным обличием в собственных
философских опытах наших современников, получивших такое воспитание. Но в
неисправимом заблуждении находится тот, кто воображает, будто можно изучить
философию Канта по чужому изложению. Наоборот, я должен серьезно предостеречь
от таких изложений, в особенности новых: именно в самые последние годы в сочинениях
гегельянцев мне попадались такие пересказы кантовской философии, которые
действительно переходят в область фантастики. Да разве и могут умы, уже в ранней
молодости извращенные и испорченные бессмыслицей гегельянщины, понимать глубокомысленные
исследования Канта? Их рано приучили считать пустословие за философские мысли,
жалкие софизмы — за остроумие, и пошлое мудрствование — за диалектику; их
головы расстроены усвоением неистовых словосочетаний, в которые ум тщетно и
мучительно старается вложить какой-нибудь смысл. Им не нужна критика разума, им
не нужна философия: им нужна mediana mentis*,
и прежде всего в качестве очистительного, хотя бы un petit cours de sensc
Таким образом, напрасно мы стали бы искать кантовское учение где-нибудь в другом месте, кроме собственных произведений Канта; они же сплошь поучительны, даже там, где он заблуждается, даже там, где он не прав. Вследствие его оригинальности к нему в высшей степени приложимо то, что, собственно, относится ко всем истинным философам; их можно узнать только из их подлинных произведений, а не в чужой передаче. Ибо мысли выдающихся умов не переносят фильтрации через ординарную голову. Рожденные за широкими, высокими, прекрасно очерченными лбами, под которыми сияют лучистые глаза, они теряют всякую силу и жизнь и не узнают самих себя, когда их переносят в тесное жилище, под низкую кровлю узких, сдавленных, толстостенных черепов, из-под которых высматривают тупые взгляды, обращенные на личные цели. Можно даже сказать, что такие головы похожи на кривые зеркала, в которых все искажается, коверкается, теряет соразмерность красоты и предстает гримасой. Философские мысли можно брать только непосредственно у их творцов; поэтому тот, кто чувствует призвание к философии, должен посещать ее бессмертных учителей в безмолвной святыне их подлинных творений. Основные главы каждого из этих истинных философов в сто раз лучше познакомят с их учением, чем вялые и искаженные пересказы, составленные будничными голосами, которые к тому же по большей части глубоко погружены в модную в данный момент философию или в собственные излюбленные теории. Удивительно, однако, как публика решительно предпочитает такие изложения из вторых рук! Здесь, по-видимому, на самом деле проявляется то духовное сродство, в силу которого пошлая натура влечется к себе подобной и поэтому даже сказанное великим умом предпочитает выслушивать из себе подобных уст. Быть может, это покоится на том же принципе, что и система взаимного обучения, по которой дети лучше всего научаются у своих ровесников.
14
Теперь еще одно слово к профессорам философии. Уже давно меня поражают прозорливость, тонкий и верный такт, с которыми они тотчас же при появлении моей философии узнали в ней нечто совершенно отличное от собственных стремлений и даже опасное, попросту говоря — нечто такое, что им совсем не ко двору; поражают уверенная и остроумная политика, которая позволила им немедленно найти единственно правильный образ действий по отношению к ней, и абсолютное единодушие, с которым они его соблюдали, наконец, постоянство, с которым они остаются ему верны. Этот образ действий, который между прочим импонирует и своей чрезвычайно легкой выполнимостью, состоит, как известно, в полном невнимании и «засекречивании», употребляя злое выражение Гёте: оно означает, собственно, утаивание важного и серьезного. Эффект этого незаметного средства усиливается той шумной вакханалией, которой взаимно празднуется рождение духовных детищ у единомышленников и которая заставляет публику оглядываться и наблюдать, с какой торжественной физиономией они по этому поводу поздравляют друг друга. Кто станет отрицать целесообразность подобной тактики? Нельзя же в самом деле возражать против принципа: primum vivere, deinde philosophant*. Эти господа хотят жить, и притом жить за счет философии: к ней они пристроены вместе со своими женами и детьми, решившись на это вопреки povera е nuda, vai filosofia** Петрарки7. Ну, а моя философия совсем не годится для того, чтобы давать заработок. Для этого ей недостает уже первых реквизитов, необходимых для хорошо оплачиваемой университетской философии: прежде всего, она совершенно не имеет спекулятивной теологии, которая между тем — назло несносному Канту с его критикой разума — должна быть главной темой всякой философии, хотя последней из-за этого вменяется в обязанность беспрестанно говорить о том, о чем она не может иметь решительно никакого понятия8[9]. Мое учение не допускает даже столь умно продуманной профессорами философии и сделавшейся для них необходимой сказки о непосредственно и абсолютно познающем, созерцающем или внемлющем разуме, который надо лишь с самого начала навязать своим читателям, дня того чтобы потом уже самым удобным образом, как бы на четверке коней, въехать в область, лежащую по ту сторону всякого возможного опыта, — в область, куда Кант вполне и навсегда закрыл доступ для нашего познания и где можно найти непосредственно открытыми и прекрасно изготовленными основные догматы современного иудаизированного оптимистического христианства9. Скажите на милость, какое дело до моей бесхитростной, лишенной этих существенных реквизитов, нехлебной и пытливой философии, которая своей путеводной звездой избрала одну только истину, обнаженную, невознаграждаемую, нелицеприятную, подчас преследуемую истину и, не оглядываясь ни вправо, ни влево, держит свой путь прямо на нее, — какое дело до нее той aima mater***, милейшей хлебной университетской философии, которая, обремененная сотнями взглядов
15
и тысячами соображений, опасливо лавирует на своем пути, всегда имея перед глазами страх Господен, волю министерства, уставы государственной церкви, желания издателя, одобрение студентов, дружеские отношения коллег, политическую злобу дня, летучее настроение публики и невесть что еще? Или что общего имеет мое тихое, серьезное искание истины с крикливостью тех схоластических пререканий между кафедрами и скамьями, сокровенной пружиной которых всегда являются личные цели? Скорее, эти два вида философии в основе своей разнородны. Поэтому со мной нельзя заключать ни компромисса, ни товарищества, и никто не может рассчитывать на меня, кроме ищущего одной лишь истины. Следовательно, не найдет во мне удовлетворения ни одна из современных философских партий, ибо все они преследуют свои цели, я же могу предложить только мысли, которые не подходят ни одной из них, потому что они не сделаны по образцу какой-либо из них. Для того же, чтобы моя собственная философия стала пригодной для кафедры, должны были бы наступить совершенно другие времена. Вот уж действительно было бы прекрасное зрелище, если бы философия, которой нельзя зарабатывать на жизнь, получила простор и даже снискала всеобщее уважение! Нет, это надо было предотвратить, и все, как один человек, должны были воспрепятствовать этому. Но спорить и опровергать — дело нелегкое, да и опасное, хотя бы уже потому, что оно могло бы привлечь внимание публики, и чтение моих книг испортило бы, пожалуй, ее вкус к ученым ночным занятиям профессоров философии. Ибо кто попробовал серьезного, тому шутка, в особенности скучная, уже не понравится. Вот почему столь единодушно выбранная система замалчивания единственно правильна, и я могу только посоветовать оставаться при ней и продолжать ее, пока это возможно, пока игнорирующие не останутся игнорантами[10], — тогда будет еще время совершить переворот. А до тех пор каждому предоставляется вырывать здесь и там перышко для собственного пользования, так как у себя дома избыток мыслей обыкновенно не очень-то подавляет. Таким образом, система пренебрежения и замалчивания может еще продержаться довольно долго, по крайней мере в течение того времени, которое мне суждено еще прожить, а это уже большой выигрыш. Если же и до тех пор иной раз прозвучит чей-то нескромный голос, то его скоро заглушат громкие лекции профессоров, которые сумеют с важным видом занять публику совершенно другими вещами. Я советую все-таки несколько строже следить за единодушием тактики и в особенности наблюдать за молодыми людьми, которые обычно бывают ужасно нескромны. Ибо я все-таки не могу ручаться, что излюбленный образ действий всегда будет целесообразен, и я не могу отвечать за конечный результат. Руководить публикой, в общем доброй и послушной, — дело очень своеобразное. Хотя мы почти во все времена видим главенство Георгиев и Гиппиев, хотя абсурд, как правило, достигает кульминации, и невозможно, кажется, чтобы сквозь хор одурачивающих и одураченных проник голос одинокого, — все-таки в каждую эпоху истинным творениям присуще совершенно своеобразное, тихое, медленное, мощное воздействие, и словно чудом подымаются они, наконец, над
16
суетой, подобно аэростату, который из густого тумана нашей земной атмосферы воспаряет в более чистые регионы; поднявшись туда, он останавливается, и никто уже не может совлечь его вниз.
Франкфурт-на-Майне. Февраль 1844 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
Истинное и подлинное легко распространялось бы в мире, если бы те, кто не способен его создавать, не составляли в то же время заговор, чтобы помешать ему расти. Это обстоятельство уже затруднило и задержало, если не задушило совсем, многое, что должно было послужить на пользу мира. Его результатом для меня было то, что, хотя мне было всего тридцать лет, когда появилось первое издание настоящего сочинения, — я дожил до этого третьего только на семьдесят втором году. Впрочем, я нахожу себе утешение в словах Петрарки: «Si quis, tota die currens, pervenit ad vesperam, satis est» (De vera sapientia, p. 140)*. И я, наконец, все-таки пришел и имею удовлетворение в конце своего жизненного поприща видеть начало моего влияния, и я уповаю, что оно, согласно старому правилу, будет длиться тем дольше, чем позже оно наступило.
В этом третьем издании читатель найдет все то, что было и во втором, но, кроме того, он встретит еще многое другое, так как благодаря сделанным приложениям при одинаковом шрифте третье издание имеет на сто тридцать шесть страниц больше, чем второе.
Семь лет спустя после появления второго издания я выпустил два тома «Парерг и паралипомен». То, что обозначено последним именем, состоит из дополнений к систематическому изложению моей философии и нашло бы свое надлежащее место в этих двух томах; но в то время мне пришлось поместить их, где только можно, потому что было очень сомнительно, доживу ли я до этого третьего издания. Эти дополнения находятся во втором томе упомянутых «Парерг», и их легко узнать по названиям глав.
Франкфурт-на-Майне.
Сентябрь 1859 г.
О
мире как представлении
Первое
размышление:
представление,
подчиненное закону основания:
объект
опыта и науки
Sors de l’enfance, ami, réveille-toi!
Jean-Jacques Rousseau*
§ 1
«Мир есть мое представление» — вот истина, которая имеет силу для каждого живого и познающего существа, хотя только человек может возводить ее до рефлективно-абстрактного сознания; и если он действительно это делает, то у него зарождается философский взгляд на вещи. Для него становится тогда ясным и несомненным, что он не знает ни солнца, ни земли, а знает только глаз, который видит солнце, руку, которая осязает землю; что окружающий его мир существует лишь как представление, т. е. исключительно по отношению к другому, к представляющему, каковым является сам человек. Если какая-нибудь истина может быть высказана a priori, то именно эта, ибо она — выражение той формы всякого возможного и мыслимого опыта, которая имеет более всеобщий характер, чем все другие, чем время, пространство и причинность: ведь все они уже предполагают ее, и если каждая из этих форм, в которых мы признали отдельные виды закона основания, имеет значение лишь для отдельного класса представлений, то, наоборот, распадение на объект и субъект служит общей формой для всех этих классов, той формой, в которой одной вообще только возможно и мыслимо всякое представление, какого бы рода оно ни было, — абстрактное или интуитивное, чистое или эмпирическое[11]. Итак, нет истины более несомненной, более независимой от всех других, менее нуждающихся в доказательстве, чем та, что все существующее для познания, т. е. весь этот мир, является только объектом по отношению к субъекту, созерцанием для созерцающего, короче говоря, представлением. Естественно, это относится и к настоящему, и ко всякому прошлому, и ко всякому будущему, относится и к самому отдаленному, и к близкому: ибо это распространяется на самое время и пространство, в которых только и находятся все эти различия. Все, что принадлежит и может принадлежать миру, неизбежно отмечено печатью этой обус-
18
ловленности субъектом и существует только для субъекта. Мир есть представление.
Новизной эта истина не отличается. Она содержалась уже в скептических размышлениях, из которых исходил Декарт. Но первым решительно высказал ее Беркли: он приобрел этим бессмертную заслугу перед философией, хотя остальное в его учениях и несостоятельно[12].
Первой ошибкой Канта было опущение этого тезиса, как я показал в приложении. Наоборот, как рано эта основная истина была познана мудрецами Индии, сделавшись фундаментальным положением философии Вед, приписываемой Вьясе, — об этом свидетельствует В. Джонс в последнем своем трактате «On the philosophy of the Asiatics» (Asiatics researches, vol. 4, p. 164): 'The fundamental tenet of the Vedanta school consisted not in denying the existence of matter, that is of solidity, impenetrability, and extended figure (to deny which would be lunacy), but in correcting the popular notion of it, and in contending that it has no essence independent of mental perception; that existence and perceptibility are convertible terms»*. Эти слова достаточно выражают совмещение эмпирической реальности с трансцендентальной идеальностью3.
Таким образом, в этой первой книге мы рассматриваем мир лишь с указанной стороны, лишь поскольку он есть представление. Но что такой взгляд, без ущерба для его правильности, все-таки односторонен и, следовательно, вызван какой-нибудь произвольной абстракцией, — это подсказывает каждому то внутреннее противодействие, с которым он принимает мир только за свое представление; с другой стороны, однако, он никогда не может избавиться от такого допущения. Но односторонность этого взгляда восполняет следующая книга с помощью истины, которая не столь непосредственно достоверна, как служащая здесь нашим исходным пунктом, и к которой могут привести только глубокое исследование, более тщательная абстракция, различение неодинакового и соединение тождественного, — с помощью истины, которая очень серьезна и у всякого должна вызывать если не страх, то раздумье, — истины, что и он также может и должен сказать: «Мир есть моя воля».
Но до тех пор, следовательно, в этой первой книге необходимо пристально рассмотреть ту сторону мира, из которой мы исходим, сторону познаваемости; соответственно этому мы должны без противодействия рассмотреть все существующие объекты, даже собственное тело (я это скоро поясню), только как представление, называя их всего лишь представлением. То, от чего мы здесь абстрагируемся, — позднее это, вероятно, станет несомненным для всех, — есть всегда только воля, которая одна составляет другую грань мира, ибо последний, с одной
19
стороны, всецело есть представление, а с другой стороны, всецело есть воля. Реальность же, которая была бы ни тем и ни другим, а объектом в себе (во что, к сожалению, благодаря Канту выродилась и его вещь в себе)4, это — вымышленная несуразность, и допущение ее представляет собою блуждающий огонек философии.
§ 2
То, что все познает и никем не познается, это — субъект. Он, следовательно, носитель мира, общее и всегда предполагаемое условие всех явлений, всякого объекта: ибо только для субъекта существует все, что существует. Таким субъектом каждый находит самого себя, но лишь поскольку он познает, а не является объектом познания. Объектом, однако, является уже его тело, и оттого само оно, с этой точки зрения, называется нами представлением. Ибо тело — объект среди объектов и подчинено их законам, хотя оно — непосредственный объект*[13]. Как и все объекты созерцания, оно пребывает в формах всякого познания, во времени и пространстве, благодаря которым существует множественность. Субъект же, познающее, никогда не познанное, не находится в этих формах: напротив, он сам всегда уже предполагается ими, и таким образом ему не надлежит ни множественность, ни ее противоположность — единство. Мы никогда не познаем его, между тем как именно он познает, где только ни происходит познание.
Итак, мир как представление — только в этом отношении мы его здесь и рассматриваем — имеет две существенные и неделимые половины. Первая из них — объект: его формой служат пространство и время, а через них множественность[14]. Другая же половина, субъект, лежит вне пространства и времени: ибо она вполне и нераздельно находятся в каждом представляющем существе. Поэтому одно-единственное из них восполняет объектом мир как представление с той же целостностью, что и миллионы имеющихся таких существ; но если бы исчезло и его единственное существо, то не стало бы и мира как представления. Эти половины, таким образом, неразделимы даже для мысли, ибо каждая из них имеет значение и бытие только через другую и для другой, существует и исчезает вместе с нею. Они непосредственно ограничивают одна другую: где начинается объект, кончается субъект[15]. Общность этой границы обнаруживается именно в том, что существенные и поэтому всеобщие формы всякого объекта, каковы время, пространство и причинность[16], мы можем находить и вполне познавать, и не познавая самого объекта, а исходя из одного субъекта, т. е., говоря языком Канта, они a priori лежат в нашем сознании. Открытие этого составляет главную заслугу Канта, и притом очень большую. Я же сверх того утверждаю, что закон основания — общее выражение для всех этих a priori5 известных нам форм объекта, и потому все, познаваемое нами чисто a priopi, и есть не что иное, как именно содержание этого закона и вытекающие из него следствия; таким образом, в нем выражено все наше a priori
20
достоверного познания. В своем трактате о законе основания я показал, как всякий объект подчиняется этому закону, т. е. находится в неизбежном отношении к другим объектам как определяемый, с одной стороны, как определяющий — с другой; это идет так далеко, что все существование всех объектов, поскольку они — объекты, представления и ничего больше, вполне сводится к названному необходимому отношению их друг к другу, только в нем и состоит и потому совсем релятивно; об этом скоро будет сказано подробнее. Я показал там далее, что соответственно классам, на которые по своей возможности распадаются объекты, это необходимое отношение, выражаемое законом основания в общем виде, проявляется в других формах6, чем опять подтверждается правильность разделения этих классов. Я постоянно предполагаю здесь, что все сказанное там известно читателю и усвоено им; иначе, если все это не было там сказано, оно непременно нашло бы свое место здесь.
§ 3
Главное различие между всеми нашими представлениями сводится к различию между интуитивным и абстрактным[17]. Последнее образует только один класс представлений — понятия, а они на земле составляют достояние одного лишь человека, и его способность к ним, отличающая его от всех животных, искони называется разумом*.
Эти абстрактные представления мы рассмотрим потом особо; сначала же будем говорить только об интуитивном представлении. Оно объемлет весь мир, или совокупность опыта вместе с условиями его возможности. Как было сказано, очень важным открытием Канта является то, что именно эти условия, эти формы опыта, т. е. самое общее в восприятии его, всем его проявлениям одинаково свойственное — время и пространство, — сами по себе, независимо от своего содержания, могут быть предметом не только абстрактного мышления, но и непосредственного созерцания. И такое созерцание не есть полученный из опыта путем повторения образ фантазии, но оно настолько независимо от опыта, что, напротив, последний надо считать зависимым от него, ибо свойства пространства и времени, как их a priori познает созерцание, имеют для всякого возможного опыта силу законов, сообразно которым он всюду должен происходить. Вот почему в своем трактате о законе основания я рассматривал время и пространство, поскольку они созерцаются чистыми и вне содержания, как особый и самостоятельный класс представлений. И как ни важно то открытое Кантом свойство названных всеобщих форм созерцания, что они очевидны сами по себе и независимо от опыта и что они познаваемы во всей своей закономерности, — на чем и основывается математика со своей непогрешимостью, — все же не менее замечательно и то их свойство, что принцип достаточного основания, определяющий опыт в качестве закона причинности и мотивации, и мышление в качестве закона обоснования суждений выступают здесь
21
в совершенно особой форме, которую я назвал основанием бытия и которая во времени является последовательностью его моментов, а в пространстве — положением его частей, до бесконечности взаимоопределяющих одна другую[18].
Кому из моего вступительного трактата сделалась ясной совершенная тождественность содержания закона основания, при всем разнообразии его видов, тот убедится, как важно для понимания внутренней сущности этого закона познание именно самой простой из его форм как таковой, и этой формой мы признали время. Подобно тому как в нем каждое мгновение существует, лишь уничтожив предыдущее, своего отца, чтобы столь же быстро погибнуть самому; подобно тому как прошедшее и будущее (помимо результатов своего содержания) столь же ничтожны, как любое сновидение, а настоящее служит только непротяженной и неустойчивой границей между тем и другим, — так мы увидим эту самую ничтожность и во всех других формах закона основания и поймем, что как время, так и пространство, и как оно, так и все, что есть в нем и во времени, т. е. все, что вытекает из причин и мотивов, все имеет только относительное бытие, существует только через другое и для другого, однородного с ним, т. е. существующего тоже лишь таким образом. Сущность этого взгляда стара: в нем выражал Гераклит свое сетование на вечный поток вещей7; Платон низводил его предмет как нечто, всегда становящееся, но никогда не сущее; Спиноза называл это лишь акциденциями единственно сущей и пребывающей всеединой субстанции; Кант познанное таким образом противопоставлял в качестве простого явления вещи в себе; наконец, древняя мудрость индийцев гласит: «Это Майя8, покрывало обмана, застилает глаза смертным и заставляет их видеть мир, о котором нельзя сказать — ни что он существует, ни что он не существует; ибо он подобен сновидению, подобен отблеску солнца на песке, который путник издали принимает за воду, или — брошенной веревке, которая кажется ему змеей». (Эти сравнения повторяются в бесчисленных местах Вед и Пуран9.) То, что все эти мыслители имели в виду и о чем они говорили, и есть не что иное, как рассматриваемый теперь нами мир как представление, подчиненное закону основания.
§ 4
Кто познал тот вид закона основания, который проявляется в чистом времени как таковом и на котором зиждется всякий счет и вычисление, тот вместе с этим познал и всю сущность времени. Оно не более, как именно этот вид закона основания, и других свойств не имеет. Последовательность — форма закона основания во времени; последовательность — вся сущность времени. Кто познал, далее, закон основания, как он господствует в чисто созерцаемом пространстве, тот вместе с этим исчерпал и всю сущность пространства, ибо последнее всецело есть не что иное, как возможность взаимных определений его частей одна другою, называемая положением. Подробное рассмотрение последнего и претворение вытекающих отсюда результатов в абстрактные понятия (для более удобного пользования) составляют содержание всей геомет-
22
рии. Точно так же, кто познал тот вид закона основания, который господствует над содержанием названных форм (времени и пространства), над их воспринимаемостью, т. е. материей, другими словами: кто познал закон причинности, — тот вместе с этим познал и все существо материи как таковой, ибо последняя всецело есть не что иное, как причинность, в чем непосредственно убедится всякий, лишь только он вдумается в предмет. Бытие материи — это ее действие; иного бытия ее нельзя даже и помыслить. Только действуя, наполняет она пространство, наполняет она время; ее воздействие на непосредственный объект (который сам есть материя) обусловливает собою созерцание, в котором она только и существует; результат воздействия каждого иного материального объекта на другой познается лишь потому, что последний теперь иначе, чем раньше, действует на непосредственный объект, и только в этом названный результат и состоит. Таким образом, причина и действие — в этом вся сущность материи: ее бытие есть ее действие (подробнее об этом см. в трактате о законе основания, § 21). Поэтому в высшей степени удачно совокупность всего материального названа действительностью (Wirklichkeit)*; это слово гораздо выразительнее, чем реальность (Realität). То, на что материя действует, опять-таки есть материя: все ее бытие и существо состоят, таким образом, только в закономерном изменении, которое одна ее часть производит в другой, так что это бытие и существо вполне относительно согласно отношению, имеющему силу только внутри ее же границ, — значит, вполне подобно времени, подобно пространству.
Но время и пространство, каждое само по себе, наглядно представимы и без материи, материя же без них не представима. Уже форма, которая от нее не отделима, предполагает пространство, а действие материи, в котором состоит все ее бытие, всегда касается какого-нибудь изменения, т. е. определения во времени. Пространство и время предполагаются материей не просто каждое само по себе, но сущность ее составляет соединение обоих, ибо, как показано, существо ее состоит в действии, в причинности. Все мыслимые, бесчисленные явления и состояния могли бы пребывать друг подле друга в бесконечном пространстве, не стесняя друг друга, или могли бы также, не мешая друг другу, следовать одно за другим в бесконечном времени. Тогда вовсе не были бы нужны и даже не применимы необходимое отношение их друг к другу и закон этого отношения, и, следовательно, тогда при всей совместности в пространстве и при всех изменениях во времени, пока каждая из этих обеих форм существовала бы и протекала бы сама по себе и без связи с другою, не было бы еще никакой причинности, а так как последняя составляет подлинную сущность материи, то не было бы и материи. Закон же причинности приобретает свое значение и необходимость только оттого, что существо изменения состоит не в простой смене состояния вообще, а в том, что в одном и том же месте пространства теперь есть одно состояние, а потом другое, и в один и тот же оп-
23
ределенный момент времени здесь есть одно состояние, а там другое: только это взаимное ограничение времени и пространства друг другом сообщает закону, по которому должно происходить изменение, силу и вместе с тем необходимость. Таким образом, законом причинности определяется не последовательность состояний в одном только времени, а эта последовательность по отношению к определенному пространству, и не наличие состояний в определенном месте, а их наличие в этом месте и в определенное время. Изменение, т. е. смена, наступающая по закону причинности, всегда касается, таким образом, определенной части пространства и определенной части времени — сразу и в связи. Поэтому причинность объединяет пространство со временем. Но мы нашли, что в действии, т. е. в причинности, заключается все существо материи, следовательно, и в ней пространство и время должны быть объединены, т. е. она должна сразу носить в себе свойства и времени, и пространства (как бы ни противоборствовали они друг другу), и она должна объединять в себе то, что в каждом из них в отдельности само по себе невозможно, а именно, подвижную текучесть времени и косную, неизменную устойчивость пространства; бесконечную делимость она имеет от обоих. Вот почему прежде всего она повлекла за собой сосуществование, которого не могло бы быть ни в одном только времени, не знающем подле, ни в одном только пространстве, не знающем прежде, после или теперь. А сосуществование многих состояний и составляет, собственно, сущность действительности, ибо через него лить и становится возможным пребывание, которое познается именно только из смены того, что существует наряду с пребывающим; но, с другой стороны, только благодаря пребывающему в смене последняя получает характер изменения, т. е. перемены качества и формы, при сохранении субстанции, т. е. материи*. В одном только пространстве мир был бы косным и неподвижным, без после, без изменений, без действия, а без признака действия нет ведь и представления материи. В одном только времени все было бы текуче: не было бы постоянства, подле, не было бы вместе, а следовательно, и пребывания: опять-таки не было бы и материи. Только из соединения времени и пространства вырастает материя, т. е. возможность сосуществования и потому пребывания, а из нее — возможность постоянства субстанции при смене состояний**. Будучи в сущности соединением времени и пространства, материя всецело носит на себе отпечаток обоих. Она свидетельствует о своем происхождении из пространства отчасти формой, которая от нее неотделима, а в особенности (ибо смена принадлежит только времени, существует только в нем, а сама по себе не есть что-либо устойчивое) своим постоянством (субстанцией), априорная достоверность которого может поэтому всецело выводиться из достоверности пространства***. Свое же происхождение из времени она обнаруживает своей качественностью (акциденцией), без которой она никогда не проявляется и которая всегда есть только причинность, действие
24
на другую материю, т. е. изменение (временно́е понятие). Закономерность же этого действия всегда относится сразу к пространству и времени и только потому и имеет значение. Какое состояние должно последовать в это время на этом месте — вот определение, на которое только и распространяется законодательная сила причинности. На этом выводе основных определений материи из a priori известных нам форм нашего познания основывается то, что некоторые свойства ее мы познаем a priori, а именно, наполнение пространства, т. е. непроницаемость, т. е. действенность, затем протяженность, бесконечную делимость, сохраняемость, т. е. неразрушимость, и, наконец, подвижность; напротив, тяжесть, хотя она и не составляет исключения, надо все-таки причислить к познанию a posteriori, хотя Кант в «Метафизических началах естествознания» (с. 71; изд. Розенкранца, с. 372) считает ее познаваемой a priori.
Но как объект вообще существует только для субъекта в качестве его представления, так и каждый особый класс представлений существует только для такого же особого определения в субъекте, которое называют той или другой познавательной способностью. Субъективный коррелат времени и пространства самих по себе как ненаполненных форм Кант назвал чистой чувственностью; это выражение, поскольку Кант первый проложил здесь путь, может быть сохранено, хотя оно и не совсем удачно, ибо чувственность уже предполагает материю. Субъективным коррелатом материи, или причинности (это одно и то же), является рассудок, и более он ничего собой не представляет. Познавать причинность — вот его единственная функция, его исключительная, великая, многообъемлющая способность, имеющая разнообразное применение, но при этом неоспоримо тождественная во всех своих проявлениях. Наоборот, всякая причинность, следовательно, всякая материя, а с нею и вся действительность, существует только для рассудка, через рассудок, в рассудке. Первое, самое простое и постоянное проявление рассудка — это созерцание действительного мира; оно всецело есть познание причины из действия, поэтому всякое созерцание интеллектуально. Его все-таки никогда нельзя было бы достигнуть, если бы известное действие не познавалось бы непосредственно и не служило бы таким образом исходной точкой. Это — действие на животные тела, которые выступают в силу этого как непосредственные объекты субъекта: созерцание всех других объектов совершается через их посредство. Изменения, которые испытывает всякое животное тело, познаются непосредственно, т. е. ощущаются, и так как это действие сейчас же относят к его причине, то и возникает созерцание последней как объекта. Этот переход к причине не есть умозаключение в абстрактных понятиях, совершается он не посредством рефлексии, не по произволу, а непосредственно, необходимо и правильно. Это способ познания чистого рассудка, без которого никогда не было бы созерцания, а оставалось бы только смутное, как у растений, сознание изменений непосредственного объекта, которые без всякого смысла следовали бы друг за другом, если бы только не имели для воли значения в качестве боли или удовольствия. Но как с восходом солнца выступает внешний мир, так рассудок одним ударом, своей единственной, простой функцией претворяет смутное, ничего не говорящее ощущение — в созерцание. То, что ощущает глаз,
25
ухо, рука, — это не созерцание, это — простые чувственные данные. Лишь когда рассудок переходит от действия к причине, перед ним как созерцание в пространстве расстилается мир, изменчивый по своему облику, вовеки пребывающий по своей материи, ибо рассудок соединяет пространство и время в представлении материи, т. е. действительности. Этот мир как представление, существуя только через рассудок, существует и только для рассудка. В первой главе своего трактата «О зрении и цвете» я уже показал, как из данных, доставляемых чувствами, рассудок творит созерцание, как из сравнения впечатлений, получаемых от одного и того же объекта различными чувствами, ребенок научается созерцанию, как именно только в этом находится ключ к объяснению многих чувственных феноменов — простого видения двумя глазами, двойного видения при косоглазии или при неодинаковой удаленности предметов, стоящих друг за другом и одновременно воспринимаемых глазом, и всяких иллюзий, которые возникают от внезапной перемены в органах чувств. Но гораздо подробнее и глубже изложил я этот важный вопрос во втором издании своего трактата о законе основания (§ 21). Все сказанное там было бы вполне уместно здесь и, собственно, должно бы быть здесь повторено, но так как мне почти так же противно списывать у самого себя, как и у других, кроме того, я не в состоянии изложить это лучше, чем это сделано там, то, вместо того чтобы повторяться здесь, я отсылаю к названному сочинению, предполагая при этом его известным.
То, как учатся видеть дети и подвергшиеся операции слепорожденные; простое ви́дение воспринятого вдвойне, двумя глазами; двойное ви́дение и осязание при перемещении органов чувств из их обычного положения; появление объектов прямыми, между тем как их образ в глазу опрокинут; перенесение на внешние предметы цвета, составляющего только внутреннюю функцию, полярное разделение деятельности глаза; наконец, стереоскоп — все это твердые и неопровержимые доказательства того, что всякое созерцание не просто сенсуально, а интеллектуально, т. е. является чистым рассудочным познанием причины из действия, и, следовательно, предполагает закон причинности, от познания которого зависит всякое созерцание и потому опыт во всей своей изначальной возможности, а вовсе не наоборот, т. е. познание причинного закона не зависит от опыта, как утверждал скептицизм Юма, опровергаемый только этими соображениями. Ибо независимость познания причинности от всякого опыта, т. е. его априорность, может быть выведена только из зависимости от него всякого опыта, а это, в свою очередь, можно сделать, лишь доказав приведенным здесь способом (изложенным в только что упомянутых местах), что познание причинности уже вообще содержится в созерцании, в области которого заключен всякий опыт, т. е. что оно всецело априорно в своем отношении к опыту, предполагается им как условие, а не предполагает его, — но этого нельзя доказать тем способом, которым попытался сделать это Кант и который я подверг критике в § 23 своего трактата о законе основания.
26
§ 5
Но надо остерегаться великого недоразумения, будто бы ввиду того, что созерцание совершается при посредстве познания причинности, между объектом и субъектом есть отношение причины и действия; наоборот, такое отношение существует всегда только между непосредственным и опосредованным объектом, т. е. всегда только между объектами. Именно на этом неверном предположении основывается нелепый спор о реальности внешнего мира, спор, в котором выступают друг против друга догматизм и скептицизм, причем первый выступает то как реализм, то как идеализм. Реализм полагает предмет как причину и переносит ее действие на субъект. Фихтевский идеализм считает объект действием субъекта. Но так как — и это надо повторять неустанно — между субъектом и объектом вовсе нет отношения по закону основания, то ни то ни другое утверждение никогда не могло быть доказано, и скептицизм успешно нападал на них обоих. Ибо как закон причинности уже предшествует в качестве условия созерцанию и опыту и поэтому его нельзя познать из них (как думал Юм), так объект и субъект уже предшествуют, в качестве первого условия, всякому познанию, следовательно, и вообще закону основания, потому что последний — это только форма всякого объекта, непременный способ его проявления; объект же всегда предполагает субъект, поэтому между ними обоими не может быть отношения причины и следствия. Задача моего трактата о законе основания в том и состоит, чтобы представить содержание этого закона как существенную форму всякого объекта, т. е. как общий способ всякого объективного бытия и нечто присущее объекту как таковому, но объект как таковой всюду предполагает субъект в качестве своего необходимого коррелата, так что последний всегда остается за пределами действия закона основания. Спор о реальности внешнего мира имеет в своей основе именно это неправильное распространение действия названного закона и на субъект; исходя из этого недоразумения, он никогда не мог понять самого себя. С одной стороны, реалистический догматизм, рассматривая представление как действие объекта, хочет разделить их — представление и объект, тогда как оба они суть ведь одно и то же; он хочет принять совершенно отличную от представления причину — объект в себе, независимый от субъекта, а это нельзя даже помыслить, ибо объект уже как таковой всегда предполагает субъект и всегда остается поэтому только его представлением. Исходя из того же неправильного предположения, скептицизм в противоположность этому взгляду утверждает, что в представлении мы всегда имеем только действие, а не причину, т. е. что мы никогда не познаем бытия, а всегда — только действие объектов; но последнее, быть может, совсем и не похоже на первое, да и вообще понимается совершенно неверно, ибо закон причинности должен выводиться лишь из опыта, реальность же последнего опять-таки должна покоиться на нем. На это — в поучение обоим — следует заметить, что, во-первых, объект и представление — это одно и то же; во-вторых, бытие наглядных предметов — это именно их действие и именно в последнем заключается действительность вещи, а требование бытия объекта вне представления субъекта
27
и бытия действительной вещи отдельно от ее действия вовсе не имеет смысла и является противоречием; поэтому познание способа действия какого-нибудь воспринятого объекта исчерпывает уже и самый этот объект, поскольку он — объект, т. е. представление, так как сверх того в нем ничего больше не остается для познания. В этом смысле мир, созерцаемый в пространстве и времени, проявляющий себя как чистая причинность, совершенно реален; и он есть безусловно то, за что он себя выдает, а выдает он себя всецело и без остатка за представление, связанное по закону причинности. В этом — его эмпирическая реальность. Но, с другой стороны, всякая причинность существует только в рассудке и для рассудка, и, следовательно, весь этот действительный, т. е. действующий, мир, как таковой, всегда обусловлен рассудком и без него— ничто. Однако не только поэтому, но уже и потому, что вообще нельзя без противоречия мыслить ни одного объекта без субъекта, мы должны совершенно отвергнуть такое догматическое понимание реальности внешнего мира, которое видит ее в независимости этого мира от субъекта. Весь мир объектов есть и остается представлением, и именно поэтому он вполне и во веки веков обусловлен субъектом, т. е. имеет трансцендентальную идеальность. Но в силу этого он — не обман и не мираж: он выдает себя за то, что он есть в самом деле, — за представление, и даже за ряд представлений, общей связью которых служит закон основания. Как таковой, мир понятен здравому рассудку даже в своем внутреннем смысле и говорит с ним на совершенно понятном языке. Только ум, искаженный мудрствованием, может спорить о его реальности, и это всегда вызывается неправильным применением закона основания: последний хотя и связывает друг с другом все представления, какого бы класса они ни были, но никогда не связывает их с субъектом или с чем-нибудь таким, что не было бы ни субъектом, ни объектом, а было бы только основанием объекта; самая мысль о такой связи — нелепость, ибо только объекты могут быть основанием, и притом всегда только объектов.
Если ближе исследовать происхождение этого вопроса о реальности внешнего мира, то мы найдем, что кроме указанного неверного применения закона основания к тому, что лежит вне его сферы, присоединяется еще особое смешение его форм, а именно та форма, которую он имеет только по отношению к понятиям, или абстрактным представлениям, переносится на наглядные представления, реальные объекты, и требуется основание познания от таких объектов, которые могут иметь лишь основание становления. Над абстрактными представлениями, над понятиями, связанными в суждения, закон основания господствует, конечно, в том смысле, что каждое из них свою ценность, свое значение, все свое существование, в данном случае именуемое истиной, получает исключительно через отнесения суждения к чему-нибудь вне его, к своей основе познания, к которой, следовательно, надо всегда возвращаться. Наоборот, над реальными объектами, над наглядными представлениями закон основания господствует как закон не основы познания, а основы становления, закон причинности; каждый из этих объектов заплатил ему свою дань уже тем, что он стал, т. е. произошел как действие из причины; требование основания познания не имеет здесь, следовательно, силы и смысла, — оно относится к совершенно другому классу объектов.
28
Поэтому наглядный мир, пока мы останавливаемся на нем, не возбуждает в наблюдателе недоверия и сомнений: здесь нет ни заблуждения, ни истины, — они удалены в область абстрактного, рефлексии. Здесь же мир открыт для чувств и рассудка, с наивной правдой выдавая себя за то, что он есть, — за наглядное представление, закономерно развивающееся в связи причинности.
Вопрос о реальности внешнего мира, как мы его рассматривали до сих пор, вытекал всегда из блужданий разума, доходившего до непонимания самого себя, и ответить на этот вопрос можно было только разъяснением его содержания. После исследования всего существа закона основания, отношения между объектом и субъектом и истинных свойств чувственного созерцания указанный вопрос должен был отпасть сам собою, ибо в нем не осталось больше никакого смысла. Но кроме названного чисто умозрительного происхождения он имеет и совершенно иной, собственно эмпирический источник, хотя и здесь он все еще ставится в спекулятивных целях. В последнем значении смысл его гораздо понятнее, чем в первом. Он состоит в следующем: мы видим сны — не сон ли вся наша жизнь? Или, определеннее: есть ли верное мерило для различения между сновидениями и действительностью, между грезами и реальными объектами? Указание на меньшую живость и ясность грезящего созерцания сравнительно с реальным не заслуживает никакого внимания, ибо никто еще не сопоставлял их непосредственно друг с другом для такого сравнения, а можно было сравнивать только воспоминание сна с настоящей действительностью. Кант решает вопрос таким образом: «Взаимная связь представлений по закону причинности отличает жизнь от сновидения». Но ведь и во сне все единичное тоже связано по закону основания во всех его формах, и эта связь только прерывается между жизнью и сном и между отдельными сновидениями. Ответ Канта поэтому мог бы гласить лишь так: долгое сновидение (жизнь) отличается непрерывной связностью по закону основания, но оно не связано с короткими сновидениями, хотя каждое из них само по себе имеет ту же связность; таким образом, между последними и первым этот мост разрушен, и по этому признаку их и различают. Однако исследовать по такому критерию, приснилось ли что-нибудь или случилось наяву, было бы очень трудно и часто невозможно: ведь мы совершенно не в состоянии проследить звено за звеном причинную связь между каждым пережитым событием и данной минутой, но на этом основании еще не утверждаем, что такое событие приснилось. Поэтому в действительной жизни для различения сна от реальности обыкновенно не пользуются такого рода исследованием. Единственно верным мерилом для этого служит на деле не что иное, как чисто эмпирический критерий пробуждения: последнее уж прямо и осязательно нарушает причинную связь между приснившимися событиями и реальными. Прекрасным подтверждением этого является замечание, которое делает Гоббс во 2-й главе «Левиафана», а именно: мы легко принимаем сновидения за действительность даже по пробуждении, если заснули нечаянно, одетыми, в особенности если все наши мысли были поглощены каким-нибудь предприятием или замыслом, которые во сне занимают нас так же, как и наяву; в этих случаях пробуждение мы замечаем почти столь
29
же мало, как и засыпание, — сон
сливается с действительностью и смешивается с нею. Тогда, конечно, остается
только применить критерий Канта; но если и затем, как это часто бывает,
причинная связь с настоящим или ее отсутствие совсем не могут быть выяснены, то
навсегда останется не решенным, приснилось известное событие или случилось наяву.
Здесь действительно слишком явно выступает перед нами тесное родство между
жизнью и сновидением; не постыдимся же признать его, после того как его
признали и высказали много великих умов. Веды и Пураны дня всего познания
действительного мира, который они называют тканью Майи, не знают лучшего
сравнения, чем сон, употребляя его чаще любого другого. Платон не раз говорит,
что люди живут только во сне и лишь один философ стремится к бдению. Пиндар
(Pythia 8, 135) выражается: umbrae s
Nos
enim, quicunque vivimus,
nihil
aliud esse c
(Ajax,
125)**
Рядом с ним достойнее всего выступает Шекспир:
We
are such stuff
As
dreams are made of, and our little life
Is
rounded with a sleep.
Темр.
IV, 7***
Наконец, Кальдерой был до того проникнут этим воззрением, что пытался выразить его в своей в некотором роде метафизической драме «Жизнь — это сон»12.
После этого обилия цитат из поэтов да будет позволено и мне употребить сравнение. Жизнь и сновидения — это страницы одной и той же книги. Связное чтение называется действительной жизнью. А когда приходит к концу обычный срок нашего чтения (день) и наступает время отдыха, мы часто продолжаем еще праздно перелистывать книгу и без порядка и связи раскрываем ее то на одной, то на другой странице, иногда уже читанной, иногда еще неизвестной, но всегда из той же книги. Такая отдельно читаемая страница действительно находится вне связи с последовательным чтением, но из-за этого она не особенно уступает ему: ведь и цельное последовательное чтение также начинается и кончается внезапно, почему и в нем надо видеть отдельную страницу, но только большого размера.
Итак, хотя отдельные сновидения отличаются от действительной жизни тем, что они не входят в постоянно пронизывающую ее общую связь опыта, и хотя пробуждение указывает на эту разницу, тем не менее
30
именно самая связь опыта принадлежит действительной жизни как ее форма, и сновидение, в свою очередь, противопоставляет ей свою собственную внутреннюю связь. И если в оценке их встать на точку зрения за пределами жизни и сновидения, то мы не найдем в их существе определенного различия и должны будем вместе с поэтами признать, что жизнь — это долгое сновидение.
Если от этого вполне самостоятельного эмпирического источника вопроса о реальности внешнего мира мы вернемся к его умозрительному происхождению, то хотя мы и нашли, что оно заключено, во-первых, в неправильном применении закона основания, а именно между субъектом и объектом, во-вторых, в смешении его форм, а именно в перенесении закона основы познания в ту область, где царит закон основы становления, тем не менее вопрос этот едва ли так настоятельно мог бы занимать философов, если бы он был лишен всякого истинного содержания и если бы в его существе не лежала верная мысль как его подлинный источник, о котором следовало бы предположить, что, лишь вступив в область рефлексии в поисках своего выражения, он получил такие превратные, непонятные самим себе формы и вопросы. Так, по моему мнению, обстоит дело, и как чистое выражение того внутреннего смысла проблемы, которого она не могла найти, я предлагаю следующее. Что представляет собой этот наглядный мир, помимо того, что он есть мое представление? Сознаваемый мною лишь в одном виде, а именно как представление, не есть ли он, подобно моему телу, осознаваемому мною двояко, не есть ли он, с одной стороны, представление, а с другой — воля? Разъяснение этого вопроса и утвердительный ответ на него составят содержание второй книги, а выводы из него займут остальную часть этого сочинения.
§ 6
Пока же, в этой первой книге, мы рассматриваем все только как представление, как объект для субъекта, и подобно всем другим реальным объектам и наше собственное тело, из которого у каждого человека исходит созерцание мира, мы рассматриваем только со стороны познаваемости, так что оно для нас есть только представление. Правда, сознание каждого, уже сопротивлявшееся провозглашению других объектов одними представлениями, еще сильнее противоборствует теперь, когда собственное тело должно быть признано всего лишь представлением. Это объясняется тем, что каждому вещь в себе известна непосредственно, поскольку она является его собственным телом, поскольку же она объективируется в других предметах созерцания, она известна каждому лишь опосредствованно. Однако ход нашего исследования делает эту абстракцию, этот односторонний метод, это насильственное разлучение того, что по существу своему едино, необходимыми, и потому такое сопротивление следует до поры до времени подавить и успокоить ожиданием, что дальнейшее восполнит односторонность нынешних размышлений и приведет к полному познанию сущности мира.
31
Итак, тело для нас является здесь непосредственным объектом, т. е. тем представлением, которое служит для субъекта исходной точкой познания, ибо оно со своими непосредственно познаваемыми изменениями предшествует применению закона причинности и, таким образом, доставляет ему первоначальный материал. Все существо материи состоит, как было показано, в ее деятельности. Но действие и причина существуют только для рассудка, который есть не что иное, как их субъективный коррелат. Однако рассудок никогда не смог бы найти себе применения, если бы не было чего-то другого, откуда он исходит. И это другое — простое чувственное ощущение, то непосредственное сознание изменений тела, в силу которого последнее предстает как непосредственный объект. Поэтому для познания наглядного мира мы находим два условия. Первое, если мы выразим его объективно, — это способность тел действовать друг на друга, вызывать друг в друге изменения, — без этого общего свойства всех тел, даже и при наличии чувствительности животных тел, созерцание было бы невозможно; если же это первое условие выразить субъективно, то оно гласит: только рассудок и делает возможным созерцание, ибо лишь из рассудка вытекает и лишь для него имеет значение закон причинности, возможность действия и причины, и лишь для него и через него существует поэтому наглядный мир. Второе условие — это чувствительность животных тел, или свойство некоторых тел быть непосредственно объектами субъекта. Простые изменения, которые испытывают органы чувств в силу их специфической приспособленности к внешним воздействиям, можно, пожалуй, называть уже представлениями, поскольку такие воздействия не пробуждают ни боли, ни удовольствия, т. е. не имеют непосредственного значения для воли и все-таки воспринимаются, существуя, следовательно, только для познания; в этом смысле я и говорю, что тело непосредственно познаваемо, что оно — непосредственный объект. Но понятие «объект» здесь нельзя принимать в его подлинном значении, ибо при помощи этого непосредственного познания тела — познания, которое предшествует применению рассудка и является простым чувственным ощущением, — не самое тело собственно выступает объектом, а лишь воздействующие на него тела, так как всякое познание объекта в собственном смысле, т. е. пространственно-наглядного представления, существует только через рассудок и для него, следовательно, не до его применения, а после. Поэтому тело как собственно объект, т.е. как наглядное представление в пространстве, подобно всем другим объектам, познается лишь косвенно, через применение закона причинности к воздействию одной части тела на другую, познается, например, тем, что глаз его видит, рука его осязает. Следовательно, одно общее самочувствие не знакомит нас с формой своего собственного тела, а только через познание, только в представлении, т. е. только в мозгу впервые является нам собственное тело как протяженное, расчлененное, органическое. Слепорожденный приобретает это представление лишь постепенно, с помощью чувственных данных, которыми его снабжает осязание; безрукий слепец никогда не смог бы узнать формы своего тела или, в крайнем случае, должен был бы постепенно заключать о ней и конструировать ее из
32
воздействия на него других тел. Вот с каким ограничением надо понимать наши слова, что тело — это непосредственно объект. В остальном, согласно сказанному, все животные тела являются непосредственными объектами, т. е. исходными точками созерцания мира, для всепознающего и поэтому никогда не познаваемого объекта. Познание, вместе с обусловленным им движением по мотивам, составляет поэтому истинный характер животности, подобно тому как движение по раздражителям составляет характер растений; неорганическое же не имеет другого движения, кроме вызванного действительными причинами, в самом узком смысле этого слова. Все это я подробно выяснил в своем трактате о законе основания (§ 20), в первой статье «Двух основных проблем этики» (III) и в сочинении «О зрении и цвете» (§ 1), туда я и отсылаю.
Из сказанного выходит, что все животные, даже самые несовершенные, обладают рассудком, ибо все они познают объекты, и это познание как мотив определяет их движение. Рассудок у всех животных и всех людей один и тот же, всюду имеет одну и ту же простую форму — познание причинности, переход от действия к причине и от причины к действию, и больше ничего. Но степени его остроты и пределы его познавательной сферы крайне разнообразны и расположены по многоразличным ступеням, начиная с низшей, где познается причинное отношение между непосредственным объектом и косвенным, т. е. где интеллекта хватает только на то, чтобы от воздействия, испытываемого телом, переходить к его причине и созерцать его как объект в пространстве, и кончая высшими степенями познания причинной связи между одними косвенными объектами, которое доходит до проникновения в самые сложные сочетания причин и действий в природе. Ибо и это высокое познание тоже относится еще к рассудку, а не к разуму, абстрактные понятия которого могут служить только для восприятия, закрепления и объединения непосредственно понятого рассудком, но вовсе не могут создать самого понимания. Всякая сила и всякий закон природы, каждый случай, в котором они проявляются, сначала должны быть непосредственно познаны рассудком, интуитивно восприняты, прежде чем in abstracto войти для разума в рефлективное сознание. Интуитивным, непосредственным восприятием рассудка было открытие Р. Гуком закона тяготения13 и подведение под этот единый закон множества великих явлений, что впоследствии подтвердилось вычислениями Ньютона; тем же было и открытие Лавуазье кислорода и его важной роли в природе14; тем же было и открытие Гёте происхождения физических цветов15. Все эти открытия есть не что иное, как правильный непосредственный переход от действия к причине, который вскоре влечет за собою познание тождества силы природы, проявляющейся во всех причинах той же категории. И постижение всего этого есть отличающееся только степенью проявление той же единственной функции рассудка, посредством которой и животное созерцает причину, действующую на его тело, как объект в пространстве. Вот почему и все эти великие открытия, подобно созерцанию и всем проявлениям рассудка, тоже представляют собой непосредственное усмотрение и, как таковое, суть создания минуты, appercu, догадки, а не продукт длинной цепи абстракт-
33
ных умозаключений; последние же служат для того, чтобы фиксировать непосредственно познанное рассудком в абстрактных понятиях разума, т. е. уяснять его, делать его пригодным для истолкования другим.
Острота рассудка в восприятии причинных отношений между косвенно познаваемыми объектами находит себе применение не только в естествознании (всеми своими открытиями обязанном ей), но и в практической жизни, где она называется умом, между тем как в первом ее приложении уместнее называть ее остроумием, проницательностью, прозорливостью. В точном смысле слова ум обозначает исключительно рассудок, состоящий на службе у воли. Впрочем, нельзя провести определенные границы между этими понятиями, ибо перед нами все та же функция того же рассудка, уже действующего во всяком животном при созерцании объектов в пространстве; на высших ступенях своей силы эта функция то правильно находит в явлениях природы по данному действию неизвестную причину и таким образом дает разуму материал для установления всеобщих правил как законов природы; то, приспособляя известные причины к целесообразным действиям, изобретает сложные и остроумные машины; то, обращаясь к мотивации, прозревает тонкие интриги и махинации и расстраивает их, или же точно распределяет людей соответственно тем мотивам, которым подчиняется всякий из них, и потом по собственному желанию приводит их в движение, как машины посредством рычагов и колес, и направляет их к определенным целям.
Недостаток рассудка в собственном смысле называется глупостью; это — именно тупость в применении причинного закона, неспособность к непосредственному восприятию сочетаний между причиной и действием, мотивом и поступком. Глупец не видит связи естественных явлений — ни там, где они представлены сами себе, ни там, где ими планомерно пользуются, т. е. в машинах: вот почему он охотно верит в колдовство и чудеса. Глупец не замечает, что отдельные лица, на вид независимые друг от друга, в действительности поступают по предварительному уговору между собой; вот почему его легко мистифицировать и интриговать — он не замечает скрытых мотивов в предлагаемых ему советах, в высказываемых суждениях и т. п. Всегда недостает ему одного: остроты, быстроты, легкости в применении причинного закона, т. е. недостает силы рассудка. Величайший и в рассматриваемом смысле самый поучительный пример глупости, какой мне приходилось когда-либо видеть, представлял совершенно тупоумный мальчик, лет одиннадцати, в доме умалишенных. Разум у него был, ибо он говорил и понимал; но по рассудку он стоял ниже многих животных. Когда бы я ни приходил, он рассматривал висевшее у меня на шее стеклышко-очко, в котором отражались комнатные окна и вершины поднимавшихся за ним деревьев: это зрелище приводило его каждый раз в большое удивление и восторг, и он не уставал изумляться ему, — он не понимал этой непосредственной причинности отражения. Как у разных людей степень остроты рассудка бывает очень неодинакова, так еще больше различается она между разными породами животных. Однако у всех, даже наиболее близких к растениям, рассудка хватает настолько, сколько надо для перехода от действия в непосред-
34
ственном объекте к опосредованному как причине, т. е. к созерцанию, восприятию объекта; ибо последнее именно и делает их животными, так как оно дает им возможность двигаться по мотивам и потому отыскивать или, по крайней мере, схватывать пищу, между тем как растения двигаются только по раздражителям и должны либо дождаться их непосредственного воздействия, либо изнемочь, искать же или улавливать их они не в состоянии. Мы удивляемся большой смышлености самых совершенных животных, например собаки, слона, обезьяны, ум которой столь мастерски описал Бюффон. По этим наиболее умным животным мы можем с достаточной точностью измерить, насколько силен рассудок без помощи разума, т. е. без отвлеченного познания в понятиях: мы не можем так хорошо узнать это на себе самих, ибо в нас рассудок и разум всегда поддерживают друг друга. Вот почему проявления рассудка у животных часто оказываются то выше нашего ожидания, то ниже его. С одной стороны, нас поражает смышленость того слона, который, перейдя уже множество мостов во время путешествия по Европе, однажды отказался вступить на мост, показавшийся ему слишком неустойчивым для его тяжести, хотя и видел, как по обыкновению проходил через него остальной кортеж людей и лошадей. С другой стороны, нас удивляет, что умные орангутанги не подкладывают дров, чтобы поддержать найденный ими костер, у которого они греются; последнее доказывает, что здесь требуется уже такая сообразительность, которая невозможна без абстрактных понятий. Познание причины и действия как общая операция рассудка даже a priori присуще животным; это вполне видно уже из того, что для них, как и для нас, оно служит предварительным условием всякого наглядного познания внешнего мира. Если же угодно еще одно подтверждение этого, то стоит только припомнить, что, например, даже щенок при всем своем желании не решается спрыгнуть со стола, ибо он предвидит действие тяжести своего тела, хотя и не имеет соответственного данному случаю опыта. Однако при обсуждении рассудка животных мы должны остерегаться приписывать ему то, что служит проявлением инстинкта — способности, вполне отличающейся по своему действию как от рассудка, так и от разума, но часто весьма похожей на соединенную деятельность обоих. Впрочем, разъяснение этого вопроса здесь неуместно, оно будет сделано при разборе гармонии, или так называемой телеологии природы, во второй книге; ему же всецело посвящена и 27-я глава дополнений.
Недостаток рассудка мы назвали глупостью; позже мы увидим, что недостаток применения разума на практике — это наивность; недостаток способности суждения — ограниченность; наконец, частичный или полный недостаток памяти — тупоумие[19]. Но о каждом будет сказано в своем месте. Правильно познанное разумом — истина, т. е. абстрактное суждение с достаточным основанием (см. «О четверояком корне закона основания», § 29 и сл.); правильно познанное рассудком — реальность, т. е. правильный переход от действия в непосредственном объекте к его причине. Истине противоположно заблуждение как обман разума; реальности противоположна видимость как обман рассудка. Более подробное разъяснение всего этого можно найти в первой главе моего трактата о зрении и цветах. Видимость возникает тогда, когда одно и то
35
же действие могло быть вызвано двумя совершенно различными причинами, из которых одна действует очень часто, а другая — редко: рассудок, не имея данных для распознания, какая из двух причин здесь действует (ибо действие совсем одинаково), всегда предполагает обычную причину, и так как он действует не рефлективно и не дискурсивно, но прямо и непосредственно, то эта ложная причина предстоит нам как созерцаемый объект, каковой и есть ложная видимость. Как этим путем возникает двойное ви́дение и двойное осязание, если органы чувств приведены в ненормальное положение, — это я выяснил в указанном месте и тем самым дал неопровержимое доказательство того, что созерцание существует только через рассудок и для рассудка. Другие примеры такого умственного обмана, или видимости, — это погруженная в воду палка, которая кажется переломленной; изображения в сферических зеркалах, при выпуклой поверхности являющиеся несколько позади нее, а при вогнутой значительно впереди. Сюда же относится мнимо больший объем луны на горизонте, чем в зените, что вовсе не есть оптическое явление, ибо, как показывает микрометр, глаз воспринимает луну в зените даже под несколько бо́льшим зрительным углом, чем на горизонте, но рассудок, который считает причиной ослабления лунного и звездного блеска на горизонте бо́льшую отдаленность луны и всех звезд, измеряя ее, как и земные предметы, воздушной перспективой, принимает поэтому луну на горизонте гораздо большей, чем в зените, и самый свод небесный горизонта — более раздвинутым, т. е. сплющенным. Это же неправильное измерение по воздушной перспективе заставляет нас считать очень высокие горы, вершина которых, только и видная нам, лежит в чистом, прозрачном воздухе, — считать их более близкими, чем это есть в действительности, в ущерб их высоте; таков Монблан, если смотреть на него из Салланша. И все эти обманчивые явления стоят перед нами в нашем непосредственном созерцании, которого нельзя устранить никаким рассуждением разума. Последнее может предохранить только от заблуждения, т. е. от суждения недостаточно обоснованного, противопоставляя ему другое, истинное: например, разум может in abstracto признавать, что не бо́льшая отдаленность, а бо́льшая плотность воздуха на горизонте служит причиной ослабления лунного и звездного блеска, но видимость во всех приведенных случаях остается непоколебимой вопреки всякому абстрактному познанию, ибо рассудок полностью и резко отделен от разума как от познавательной способности, привходящей только у человека, да и у него рассудок сам по себе не разумен. Разум всегда может только знать, рассудку одному, независимо от влияния разума, остается только созерцание.
§ 7
По поводу рассмотренного до сих пор надо еще заметить следующее. В своем анализе мы исходили не из объекта и не из субъекта, а из представления, которое уже содержит в себе и предполагает их оба, так как распадение на объект и субъект является его первой, самой общей и существенной формой. Поэтому ее мы рассмотрели как таковую
36
прежде всего, а затем (сославшись в главном на вступительный трактат) подвергли разбору и другие, ей подчиненные формы — время, пространство и причинность, которые свойственны только объекту; но так как они существенны для него как такового, а объект, в свою очередь, существен для субъекта как такового, то они могут быть найдены и из субъекта, т. е. познаны a priori, и в этом смысле на них можно смотреть как на общую границу обоих. Все же они могут быть сведены к общему выражению — закону основания, как я подробно показал в своем вступительном трактате.
Такой прием совершенно отличает нашу точку зрения от всех до сих пор предложенных философом, которые все исходили либо из объекта, либо из субъекта и таким образом старались объяснить один из другого, опираясь при этом на закон основания; мы же, наоборот, освобождаем от власти последнего отношение между объектом й субъектом, отдавая во власть этого закона только объект. Могут, пожалуй, признать, что указанной альтернативы избежала возникшая в наши дни и получившая известность философия тождества, так как она принимает своей подлинной исходной точкой не объект и не субъект, а нечто третье — познаваемый разумным созерцанием абсолют, который не есть ни объект, ни субъект, но безразличие обоих16. Хотя я, ввиду полного отсутствия у меня всякого «созерцания разумом», не дерзаю рассуждать об этом почтенном безразличии и абсолюте, все же, опираясь только на доступные всем, в том числе и нам, профанам, протоколы «созерцающих разумом», я должен заметить, что и эта философия не может быть исключена из упомянутой альтернативы двух ошибок. Ибо, несмотря на то что тождество субъекта и объекта не мыслится в ней, а интеллектуально созерцается и постигается через погружение в него, она не избегает обеих этих ошибок, наоборот, скорее соединяет в себе их обе, так как сама распадается на две дисциплины, а именно, во-первых, трансцендентальный идеализм, каковым является учение Фихте о Я и который, по закону основания, выводит или извлекает объект из субъекта, и, во-вторых, на натурфилософию, которая таким же образом из объекта постепенно делает субъект с помощью метода, называемого конструкцией17 (мне о нем очень мало известно, но ясно все же, что он представляет собой поступательное движение по закону основания в ряде форм). От глубокой мудрости, которая таится в той «конструкции», я заранее отрекаюсь, потому что для меня, совершенно лишенного «созерцания разумом», все учения, предполагающие его, должны быть книгой за семью печатями. И действительно, подобные глубокомысленные теории — странно сказать — производят на меня такое впечатление, будто я слышу только ужасное и крайне скучное пустозвонство.
Хотя системы, исходящие из объекта, всегда имеют своей проблемой весь наглядный мир и его строй, но объект, который они выбирают исходной точкой, не всегда является этим миром или его основным элементом — материей. Скорее эти системы поддаются делению согласно четырем классам возможных объектов, установленным в моем вступительном трактате. Так, можно сказать, что первый из этих классов, или реальный мир, был исходным пунктом для Фалеса и ионийцев18, Демокрита, Эпикура, Джордано Бруно и французских материалистов19.
37
Из второго класса, или абстрактного понятия, исходили Спиноза (именно из чисто абстрактного и существующего лишь в своей дефиниции понятия субстанции), а раньше — элеаты20. Из третьего класса, т. е. из времени и, следовательно, чисел, исходили пифагорейцы21 и китайская философия в «И цзин»22. Наконец, четвертый класс, т. е. волевой акт, мотивированный познанием, был исходным пунктом схоластов, учивших о творении из ничего — волевым актом внемирного, личного существа23.
Наиболее последовательно и далеко можно провести метод объекта, если он выступает в виде настоящего материализма. Последний предполагает материю, а вместе с нею и время и пространство несомненно существующими и перепрыгивает через отношение к субъекту, тогда как в этом отношении ведь все это только и существует. Он избирает, далее, путеводной нитью для своего поступательного движения закон причинности, считая его самодовлеющим порядком вещей, veritas aeterna*, перепрыгивая таким образом через рассудок, в котором и для которого только и существует причинность. Затем он пытается найти первичное, простейшее состояние материи и развить из него все другие, восходя от чистого механизма к химизму, к полярности, растительности, животности; и если бы ему это удалось, то последним звеном цепи оказалась бы животная чувствительность, — познание, которое явилось бы лишь простой модификацией материи, ее состоянием, вызванным причинностью. И вот если бы мы последовали за материализмом наглядными представлениями, то, достигнув вместе с ним его вершины, мы почувствовали бы внезапный порыв неудержимого олимпийского смеха, так как, словно пробужденные ото сна, заметили бы вдруг, что его последний, с таким трудом достигнутый результат — познание — предполагался как неизбежное условие уже в первой исходной точке, чистой материи, и хотя мы с ним воображали, что мыслим материю, но на самом деле разумели не что иное, как субъект, представляющий материю, глаз, который ее видит, руку которая ее осязает, рассудок, который ее познает. Таким образом, неожиданно разверзлось бы огромное petitio principii**, ибо последнее звено вдруг оказалось бы тем опорным пунктом, на котором висело уже первое, и цепь обратилась бы в круг, а материалист уподобился бы барону Мюнхгаузену, который, плывя верхом в воде, обхватив ногами свою лошадь, вытягивает себя самого за собственную косичку, выбившуюся наперед. Поэтому коренная нелепость материализма состоит в том, что он, исходя из объективного, принимает за последний объясняющий принцип объективное же, — будет ли это материя in abstracto, лишь как мыслимая, или материя, уже вступившая в форму, эмпирически данная, т. е. вещество, например химические элементы с их ближайшими соединениями.
Все это он принимает за существующее само по себе и абсолютно, чтобы вывести отсюда и органическую природу, и, наконец, познающий субъект и, таким образом, вполне объяснить их. Между тем в действительности все объективное уже как таковое многообразно обусловле-
38
но познающим субъектом, формами его познания, имея их своей предпосылкой, и поэтому совершенно исчезает, если устранить мысль о субъекте. Материализм, таким образом, является попыткой объяснить непосредственно данное нам из данного косвенно. Все объективное, протяженное, действующее, словом — все материальное, которое материализм считает настолько прочным фундаментом своих объяснений, что ссылка на него (в особенности если она сводится в конце концов к толчку и противодействию) не оставляет в его глазах желать ничего другого, — все это, говорю я, представляет собой только в высшей степени косвенно и условно данное и потому только относительно существующее. Ибо оно прошло через механику и фабрикацию мозга и оттого вошло в ее формы — время, пространство и причинность, лишь благодаря которым оно и является как протяженное в пространстве и как действующее во времени. Из такого данного материализм хочет объяснить даже непосредственно данное: представление (где все это содержится) и, в конце концов, самую волю, между тем как на самом деле, наоборот, именно из воли надо объяснять все те основные силы, которые обнаруживаются по путеводной нити причинности и потому закономерно. Утверждению, что познание есть модификация материи, с одинаковым правом всегда противопоставляется обратное утверждение, что всякая материя — это только модификация познания субъекта как его представление. Тем не менее цель и идеал всякого естествознания в основе своей — это вполне проведенный материализм. То, что мы признаем здесь его очевидно невозможным, подтверждается другой истиной, которая выяснится в дальнейшем ходе исследования. Она гласит, что ни одна наука в подлинном смысле (я разумею под этим систематическое познание, руководимое законом основания) никогда не может достигнуть конечной цели и дать вполне удовлетворительного объяснения, ибо она никогда не постигает внутреннего существа мира, никогда не выходит за пределы представления и в сущности знакомит только с взаимоотношениями одного представления к другому.
Каждая наука всегда исходит из двух главных данных. Одно из них — это непременно закон основания в какой-нибудь своей форме как орудие — органон; другое — ее особый объект как проблема. Так, например, геометрия имеет пространство своей проблемой, а основание бытия в нем — своим органоном; для арифметики проблема — время, а основание бытия в нем — органон; для логики сочетания понятий как таковые являются проблемой, а основа познания — органоном, проблема истории — совершившиеся деяния людей в великом и в массе, закон мотивации — ее органон; наконец, для естествознания материя составляет проблему, а закон причинности — органон, и поэтому его цель и замысел состоит в том, чтобы, руководствуясь причинностью, свести все возможные состояния материи друг к другу и, наконец, к одному, а затем опять вывести их друг из друга и, наконец, из одного. Поэтому в естествознании противопоставляются два предельных состояния материи: состояние, где она менее всего и где она более всего служит непосредственным объектом субъекта, иначе говоря: самая мертвая и грубая материя, первичное вещество, и — человеческий организм. Первого доискивается естествознание в качестве химии, второго — в ка-
39
честве физиологии. Но до сих пор не достигнута ни одна из этих крайностей, и только между ними обеими нечто познано. Да и расчеты на будущее довольно безнадежны. Химики, исходя из предположения, что качественное деление материи не простирается, подобно количественному, до бесконечности, стараются все более и более сокращать число ее элементов, насчитывающихся теперь еще до 60; и если бы в своих изысканиях они дошли до двух элементов, то пожелали бы свести их к одному. Ибо закон однородности наводит на гипотезу о первичном химическом состоянии материи, свойственном ей как таковой и предшествовавшим всем другим состояниям, которые не существенны для материи как таковой, а являются только ее случайными формами и качествами. С другой стороны, нельзя понять, как могло это состояние подвергнуться какому-нибудь химическому изменению, когда не было еще другого состояния, которое бы на него воздействовало. Это создает для химического объяснения то самое затруднение, на которое в механическом наткнулся Эпикур, когда ему надлежало истолковать, каким образом один из атомов впервые вышел из первоначального направления своего движения. Это само собой раскрывающееся, неизбежное и неразрешимое противоречие можно рассматривать прямо как химическую антиномию: как оно обнаруживается здесь, у первого из двух естественных полюсов естествознания, так нам явится соответствующий антипод и у второго. На достижение этого другого полюса естествознания также мало надежды, ибо все более и более становится ясным, что химическое никогда нельзя будет свести к механическому, а органическое — к химическому или электрическому. Тот, кто в наши дни опять пускается по этой старой ложной дороге, скоро сойдет с нее, неприметно и сконфуженно, подобно своим предшественникам. Подробнее об этом будет сказано в следующей книге. Мельком упомянутые здесь затруднения встают перед естествознанием в его собственной сфере. Взятое же в качестве философии, оно предстает как материализм; однако последний, как мы видели, носит уже от рождения смерть в своем сердце, ибо он перепрыгивает через субъект и формы познания, между тем как последние так же предполагаются уже для грубейшей материи, с которой ему хотелось бы начать, как и для организма, куда он желал бы прийти. Ибо «нет объекта без субъекта» — вот положение, которое навсегда делает невозможным всякий материализм. Солнце и планеты, если нет глаза, который их видит, и рассудка, который их познает, можно назвать словами; но для представления слова эти — кимвал звенящий. С другой стороны, однако, закон причинности и идущие по его стопам наблюдение и исследование природы неизбежно приводят нас к достоверной гипотезе, что каждое высокоорганизованное состояние материи следовало во времени лишь за более грубым, что животные были раньше людей, рыбы — раньше животных суши, растения — раньше последних, неорганическое существовало раньше всего органического; что, следовательно, первоначальная масса должна была пройти длинный ряд изменений, прежде чем мог раскрыться первый глаз.
И все же от этого первого раскрывшегося глаза, хотя бы он принадлежал насекомому, зависит бытие всего мира, как от необходимого посредника знания, — знания, для которого и в котором мир только
40
и существует и без которого его нельзя даже помыслить, ибо он всецело есть представление и в качестве такового нуждается в познающем субъекте как носителе своего бытия. Даже самый этот долгий период времени, наполненный бесчисленными превращениями, через которые материя восходила от формы к форме, пока, наконец, не возникло первое познающее животное, — даже самое это время мыслимо лить в тождестве такого сознания, чей ряд представлений, чья форма познания и есть оно, время, и вне их оно теряет всякое значение, обращается в ничто. Таким образом, мы видим, что, с одной стороны, бытие всего мира необходимо зависит от первого познающего существа, как бы несовершенно оно ни было, а с другой стороны, это первое познающее животное также необходимо и всецело зависит от длинной предшествовавшей ему цепи причин и действий, в которую оно само входит как маленькое звено. Эти два противоречивых взгляда, к которым мы действительно приходим с одинаковой неизбежностью, можно, разумеется, назвать другой антиномией нашего познания и поставить ее в соответствие с той, которую мы нашли у первого полюса естествознания; наоборот, четыре антиномии Канта24 — беспочвенная выдумка, как я покажу это в критике ее философии, приложенной к настоящему сочинению. Однако это напоследок неизбежно возникающее перед нами противоречие разрешается тем, что, говоря языком Канта, время, пространство и причинность принадлежат не вещи в себе, а только ее явлению, формой которого они служат; на моем же языке это означает, что объективный мир, мир как представление, — не единственная, а только одна, как бы внешняя сторона мира, который имеет еще и совсем другую сторону; она представляет собою его внутреннее существо, его зерно, вещь в себе; ее мы рассмотрим в следующей книге, назвав ее, по самой непосредственной из объективации, волей. Но мир как представление, который только и рассматривается здесь нами, начинается, конечно, лишь тогда, когда раскрывается первый глаз: без этого посредника знания мир не может существовать, следовательно, не существовал он и прежде. Но без этого глаза, т. е. помимо познания, не было и прежде, не было времени. Однако не время имеет начало — напротив, всякое начало находится в нем. Но так как время — это самая общая форма познаваемости, в которую посредством причинной связи укладываются все явления, то вместе с первым познанием возникает и время со всей своей двусторонней бесконечностью; и явление, которое наполняет собою это первое настоящее, должно вместе с тем познаваться как причинно-связанное и зависимое от ряда явлений, бесконечно простирающегося в прошлое, а это прошлое само так же обусловлено этим первым настоящим, как и, наоборот, последнее — первым. Таким образом, первое настоящее, как и прошлое, из которого оно исходит, зависят от познающего субъекта и без него ничего не значат; тем не менее они неизбежно приводят к тому, что это первое настоящее не представляется как первое, т. е. как не имеющее своим отцом прошлого, как начало времени: нет, оно представляется следствием прошлого, по закону основания бытия во времени, подобно тому как и явление, наполняющее это настоящее, оказывается, по закону причинности, действием прежних состояний, наполнявших это прошлое. Кто любит мифологические толкования,
41
может указанный здесь момент начала безначального времени видеть символизированным в рождении Кроноса (Χρονοσ): когда этот младший титан оскопил своего отца, прекратились грубые порождения неба и земли, и на сцену выступил род богов и людей25.
Такая постановка вопроса, к которой мы пришли по стопам материализма — этой самой последовательной из философских систем, исходящих из объекта, — делает вместе с тем наглядной необходимую взаимозависимость и в то же время неустранимую противоположность между субъектом и объектом. Познание этого заставляет искать внутренней сущности мира, вещи в себе, уже не в одном из названных двух элементов представления, но, скорее, в чем-то совершенно отличном от представления, — в том, над чем не тяготеет такое изначальное, коренное и при этом неразрешимое противоречие.
Описанному исхождению от объекта с целью вывести из него субъект противостоит исхождение от субъекта с целью вывести из него объект. Но если первое было очень распространено во всех возникавших до сих пор философских системах, то единственным и притом очень недавним примером второго служит, собственно говоря, только мнимая философия И. Г. Фихте. О нем следует упомянуть в данном отношении, как ни мало истинной ценности и внутреннего содержания заключало в себе его учение; оно вообще было только надувательством, но, излагаемое с видом глубокой серьезности, в выдержанном тоне, с живым увлечением, красноречиво защищаемое в полемике со слабым противником, оно могло блистать и казаться чем-то настоящим. Но той действительной серьезности, которая недоступна всем внешним влияниям и неуклонно имеет в виду свою цель, истину, — ее совершенно недоставало Фихте, как и всем подобным философам, приспособляющимся к обстоятельствам. Да иначе и быть не могло. Философом делается каждый непременно в силу удивления, ϑαυμάζειν, от которого он желает освободиться и которое Платон называет μάλα φιλοσοφικὸν πάϑος*. Но неистинных философов отличает здесь от истинных то, что у последних это удивление возникает от зрелища самого мира, тогда как у первых — только от книги, от готовой системы. Так было и с Фихте, ибо он сделался философом только благодаря кантовской вещи в себе, а без нее он, вероятно, занялся бы совсем другим делом, и с гораздо большим успехом, так как у него был значительный риторический талант. Если бы он все-таки глубже вник в смысл книги, которая сделала его философом, в «Критику чистого разума», то он понял бы, что главное его учение по своему духу таково: закон основания вовсе не veritas aeterna[20], как думает вся схоластическая философия, т. е. имеет не безусловное значение до мира, вне его и над ним, а только относительное и условное, в пределах одного лишь явления, — все равно, выступает ли он как необходимая связь пространства или времени, или как закон причинности или основы познания; поэтому внутренней сущности мира, вещи в себе, никогда нельзя открыть по путеводной нити этого закона, наоборот, все, к чему он ни приводит, всегда тоже зависимо и относительно, всегда только явление, не вещь в себе; далее, этот закон вовсе не касается субъекта,
42
а служит лишь формой объектов, которые именно поэтому не вещи в себе; с объектом одновременно возникает субъект и — наоборот, так что ни объект к субъекту, ни субъект к объекту не могут привходить как следствие к своему основанию[21]. Но все это не произвело ни малейшего впечатления на Фихте: единственно интересным показалось ему исхождение из субъекта, избранное Кантом для того, чтобы показать ложность прежнего исхождения из объекта, который таким образом как бы становился вещью в себе. Фихте же принял это исхождение из субъекта за самое главное и, по примеру всех подражателей, думая, что если он в данном отношении пойдет дальше Канта, то и превзойдет его, повторил в этом направлении те самые ошибки, которые в противоположном направлении совершал прежний догматизм, именно поэтому и вызвавший критику Канта. Таким образом, в главном ничего не изменилось, и старая основная ошибка, мысль, будто объект и субъект связаны между собою отношением причины и следствия, осталась, как и прежде; поэтому закон основания сохранил, как и раньше, безусловную силу, а вещь в себе, вместо прежнего пребывания в объекте, была перенесена в субъект познания; совершенная же относительность обоих, показывающая, что вещи в себе, или сущности мира, надо искать не в них, а за их пределами, как и вообще за пределами всего того, что существует лишь относительно, — это по-прежнему осталось непонятым. Закон основания является у Фихте, как он был у всех схоластов, aeterna veritas, — словно Кант совсем и не существовал. Подобно тому как над богами древних еще царила вечная судьба, так и над богом схоластиков царили еще aeternae veritates[22], т. е. метафизические, математические и металогические истины, — а у некоторых еще и власть морального закона. Одни эти veritates ни от чего не зависели, но в силу их необходимы были и Бог, и мир. Согласно закону основания, как подобной veritati aeternae, у Фихте, таким образом, Я служит основой мира, или не-Я, объекта, который и является следствием первого, его изделием. Подвергнуть закон основания дальнейшему исследованию или контролю Фихте, конечно, остерегся. Но если бы мне надо было указать ту форму этого закона, согласно которой Фихте заставляет не-Я выходить из Я, как паутину из паука, то я сказал бы, что это — закон основания бытия в пространстве: ибо только по отношению к нему получают все же некоторое подобие смысла и значения те мучительные дедукции способов, какими Я производит и фабрикует из себя не-Я и которые составляют содержание бессмысленнейшей и потому скучнейшей книги, когда-либо написанной26[23].
Таким образом, эта фихтевская философия, вообще недостойная и упоминания, интересна нам только как запоздалая настоящая противоположность старинному материализму, который так же последовательно исходил из объекта, как философия Фихте исходит из субъекта. Подобно тому как материализм не замечал, что вместе с самым простым объектом он тотчас же утверждает и субъект, так не замечал и Фихте, что не только вместе с субъектом (как бы он его ни титуловал) он утверждает уже и объект, — ибо без последнего немыслим никакой субъект, но не замечал он и того, что всякий вывод a priori и всякое доказательство вообще опирается на необходимость, а всякая необ-
43
ходимость опирается только на закон основания, так как быть необходимым и следовать из данного основания — это понятия равнозначащие*[24]; не замечал он и того, что закон основания — только общая форма объекта как такового и потому уже предполагает объект, а не имеет значения до и помимо него и не может лишь вызвать его и производить своей законодательной силой. Вообще, исхождение из субъекта и описанное выше исхождение из объекта сходятся между собой в одной и той же общей ошибке: оба они заранее полагают то, что думают лишь вывести, т. е. предполагают необходимый коррелат своего исходного пункта.
От этих двух противоположных ошибок наш метод отличается toto genere**, ибо мы исходим не из объекта, не из субъекта, а из первого факта сознания, представления, первой и самой существенной формой которого является распадение на объект и субъект[25]. Формой же объекта служит закон основания в его различных видах, из которых каждый настолько господствует в относящемся к нему классе представлений, что, как показано, вместе с познанием этого вида познается и сущность сего класса, ибо последний (в качестве представления) есть не что иное, как самый этот вид: например, время есть не что иное, как основание бытия в нем, т. е. последовательность; пространство есть не что иное, как закон основания в нем, т. е. положение; материя есть не что иное, как причинность; понятие (как это сейчас выяснится) есть не что иное, как отношение к основе познания. Эта полная и сплошная относительность мира как представления — и в его самой общей форме (субъект и объект), и в подчиненной ей (закон основания) — указывает нам, как мы уже говорили, на то, что внутреннюю сущность мира надо искать совершенно в другой стороне его, от представления совсем отличной; ее выяснит следующая книга на факте столь же непосредственно достоверном для каждого живого существа.
Но раньше надо рассмотреть тот класс представлений, который свойствен одному человеку и содержанием которого является понятие, а субъективным коррелятом — разум; для рассмотренных же до сих пор представлений коррелятом служат рассудок и чувственность, присущие и каждому животному***.
§ 8
Как из непосредственного солнечного света в заимствованное отражение луны, переходим мы от наглядного, непосредственного, самодовлеющего, служащего само за себя порукой представления к рефлексии, к абстрактным, дискурсивным понятиям разума, которые получают все свое содержание только от наглядного познания и по отношению к нему. До тех пор пока мы остаемся при чистом созерцании, все ясно, твердо и несомненно. Здесь нет ни вопросов, ни сомнений, ни заблуждений: мы большего не желаем, большего не можем, успокаиваемся на созерцании,
44
удовлетворяемся настоящим. Созерцание довольствуется самим собой; поэтому все, что ведет свое чистое происхождение от него и осталось ему верным, подобно истинному произведению искусства, никогда не может быть ложно или опровергнуто каким-либо временем, ибо оно дает не мнение, а самую вещь. Но с абстрактным познанием, с разумом, появляются в теории сомнение и заблуждение, а на практике — забота и раскаяние. Если в наглядном представлении видимость искажает действительность на миг, то в абстрактном представлении заблуждение может царствовать тысячелетия, налагать на целые народы свое железное ярмо, душить благороднейшие побуждения человечества и даже, при помощи своих рабов, своих обманутых, заключать в оковы тех, кого оно не в силах обмануть. Заблуждение — тот враг, с которым вели неравную борьбу мудрейшие люди всех времен; и только то, что они отвоевали от него, сделалось достоянием человечества. Вот почему хорошо тотчас же обратить на него внимание, как только мы вступаем на ту почву, где лежит его область. Хотя часто уже говорили, что следует искать истину даже там, где нельзя предвидеть от нее пользу, ибо последняя может косвенно появиться там, где ее не ждут, — но я должен к этому прибавить, что с таким же усердием надо вскрывать и уничтожать всякое заблуждение даже там, где нельзя предвидеть от него вред, так как он может весьма косвенно появиться когда-нибудь там, где его не ждут, ибо каждое заблуждение носит в себе яд. Если дух, если познание делает человека владыкой земли, то нет безвредных заблуждений и подавно нет заблуждений достойных и священных. И в утешение тем, кто свои силы и жизнь посвящает благородной и столь трудной борьбе с заблуждением во всех его видах, я не могу не сказать, что до тех пор, пока истина еще не явилась, заблуждение может вести свою игру, подобно совам и летучим мышам ночью, но скорее совы и летучие мыши спугнут солнце обратно к востоку, чем познанная истина, выраженная с полной ясностью, снова подвергнется изгнанию, чтобы старое заблуждение опять невозбранно заняло свое просторное место. В этом и заключается сила истины: ее победа трудна и мучительна, но, однажды одержанная, она уже не может быть отторгнута[26].
Кроме рассмотренных до сих пор представлений, которые по своему составу, с точки зрения объекта, могут быть сведены ко времени, пространству и материи, а с точки зрения субъекта — к чистой чувственности и рассудку, кроме них, исключительно в человеке между всеми обитателями земли, присоединилась еще другая познавательная способность, взошло совсем новое сознание, которое очень метко и проницательно названо рефлексией. Ибо это — действительно отражение, нечто производное от наглядного познания, но получившее характер и свойства, вполне отличные от него, не знающее его форм; даже закон основания, который господствует над каждым объектом, является здесь совсем в другом виде. Это новое, возведенное в высшую степень познание, это абстрактное отражение всего интуитивного в отвлеченном понятии разума и является единственно тем, что сообщает человеку ту обдуманность, которая так безусловно отличает его сознание от сознания животных и благодаря которой все его земное странствие столь непохоже на странствие его неразумных собратий. Одинаково сильно превосходит он
45
их и мощью, и страданиями. Они живут только в настоящем, он, сверх того, одновременно и в будущем, и в прошлом. Они удовлетворяют потребности минуты, он искусственными мерами печется о своем будущем и даже о том времени, до которого не сможет дожить. Они находятся в полной власти минутного впечатления, под действием наглядного мотива, им руководят абстрактные понятия, независимые от настоящего. Вот почему он выполняет обдуманные замыслы или поступает сообразно своим правилам, невзирая на окружающие обстоятельства и случайные впечатления минуты; вот почему он в состоянии, например, спокойно делать искусственные приготовления к собственной смерти, может притворяться до неузнаваемости и уносить свою тайну в могилу; он властен, наконец, совершать действительный выбор между несколькими мотивами, ибо последние, существуя рядом в сознании, только in abstracto могут быть опознаны как исключающие один другой и состязаться друг с другом в своей власти над волей, а вслед за этим более сильный мотив получает перевес и становится обдуманным решением воли, верным признаком возвещая о себе в этом качестве. Животное, наоборот, в своих действиях определяется впечатлением минуты, только страх предстоящего понуждения может укротить его желание, пока, наконец, этот страх не обратится в привычку и не будет определять животного уже в качестве таковой: это и есть дрессировка. Животное ощущает и созерцает; человек, сверх того, мыслит и знает; оба они хотят. Животное передает о своем ощущении и настроении посредством телодвижений и звуков; человек сообщает другому свои мысли посредством языка или посредством языка скрывает свои мысли. Язык — первое создание и необходимое орудие его разума, поэтому по-гречески и по-итальянски язык и разум обозначаются одним и тем же словом: ὀ λόγος, il discorso. Немецкое слово Vernunft (разум) происходит от vernehmen (внимать), которое не синоним слова hören (слушать), а означает сознательное восприятие мыслей, передаваемых словами. Только с помощью языка разум осуществляет свои важнейшие создания: солидарную деятельность многих индивидов, целесообразное сотрудничество многих тысяч, цивилизацию, государство; далее, только с помощью языка творит он науку, сохраняет прежний опыт, соединяет общее в одно понятие, учит истине, распространяет заблуждение, рождает мышление и художественное творчество, догматы и предрассудки. Животное узнает смерть лишь в самой смерти; человек сознательно приближается с каждым часом к своей смерти, и это иногда вызывает тревожное раздумье о жизни даже у того, кто еще не постиг в самой жизни этого характера вечного уничтожения. Главным образом поэтому человек и создал себе философию и религию; но было ли когда-нибудь плодом одной из них то, что мы по справедливости выше всего ценим в его деяниях, а именно, свободная добродетель и благородство помыслов, — это неизвестно. Наоборот, как несомненные порождения обоих[27], свойственные им одним, как продукты разума на этом пути встают перед нами удивительные, причудливейшие мнения философов разных школ и странные, иногда даже жестокие обряды жрецов различных религий[28].
46
То, что все эти разнообразные и далеко идущие проявления вытекают из одного общего принципа, из той особой силы духа, которая отличает человека от животных и которую назвали разумом, ὀ λόγος, το λογιοτικόν, τὸ λογιμον, ratio, — это составляет единодушное мнение всех веков и народов. И все люди умеют очень хорошо распознавать проявления этой способности и отличать разумное от неразумного; они знают, где разум вступает в противоречие с другими способностями и свойствами человека и чего, наконец, никогда нельзя ожидать даже от умнейшего животного ввиду отсутствия у него разума. Философы всех веков высказываются в целом в согласии с этим общим пониманием разума и, сверх того, выделяют некоторые особенно важные его проявления, такие, как господство над аффектами и страстями, способность делать умозаключения и выдвигать общие принципы, даже такие, которые достоверны прежде всякого опыта, и т. д. Тем не менее все их объяснения подлинной сущности разума неустойчивы, неопределенны, пространны, не имеют единства и средоточия, выдвигают то одно, то другое проявление и поэтому часто расходятся друг с другом. К этому присоединяется то, что многие исходят в данном случае из противоположности между разумом и откровением, каковая совершенно чужда философии и только усиливает путаницу. В высшей степени примечательно то, что ни один философ до сих пор не свел строго все эти разнообразные проявления разума к одной простой функции, которую можно было бы распознавать во всех них, из которой они объяснялись бы и которая поэтому представляла бы собою истинную сущность разума. Правда, превосходный Локк в своем «Опыте о человеческом разуме» (кн. 2, гл. 11, § 10 и 11) вполне справедливо указывает на абстрактные общие понятия как на отличительный признак, разделяющий животных и людей; и Лейбниц вполне сочувственно повторяет это в своих «Новых опытах о человеческом разуме» (кн. 2, гл. 11, § 10 и 11). Но когда Локк (в кн. 4, гл. 17, § 2, 3) приходит к настоящему объяснению разума, он совершенно теряет из виду этот его простой и главный признак и тоже ограничивается неустойчивым, неопределенным, недостаточным указанием на его разрозненные и производные проявления; и Лейбниц в соответственном месте своего произведения делает в общем то же самое, но только более путано и неясно. А до какой степени Кант запутал и исказил понятие сущности разума, об этом я подробно скажу в приложении. Кто же возьмет на себя труд просмотреть в этом отношении массу философских книг, появившихся после Канта, тот поймет, что подобно тому как ошибки правителей искупаются целыми народами, так заблуждения великих умов распространяют свое вредное влияние на целые поколения, на целые века, растут и развиваются и, наконец, вырождаются в чудовищные нелепости. И все это происходит от того, что, как говорит Беркли, «Few men think; yet all will have opinions»*[29].
Как рассудок имеет только одну функцию — непосредственное познание отношения между причиной и действием; как созерцание действительного мира, а также всякий ум, всякая смышленость и изобретательность, при всем разнообразии их применения, представляют собою
47
не что иное, как проявление этой простой функции, так и разум имеет одну функцию — образование понятия. Из этой единственной функции очень легко и сами собой объясняются все те указанные выше явления, которые отличают жизнь человека от жизни животных; и на применение или неприменение этой функции прямо указывает все, что везде и всегда называлось разумным или неразумным*.
§ 9
Понятия образуют своеобразный, присущий только человеческому духу класс, отличный toto genere от рассмотренных до сих пор представлений[30]. Поэтому мы никогда не можем достигнуть наглядного, совсем очевидного познания их сущности, — наше знание о них только абстрактно и дискурсивно. Вот почему было бы нелепо требовать, чтобы эти понятия были доказаны на опыте, поскольку под ним понимается реальный внешний мир, который ведь и есть наглядное представление; или чтобы они, подобно наглядным объектам, были поставлены перед глазами или перед фантазией. Их можно только мыслить, а не созерцать, и лишь те воздействия, которые посредством них совершает человек, служат предметами подлинного опыта. Таковы — язык, обдуманная, планомерная деятельность и наука, а затем все то, что вытекает из них. Очевидно, речь как предмет внешнего опыта есть не что иное, как совершенный телеграф, который передает произвольные знаки с величайшей быстротой и тончайшими оттенками. Что же означают эти знаки? Как происходит их истолкование? Пока другой говорит, не переводим ли мы сейчас же его речь в образы фантазии, которые с быстротою молнии пролетают мимо нас, движутся, сочетаются, преображаются и принимают окраску соответственно приливу слов и их грамматических флексий? Какая бы сутолока в таком случае происходила в нашей голове при слушании какой-нибудь речи или чтении книги! Нет, так не бывает никогда. Мы непосредственно воспринимаем смысл речи во всей его точности и определенности — обыкновенно без вмешательства образов фантазии. Здесь разум говорит разуму, остается в его области, и то, что он сообщает и воспринимает, это — абстрактные понятия, представления, лишенные наглядности; хотя они и образованы раз и навсегда и сравнительно в небольшом количестве, но обнимают и содержат в себе бесчисленные объекты действительного мира и являются их заместителями. Только этим и объясняется, что животное никогда не может ни говорить, ни понимать, хотя у него и есть общие с нами орудия языка и наглядные представления; но именно потому, что слова обозначают собою упомянутый нами совершенно особый класс представлений, субъективным коррелятом которого служит разум, именно поэтому они не имеют для животного смысла и значения.
Таким образом, язык, как и всякое другое явление, которое мы приписываем разуму, и как все, что отличает человека от животного, находит себе объяснение только в этом едином, простом источнике:
48
в понятиях, в абстрактных, а не наглядных, в общих, а не индивидуальных, пространственно-временны́х представлениях[31]. Только в отдельных случаях мы переходим от понятий к созерцанию и создаем себе образы фантазии: они для нас — наглядные представители понятий, которым, однако, никогда не адекватны. Они специально разобраны в § 28 трактата о законе основания, поэтому я не буду здесь повторяться. С тем, что там говорится, надо сравнить сказанное у Юма в двенадцатом из его «Философских опытов», с. 244, и у Гердера в его «Метакритике» (книге, впрочем, плохой), ч. 1, с. 274. Платоновская идея, которую делает возможной соединение фантазии и разума28, служит главной темой третьей книги настоящего произведения.
Хотя, таким образом, понятия совершенно отличны от наглядных представлений, они все-таки находятся в необходимом соотношении с ними, без которого они были бы ничем, так что оно составляет всю их сущность и бытие. Рефлексия есть неизбежно воспроизведение, повторение наглядного мира первообразов, хотя это повторение совсем особого рода, в совершенно разнородном материале. Вот почему понятиям вполне подходит название представлений о представлениях. Закон основания выступает и здесь в особой форме, и, подобно тому как всякая форма, в которой он господствует над известным классом представлений, составляет и исчерпывает соответственно всю сущность этого класса (поскольку он есть представление), так что время — это, как мы видели, всецело последовательность и более ничего, пространство — всецело положение и более ничего, материя — всецело причинность и более ничего, так и вся сущность понятий, или класса абстрактных представлений, заключается лишь в том отношении, какое выражает в них закон основания. И так как оно есть отношение к основе познания, то вся сущность абстрактного представления состоит исключительно в его отношении к другому представлению, которое является его основой познания. Хотя это другое представление, в свою очередь, может быть понятием, или абстрактным представлением, а последнее может опять-таки иметь лишь подобную же отвлеченную основу познания, но так до бесконечности не продолжается: в конце концов, ряд оснований познания должен замкнуться таким понятием, которое имеет свою основу в наглядном познании. Ибо весь мир рефлексии коренится в наглядном мире как своей основе познания. Поэтому класс абстрактных представлений имеет тот отличительный признак сравнительно с другими, что в последних закон основания всегда требует только отношения к другому представлению того же класса, между тем как в случае абстрактных представлений он требует в конце концов отношения к представлению из другого класса.
Те понятия, которые, как указано выше, относятся к наглядному познанию не прямо, а лишь через посредство одного или даже нескольких других понятий, называют преимущественно abstracta; наоборот, те, которые имеют свое основание непосредственно в наглядном мире, называют concreta. Однако последнее название совсем не подходит к понятиям, которые оно обозначает, потому что и они все-таки еще abstracta, а вовсе не наглядные представления. Вообще, эти термины являются результатом очень неясного понимания разницы, которую они
49
отмечают; впрочем, после сделанного здесь пояснения их можно сохранить. Примерами первого рода, т. е. abstracta в высшем смысле, являются такие понятия, как отношение, добродетель, исследование, начало и т. п. Примерами второго рода, т. е. неправильно называемых concreta, служат понятия: человек, камень, лошадь и т. п.[32] Если бы это не было слишком образным и потому несколько шутливым сравнением, то последние можно было бы очень метко назвать нижним этажом, а первые — верхними ярусами здания рефлексии*.
То, что понятие обнимает собою многое, т. е. что многие наглядные или даже опять-таки абстрактные представления находятся к нему в отношении основы познания, иначе говоря, мыслятся посредством него, — это не существенное его свойство, как обыкновенно думают, а лишь производное, второстепенное, которое даже не всегда должно быть в действительности, хотя оно всегда возможно. Это свойство вытекает из того, что понятие служит представлением представления, — т. е. вся его сущность заключается только в его отношении к другому представлению. Но так как понятие не есть само это представление и последнее даже по большей части относится совсем к другому классу представлений, а именно к наглядным представлениям, то оно может иметь временны́е, пространственные и другие определения и вообще еще много отношений, которые в понятии вовсе не мыслятся; вот почему многие несущественно отличающиеся представления могут мыслиться в одном и том же понятии, т. е. могут быть подведены под него. Однако эта приложимость ко многим вещам является не существенным, а случайным свойством понятия. Поэтому могут быть такие понятия, в которых мыслится лишь единственный реальный объект, но которые все-таки имеют абстрактный и всеобщий характер, а вовсе не являются единичными и наглядными представлениями: таково, например, понятие, которое имеет кто-либо об определенном городе, известном ему, однако, лишь из географии; хотя в данном случае мыслится только этот один город, однако возможны несколько отличающихся в своих деталях городов, к которым подходило бы это понятие. Не оттого, следовательно, понятие приобретает всеобщность, что оно абстрагировано от многих объектов, а, наоборот, различные вещи могут мыслиться в одном и том же понятии оттого, что всеобщность, т. е. отсутствие единичного определения, свойственна ему как абстрактному представлению разума.
Из сказанного ясно, что всякое понятие, будучи абстрактным, а не наглядным и потому не всецело определенным представлением, обладает так называемым объемом, или сферой, даже в том случае, если существует только единственный реальный объект, соответствующий ему. И вот мы всегда находим, что сфера каждого понятия имеет нечто общее со сферами других; иными словами, в нем отчасти мыслится то же, что в этих других, а в них опять-таки мыслится отчасти то же, что и в нем; и это так, несмотря на то что если они действительно различные понятия, то каждое или, по крайней мере, одно из двух содержит в себе нечто такое, чего нет у другого: в таком отношении находится каждый субъект к своему предикату[33]. Познать это отношение — значит высказать
50
суждение. Изобразить указанные сферы пространственными фигурами было очень удачной мыслью. Впервые она явилась, кажется, Готфриду Плуке, который пользовался для этого квадратами; Ламберт, правда, позднее, чем он, употреблял еще просто линии, проводя их одна под другой; Эйлер первый успешно применил круги. На чем, в конечном счете, основывается эта столь точная аналогия между отношениями понятий и отношениями пространственных фигур, я не могу сказать. Во всяком случае, для логики очень благоприятно, что все отношения понятий, даже в их возможности, т. е. a priori, могут быть представлены такими фигурами, а именно следующим образом.
1) Сферы двух понятий совершенно совпадают: например, понятие необходимости и понятие следствия из данного основания; точно так же понятия Ruminantia и Bisulca (отрыгающие и двухкопытные животные); далее, понятия о позвоночных и краснокровных животных (хотя здесь можно было бы кое-что возразить по поводу кольчатых червей); все это равнозначные понятия. Их изображает один круг, обозначающий как первое, так и второе понятие.
2) Сфера одного понятия полностью заключает в себе сферу другого:

3) Одна сфера заключает в себе две или несколько других, исключающих одна другую и в то же время заполняющих эту сферу:

4) Из двух сфер каждая заключает в себе часть другой:

5) Две сферы заключаются в третьей, которой они, однако, не заполняют:

51
Последний случай относится ко всем понятиям, сферы которых не имеют между собой непосредственной общности, так как всегда существует третье понятие, хотя часто и очень широкое, которое заключает в себе оба.
К этим случаям могут быть сведены все сочетания понятий, и из них может быть выведено все учение о суждениях и их конверсии, контрапозиции, обращения, дизъюнкции (последняя по третьей фигуре). Отсюда же могут быть выведены и те свойства суждений, на которых Кант построил мнимые категории рассудка29, за исключением, однако, гипотетической формы, ибо она является сочетанием уже не простых понятий, а суждений; за исключением, далее, модальности, о которой, как и о всех свойствах суждений, положенных в основу категорий, будет подробно сказано в приложении. Относительно указанных возможных сочетаний понятий следует заметить еще только то, что их можно разнообразно сочетать и друг с другом, например четвертую фигуру со второй. Только в том случае, если сфера, полностью или отчасти заключающая в себе другую, в свою очередь, сама всецело заключена в третьей, тогда все они вместе представляют умозаключение по первой фигуре, т. е. то сочетание суждений, благодаря которому познается, что понятие, полностью или отчасти заключающееся в другом, точно так же находится и в третьем, которое, в свою очередь, заключает в себе это другое; или же противоположность этого, отрицание: его графическое изображение, естественно, может состоять только в том, что две соединенные сферы не лежат в некоей третьей. Если много сфер заключают таким образом одна другую, то возникают длинные цепи умозаключений.
Этот схематизм понятий, который уже довольно хорошо изложен в нескольких учебниках, можно положить в основу учения о суждениях, как и всей силлогистики, и этим было бы очень облегчено и упрощено их преподавание, ибо из указанного схематизма все их правила легко усмотреть в их источнике, вывести и объяснить. Однако обременять ими память нет необходимости, потому что логика никогда не может иметь практической пользы, а представляет только теоретический интерес для философии. Ибо хотя и можно сказать, что логика относится к разумному мышлению, как генерал-бас30 к музыке, или, говоря менее точно, как этика — к добродетели или эстетика — к искусству, однако надо иметь в виду и то, что никто не сделался художником благодаря эстетике, и ничей характер не стал благородным от изучения этики, что задолго до Рамо31 создавались правильные и красивые композиции и что вовсе не нужно знать генерал-баса для того, чтобы заметить дисгармонию; точно так же не надо знать логики для того, чтобы не ввести себя в обман ложными умозаключениями. Нужно, однако, признать, что если и не для оценки, то во всяком случае для исполнения музыкальной композиции генерал-бас очень полезен; хотя и в гораздо меньшей степени, но некоторую пользу для исполнения, правда, главным образом отрицательную, могут принести и эстетика, и даже этика, так что и им нельзя совершенно отказать в практической ценности; но в защиту логики нельзя сказать даже и этого. Она представляет собой просто знание in abstracto того, что всякий знает in concreto. И подобно тому как нет нужды в ней, чтобы отвергнуть ложную мысль, так не призывают на помощь ее правила, чтобы составить верное суждение, и даже
52
самый ученый логик в процессе реального размышления оставляет ее совсем в стороне. Это объясняется следующим. Каждая наука состоит из системы общих, следовательно, абстрактных истин, законов и правил в применении к известному роду предметов. И вот всякий частный случай, относящийся к последним, определяется каждый раз этим общим знанием, имеющим силу для всех случаев, ибо применять общий принцип бесконечно легче, чем заново исследовать каждый частный случай: ведь однажды обретенное общее, абстрактное познание гораздо ближе и доступнее для нас, чем эмпирическое исследование частностей.
С логикой же дело обстоит совершенно наоборот. Она представляет собой общее, выраженное в форме правил знание о способе деятельности разума, постигнутое самонаблюдением разума через абстрагирование от всякого содержания. Для разума этот способ необходим и существен, и, предоставленный самому себе, разум ни в каком случае не уклонится от него. Поэтому легче и вернее предоставлять ему в каждом отдельном случае действовать сообразно своей собственной природе, чем указывать ему в форме чужого, извне предписанного закона то знание об этом действии, которое абстрагировано от самого этого действия. Это — легче, ибо хотя во всех других науках общее правило ближе к нам, чем исследование частного случая в его обособленности, но в деятельности разума, наоборот, его практика, необходимая в каждом данном случае, всегда ближе к нам, чем абстрагированное от нее общее правило: ведь мыслящее в нас и есть тот самый разум. Это — вернее, ибо скорее может произойти заблуждение в абстрактном знании или его применении, чем совершиться такое действие разума, которое противоречило бы его сущности, его природе. Этим и объясняется тот замечательный факт, что в то время как в других науках истинность частного случая проверяется на практике, в логике же, наоборот, правило должно проверяться на частном случае; и самый искусный логик, заметив, что в частном случае он делает не то заключение, какого требует правило, всегда скорее станет искать ошибки в правиле, чем в своем действительном заключении. Таким образом, желание делать из логики практическое употребление равносильно желанию выводить с невероятными усилиями из общих правил то, что нам непосредственно и вполне достоверно известно в каждом отдельном случае. Это то же самое, как если бы для своих движений мы обратились за советом к механике, а для пищеварения — к физиологии; и кто изучает логику для практических целей, похож на человека, который старается выучить бобра строить себе жилище[34].
Хотя, таким образом, логика практически и бесполезна, тем не менее она должна быть сохранена, потому что имеет философский интерес как специальное знание об организации и деятельности разума. Как обособленная, самостоятельная, законченная, оформленная и совершенно достоверная дисциплина, она заслуживает того, чтобы ее, отдельно и независимо от всего остального, научно трактовали и так же преподавали в университетах; но свое настоящее значение она получает лишь в связи с общей философией при изучении познания, а именно разумного, или абстрактного, познания. Сообразно с этим ее преподавание, с одной стороны, не должно было бы так явно принимать форму науки, а с другой — не должно было бы заключать в себе одни лишь голые нормы для
53
правильного обращения суждений, для умозаключений и т. д.; необходимо, чтобы оно больше стремилось к ознакомлению с сущностью разума и понятия и к обстоятельному разбору закона основания познания, ибо логика является только парафразой последнего — и притом лишь для того случая, когда основание, которое сообщает суждениям истинность, носит не эмпирический или метафизический, а логический или металогический32 характер. Наряду с законом основы познания следует приводить поэтому и остальные три коренных закона мышления, или суждения металогической истинности, находящиеся с ним в таком близком родстве, а затем из этого мало-помалу вырастает вся техника разума. Сущность подлинного мышления, т. е. суждения и умозаключения, следует излагать посредством сочетания сфер понятий, согласно пространственной схеме, как показано выше, и из этой схемы следует выводить все правила суждения и умозаключения методом конструирования. Единственное практическое употребление, какое можно делать из логики, состоит в том, чтобы во время диспута изобличать своего противника не столько в его действительно ошибочных заключениях, сколько в его преднамеренно ложных выводах, называя их техническими именами. Такое умаление практической стороны логики и указание на ее связь со всей философией как отдельной главы последней вовсе не сделали бы знакомство с нею более редким, чем оно есть теперь; ибо в наши дни всякий, кто не желает оставаться несведущим в самом главном и не хочет быть причисленным к невежественной и косной толпе, должен изучать спекулятивную философию, — и это потому, что наш девятнадцатый век есть век философский. Этим мы хотим сказать не столько то, что наше столетие обладает философией или что философия играет в нем господствующую роль, сколько то, что оно созрело для философии и потому крайне нуждается в ней: это признак высокого развития образованности и даже твердая точка на скале культуры веков*.
Как ни мало может логика иметь практической пользы, тем не менее нельзя отрицать, что она была изобретена для практических целей. Ее возникновение я объясняю себе следующим образом. Когда среди элеатов, мегарцев и софистов страсть к спорам в своем развитии постепенно достигла почти болезненного характера33, то путаница, которой сопровождался почти каждый спор, заставила их вскоре почувствовать необходимость методического подхода, для обучения которому и надо было найти научную диалектику. Прежде всего было замечено, что обеим спорящим сторонам всегда приходилось соглашаться между собой в каком-нибудь положении, к которому в диспутах могли быть сведены спорные пункты. Начало методического подхода состояло в том, что эти общепризнанные положения формально высказывались в качестве таковых и ставились во главу исследования. Однако сперва эти положения касались только материальной стороны спора. Скоро заметили, что и по отношению к способам и приемам, какими восходят к общепризнанной истине и выводят из нее свои утверждения, тоже соблюдаются известные формы и законы, по поводу которых, хотя и без
54
предварительного соглашения, никогда
не возникает разногласия; из этого заключили, что они должны представлять собой
присущую самому разуму, заложенную в его основе черту, формальный момент исследования.
И хотя этот момент не подвергался сомнению и не вызывал разногласий, однако в
некую педантично-систематическую голову должна была прийти такая мысль: было бы
прекрасно и явилось бы полным завершением методической диалектики, если и эту
формальную сторону всякого спора, эту постоянно закономерную деятельность
самого разума тоже выразить в абстрактных положениях и, подобно общепризнанным принципам
материальной стороны исследования, поставить их во главе спора в качестве
незыблемого канона прений, на который всегда можно было бы опираться и ссылаться.
В этом стремлении сознательно провозгласить законом и формально выразить то,
чему раньше следовали как бы по молчаливому соглашению или что исполняли
инстинктивно, философы постепенно находили более или менее совершенные выражения
для основных логических законов, таких, как законы противоречия, достаточного
основания, исключенного третьего, dictum de
Легко понять, что в печальные средние века дух схоластов, жаждавших споров и, за недостатком всяких реальных знаний, питавшихся только формулами и словами, должен был радостно приветствовать аристотелевскую логику, что она была с жадностью подхвачена даже в своем арабском искажении и скоро возведена в средоточие всякого знания. С тех пор логика потеряла свое почетное место, однако и поныне она пользуется репутацией самостоятельной, практической и крайне необходимой науки; в наши дни кантовская философия, заимствовавшая свой краеугольный камень, собственно, из логики, даже возбудила к ней новый интерес, и в этом отношении, т. е. как средство к познанию сущности разума, логика его, конечно, заслуживает.
55
Правильные строгие умозаключения создаются путем тщательного наблюдения над сферами понятий, и только в том случае, если одна сфера вполне заключается в другой, а эта другая — в третьей, то и первая будет признана вполне содержащейся в третьей; в противоположность этому искусство убеждения (красноречие) основывается лишь на поверхностном наблюдении отношений между сферами понятий и их одностороннем определении в соответствии со своими целями[35]. Это делается главным образом так: если сфера рассматриваемого понятия лишь отчасти заключается в другой, а отчасти принадлежит совершенно иной, то ее выдают за лежащую всецело в первой или всецело во второй — смотря по цели оратора. Например, говоря о страсти, можно произвольно подводить ее под понятие величайшей силы, самого могущественного побудителя в мире или же под понятие неразумения, а последнее — под понятие бессилия, слабости. Того же приема можно держаться постоянно, применяя его к каждому понятию, о котором идет речь. Почти всегда в сферу какого-нибудь понятия входят многие другие сферы, из которых каждая, заключая в себе некоторую долю области первого понятия, сама сверх того простирается еще далее; оратор же из этих последних сфер понятий освещает только ту одну, под которое[36] он хочет подвести первое понятие, оставляя прочие без внимания или прикрывая их. На этой уловке и основываются, собственно, все приемы красноречия, все более тонкие софизмы, ибо логические софизмы, как men tiens, velatus, cornutus* и т. п., очевидно, слишком грубы для действительного пользования. Так как мне неизвестно, чтобы[37] кто-нибудь до сих пор свел сущность всей софистики и красноречия к этому последнему основанию их возможности и показал его в специфическом свойстве понятий, т. е. в познавательных приемах разума, то, коль скоро мое изложение уже привело меня к этому вопросу, я позволю себе уяснить его, как бы ни был он понятен сам собою, еще посредством схемы на прилагаемой таблице: из нее видно, как сферы понятий многообразно захватывают одна другую и вполне допускают поэтому произвольный переход от одного понятия к другому. Я не хотел бы только, чтобы из-за таблицы этому маленькому и побочному исследованию придали больше значения, чем оно заслуживает по своему характеру. Пояснительным примером я избрал понятие путешествия. Его сфера захватывает область четырех других, и к каждой из них оратор может переходить произвольно; эти сферы, в свою очередь, захватывают другие, — иной раз даже одновременно две или больше; оратор произвольно выбирает в них свою дорогу, всегда делая вид, будто она единственная, а затем, смотря по своей цели, в конце концов достигает блага или зла. Надо только при прохождении сфер всегда идти от центра (данного главного понятия) к периферии, а не обратно. Оболочкой такой софистики может быть или плавная речь, или же строгая силлогистическая форма — смотря по тому, где находится слабая струнка слушателя. В сущности, большинство научных, особенно философских доказательств построены не многим лучше: иначе как было бы возможно, чтобы столь многое и в разные времена не только ошибочно принималось за истину (ибо
56
ошибка сама по себе имеет другой источник), но и проходило через точную аргументацию и доказательство, а впоследствии оказывалось совершенно ложным? Таковы, например, лейбнице-вольфовская философия, птолемеевская астрономия, химия Шталя, Ньютоново учение о цветах и т. д*.
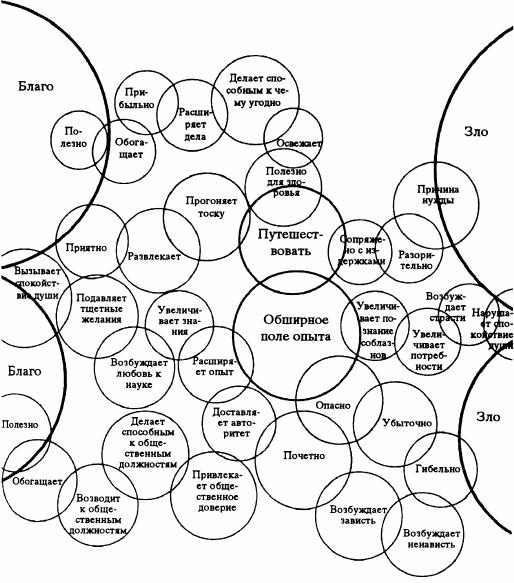
57
§ 10
Это все более и более приближает нас к вопросу, как достигается достоверность, как надо обосновывать суждения, в чем состоит знание и наука, которую мы, наряду с языком и обдуманным поведением, считаем третьим из великих преимуществ, доставляемых разумом.
Разум обладает природой женщины34: он может рождать, только восприняв. Сам по себе он не имеет ничего, кроме бессодержательных форм своих операций. Совершенно чистого познания разумом и вовсе не существует, кроме четырех законов, которым я приписал металогическую истинность, т. е. законов тождества, противоречия, исключенного третьего и достаточного основания познания. Ибо даже остальное в логике уже не чистое познание разумом, так как предполагает отношения и комбинации сфер понятий; понятия же вообще возникают лишь вслед за предшествовавшими наглядными представлениями, отношение к которым составляет всю их сущность и которые, следовательно, уже предполагаются ими. Но так как эта предпосылка распространяется не на определенное содержание понятий, а только на их бытие вообще, то логика, взятая в целом, может все-таки считаться наукой чистого разума. Во всех остальных науках разум получает свое содержание из наглядных представлений: в математике — из наглядно известных до всякого опыта отношений пространства и времени; в чистом естествознании, т. е. в том, что мы до всякого опыта знаем о течении природы, содержание науки исходит из чистого рассудка, т. е. из априорного познания закона причинности и его связи с чистыми созерцаниями пространства и времени. Во всех других науках все то, что не заимствовано из только что названных дисциплин, принадлежит опыту. Знать — вообще значит иметь во власти своего духа для произвольного воспроизведения такие суждения, которые находят достаточную основу познания в чем-нибудь вне себя самих, т. е. истинны. Таким образом, только абстрактное познание есть знание; поэтому оно обусловлено разумом, и о животных мы, строго говоря, не можем утверждать, будто они что-либо знают, хотя у них и есть наглядное познание, воспоминание о нем и потому воображение, — последнее доказывается и их сновидениями. Сознание мы им приписываем, и его понятие, следовательно (хотя само слово происходит от знания), совпадает с понятием представления вообще, какого бы рода оно ни было. Вот почему растению мы приписываем жизнь, но не сознание. Таким образом, знание — это абстрактное сознание, это закрепление в понятиях разума того, что познано иным путем.
§ 11
В этом отношении действительной противоположностью знания является чувство, почему мы и должны здесь его рассмотреть. Понятие, обозначаемое словом чувство, всегда имеет только отрицательное содержание, а именно: нечто, данное в сознании, не есть понятие, не есть абстрактное познание разума. Чем бы оно затем ни было, оно всегда
58
относится к понятию чувства, неизмеримо широкая сфера которого заключает в себе самые разнородные вещи; и мы до тех пор не поймем, как они сходятся между собой, пока не узнаем, что они совпадают только в этом отрицательном отношении, в том, что они не абстрактные понятия. Ибо в указанном понятии мирно располагаются друг подле друга самые различные, даже враждебные элементы, например религиозное чувство, сладострастие, моральное чувство, физические чувства — такие, как осязание, боль, чувство красок, звуков, их гармонии и дисгармонии; далее, ненависть, отвращение, самодовольство, честь, стыд, чувство справедливого и несправедливого, чувство истины, эстетическое чувство силы, слабости, здоровья, дружбы, любви и т. д. Между ними нет решительно ничего общего, кроме той отрицательной черты, что они — это не абстрактное познание разума. Но еще поразительнее, что под понятие чувства подводится даже наглядное, априорное познание пространственных отношений и всякое познание чистого рассудка, и вообще, о каждом познании, о каждой истине, которые вначале мы сознаем лишь интуитивно, но не уложили еще в абстрактные понятия, говорится, что мы чувствуем их. Для пояснения я приведу из новейших книг несколько примеров, ибо они замечательно подтверждают мое определение. Помнится, в предисловии к одному немецкому переводу Евклида я читал, что приступающих к геометрии надо, не прибегая пока к доказательствам, заставлять чертить все фигуры, ибо в таком случае они заранее уже чувствуют геометрическую истину, прежде чем доказательство приведет их к полному познанию. Точно так же в «Критике учения о нравах» Ф. Шлейермахера говорится о логическом и математическом чувстве (с. 339), о чувстве равенства или различия двух формул (с. 342). Далее, в «Истории философии» Теннемана (с. 361) мы читаем: «Чувствовалось, что ложные заключения были неверны, но нельзя было обнаружить ошибки».
Пока у нас не установится правильный взгляд на понятие чувства и пока мы не заметим тот отрицательный признак, который один только и существен для него, до тех пор это понятие, благодаря чрезмерной широте своей сферы и своему чисто отрицательному, совершенно одностороннему и весьма незначительному содержанию, постоянно будет давать повод для недоразумений и споров. Так как у нас есть еще почти равнозначащее слово ощущение (Empfindung), то было удобно пользоваться им как разновидностью для выражения физических чувств. Что же касается происхождения этого понятия чувства, непропорционального относительно всех других, то оно несомненно следующее. Все понятия (а только понятия и выражаются словами) существуют исключительно для разума, исходят из него; следовательно, они сразу ставят нас уже на одностороннюю точку зрения. А с такой точки зрения ближайшее кажется ясным и определяется положительно, более же отдаленное сливается и вскоре получает в глазах наблюдателя лишь отрицательный характер. Так, каждая нация называет все другие чужеземными, грек всех остальных именует варварами, для англичанина все, что не Англия и не английское, — continent и continental*[38]; верующий
59
называет всех других еретиками или язычниками; для аристократа все другие — roturies1, для студента все остальные — филистеры и т. п. В той же односторонности, можно сказать — в том же грубом невежестве гордыни повинен, как это ни странно звучит, и самый разум, потому что он включает в одно понятие чувства всякую модификацию сознания, если только она не принадлежит непосредственно к его способу представления, иначе говоря, не есть абстрактное понятие. Эту вину разум, не уяснив себе своего образа действия путем глубокого самопознания, должен был до сих пор искупать ценою недоразумений и блужданий в собственной области, ведь была придумана даже особая способность чувства и строились ее теории.
§ 12
Знание, в качестве контрадикторной противоположности которого я только что представил понятие чувства35, это, как уже сказано, всякое абстрактное познание, т. е. познание разумом. Но так как разум всегда возвращает познанию лишь нечто уже воспринятое иным путем, то он, собственно, не расширяет нашего знания, а только придает ему другую форму. А именно то, что было познано интуитивно, in concreto, благодаря ему познается в абстрактном и общем виде, а это несравненно важнее, чем высказанное в такой форме кажется на первый взгляд. Ибо прочное сохранение познанного, возможность его передачи, уверенное и широкое применение на практике всецело зависят от того, что познанное сделалось знанием, получило абстрактный характер. Интуитивное познание всегда относится только к частному случаю, касается только ближайшего и на нем останавливается, ибо чувственность и рассудок могут одновременно воспринимать, собственно, лишь один объект. Всякая продолжительная, связная, планомерная деятельность должна поэтому исходить из основных принципов, т. е. из абстрактного знания, и ими руководствоваться. Так, познание, имеющееся у рассудка об отношении между причиной и действием, само по себе гораздо совершеннее, глубже и содержательнее, чем то, что можно мыслить об этом in abstracto: только рассудок познает наглядно, непосредственно и совершенно, как действует рычаг, полиспаст, шестерня, как сам собою держится свод и т. д. Но вследствие только что затронутого свойства интуитивного познания — обращаться лишь к непосредственно данному, одного рассудка недостаточно для построения машин и зданий; здесь должен приняться за дело разум, заменить созерцания абстрактными понятиями, сделать их путеводной нитью в своей деятельности, и если они верны, то успех обеспечен. Точно так же в чистом созерцании мы в совершенстве познаем сущность и закономерность параболы, гиперболы, спирали, но чтобы сделать из этого познания верное приложение к действительности, его необходимо сначала превратить в абстрактное знание. При этом хотя оно и потеряет наглядность, но приобретает зато достоверность и определенность абстрактного знания. Та-
60
ким образом, все дифференциальное исчисление не расширяет, собственно, наше знание о кривых, не содержит ничего сверх того, что уже было в чистом созерцании их; но оно изменяет характер познания, превращая интуитивное в абстрактное, что оказывается необычайно плодотворным в применении. Здесь, однако, необходимо упомянуть еще об одном свойстве нашей познавательной способности, — его не могли заметить до тех пор, пока не было вполне уяснено различие между наглядным и абстрактным познанием. Свойство это заключается в том, что отношения пространства, как таковые, нельзя непосредственно перенести в абстрактное познание, но для этого пригодны только временные величины, т. е. числа. Только числа могут быть выражены в точно соответствующих им абстрактных понятиях, но не пространственные величины. Понятие тысячи так же отличается от понятия десяти, как обе временные величины отличаются в созерцании: в тысяче мы мыслим число, в определенное количество раз большее десяти, и мы можем для созерцания во времени произвольно разложить эту тысячу на десятки, т. е. счесть ее. Но между абстрактными понятиями мили и фута, без наглядного представления о них и без помощи числа не существует точного различия, соответствующего самим этим величинам. В обоих понятиях мыслится только пространственная величина вообще, и, для того чтобы достаточно различить их, необходимо либо призвать на помощь пространственное созерцание, т. е. покинуть уже область абстрактного познания, либо же помыслить это различие в числах. Таким образом, если мы хотим иметь абстрактное знание о пространственных отношениях, то их нужно перенести сначала во временные отношения, т. е. в числа. Поэтому только арифметика, а не геометрия является общей наукой о величинах, и геометрия должна быть переведена в арифметику, если ее хотят сделать удобной для изложения другим и сообщить ей точную определенность и приложимость на практике. Правда, и пространственное отношение, как таковое, можно мыслить in abstracto, — то, например, что синус увеличивается соответственно углу; но если требуется указать величину этого отношения, необходимо число. Необходимость переводить пространство с его тремя измерениями во время, имеющее только одно измерение, если мы хотим иметь абстрактное познание (т. е. знание, а не просто созерцание) пространственных отношений, — эта необходимость и делает столь трудной математику. Это станет очень ясно, если сравнить созерцание кривых с аналитическим вычислением их или хотя бы только таблицы логарифмов тригонометрических функций — с созерцанием изменяющихся отношений между частями треугольника, выражаемых этими таблицами. То, что созерцание вполне и с предельной точностью схватывает здесь с первого взгляда, например как уменьшается косинус с увеличением синуса, как косинус одного угла является синусом другого, обратное соотношение между уменьшением и увеличением обоих углов и т. д., — все это потребовало бы огромной ткани чисел и утомительного вычисления, чтобы выразиться in abstracto. Можно сказать: какие муки должно вынести время со своим одним измерением, чтобы передать три измерения пространства! Между тем это необходимо, если мы хотим ради практических целей, чтобы пространственные отношения были фиксированы в абстрактных понятиях:
61
первые могут выразиться в последних не непосредственно, а лишь через посредство чисто временной величины, числа, которое одно непосредственно пригодно для абстрактного познания. Замечательно еще и то, что если пространство вполне подходит для созерцания и при помощи своих трех измерений позволяет легко обозреть даже сложные отношения, оказываясь, однако, недоступным для абстрактного познания, то время, наоборот, легко укладывается в отвлеченные понятия, зато очень мало дает созерцанию: наше созерцание чисел в их самобытной стихии, чистом времени, без привлечения пространства, едва доходит до десяти, — за этими пределами мы имеем уже только абстрактные понятия, а не наглядное познание чисел; с другой стороны, с каждым числительным и со всеми алгебраическими знаками мы соединяем точно определенные абстрактные понятия.
Заметим, кстати, что некоторые умы находят себе полное удовлетворение только в наглядном познании. Наглядно представленные основание и следствие бытия в пространстве — вот то, чего они ищут; евклидовское доказательство или арифметическое решение пространственных задач их не удовлетворяет. Другие умы, наоборот, требуют абстрактных понятий, только и пригодных для пользования и изложения: у них есть терпение и память для абстрактных тезисов, формул, доказательств в длинной цепи умозаключений и для вычислений, знаки которых являются заместителями самых сложных абстракций. Последние умы стремятся к определенности, первые — к наглядности. Разница характерна.
Высшая ценность знания, абстрактного познания, заключается в том, что его можно передавать другим и, закрепив, сохранять: лишь благодаря этому оно делается столь неоценимо важным для практики. Иной может обладать в своем рассудке непосредственно наглядным познанием причинной связи между изменениями и движениями физических тел и находить в нем полное удовлетворение; но чтобы знание его могло быть сообщено другим, его нужно сначала закрепить в понятиях. Даже для практических целей познания первого рода достаточно, если его обладатель берет его применение всецело на себя и притом в действии вполне выполнимом, пока наглядное познание остается еще живым; но такого познания недостаточно, когда есть нужда в чужой помощи или когда даже собственные действия должны совершиться в разные промежутки времени и, следовательно, требуют обдуманного плана. Например, опытный бильярдный игрок может только в рассудке, только в непосредственном созерцании обладать полным знанием законов столкновения эластических тел между собою, и этого ему совершенно достаточно; но действительным знанием этих законов, т. е. познанием in abstracto, обладает только ученый-механик. Даже для устройства машин достаточно такого чисто интуитивного познания рассудком, если изобретатель машины сам ее строит, как это часто делают талантливые ремесленники без всяких научных сведений. Если же, наоборот, для выполнения механической операции, машины, здания есть нужда в нескольких людях и в их сложной работе, начинающейся в разные моменты времени, то руководитель подобной совместной деятельности должен составить себе in abstracto ее план,
62
и она возможна только при помощи разума. Замечательно, однако, что в деятельности первого рода, там, где кто-нибудь должен выполнить известное действие единолично и без перерывов, знание, применение разума, рефлексия часто могут даже мешать, например при бильярдной игре, фехтовании, настройке инструмента, пении. В таких случаях деятельностью должно непосредственно руководить наглядное познание, рефлексия же делает ее неуверенной, рассеивая внимание и сбивая человека с толку. Вот почему дикари и необразованные люди, мало привычные к размышлению, выполняют известные физические упражнения, например борьбу с животными, метание стрел и т. п., с такой уверенностью и быстротой, которые недоступны для рефлектирующего европейца, — именно потому, что рефлексия заставляет его колебаться и медлить. Он старается, например, определить подходящее место, улучить надлежащий момент между обеими неверными крайностями; человек природы находит все это непосредственно, не думая ни о чем постороннем. Точно так же нет для меня проку в том, что я умею определить in abstracto, в градусах и минутах, угол, под которым надо накладывать бритву, если я не знаю его интуитивно, держа бритву в руке. Так же мешает разум и пониманию человеческого лица: и оно должно совершаться непосредственно рассудком, недаром говорят, что выражение, смысл физиономии можно только чувствовать, т. е. они не растворяются в абстрактных понятиях. Каждый человек обладает своей непосредственной интуитивной физиогномикой и патогномикой, но один распознает эту signatura rerum* отчетливее, чем другой. Учить же и учиться физиогномике in abstracto нельзя, ибо оттенки здесь столь тонки, что понятие не может опуститься до них. Поэтому абстрактное знание так относится к ним, как мозаичная картина к Ван дер Верфту или Деннеру: подобно тому как при всей тонкости мозаики границы камешков всегда явны и поэтому невозможен постепенный переход от одного цвета к другому, так и понятия в своей неподвижности и резких очертаниях, как бы тонко ни раскалывать их ближайшими определениями, никогда не могут достигнуть тонких модификаций созерцаемого, между тем именно в последних и заключается вся сущность указанной мною для примера физиогномики**[39].
Именно это свойство понятий, которое делает их похожими на камешки мозаичной картины и благодаря которому созерцание всегда остается их асимптотой, — это свойство является причиной того, почему с их помощью нельзя достигнуть ничего хорошего в искусстве. Если
63
певец или виртуоз будет руководиться рефлексией, он останется мертв. То же относится к композитору, к художнику и даже к поэту; понятие всегда бесплодно для искусства и может управлять только техникой его, сфера понятия — наука. В третьей книге мы подробнее исследуем, почему настоящее искусство всегда исходит из наглядного познания, а не из понятия. Даже в обращении, в личной приветливости обхождения понятие играет только ту отрицательную роль, что сдерживает грубые вспышки эгоизма и животности, почему вежливость и является его созданием, достойным всяческой похвалы. Однако привлекательность, грация, пленительность в обращении, любовь и дружба не должны вытекать из понятия, иначе
Намеренность расстраивает все36.
Всякое притворство — дело рефлексии; но долго и без перерыва его не выдержать: nemo potest personam diu ferre fictam*, говорит Сенека в книге «De dementia»**; большей частью оно тогда распознается и не достигает своей цели. В трудные моменты жизни, когда нужны быстрые решения, смелые поступки, скорая и верная сообразительность, разум, конечно, необходим; но если он получит преобладание и своими сомнениями задержит интуитивный, непосредственный, чисто рассудочный выбор в понимании должного, он вызовет нерешительность и легко может все испортить.
Наконец, и добродетель, и святость тоже исходят не из рефлексии, а из внутренней глубины воли и ее отношения к познанию. Разъяснение этого относится к совершенно другому месту настоящей книги, здесь же я позволю себе заметить только то, что нравственные догматы могут быть одни и те же в разуме целых народов, но поступает каждый индивид по-своему; и наоборот, поступки, как говорится, основаны на чувствах, т. е. как раз не на понятиях, если иметь в виду их этическое содержание. Догматы занимают досужий разум; поступок в конце концов идет своим путем, независимо от них, и совершается он большей частью не по абстрактным, а по невысказанным максимам, выражением которых является именно сам человек в его целостности. Поэтому, как ни различны религиозные догматы народов, у всех добрый поступок сопровождается невыразимым довольством, а дурной — бесконечным отвращением; первого не колеблет никакая насмешка, от последнего не разрешит никакое отпущение духовника. Однако отсюда не следует, что для осуществления добродетельной жизни не нужно участие разума, но только он — не источник ее. Его функция подчиненная: он хранит однажды принятые решения, стоит на страже принципов, противодействуя минутным слабостям и сообщая последовательный характер нашим поступкам. К этому же, в конце концов, сводится и его роль в искусстве: здесь он так же бессилен в существенном, но помогает выполнению замысла, ибо гений проявляется не каждую минуту, а произведение все же должно быть завершено во всех частях и округлено в одно целое***.
64
Все эти соображения как о пользе, так и о вреде применения разума должны уяснить, что, хотя абстрактное знание и представляет собой рефлекс наглядного представления и основывается на нем, оно тем не менее не настолько совпадает с последним, чтобы всюду могло изменять его; напротив, между ними никогда нет полного соответствия. И хотя, как мы видели, многие из человеческих деяний осуществляются только с помощью разума и по обдуманному плану, однако некоторые из них лучше совершать без такой помощи. Именно то несоответствие наглядного и абстрактного познания, благодаря которому последнее лишь приближается к первому, как мозаика к живописи, лежит в основе весьма замечательного явления, которое, как и разум, свойственно исключительно человеку, но все объяснения которого, несмотря на все новые и новые попытки, до сих пор остаются неудовлетворительными: я имею в виду смех. В силу этого происхождения смеха мы не можем обойтись здесь без его объяснения, хотя оно и явится новой задержкой на нашем пути.
Смех всегда возникает из неожиданного осознания несовпадения между известным понятием и реальными объектами, которые в каком-либо отношении мыслились в этом понятии, и сам представляет собой лишь выражение этого несовпадения. Последнее часто происходит оттого, что два или несколько реальных объектов мыслятся в одном понятии и тождество его переносится на них; и вот тогда полное несходство их во всем остальном обнаруживает, что данное понятие подходило к ним лишь с какой-то одной стороны. Так же часто внезапно ощущается и несовпадение уникального реального объекта с тем понятием, под которое он в одном отношении подводится правильно. Чем вернее поэтому подводятся такие реальности под известное понятие в каком-нибудь одном отношении и чем больше и очевиднее их несоответствие с ним в других отношениях, тем сильнее вытекающий из этой противоположности эффект смешного. Всякий смех, таким образом, возникает по поводу парадоксального и потому неожиданного подведения — все равно, выражается оно в словах или в поступках. Таково вкратце правильное объяснение смешного.
Я не буду останавливаться здесь на передаче анекдотов, которые могли бы в качестве примеров поддержать мое объяснение, ибо оно столь просто и понятно, что не нуждается в них, и подтверждением его точно так же может служить любое из смешных воспоминаний читателя. Но опору и вместе с тем разъяснение наша теория находит в существовании двух родов смешного, на которые оно распадается и которые понятны именно из нашего толкования. Либо в сознании возникают два (или несколько) очень различных реальных объекта, наглядных представления, и их намеренно отождествляют в единстве понятия, обнимающего оба предмета: этот род смешного называется остротой. Либо, наоборот, понятие первоначально находится в сознании, и от него переходят к реальности и к воздействию на нее — поступку; объекты, во всем различные, но одинаково мыслимые в этом понятии, рассматриваются и трактуются одинаковым образом, пока перед изумленным и пораженным деятелем не обнаружится их полное различие в остальных
65
отношениях: этот род смешного называется глупостью. Итак, все смешное — это или остроумная выдумка, или глупый поступок, смотря по тому, совершился ли переход от несовпадения объектов к тождеству понятия или наоборот: первое всегда делается намеренно, последнее всегда происходит непроизвольно и по внешнему принуждению. Изменять же для виду исходный пункт и выдавать остроту за глупость составляет искусство придворного шута и Гансвурста37: отлично сознавая различие объектов, он все-таки объединяет их тайным остроумием в одно понятие и, исходя из него, испытывает от обнаруживающегося затем различия объектов то изумление, которое он сам же и приготовил себе. Из этой краткой, но удовлетворительно изложенной теории смешного вытекает, что (оставляя в стороне случай шута) остроумие всегда должно выражаться в словах, глупость же преимущественно в поступках; впрочем, она проявляется и в словах, когда она лишь высказывает свое намерение, не осуществляя его в действительности, или обнаруживает себя в одних только суждениях и мнениях.
К глупости относится также педантизм. Он происходит от того, что человек, не очень доверяя собственному рассудку, не решается предоставить ему в каждом отдельном случае непосредственное познание должного, всецело отдает его под опеку разума и хочет руководиться последним, т. е. всегда исходить из общих понятий, правил, принципов и строго держаться их в жизни, в искусстве и даже в этическом поведении. Отсюда свойственная педантизму приверженность к форме, манере, выражению и слову, которые заменяют для него существо дела. Здесь скоро обнаруживается несовпадение понятия с реальностью, обнаруживается, что понятое никогда не опускается до частностей, что его всеобщность и строгая определенность никогда не могут вполне подходить к тонким нюансам и разнообразным модификациям действительности. Педант поэтому со своими общими принципами почти всегда оказывается в жизни слишком узким; он не умен, безвкусен, бесполезен; в искусстве, где понятие бесплодно, он порождает нечто безжизненное, натянутое, манерное. Даже в морали решимость поступать справедливо или благородно не везде может осуществляться согласно абстрактным принципам; во многих случаях бесконечно тонкие нюансы обстоятельств вызывают необходимость в непосредственно вытекающем из характера выборе должного, между тем как применение чисто отвлеченных принципов, пригодных лишь наполовину, отчасти дает ложные результаты, а отчасти и совсем невозможно, так как они чужды индивидуальному характеру действующего лица, от которого никогда нельзя отрешиться. Вот почему и бывает непоследовательность. Мы не можем вполне освободить Канта от упрека в поощрении морального педантизма, поскольку условием моральной ценности поступка он считает его происхождение из чисто разумных абстрактных принципов, помимо всякой склонности или минутного порыва. В таком упреке заключается и смысл шиллеровской эпиграммы «Угрызение совести»38. Когда, особенно в политике, речь идет о доктринерах, теоретиках, ученых и т. п., то имеются в виду педанты, т. е. люди, которые знают вещи in abstracto, но не in concreto. Абстракция заключается в мысленном устранении частных определений, тогда как на практике именно они играют важную роль.
66
Для полноты теории надо упомянуть еще незаконный вид остроты — игру слов, calembourg, pun[40]; сюда же относится и двусмысленность, l’équivoque, главная сфера которой — непристойность[41]. Как острота насильственно подводит под одно понятие два различных реальных объекта, так игра слов, пользуясь случаем, облекает в одно слово два различных понятия: контраст возникает тот же, но только гораздо бледнее и поверхностнее, ибо проистекает не из существа вещей, а лишь из случайности наименования. При остроте тождество — в понятии, различие — в действительности; при игре слов различие — в понятиях, а тождество — в действительности, представляемой звучанием слова.
Сравнение, пожалуй, было бы слишком прихотливым, если бы мы сказали, что игра слов так относится к остроте, как парабола верхнего обращенного конуса к параболе нижнего. Словесное же недоразумение, или quid pro quo*, — это невольный calembourg[42], и оно относится к последнему так, как глупость к остроумию; поэтому тугой на ухо, подобно глупцу, часто дает повод для смеха, и авторы плохих комедий пользуются им для возбуждения смеха вместо глупца[43].
Я рассмотрел здесь смех только с психологической стороны; по отношению к физической отсылаю к сказанному в «Парерга», т. II, гл. 6, § 96, с. 134 (1-е изд.)**.
§ 14
От этих различных соображений, которые, надеюсь, вполне уяснили разницу и отношение между познанием разума, знанием, понятием, с одной стороны, и непосредственным познанием в чисто чувственном математическом созерцании и восприятии посредством рассудка — с другой; далее, от эпизодических замечаний о чувстве и смехе, к которым нас почти неизбежно привел разбор замечательного соотношения наших познавательных сил, я возвращаюсь теперь к дальнейшему анализу науки, этого третьего преимущества (наряду с языком и обдуманной деятельностью), какое дает человеку разум. Предстоящее нам общее рассмотрение науки будет относиться отчасти к ее форме, отчасти к обоснованию ее суждений и, наконец, к ее содержанию.
Мы видели, что, за исключением основы чистой логики, всякое знание вообще имеет свой источник не в самом разуме: приобретенное на ином пути, по своему характеру наглядное, оно только укладывается в разуме и этим переходит в совершенно другой род познания — абстрактный. Всякое знание, т. е. познание, поднявшееся до осознания in abstracto, относится к науке в собственном смысле как часть к целому. Каждый человек из опыта и наблюдения над встречающимися ему отдельными явлениями приобретает знание о разных вещах; но к науке стремится только тот, кто задается целью достигнуть полного познания in abstracto какой-нибудь определенной области предметов. Выделить эту область он может только с помощью понятия; вот почему во главе каждой науки находится понятие, и в нем мыслится та часть из совокуп-
67
ности вещей, о которой наука обещает дать полное познание in abstracto: таковы, например, понятия пространственных отношений, влияния неорганических тел друг на друга, свойств растений или животных, последовательных изменений земной поверхности, изменений человечества в его целом, строения языка и т. д. Если бы наука хотела приобретать знания о своем объекте посредством изучения каждого отдельного предмета, мыслимого в ее понятии, пока постепенно не было бы изучено все, то для этого, с одной стороны, не хватило бы никакой человеческой памяти, а с другой — нельзя было бы дойти до уверенности в полноте узнанного. Поэтому она пользуется той разъясненной выше особенностью сфер понятий, что они содержат одна другую, и тяготеет преимущественно к наиболее широким сферам, какие только вообще лежат внутри понятия ее объекта. Определив взаимные отношения этих сфер, она тем самым определяет и все мыслимое в них вообще и может, выделяя с каждым разом все более узкие сферы понятий, все точнее и точнее охватывать это мыслимое своими определениями. Отсюда и становится возможным для науки всецело обнимать свой предмет. Этот путь, которым наука приходит к познанию, путь от всеобщего к особенному, отличает ее от обыкновенного знания; вот почему систематическая форма является существенным и характерным признаком науки. Объединение самых общих сфер понятий каждой науки, т. е. знание ее высших принципов, служит неизбежным условием для ее изучения; как далеко идти от таких принципов к более частным положениям, это зависит от нашей воли и увеличивает не основательность, а только объем учености. Число высших принципов, которым подчиняются все остальные, в разных науках очень различно, так что в одних из них больше субординации, в других — координации; в этом отношении первые требуют большей способности суждения, а последние — большей памяти. Уже схоластикам было известно*, что так как умозаключение требует двух посылок, то никакая наука не может исходить из единственного, далее уже не выводимого главного принципа: каждая наука должна иметь несколько таких принципов, по крайней мере — два. Преимущественно классифицирующие науки: зоология, ботаника, а также физика и химия, поскольку они сводят всю неорганическую деятельность к немногим основным силам, содержат больше всего субординации, наоборот, история, собственно, не имеет ее совсем, потому что общее заключается в ней лишь в обзоре главных периодов, из которых, однако, нельзя вывести отдельных событий: последние подчинены первым только хронологически, по своему же понятию координированы с ними; вот почему история, строго говоря, это знание, а не наука. Правда, в математике, как ее строит Евклид, только аксиомы представляют собой недоказуемые главные положения, а все доказательства подчиняются им в строгой последовательности. Однако такое построение не связано с сущностью математики, и на самом деле каждая теорема начинает собой новую пространственную конструкцию, которая сама по себе независима от предыдущих и может быть познана, собственно говоря, совершенно независимо от них, сама из себя, в чистом
68
созерцании пространства, где даже самая запутанная конструкция в сущности так же непосредственно очевидна, как и аксиома; подробнее об этом будет сказано ниже. Между тем каждое математическое положение остается все-таки всеобщей истиной, применимой к бесчисленным отдельным случаям, и ей свойствен также постепенный переход от простых положений к сложным, вытекающим из первых; таким образом, математика во всех отношениях — наука.
Совершенство науки как таковой, т. е. по форме, состоит в том, чтобы в ее положениях было как можно больше субординации и как можно меньше координации. Поэтому общенаучный талант — это способность соподчинять сферы понятий по их различным определениям[44], чтобы, как этого неоднократно требует Платон, наука представляла собою не просто всеобщее, под которым непосредственно сопоставлено необозримое многообразие, но чтобы знание нисходило от предельно общего к особенному постепенно, через посредствующие понятия и разделения, основанные на все более конкретных определениях. Выражаясь языком Канта, это значит одинаково удовлетворять законам однородности и обособления. Но именно из того, что в этом заключается истинное совершенство, явствует следующее: цель науки — не бо́льшая достоверность (ибо последнюю может иметь и самое отрывочное отдельное сведение), но облегчение знания посредством его формы и данная этим возможность полноты знания. Поэтому ложно распространенное мнение, что научность познания заключается в бо́льшей достоверности, и столь же ложно вытекающее отсюда утверждение, будто лишь математика и логика — науки в подлинном смысле, так как только они, в силу своей чистой априорности, обладают неопровержимой достоверностью познания. Этого последнего преимущества у них нельзя оспаривать, но оно вовсе не дает им особого права на научность, которая состоит не в достоверности, а в систематической форме познания, основанной на постепенном нисхождении от всеобщего к особенному.
Этот свойственный наукам путь познания от всеобщего к особенному влечет за собою то, что в них многое обосновывается дедукцией из предшествующих положений, т. е. доказательствами; и это дало повод к старому заблуждению, будто лишь доказанное вполне истинно и будто каждая истина нуждается в доказательстве, между тем как, наоборот, каждое доказательство скорее нуждается в недоказуемой истине, которая служила бы конечной опорой его самого или опять-таки его доказательств; вот почему непосредственно обоснованная истина настолько же предпочтительна перед истиной, основанной на доказательстве, насколько ключевая вода лучше взятой из акведука.
Созерцание — будь то чистое a priori, как оно обосновывает математику, будь то эмпирическое a posteriori, как оно обосновывает все другие науки, — вот источник всякой истины и основа всякой науки. (Исключением служит только логика, основанная не на наглядном, но все-таки на непосредственном познании разумом его собственных законов.) Не доказанные суждения, не их доказательства, а суждения, непосредственно почерпнутые из созерцания и на нем вместо всякого доказательства основанные, — для науки это то же, что солнце в мироздании, ибо от них исходит всякий свет, озаренные им, светятся и другие[45]. Выводить
69
непосредственно из созерцания истинность таких первичных суждений, выдвигать такие устои науки из необозримой массы реальных вещей — это и есть дело способности суждения, состоящей в умении правильно и точно переносить наглядно познанное в абстрактное сознание и поэтому являющейся посредницей между рассудком и разумом39. Только исключительная и превосходящая обычную меру сила этой способности в индивиде может действительно двигать вперед науку, а выводить суждения из суждений, доказывать, умозаключать — это умеет всякий, кто только одарен здравым разумом. Напротив, сводить познанное в созерцании к надлежащим понятиям и закреплять для рефлексии так, чтобы, с одной стороны, общее для многих реальных объектов мыслилось в едином понятии и чтобы, с другой стороны, различное в них мыслилось в соответственном числе понятий; чтобы таким образом различное, несмотря на частичное совпадение, все-таки познавалось и мыслилось как различное, а тождественное, несмотря на частичное различие, все-таки познавалось и мыслилось как тождественное, сообразно цели и плану, поставленных для каждого данного случая, — все это совершает способность суждения. Недостаток ее — ограниченность. Человек ограниченный либо не сознает частичного или относительного различия в том, что в известном отношении тождественно, либо не сознает тождества в том, что относительно или отчасти различно. Впрочем, и к этому объяснению способности суждения может быть применено кантовское разделение ее на рефлектирующую и определяющую, в зависимости от того, идет ли она от наглядных объектов к понятию, или от него к ним, — в обоих случаях посредствуя между наглядным познанием рассудка и рефлективным познанием разума. Не может быть истины, к которой приводил бы безусловно только путь умозаключений, необходимость обосновывать ее ими всегда лить относительна, даже субъективна. Так как все доказательства — умозаключения, то для новой истины следует искать сначала не доказательства, а непосредственную очевидность, и лить пока недостает ее, можно еще приводить доказательства. Всецело доказательной не может быть ни одна наука, как не может здание висеть в воздухе: все ее доказательства должны сводиться к чему-нибудь наглядному и потому далее недоказуемому. Ибо весь мир рефлексии покоится и коренится в мире наглядном. Всякая конечная, т. е. изначальная, очевидность — наглядна: это показывает уже самое слово. Поэтому она или эмпирична, или основывается на априорном созерцании условий возможного опыта; в обоих случаях, таким образом, она доставляет лишь имманентное, а не трансцендентное познание[46]. Каждое понятие имеет значение и бытие только в своем, хотя бы и очень косвенном отношении к наглядному представлению, а то, что относится к понятиям, относится и к составляемым из них суждениям и к целым наукам. Поэтому должна существовать какая-то возможность каждую истину, которая открывается посредством умозаключений и сообщается посредством доказательств, познавать и непосредственно, без помощи доказательств и умозаключений. Труднее всего это, конечно, по отношению к некоторым сложным математическим теоремам, до которых мы доходим только рядом умозаключений; таково, например, вычисление хорд и касательных для
70
всякой дуги путем выводов из Пифагоровой теоремы. Но и такая истина не может по существу и всецело опираться на абстрактные положения, и лежащие в ее основе пространственные отношения должны быть настолько явны для чистого созерцания a priori, что их абстрактное выражение получает непосредственное обоснование. Впрочем, о математических доказательствах сейчас будет сказано подробнее.
Правда, часто в повышенном тоне говорят о таких науках, которые будто бы всецело основываются на правильных заключениях из несомненных посылок и которые поэтому неопровержимо истинны. На самом же деле ряд чисто логических умозаключений, как бы ни были верны посылки, всегда приведет только к уяснению и раскрытию того, что уже хранится готовым в самих посылках[47]: будет только explicite* изложено то, что понималось в них implicite**. Под этими прославленными науками имеют в виду преимущественно математические, в частности астрономию. Однако надежность последней вытекает из того, что в ее основе лежит данное a priori, следовательно, безошибочное созерцание пространства, а все пространственные отношения следуют одно из другого с необходимостью (основание бытия), которая доставляет априорную достоверность, и поэтому могут уверенно выводиться одно из другого. К этим математическим определениям присоединяется здесь еще и единственная сила природы — тяготение, которое действует в точном соотношении масс и квадратов расстояний, и, наконец, a priori достоверный, как следствие закона причинности, закон инерции вместе с эмпирическим показателем раз и навсегда сообщенного каждой из этих масс движения. В этом и состоит весь материал астрономии; как своей простотой, так и своей достоверностью он приводит к незыблемым и, благодаря величию и важности предмета, очень интересным результатам. Например, если я знаю массу какой-нибудь планеты и расстояние от нее до ее спутника, то я могу безошибочно заключить о времени его кругообращения — по второму закону Кеплера; основывается же этот закон на том, что при данном расстоянии только данная скорость одновременно и приковывает спутника к планете, и удерживает его от падения на нее.
Итак, лишь на подобной геометрической основе, т. е. посредством созерцания a priori, и к тому же применяя еще известный закон природы, можно с помощью умозаключений достигнуть многого — ибо они образуют здесь как бы мосты от одного наглядного восприятия к другому; этого не достичь с одними лишь чистыми умозаключениями на исключительно логическом пути.
Источником первых и основных истин астрономии является собственно индукция, т. е. сочетание данного во многих созерцаниях в одно правильное, непосредственно обоснованное суждение; из него выводятся затем гипотезы, а подтверждение их опытом как приближающейся к полноте индукцией служит доказательством упомянутого первого суждения. Например, видимое движение планет познано эмпирически: после многих ложных гипотез о пространственной связи этого движения (орбиты планет) было найдено, наконец, настоящее движение, затем
71
открыты законы (Кеплеровы), которым оно следует, и в конце концов его причина (всеобщее тяготение)[48]; и всем этим гипотезам придало совершенную достоверность эмпирически познанное совпадение с ними и с их выводами всех действительных случаев, т. е. индукция. Найти гипотезу было делом способности суждения, которая правильно восприняла данный факт и придала ему соответственное выражение; индукция же, т. е. многократное созерцание, подтвердила истинность гипотезы. Но последняя могла быть установлена и непосредственно, с помощью единственного эмпирического созерцания, если бы только мы могли свободно пробегать мировые пространства и обладали телескопическими глазами. Следовательно, и здесь умозаключения не существенный и единственный источник познания, а только средство на крайний случай.
Наконец, чтобы привести третий, иного рода пример, заметим еще, что и так называемые метафизические истины, как их изложил Кант в «Метафизических началах естествознания», своей очевидностью обязаны не доказательствам. A priori несомненное мы познаем непосредственно: как форма всякого познания, оно сознается нами с предельной необходимостью. Например, то, что материя постоянна, т. е. не может ни возникнуть, ни уничтожиться, это мы знаем непосредственно как отрицательную истину, ибо наше чистое созерцание пространства и времени дает возможность движения, а рассудок, в законе причинности, дает возможность изменения формы и качества; но для возникновения или уничтожения материи у нас нет соответственных форм представления. Вот почему эта истина была очевидна во все времена, всюду и для каждого и никогда серьезно не подвергалась сомнению; этого не могло бы быть, если бы она не имела иной основы познания, кроме кантовского доказательства, столь трудного и балансирующего на острие иглы. Кроме этого я (как выяснено в приложении) нашел кантовское доказательство неправильным, и я показал выше, что постоянство материи следует выводить из участия, которое имеет в возможности опыта не время, а пространство. Действительное обоснование всех истин, называемых в этом смысле метафизическими, т. е. абстрактных выражений необходимых и общих форм познания, не может заключаться опять-таки в абстрактных положениях: оно состоит только в непосредственном осознании форм представления, a priori проявляющемся в аподиктических и не доступных[49] никакому опровержению тезисах. Если же все-таки хотят дать доказательство таких истин, то оно может состоять лишь в указании на то, что в какой-нибудь несомненной истине уже заключена доказываемая истина как часть или как предпосылка. Так, например, я выяснил, что всякое эмпирическое созерцание уже содержит в себе применение закона причинности, познание которого является поэтому условием всякого опыта и не может, таким образом, происходить и зависеть от него, как утверждал Юм. Доказательства вообще менее служат для тех, кто хочет учиться, чем для тех, кто хочет спорить. Последние упорно отвергают непосредственно достоверную мысль: только истина может быть всесторонне последовательна; поэтому спорщикам надо показать, что они под одной формой и косвенно соглашаются с тем, что они под другой формой и непосредственно отвергают, — т. е. им надо показать логически необходимую связь между отрицаемым и признаваемым.
72
Кроме того, научная форма, т. е. подчинение всего особенного всеобщему в восходящем порядке, влечет за собою то, что истинность многих положений обосновывается только логически, а именно их зависимостью от других положений, т. е. посредством умозаключений, которые вместе с тем выступают в качестве доказательств. Но никогда не следует забывать, что вся эта научная форма является средством только для облегчения познания, а не для достижения большей достоверности. Легче узнать свойство какого-нибудь животного из вида, к которому оно принадлежит, восходя далее к роду, семейству, порядку и классу, чем каждый раз исследовать данное животное в отдельности; но истинность всех положений, выводимых с помощью умозаключений, постоянно обусловлена и в конце концов зависит от какой-нибудь другой истины, которая основывается не на умозаключениях, а на созерцании. Если бы последнее всегда было для нас столь же близко, как вывод с помощью умозаключения, то его, безусловно, следовало бы предпочитать. Ибо всякий вывод из понятий, ввиду указанного выше многообразного совпадения сфер между собою и частых колебаний в определении их содержания, может оказаться обманчивым; примерами этого служат столь многочисленные доказательства лжеучений и софизмы всякого рода. Умозаключения по форме своей, правда, вполне верны, но они очень ненадежны по своей материи — понятиям, отчасти потому, что сферы последних не всегда строго разграничены, отчасти потому, что они многообразно пересекаются между собою, и одна сфера отдельными своими частями содержится во многих других, так что можно произвольно переходить из нее в ту или другую сферу, а затем и далее, как уже было показано. Или, другими словами: terminus minor*, как и medius**, могут быть всегда подчинены различным понятиям, из которых по желанию выбирают terminus major*** и medius, в соответствии с чем заключение выходит разное.
Итак, везде непосредственная очевидность гораздо предпочтительнее доказанной истины, и последней надо пользоваться лишь там, где первую пришлось бы искать слишком далеко, а не там, где очевидность столь же близка или еще ближе, чем доказанная истина. Выше мы уже видели, что, действительно, в логике, там, где непосредственное познание в каждом отдельном случае для нас ближе, чем производное научное, мы в своем мышлении всегда руководствуемся только непосредственным познанием законов мышления и не пользуемся логикой****.
§ 15
И вот, если при нашем убеждении, что созерцание — первый источник всякой очевидности, что только непосредственное или косвенное отношение к нему представляет абсолютную истину, что, далее, ближайший путь к ней — самый надежный, так как всякое посредничество
73
понятий сопряжено с многочисленными заблуждениями; если, говорю я, при таком убеждении мы обратимся к математике, как она установлена Евклидом в качестве науки и в общем сохранилась и доныне, то нам нельзя будет не признать путь, которым она идет, странным и даже превратным. Мы требуем, чтобы каждое логическое доказательство сводилось к наглядному; она, наоборот, сознательно прилагает все усилия к тому, чтобы отвергнуть свойственную ей, всюду близкую наглядную очевидность и заменить ее логической. Мы должны сознаться: это похоже на то, как если бы кто-нибудь отрезал себе ноги, чтобы ходить на костылях, или на то, как принц в «Торжестве чувствительности» убегает от реальной прекрасной природы, чтобы любоваться театральной декорацией — ее подражанием.
Я должен напомнить здесь то, что сказано мною в шестой главе трактата о законе основания, и предполагаю это сохранившимся свежим в памяти читателя, так что свои замечания я связываю с изложенным в названной главе, не объясняя заново разницу между просто основанием познания математической истины, — что может быть дано логически, и основанием бытия, этой непосредственной, лишь наглядно познаваемой связью частей пространства и времени, связью, постижение которой только и дает истинное удовлетворение и основательное знание, тогда как просто основа познания всегда остается на поверхности и может только объяснить, что это так, но не почему это так. Евклид избрал последний путь к явному ущербу для науки. Ибо уже в самом начале, например, где он должен был бы раз и навсегда показать, как в треугольнике углы и стороны взаимно определяются и служат основанием и следствием друг друга, согласно форме закона основания, господствующей в одном пространстве и влекущей за собою там, как и всюду, необходимость, чтобы нечто одно было таково, каково оно есть, ибо совершенно отличное от него другое таково, каково оно есть; вместо того чтобы этим путем дать глубокое проникновение в существо треугольника, он выдвигает несколько отрывочных, произвольно выбранных теорем о треугольнике и выясняет их логическую основу познания посредством многотрудной, логически построенной аргументации по закону противоречия. Вместо исчерпывающего познания этих пространственных отношений мы получаем, таким образом, лишь немногие, произвольно сообщенные выводы из них, и мы находимся в таком же положении, как человек, которому показали различные действия хитро налаженной машины, но не объяснили ее внутреннюю связь и устройство. То, что все доказываемое Евклидом обстоит именно так, с этим мы, побуждаемые законом противоречия, должны согласиться; но почему это так, мы не узнаем. Поэтому испытываешь почти неприятное чувство, как после проделок фокусника, и на них в самом деле поразительно похоже большинство Евклидовых доказательств. Истина почти всегда приходит с заднего крыльца, обнаруживаясь per accidens[50] из какого-нибудь побочного обстоятельства. Часто апагогическое доказательство[51] закрывает все двери, одну за другой, и оставляет открытой лишь одну, в которую потому поневоле и входишь. Часто, как в Пифагоровой
74
теореме, проводятся линии, неизвестно почему; потом оказывается, что это были сети, которые неожиданно затягиваются и ловят согласие учащегося, и он, к своему изумлению, должен признать то, что по своей внутренней связи остается для него совершенно непонятным, до такой степени, что он может проштудировать всего Евклида, не достигнув истинного понимания законов пространственных отношений, а вместо этого заучив лишь некоторые выводы из них[52]. Это собственно эмпирическое и ненаучное знание похоже на сведения врача, который знает болезнь и средство против нее, но не знает их взаимной связи. И все это является результатом того, что свойственный известному виду познания характер доказательства и очевидности своевольно отвергают и насильственно заменяют его другим, чуждым существу данного знания. Впрочем, метод, каким пользовался Евклид, заслуживает всяческого восхищения, и оно сопровождало его творца в течение многих веков и зашло так далеко, что его математические приемы были сочтены образцом научного изложения, которому старались подражать во всех других науках и от которого впоследствии все-таки отвернулись, не зная, однако, почему[53]. В наших же глазах метод Евклида в математике предстает лишь блестящим извращением. Но для каждого великого заблуждения, будь то в жизни или в науке, имевшего преднамеренный и методический характер и сопровождавшегося всеобщим одобрением, всегда можно найти причину в философии, какая господствовала в то время.
Элеаты впервые открыли различие, а иногда и противоречие между являющимся, φαινόμενον, и мыслимым, νοοὺμενον*, и многообразно воспользовались этим для своих философем и для своих софизмов. По их стопам впоследствии пошли мегарцы, диалектики, софисты, новые академики и скептики. Они обратили внимание на призрачность, т. е. обман, чувств, или, скорее, рассудка, превращающего данные чувств в созерцание; этот обман часто заставляет нас видеть такие вещи, которым разум уверенно отказывает в реальности, например переломленную палку в воде и т. п. Было понятно, что чувственному созерцанию нельзя доверять безусловно, и отсюда поспешно заключили, будто одно лишь разумное логическое мышление служит порукой истины, хотя Платон (в «Пармениде»), мегарцы, Пиррон и новые академики показали на примерах (как позднее в том же роде Секст Эмпирик), что, с другой стороны, умозаключения и понятия тоже вводят в заблуждение и даже влекут за собой паралогизмы40 и софизмы, которые возникают гораздо легче и разрешаются гораздо труднее, чем призрачность в чувственном созерцании. И тем не менее рационализм, возникший в противовес эмпиризму, одержал верх, и в соответствии с ним Евклид обработал математику, поневоле обосновывая наглядной очевидностью (φαινόμενον) только одни аксиомы, а все остальное — умозаключениями (νοοὺμενον). Его метод господствовал в течение всех веков, и этому не было бы конца, если бы не было установлено различие между чистым созерцанием a priori и эмпирическим созерцанием. Впрочем, уже ком-
75
ментатор Евклида Прокл, по-видимому, вполне сознавал эту разницу, как показывает у него то место, которое Кеплер перевел на латинский язык в своей книге «De harmonia mundi»*; но Прокл не придал этому вопросу достаточной важности, поставил его слишком изолированно, остался незамеченным и не достиг цели. Только две тысячи лет спустя учение Канта, которому суждено провести столь великие перемены во всем знании, мышлении и деятельности европейских народов, оказало такое же влияние и на математику. Ибо лишь после того, как этот великий ум научил нас, что созерцания пространства и времени совершенно отличны от эмпирических, вполне независимы от всякого воздействия на чувства и обусловливают его, а не обусловливаются им, т. е. априорны и потому совсем недоступны иллюзиям чувств, — лишь после этого мы в состоянии понять, что логические приемы Евклида в математике являются ненужной предосторожностью, костылем для здоровых ног, что они подобны путнику, который, приняв ночью ясный, твердый путь за воду, боится ступить на него и все время ходит около по ухабистой почве и рад время от времени наталкиваться на мнимую воду. Лишь теперь мы можем с уверенностью утверждать, что то необходимое, что представляется нам при созерцании какой-нибудь фигуры, вытекает не из ее чертежа на бумаге, быть может, очень дурно исполненного, и не из абстрактного понятия, мыслимого при этом, а непосредственно из a priori известной нам формы всякого познания. Эта форма везде — закон основания; здесь она как форма созерцания, т. е. пространство, является законом основания бытия; но очевидность и значение[54] его так же велики и непосредственны, как очевидность и значение закона основания познания, т. е. логическая достоверность. Поэтому нам нет нужды и не следует доверять только последней и покидать свойственную математике сферу для того, чтобы искать ей подтверждение в совершенно чуждой для нее области понятий. Оставаясь на свойственной математике почве, мы получаем то великое преимущество, что здесь знание того, что нечто обстоит так, совпадает со знанием того, почему это так, — между тем как евклидовский метод совершенно разделяет оба эти знания и дает лишь первое, а не последнее. Аристотель прекрасно говорит в Analyt. post. I, 27: Subtilior autem et praestantior ea est scientia, qua quod aliquid sit, et cur sit una simulque intelligimus non separatim quod, et cur sit**. Ведь в физике мы только тогда испытываем удовлетворение, когда знание, что нечто обстоит так, соединяется со знанием, почему это так; что ртуть в торричеллиевой трубке подымается на высоту 28 дюймов, — это плохое знание, если не прибавить к нему, что ртуть держится на такой высоте противодействием воздуха. Почему же в математике мы должны довольствоваться
76
тем qualitas occulta* круга, что отрезки каждых двух пересекающихся в нем хорд всегда образуют равные прямоугольники? Что это так, Евклид в самом деле доказывает в 35-й теореме третьей книги; но почему это так, еще неизвестно. Точно так же и Пифагорова теорема знакомит нас с qualitas occulta прямоугольного треугольника; ходульное, даже коварное доказательство Пифагора оставляет нас беспомощными при вопросе почему, между тем как прилагаемая уже известная нам простая фигура при первом же взгляде на нее уясняет дело гораздо лучше этого доказательства и внушает глубокое внутреннее убеждение в необходимости этого свойства и его зависимости от простого угла.
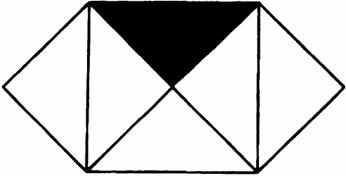
И при неравных катетах должна существовать возможность такой же наглядной убедительности, как и вообще при всех возможных геометрических истинах, — уже потому, что открытие подобной истины вытекало из такой созерцаемой необходимости, а доказательство придумывалось лишь только потом. Поэтому нужно лишь проанализировать ход мысли, совершенный при первом открытии геометрической истины, чтобы наглядно понять ее необходимость. Вообще я желал бы, чтобы математика преподавалась с помощью аналитического метода вместо синтетического, который применял Евклид. Правда, для сложных математических истин это было бы сопряжено с очень большими, хотя и не непреодолимыми трудностями. В Германии в разных местах уже начинают изменять преподавание математики и чаще идут по этому аналитическому пути. Решительнее всех это сделал г. Козах, учитель математики и физики в Нордхаузенской гимназии: к программе экзаменов 6 апреля 1852 г. он присоединил обстоятельную попытку изложения геометрии по указанным мною принципам.
Для улучшения математического метода в особенности необходимо отрешиться от предрассудка, будто доказанная истина имеет какие-то преимущества сравнительно с познанной наглядно, или будто логическая истина, основанная на законе противоречия, лучше метафизической, которая непосредственно очевидна и к которой принадлежит также чистое созерцание пространства.
Самое достоверное и повсюду необъяснимое — это содержание закона основания. Ибо он в своих различных видах выражает всеобщую форму всех наших представлений и познаний. Всякое объяснение — это
77
сведение к нему, указание в отдельном случае на выражаемую им вообще связь представлении. Он является, следовательно, принципом всех объяснений и потому сам не поддается объяснению и не нуждается в нем, так как всякое объяснение уже предполагает его и лишь через него получает свое значение. При этом ни один из его видов не имеет преимущества перед другими: он равно достоверен и недоказуем как закон основания бытия, или становления, или действия, или познания. Отношение основания к следствию как в одном, так и в других его видах имеет необходимый характер; оно вообще является источником и единственным смыслом понятия необходимости. Не существует другой необходимости, кроме той, что необходимо следствие, если дано основание, и не существует основания, которое не влекло бы за собой необходимости следствия. И подобно тому как несомненно из данного в посылках основания познания вытекает выражаемое в заключении следствие, так же несомненно основание бытия в пространстве; если я наглядно понял соотношение двух последних, то его несомненность так же велика, как и любая логическая достоверность. А выражением такого соотношения и служит каждая геометрическая теорема — не менее, чем какая-нибудь из двенадцати аксиом: ведь теорема представляет собой метафизическую истину и таковая столь же непосредственно достоверна, как и самый закон противоречия, являющийся металогической истиной и общей основой всякого логического доказательства. Кто отрицает наглядно представленную необходимость пространственных отношений, выражаемых в какой-либо теореме, тот может с одинаковым правом отрицать и аксиомы, с одинаковым правом отрицать вывод заключения из посылок и даже самый закон противоречия: ибо все это — одинаково недоказуемые, непосредственно очевидные и a priori познаваемые отношения. Поэтому, если наглядно познаваемую необходимость пространственных отношений хотят непременно выводить путем логического доказательства из закона противоречия, то это похоже на то, как если бы непосредственному владельцу земли кто-то другой захотел отдать ее сперва в ленное владение. Именно так поступает Евклид. Только свои аксиомы он поневоле обосновывает непосредственной очевидностью; все же последующие геометрические истины подвергаются логическому доказательству, основанному либо на предпосылке этих аксиом и согласии со сделанными в теореме допущениями или с какой-нибудь прежней теоремой, либо на том, что противоположность теоремы противоречит допущениям, аксиомам, прежним теоремам или даже самой себе. Но аксиомы не имеют бо́льшей непосредственной очевидности, чем любая другая геометрическая теорема: они только проще, потому что менее содержательны.
Когда допрашивают преступника, его показания заносят в протокол, чтобы выяснить истину из их взаимной согласованности. Но этим приемом пользуются вынужденно и к нему не прибегают, если можно непосредственно узнать истину каждого отдельного показания, тем более что преступник с самого начала может последовательно лгать. И все-таки Евклид исследовал пространство по первому методу. Правда, он исходил при этом из верной предпосылки, что природа везде, а значит, и в основной своей форме, пространстве, должна быть последовательна, и потому, так как части пространства находятся между
78
собой в отношении причины и следствия, ни одно пространственное отношение не может быть иным, чем оно есть, не вступая в противоречие со всеми другими. Но это очень трудный и неудовлетворительный окольный путь, он предпочитает косвенное познание столь же достоверному непосредственному, он разделяет, к великому ущербу для науки, познание того, что нечто есть, от познания того, почему оно есть; он, наконец, совсем закрывает для учащегося проникновение в законы пространства и даже отучает его от действительного исследования причины и внутренней связи вещей, приучая его взамен довольствоваться историческим знанием, что это обстоит так. Столь упорно приписываемое этому методу упражнение в остроумии состоит просто в том, что ученик упражняется в умозаключениях, т. е. в применении закона противоречия, в особенности же он напрягает свою память, чтобы удержать все те данные, взаимное согласие которых подлежит сравнению.
Замечательно, впрочем, что этот способ доказательства
применяется только в геометрии, а не в арифметике, где, напротив, истине действительно
дают возможность проявляться только путем созерцания, состоящем здесь в простом
счете. Так как созерцание чисел происходит только во времени и потому не
может быть представлено никакой чувственной схемой, подобно геометрической
фигуре, то здесь само собой отпало подозрение, будто созерцание имеет лишь эмпирический
характер и потому бывает обманчиво, — а только это подозрение и могло повлечь
за собою в геометрии логический метод доказательства. Ввиду того что время
обладает лишь одним измерением, счет — единственная операция, к которой должны
быть сведены все другие; а этот счет есть ведь не что иное, как созерцание a
priori, на которое ссылаются здесь без всякого колебания и которое одно служит
окончательной поверкой для всего остального, для каждого вычисления, каждого
уравнения. Не доказывают, например, что ![]() , а
ссылаются на чистое созерцание во времени, счет, и таким образом каждое отдельное
положение обращают в аксиому. Вместо доказательств, наполняющих геометрию, все
содержание арифметики и алгебры является поэтому только методом сокращения счета.
Правда, наше непосредственное созерцание чисел во времени, как указано выше, не
идет дальше десяти; за этими пределами созерцание должно уступать место
абстрактному понятию числа, фиксированному в слове, и созерцание реально уже не
совершается, а только обозначается с полной определенностью. Однако даже и в этом
случае, благодаря важному вспомогательному средству числового порядка, который
позволяет большие числа всегда изображать одними и теми же малыми, — ив этом
случае можно придавать каждому вычислению наглядную очевидность. Это
осуществимо даже и тогда, когда до такой степени прибегают к абстракции, что не
только числа, но и неопределенные величины и целые операции мыслятся лишь in
abstracto и обозначаются в соответствии с этим, например:
, а
ссылаются на чистое созерцание во времени, счет, и таким образом каждое отдельное
положение обращают в аксиому. Вместо доказательств, наполняющих геометрию, все
содержание арифметики и алгебры является поэтому только методом сокращения счета.
Правда, наше непосредственное созерцание чисел во времени, как указано выше, не
идет дальше десяти; за этими пределами созерцание должно уступать место
абстрактному понятию числа, фиксированному в слове, и созерцание реально уже не
совершается, а только обозначается с полной определенностью. Однако даже и в этом
случае, благодаря важному вспомогательному средству числового порядка, который
позволяет большие числа всегда изображать одними и теми же малыми, — ив этом
случае можно придавать каждому вычислению наглядную очевидность. Это
осуществимо даже и тогда, когда до такой степени прибегают к абстракции, что не
только числа, но и неопределенные величины и целые операции мыслятся лишь in
abstracto и обозначаются в соответствии с этим, например: ![]() , так
что подобные операции уже не совершаются, а на них указывают.
, так
что подобные операции уже не совершаются, а на них указывают.
79
С таким же правом и такой же достоверностью, как в арифметике, можно было бы и в геометрии доказывать истину одним только чистым созерцанием a priori. В сущности именно эта по закону основания бытия наглядно познанная необходимость и сообщает геометрии ее великую очевидность, и именно на ней основывается в сознании каждого достоверность геометрических теорем, а вовсе не на ходульном логическом доказательстве, которое всегда далеко от существа дела, по большей части забывается, без ущерба для нашей убежденности, и могло бы отсутствовать, совсем не уменьшая этим очевидность геометрии, ибо она совершенно от него не зависит. Такое доказательство всегда подтверждает лишь то, в чем мы вполне убедились уже до этого, другим способом познания, и в этом отношении оно похоже на трусливого солдата, который наносит лишнюю рану врагу, убитому другим, и потом хвалится, что это он его сразил*[55].
Ввиду всего этого, вероятно, не будет больше сомнения в том, что очевидность математики, сделавшаяся образцом и символом всякой очевидности, по своему существу основывается не на доказательствах, а на непосредственном созерцании, которое, следовательно, здесь, как и везде, является последним основанием и источником всякой истины. Тем не менее созерцание, лежащее в основе математики, имеет большое преимущество перед всяким другим, т. е. перед эмпирическим. А именно, так как оно априорно и потому независимо от опыта, который всегда дается лишь частями и последовательно, то все для него одинаково близко, так что можно произвольно исходить или из основания, или из следствия. Это сообщает ему полную безошибочность, потому что следствие узнается в нем по основанию, а лишь такое знание и имеет характер необходимости: например, для равенства сторон признается основание в равенстве углов. Между тем всякое эмпирическое созерцание и большая часть опыта идут обратным путем — только от следствия к основанию; такой род познания не безошибочен, ибо необходимость присуща только следствию, если дано основание, но не познанию основания из следствия, так как одно и то же следствие может вытекать из разных оснований. Этот последний род познания — всегда лишь индукция, т. е. по многим следствиям, указывающим на одно основание, принимается достоверность основания; но так как все случаи никогда не могут быть налицо, то истинность здесь никогда и не бывает безусловно достоверной. Между тем только этим родом истинности обладает всякое познание, сообщаемое чувственным созерцанием, и бо́льшая часть
80
опыта. Воздействие, получаемое каким-нибудь чувством, влечет за собою умозаключение рассудка от действия к причине; но так как заключение от следствия к основанию никогда не может быть несомненным, то здесь возможна ложная видимость, или обман чувств, который часто происходит, как это показано выше. Лишь когда несколько или все пять чувств испытывают воздействия, указывающие на одну и ту же причину, возможность иллюзии становится крайне малой, хотя все-таки существует, ибо в известных случаях обманывается вся чувственность: так действует, например, фальшивая монета. В таком же положении находится и всякое эмпирическое познание, а следовательно, и все естествоведение, за исключением его чистой (по Канту — метафизической) части. И здесь по действиям познаются причины; поэтому всякое учение о природе основывается на гипотезах, которые часто ложны и понемногу уступают место более правильным. Только при намеренно совершаемых экспериментах познание идет от причины к действию, т. е. по верному пути; но самые эти эксперименты предпринимаются только вследствие гипотез. Поэтому ни одна ветвь естествознания, например физика, или астрономия, или физиология, не могла быть открыта сразу, как математика и логика; для этого требовалось и требуется собирать и сравнивать опыты многих столетий. Лишь многократное эмпирическое подтверждение приближает индукцию, на которой основывается гипотеза, к такой полноте, что на практике она заменяет достоверность, и для гипотезы ее источник так же не считается ущербным, как для пользования геометрией — несоизмеримость прямых и кривых линий, или для арифметики — недостижимость безусловной верности логарифма. Ибо как посредством бесконечных дробей бесконечно приближают к точности квадратуру круга и логарифм, так и посредством многократных опытов индукция, т. е. познание основания из следствий, приближается к математической очевидности, т. е. к познанию следствия из основания, если не бесконечно, то во всяком случае в такой степени, что возможность ошибки делается достаточно ничтожной, и ею можно пренебречь. Но все-таки эта возможность существует: например, индуктивным заключением является и такое, что от бесчисленных случаев идет ко всем, т. е., собственно, к неизвестному основанию, от которого они все зависят. Какое заключение подобного рода кажется более несомненным, чем то, что у всех людей сердце на левой стороне? Между тем, в виде крайне редких и совершенно единичных исключений, есть люди, у которых сердце на правой стороне.
Таким образом, чувственное созерцание и опытные науки обладают одним и тем же родом очевидности. Преимущество, которое имеют перед ними, в качестве априорных познаний, математика, чистое естествознание и логика, покоится только на том, что формальное в познаниях — на чем основывается всякая априорность — дано в них сполна и сразу и потому здесь всегда возможен переход от основания к следствию, между тем как там, по большей части, можно идти только от следствия к основанию. Впрочем, сам по себе закон причинности, или закон основания становления, руководящий эмпирическим познанием, так же достоверен, как и другие формы закона основания, которым a priori следуют названные выше науки.
81
Логические доказательства, состоящие из понятий, или умозаключения[56], имеют наравне с познанием через априорное созерцание то преимущество, что идут от основания к следствию, почему они сами в себе, т. е. по своей форме непогрешимы. Это во многом содействовало тому, что доказательствам вообще было придано такое большое значение. Однако их непогрешимость относительна — они только подводят под высшие положения науки, которые ведь и составляют весь фонд научной истины, так что их мы уже не имеем права снова доказывать, нет, они должны опираться на созерцание, каковое в упомянутых выше немногих науках является чистым априорным созерцанием, в остальных же случаях всегда эмпирическим, и возводится оно ко всеобщему только посредством индукции. Поэтому, хотя в опытных науках единичное и доказывается из всеобщего, все-таки всеобщее получило свою истинность только из единичного и является лишь складом собранных запасов, а не самопорождающей почвой.
Вот что можно сказать по поводу обоснования истины.
Относительно происхождения и возможности заблуждения было предложено много объяснений с тех пор, как Платон дал образное решение вопроса примером голубятни, в которую ловят не того голубя и т. п. («Theaetet»., с. 167 и сл.). Кантовское смутное и неопределенное объяснение источника заблуждений с помощью образа диагонального движения можно найти в «Критике чистого разума» (с. 294 первого и с. 350 пятого изд.[57]).
Так как истина представляет собой отношение суждения к его основе познания, то во всяком случае проблемой является, каким образом рассуждающий может думать, что он действительно обладает такой основой, в то же время не имея ее, т. е. как возможно заблуждение, обман разума. Я считаю эту возможность совершенной аналогией возможности видимости, или обмана рассудка, как объяснено выше. Мое мнение состоит в том (что делает мое объяснение уместным именно здесь), что всякое заблуждение — умозаключение от следствия к основанию[58], а такое умозаключение верно лишь тогда, когда известно, что следствие может иметь именно это, а не какое-нибудь иное основание, — но ни в каком другом случае. Заблуждающийся либо приписывает следствию такое основание, которого оно вовсе не может иметь, — он обнаруживает в этом случае действительный недостаток рассудка, т. е. способности непосредственно познавать связь между причиной и действием; либо, что бывает чаще, он приписывает следствию хотя и возможное основание, но к большей посылке своего заключения от следствия к основанию присоединяет еще и то, будто данное следствие «всегда» вытекает только из указанного им основания, на что ему могла бы дать право только полная индукция, каковую он предполагает, не совершив ее, и поэтому упомянутое «всегда» оказывается слишком широким понятием, вместо которого можно было бы поставить только «иногда» или «большей частью»; в таком виде заключение имело бы проблематический характер и как таковое не было бы ошибочно. Такие приемы заблуждающегося происходят или от поспешности, или от слишком ограниченного понимания возможностей, почему он и не знает, что необходимо выполнить индукцию[59]. Заблуждение поэтому совершенно
82
аналогично с видимостью. Обе они представляют собой заключение от основания к следствию: видимость постоянно возникает по закону причинности, из одного лишь рассудка, т. е. непосредственно в самом созерцании; заблуждение совершается по всем формам закона основания, разумом, т. е. в подлинном мышлении; чаще всего оно также происходит по закону причинности, как это показывают следующие три примера, которые можно считать типами или представителями трех родов заблуждений. 1) Чувственная видимость (обман рассудка) ведет к заблуждению (обман разума), например, если живопись воспринимают и действительно считают за горельеф, это происходит через умозаключение из следующей большей посылки: «Если темно-серое местами через все оттенки переходит в белое, то причиной этого во всех случаях является свет, который неравномерно падает на возвышения и углубления: ergo…» 2) «Если в моей кассе не хватает денег, то причиной этого во всех случаях является то, что мой слуга имеет подобранный ключ: ergo*…» 3) «Если преломленное через призму, т. е. подвинутое вверх или вниз, изображение солнца вместо прежнего круглого и белого вида получает вдруг удлиненный и окрашенный, то причиной этого раз и навсегда является то, что в свете содержались различно окрашенные и вместе с тем различно преломляемые световые лучи, которые, будучи раздвинуты в силу своей различной преломляемости, дают удлиненный и различно окрашенный образ: ergo — bibamus**[60].
К такому заключению из большей посылки, часто неправильно обобщенной, гипотетической, вытекающей из принятия основания за следствие, может быть сведено всякое заблуждение, за исключением разве лишь ошибок при вычислениях; но это, собственно, не заблуждения, а простые ошибки: операция, на которую указывали понятия чисел, совершилась не в чистом созерцании — счете, а вместо нее сделали другую.
Что касается содержания наук вообще, то оно, собственно, всегда есть взаимоотношение мировых явлений, согласно закону основания и руководствуясь через него одного лить имеющим силу и значение почему. Указание на такое отношение называется объяснением. Последнее, таким образом, всегда лишь указывает отношение между двумя представлениями в той форме закона основания, которая господствует в классе, где находятся эти представления. Когда объяснение достигло этого предела, нельзя больше спрашивать почему, ибо указанное отношение есть именно такое, какое решительно нельзя представить иначе, т. е. оно — форма всякого познания. Поэтому не спрашивают, почему 2 + 2 = 4; или почему равенство углов в треугольнике определяет равенство сторон; или почему данная причина вызывает свое действие; или почему из правильности посылок явствует правильность заключения. Всякое объяснение, приводящее к отношению, о котором нельзя больше ставить вопроса почему[61], останавливается на какой-либо допущенной qualitas occulta[62]; но к этому роду принадлежит и всякая изначальная сила природы. Всякое естественно-научное объяснение должно
83
в конечном счете останавливаться на такой силе, т. е. на чем-то совершенно темном, и потому оно оставляет одинаково необъясненными и внутреннюю сущность камня, и внутреннюю сущность человека; оно столь же мало может дать отчет о тяжести, сцеплении, химических свойствах и других обнаружениях камня, как и о познании и деятельности человека. Так, тяжесть, это — qualitas occulta, ибо ее можно мысленно опустить, так как она не вытекает из формы познания как нечто необходимое, чем, наоборот, является закон инерции, вытекающий из закона причинности; поэтому свести к последнему — значит дать совершенно достаточное объяснение. Две вещи решительно необъяснимы, т. е. не могут быть сведены к тому отношению, которое выражается в законе основания: во-первых, это самый закон основания, во всех его четырех формах, ибо он — принцип всякого объяснения, то, по отношению к чему оно получает силу; во-вторых, это то, что для него недоступно, из чего и проистекает все изначальное во всех явлениях, а именно, вещь в себе, познание которой вовсе не подчиняется закону основания. Последние слова мои пока еще остаются здесь совершенно непонятными: их разъяснит только следующая книга, в которой мы вернемся и к этому рассмотрению возможных достижений науки. Но там, где естествознание, да и все науки вообще покидают свои объекты, ибо за эти пределы не выходит не только научное объяснение вещей, но даже и принцип этого объяснения, закон основания, — там, собственно, философия возвращается к вещам и рассматривает их на свой лад, от науки совершенно отличный[63].
В своем рассуждении о законе основания, в § 51, я показал, как в различных науках главной путеводной нитью является та или другая форма этого закона, и по этому принципу можно было бы, кажется, установить самую правильную классификацию наук. Но всякое объяснение, даваемое согласно этой путеводной нити, всегда, как я сказал, лишь относительно: оно определяет отношение вещей между собою, но всегда оставляет необъяснимым нечто такое, что оно уже заранее предполагает. Таковы, например, в математике пространство и время, в механике, физике и химии — материя, качества, изначальные силы, законы природы; в ботанике и зоологии — различие видов и самая жизнь; в истории — род человеческий со всеми особенностями его мышления и воли; и во всех них — закон основания в той форме, которая присуща каждому из его случаев.
Философия имеет ту особенность, что она ничего не предполагает известным, а все для нее в одинаковой степени чуждо и составляет проблему — не только отношения явлений, но и самые явления, даже самый закон основания; другие науки удовлетворены, если могут все подвести под этот закон, между тем как философия ничего не выиграла бы от такого подведения, ибо один член ряда ей столь же неизвестен, как и другой; кроме того, самый род подобной связи представляет для нее такую же проблему, как и связываемое ею, а последнее остается загадкой и после раскрытия связи, как и до него. Ибо, как уже сказано, именно то, что составляет предпосылку наук, основу и предел их объяснений, это и предстает подлинной проблемой философии, которая, следовательно, начинается там, где как раз кончаются науки. Доказательства не могут
84
быть ее фундаментом, так как они из известных принципов выводят неизвестные; для нее же все одинаково неизвестно и чуждо. Не может быть такого принципа, которому был бы обязан своим существованием мир со всеми своими явлениями; вот почему нельзя, как этого хотел Спиноза, выводить философию аргументами ex firmis principiis*. Кроме того, философия — это самое общее знание, и его главные принципы не могут быть поэтому выводами из какого-нибудь другого знания, еще более общего. Закон противоречия устанавливает только согласие понятий, но сам понятий не дает. Закон основания объясняет связь явлений, но не самые явления; вот почему философия не может стремиться к отысканию какой-нибудь causa efficiens** или causa finalis***43 всего мира. По крайней мере, современная философия допытывается вовсе не того, откуда или для чего существует мир, а только того, что́ он есть такое. Вопрос же почему подчиняется здесь вопросу что, ибо он относится уже к миру, возникая только из формы его явлений, закона основания, и лишь постольку имея значение и силу. Правда, можно было бы сказать: что́ такое мир, это каждый познает без посторонней помощи, ибо он сам есть субъект познания, а мир — его представление, и это утверждение было бы справедливо. Однако такое познание наглядно, это познание in concreto; задача философии воспроизвести его in abstracto, обратить последовательное, изменчивое созерцание, вообще все то, что заключается в широком понятии чувства и определяется им лишь отрицательно, как смутное, не абстрактное знание, — обратить и возвысить до именно такого, неизменного знания. Философия должна поэтому выражать in abstracto сущность всего мира как в его целом, так и во всех его частях. Но чтобы не потеряться все же в бесконечном множестве частных суждений, она должна прибегать к абстракции и все единичное мыслить в общем, а его различия опять-таки в общем; поэтому ей приходится отчасти разделять, отчасти соединять, чтобы передать знанию все вообще многообразие мира сжатым, согласно его сущности, в немногие абстрактные понятия. И с помощью тех понятий, в которых она фиксирует сущность мира, должно наряду со всеобщим познаваться и совершенно единичное, и познание обоих должно[64] быть связано самым точным образом. Поэтому способность к философии и состоит именно в том, в чем полагал ее Платон, — в познании единого во многом и много в едином. Философия, таким образом, является суммой очень общих суждений, основой познания которых служит непосредственно самый мир во всей своей целостности, без какого-либо исключения, т. е. все, что существует в человеческом сознании; философия является совершенным повторением, как бы отражением мира в абстрактных понятиях, которое возможно только посредством объединения существенно тождественного в одно понятие и выделение различного в другое понятие. Эту задачу поставил перед философией уже Бэкон Веруламский в своих словах: Еа demum vera est philosophia, quae mundi ipsius voces fidellissime reddit, et veluti dictante mundo conscripta est et nihil
85
aliud est, quam eiusdem simulacrum et reflectio, neque addit quidquam de proprio, sed tantum iterat et resonat (De augm. scient. L. 2, cap. 13)*[65]. Мы понимаем, однако, это в более широком смысле, чем это мог думать Бэкон в свое время.
Согласие, в котором находятся между собою все стороны и части мира — именно потому, что они принадлежат одному целому, — должно повториться в абстрактном отражении мира. Поэтому в упомянутой сумме суждений одно до известной степени могло бы служить выводом из другого, и притом всегда взаимно[66]. Но для этого сначала должны существовать суждения, и, следовательно, их заранее надо установить на основе непосредственного познания мира in concreto, тем более что всякое непосредственное обоснование достовернее косвенного. Поэтому взаимная гармония таких суждений, благодаря которой они сливаются даже в единство одной мысли и которая вытекает из гармонии и единства самого наглядного мира, служащего их общей основой познания, — гармония эта может использоваться не в качестве первоначального довода для их обоснования, но лишь для подкрепления их истинности. Сама эта задача может вполне уясниться только в процессе ее решения**.
§ 16
После всего этого рассмотрения разума как свойственной только человеку особой познавательной способности и вытекающих из нее присущих человеческой природе достижений и феноменов мне остается еще говорить о разуме, поскольку он руководит действиями людей и в этом смысле может быть назван практическим. Но то, что я должен был бы сказать здесь по этому поводу, большей частью нашло себе место в другом отделе, а именно в приложении к этой книге, где мне пришлось оспаривать существование того, что Кант назвал практическим разумом, который он (конечно, с большим удовольствием) представляет непосредственным источником всякой добродетели и местопребыванием абсолютного (т. е. упавшего с неба) долга. Подробное и обстоятельное опровержение этого кантовского принципа морали я дал позднее в «Основных проблемах этики». Поэтому здесь мне надо сказать лишь немногое о действительном влиянии разума — в истинном смысле этого слова — на поступки.
Уже в начале нашего рассмотрения разума мы заметили в общих чертах, как сильно отличается человек от животного в своей деятельности и поведении, и мы видели, что это различие надо считать лишь результатом присутствия в сознании абстрактных понятий. Влияние их на все наше существо столь глубоко и значительно, что оно до известной степени ставит нас в такое же отношение к животным, в каком зрячие
86
животные находятся к не имеющим глаз (некоторые личинки, черви, зоофиты): последние познают на ощупь только то, что находится в пространстве непосредственно около них, соприкасается с ними; для первых, напротив, открыт широкий круг близкого и дальнего. Точно так же отсутствие разума ограничивает животных непосредственно имеющимися у них в данный момент наглядными представлениями, т. е. реальными объектами; мы же, наоборот, в силу познания in abstracto, кроме узкой действительности настоящего охватываем еще и все прошлое и будущее вместе с широкой областью возможного: мы свободно обозреваем жизнь по всем направлениям, выходя далеко за пределы настоящего и действительного. И то, чем в пространстве и для чувственного познания является глаз, во времени и для внутреннего познания представляет собой в известной степени разум. Но подобно тому как видимость предметов получает ценность и значение только от того, что дает знать об их осязательности, так и вся ценность абстрактного познания заключена всегда в его отношении к познанию наглядному. Вот почему простой человек придает гораздо большую ценность непосредственно и наглядно познанному, чем абстрактным понятиям, одной только мысли: эмпирическое познание он предпочитает логическому. Противоположную склонность[67] питают те, кто больше живет словом, чем делом, глубже погружается в бумаги и книги, чем в действительный мир, и, окончательно вырождаясь, становится педантом и буквоедом. Только этим и объясняется, как Лейбниц и Вольф со всеми своими последователями могли столь глубоко заблуждаться, что, следуя по стопам Дунса Скота44, они считали наглядное познание смутным абстрактным познанием. К чести Спинозы я должен напомнить, что он с его более верным чутьем, наоборот, объяснял происхождение всех общих понятий из смешения наглядно познанного (Eth. 2, prop. 40, Schol. 1*). Это же извращенное понимание привело к тому, что в математике была отвергнута ее самобытная очевидность и оставлена только логическая; что вообще всякое не абстрактное познание было обозначено широким именем чувства и мы им пренебрегли; что, наконец, кантовская этика провозгласила простым чувством и порывом, не имеющим никакой цены и заслуги, чистую добрую волю, непосредственно изъявляющую себя в данных обстоятельствах и побуждающую к справедливым и благим поступкам, а моральную ценность соглашалась признавать только за поступками, вытекающими из абстрактных принципов.
Возможность всестороннего обозрения жизни в ее целом, составляющая, благодаря разуму, преимущество человека перед животными, можно сравнивать также с геометрическим, бесцветным, абстрактным, уменьшенным эскизом его жизненного пути. Человек в этом смысле так относится к животному, как капитан, хорошо знающий свой путь и любое место на море с помощью морской карты, компаса и квадранта, к невежественным матросам, которые видят только волны да небо. Замечательно и даже изумительно, как человек наряду со своей жизнью in concreto всегда ведет еще другую жизнь — in abstracto. В первой он отдан на произвол всех бурь действительности и влиянию настоящего;
87
он обречен на искание, страдание, смерть, как и животное. Но его жизнь in abstracto, как она предстает его разумному сознанию, это — тихое отражение первой и мира, в котором он живет, это — упомянутый мною уменьшенный эскиз. Здесь, в сфере спокойного размышления, кажется ему холодным, бесцветным и чуждым текущему мгновению то, что там совершенно владеет им и сильно волнует его: здесь он — только зритель и наблюдатель. Удаляясь в область рефлексии, он походит на актера, который, сыграв свою сцену, до нового выхода занимает место среди зрителей и оттуда спокойно смотрит на все, что бы ни происходило в пьесе, даже на приготовление к его собственной смерти; но в известный момент он возвращается на подмостки и действует и страдает, как и полагается ему. Из этой двойной жизни вытекает то столь отличное от животной действительности человеческое спокойствие, с каким, однажды продумав что-то, приняв решение или познав необходимость, люди хладнокровно переносят или совершают самое важное, часто самое страшное для них: самоубийство, казнь, поединок, поступки, совершаемые с риском для жизни, и вообще такие вещи, против которых возмущается вся их животная природа. Тогда видно, до какой степени разум является властелином животной природы, и мы взываем к нему, сильному: «В груди твоей, старец, железное сердце!» (Илиада, XXIV, 521)45. По справедливости можно сказать, что здесь разум выступает практически; следовательно, всюду, где деятельность руководится разумом, где мотивами служат абстрактные понятия, где определяющим моментом являются не наглядные единичные представления и не минутное впечатление, которому повинуется животное, там обнаруживается практический разум. Но что это совершенно отличается и не зависит от этической ценности действия, что поступать разумно и поступать добродетельно — две вполне различные[68] вещи, что разум так же соединим с великой злобой, как и с великой добротой, и своим сотрудничеством только и сообщает обеим великую силу, что он одинаково готов служить для методического, последовательного выполнения как благородного, так и низкого замысла, как осмысленного, так и нелепого принципа, в чем и видна его женская, воспринимающая и хранящая, а не самостоятельная творческая природа, — все это я обстоятельно показал и уяснил примерами в приложении. Сказанное там должно было бы, собственно, найти себе место здесь, но ввиду полемики против мнимого практического разума Канта мне пришлось перенести это в приложение, куда я и отсылаю[69].
Самое полное развитие практического разума в истинном и подлинном смысле этого слова, крайняя вершина, которой может достигнуть человек с помощью одного только разума и где яснее всего выступает его отличие от животного, — это выражено в идеале стоического мудреца. Ибо стоическая этика по своему источнику и существу представляет собой вовсе не учение о добродетели, а наставление к разумной жизни, цель и назначение которой — счастье душевного покоя. Добродетельное поведение присоединяется сюда лишь как бы per accidens*[70], в качестве средства, а не цели. Поэтому стоическая этика всем своим
88
характером и точкой зрения коренным образом отличается от этических систем, непосредственно настаивающих на добродетели, — каковы учения Вед, Платона, христианства и Канта46. Цель стоической этики — счастье47: τέλος τὸ εὐδαιμονειν̃ — читаем мы в изложении стоицизма у Стобея (Ecl., L. II, cap. 7, p. 114*, а также р. 138). Однако стоическая этика доказывает, что счастье наверняка можно найти только во внутреннем мире и спокойствии духа (α’ταπαξία), a их опять-таки можно достигнуть лишь добродетелью; именно в этом смысл выражения, что добродетель есть высшее благо. Если же цель постепенно забывается ради средства и добродетель явно рекомендуется совсем в других интересах, нежели собственное счастье, которому она слишком очевидно противоречит, то это — одна из тех непоследовательностей, благодаря которым в каждой системе непосредственно познаваемая, или, как говорят, чувствуемая истина поворачивает, умозаключениям вопреки, на верный путь. Мы замечаем это, например, в этике Спинозы, которая из эгоистического suum utile quaerere** выводит с помощью очевидных софизмов чистое учение добродетели. Как я понимаю дух стоической этики, ее источник лежит в мысли, не способен ли разум, это великое преимущество человека, которое косвенно, планомерной деятельностью и его результатами до такой степени облегчает ему бремя жизни, — не способен ли он и непосредственно, т. е. одним познанием, сразу и вполне или почти вполне освободить человека от всяких страданий и мук, наполняющих его жизнь. Казалось несовместным с преимуществами разума, чтобы одаренное им существо, объемлющее и обозревающее благодаря ему бесконечность вещей и состояний, было все-таки отдано во власть настоящего и случайностей, наполняющих немногие годы столь краткой, мимолетной и неведомой жизни, во власть столь сильных мучений, столь великого страха и страдания, порожденных бурным порывом страстей и желания чего-то избежать; полагали, что надлежащее применение может от этого оградить человека и сделать его неуязвимым. Поэтому и сказал Антисфен: «Aut mentem parandam, aut laqueum» (Plut, de stoic, refugn., cap. 14)***[71], т. е. жизнь так полна мук и терзаний, что надо либо возвыситься над нею разумной мыслью, либо уйти из нее. Было понято, что лишение, страдание проистекают непосредственно и неизбежно не из неимения, а лишь из неудовлетворенного желания иметь, так что это желание иметь является необходимым условием, при котором неимение только и становится лишением и вызывает скорбь. «Non paupertas dolorem efficit, sed cupiditas» (Epict. fragm., 25)****. Кроме того, познали из опыта, что только надежда, только притязания создают и питают желание, и нас беспокоят и мучат не множество общих всем и неизбежных зол, не недостижимые блага, а только незначительное увеличение или уменьшение того, чего человек может избежать и достигнуть; что не только абсолютно, но даже от-
89
носительно недостижимое или неизбежное оставляет нас вполне равнодушными, и потому зло, которое раз и навсегда присуще нашей индивидуальности, или блага, в которых ей неизбежно отказано, мы наблюдаем хладнокровно, и в силу этого человеческого свойства любое желание вскоре умирает и, следовательно, не может больше причинять страданий, если только его не питает надежда. Из всего этого выяснилось, что всякое счастье основано на отношении между нашими притязаниями и тем, чего мы достигаем: неважно, сколь велики и малы обе величины этого отношения, и оно может быть восстановлено как уменьшением первой величины, так и увеличением второй; и точно так же всякое страдание происходит, собственно, от несоответствия наших требований и ожиданий тому, что нам дается, а это несоответствие коренится, очевидно, только в познании*, и более правильный взгляд мог бы совсем его устранить. Поэтому Хрисипп сказал: δει˜ζη˜ν χατ’ ἑμπείπιαν τω˜ν φὺσει σνμβαινόντων (Stob. Eel., L. II, cap. 7, p. 134), т. е. надо жить, верно понимая ход мировых вещей. Ибо всякий раз, когда человек теряет самообладание, или сокрушается каким-нибудь несчастьем, или приходит в гнев или уныние, он обнаруживает этим, что нашел вещи иными, чем ожидал, что он, следовательно, заблуждался, не знал мира и жизни, не знал, как воля отдельного существа пресекается на каждом шагу, в неживой природе случайно, в живой — ее противоположными целями или по злобе; следовательно, он или не воспользовался своим разумом, чтобы дойти до общего познания этого свойства жизни, или же способность суждения у него недостаточно сильна, если того, что ему известно в общем, он не распознает в частностях и потому изумляется и выходит из себя**. Точно так же и всякая живая радость — это заблуждение, мечта, потому что ни одно достигнутое желание не может удовлетворять нас надолго и потому что каждое обладание и каждое счастье лишь на неопределенное время дается случаем как бы взаймы, а в следующий момент может быть потребовано назад. Каждое страдание основано на исчезновении такой мечты; следовательно, оба явления вытекают из ошибочного познания, и потому мудрец всегда одинаково чужд и восторгу, и страданию, и никакое событие не смущает его α’ ταπαξία.
Согласно этому духу и цели стоицизма, Эпиктет с того и начинает и всегда возвращается как к ядру своей мудрости к тому, что нужно хорошо продумывать и различать то, что зависит от нас и что не зависит, никак не рассчитывая на последнее; это непременно сделает нас свободными от всякой боли, страдания и страха. Зависит же от нас только воля. Здесь и начинается постепенный переход к учению
90
о добродетели — замечанием, что в то время как не зависящий от нас внешний мир определяет счастье и несчастье, из воли проистекает внутренняя удовлетворенность или недовольство самим собой. А затем ставится вопрос: к первым ли двум или к последним следует прилагать названия bonum et malum*?[72] Собственно говоря, такая постановка вопроса была произвольна, случайна и не уясняла существа дела. Тем не менее стоики беспрестанно спорили об этом с перипатетиками и эпикурейцами и занимались несостоятельным сравнением двух совершенно несоизмеримых величин и вытекавшими из них противоположными парадоксальными изречениями, которыми они перебрасывались друг с другом. Интересный сборник их изречений — со стороны стоиков — предлагают нам «Парадоксы» Цицерона.
Зенон, основатель стоической школы, по-видимому, сначала избрал несколько иной путь. Его исходная точка была такова: для достижения высшего блага, т. е. счастья и душевного покоя, надо жить согласно с самим собою. Consonanter vivere: hoc est secundum unam rationem et concordem sibi vivere (Stob. Eel. L. II, cap. 7, p. 132)**. А также: virtutem esse animi affectionem secum per totam vitam consentientem (ibid., p. 104)***. Но это возможно осуществить, только определяя свои действия непременно разумом, согласно понятиям, а не изменчивым впечатлениям и настроениям[73]. И так как в нашей власти находятся лишь принципы поведения, а не результаты и внешние обстоятельства, то, для того чтобы всегда быть последовательным, надо стремиться к первым, а не к последним. Так вводится учение о добродетели.
Но уже посредственным последователям Зенона его моральный принцип «жить согласно» показался слишком формальным и бессодержательным. Они поэтому вложили в него материальное содержание, добавив «жить согласно с природой» (ὁμολογουμένως τη˜ φύσει ζη̃ν). Эта вставка, как сообщает в другом месте Стобей, впервые сделанная Клеанфом, вызвала очень широкие толкования в силу большого объема понятия и неопределенности выражения. Так, Клеанф имел в виду всю природу вообще, Хрисипп же — только человеческую (Диог. Лаэрт., 7, 89). Свойственное только человеческой природе потом было признано добродетелью, как и удовлетворение животных побуждений для животных. Этим опять насильственно вводилось учение о добродетели, и этика во что бы то ни стало должна была обосновываться физикой. Ибо стоики всюду стремились к единству принципа, и Бог и мир у них вовсе не были двумя началами.
Стоическая этика, взятая в целом, действительно является очень ценной и достойной уважения попыткой воспользоваться великим преимуществом человека — разумом — для важной и спасительной цели,
91
чтобы возвысить человека над
страданиями и скорбями, которым подвержена всякая
жизнь, наставив его
Qua ratione queas traducere
leniter aevum:
Ne te semper inops agitet
vexetque cupido,
Ne pavor et гегшп mediocriter
utilium spes*.
и этим доставить ему то высшее достоинство, которое подобает ему как разумному существу в противоположность животным и о котором можно говорить лишь в этом смысле, а не в каком-либо другом.
Этот мой взгляд на стоическую этику вынудил меня упомянуть о ней здесь, где я излагаю, что такое разум и что он может дать. Но хотя названная цель благодаря применению разума и разумной этики в известной степени достижима и опыт показывает, что чисто разумные натуры, обыкновенно называемые практическими философами (и справедливо, ибо подобно тому, как подлинный, т. е. теоретический, философ переносит жизнь в понятие, так они переносят понятие в жизнь), — самые счастливые люди, тем не менее недостает очень многого, чтобы осуществить нечто совершенное в этом роде и чтобы правильное употребление разума действительно могло освободить нас от всех тягот и страданий жизни и привести к благополучию. Желание жить без страданий заключает в себе полное противоречие, со держащееся и в общеупотребительном выражении «блаженная жизнь»; это с несомненностью будет ясно тому, кто до конца ознакомится с моим дальнейшим изложением. Это противоречие обнаруживается уже и в самой этике чистого разума тем, что стоик вынужден включить в свое наставление к блаженной жизни (в нем ведь и состоит его этика) также и совет самоубийства (подобно тому как среди великолепных украшений и сосудов восточных деспотов находится и драгоценная склянка с ядом) — именно на тот случай, когда телесные страдания, не устранимые никаким философствованием, никакими принципами и умозаключениями, одержат победу и окажутся неисцелимыми, и единственная цель человека, благополучие, не будет все-таки достигнута, и не останется другого средства уйти от страдания, кроме смерти, которую и надо тогда принять спокойно, как всякое другое лекарство. Здесь очевидна резкая противоположность между стоической этикой и всеми другими упомянутыми выше учениями, для которых целью служит добродетель непосредственно и сама по себе, даже при самых тяжких страданиях, которые не разрешают для освобождения от страданий кончать счеты с жизнью, — хотя ни одна из всех этих теорий не в силах высказать настоящей причины, почему самоубийство должно быть отвергнуто[74], но все они усердно отыскивают разного рода мнимые на то основания; истинное основание выяснится в четвертой книге в связи со всем нашим изложением. Но указанная противоположность только обнаруживает и подтверждает существенное, коренное различие между Стоей[75], которая является, собственно, лишь особым видом эвдемонизма, и названными
92
учениями, хотя они часто сходятся между собою в выводах и кажутся родственными. Только что упомянутое внутреннее противоречие, тяготеющее к стоической этике уже в ее основной идее, проявляется далее и в том, что ее идеал, мудрец-стоик, даже в собственном ее изображении никогда не мог обрести жизненности или внутренней поэтической правды, а оставался застылым деревянным манекеном, с которым нельзя иметь никакого дела, который сам не знает, что ему предпринять со своей мудростью, а его невозмутимый покой, удовлетворенность и блаженство прямо противоречат человеческой природе, так что мы не можем их себе наглядно представить. Как сильно отличаются от него те победители мира и добровольно кающиеся, которых представляет нам индийская мудрость и которых она действительно создала; или как отличается от него христианский Спаситель, этот дивный образ, полный глубокой жизненности, величайшей поэтической правды и высокого смысла, — образ, который, несмотря на совершенную добродетель, святость и величие, стоит перед нами, испытывая величайшие страдания*.
О мире как воле
Первое размышление:
объективация воли
Nos habitat, non tartara, sed nec sidera coeli:
Spiritus, in nobis qui viget, illa facit*.
§ 17
В первой книге мы рассматривали представление лишь как таковое, т. е. только в его общей форме.
Правда, что касается абстрактного представления, понятия, то оно сделалось нам известным и в своем содержании, так как все свое содержание и смысл оно получает лишь благодаря своему отношению к наглядному представлению, без которого оно не имело бы ни ценности, ни содержания. Поэтому, обращаясь всецело к наглядному представлению, мы хотим ознакомиться и с его содержанием, его ближайшими определениями и образами, которые оно выводит перед нами. В особенности мы будем заинтересованы в том, чтобы раскрыть его подлинное значение, которое обыкновенно только чувствуется, — благодаря ему эти образы не проносятся мимо нас как что-то совершенно чуждое и ничего не говорящее, чего следовало бы ожидать, а обращаются к нам непосредственно, понятны для нас и возбуждают интерес, захватывающий все наше существо.
Мы обращаем свои взоры на математику, естествознание и философию, каждая из которых внушает нам надежду дать часть желанного объяснения. Но прежде всего нам предстает философия как некое чудовище со многими головами, каждая из которых говорит на другом языке. Правда, по поводу затронутого здесь вопроса о значении наглядного представления они не все расходятся во мнениях между собой, ибо, за исключением скептиков и идеалистов, остальные в главном высказываются достаточно согласно об объекте, который лежит в основании представления и который хотя и отличается от представления всем своим бытием и существом, тем не менее во всех частях похож на него, как одно яйцо на другое. Нам это, однако, не может помочь, ибо мы
94
совсем не умеем отличать такой объект от представления: в наших глазах оба они одно и то же, так как каждый объект всегда предполагает субъект и потому остается все тем же представлением; мы познали и то, что быть объектом — значит принадлежать к самой общей форме представления, которая и есть распадение на объект и субъект. К тому же закон основания, на который при этом ссылаются, также служит нам лишь формой представления, а именно закономерной связью одного представления с другим, а не связью всего конечного или бесконечного ряда представлений с чем-то таким, что вовсе не есть представление, потому не может быть представимо. Впрочем, о скептиках и идеалистах уже говорилось выше, при изложении спора о реальности внешнего мира.
Если мы будем искать желанного нам более конкретного знания о наглядном представлении, которое пока известно нам лишь с его совершенно всеобщей, чисто формальной стороны, — если мы будем искать такого знания в математике, то она будет говорить нам о подобных представлениях, лишь поскольку они наполняют время и пространство, т. е. поскольку они суть величины. Она в высшей степени точно определит «сколько» и «сколь велико», но так как это всегда лишь относительно, т. е. является сравнением лишь одного представления с другим и сравнением только в этом одностороннем отношении к величине, то подобный ответ не даст тех сведений, которых мы главным образом ищем.
Наконец, если мы обратимся к широкой области естествознания, разделенной на множество частей, то мы сумеем отличить прежде всего два главных его отдела. Оно представляет собой либо описание форм, которое я называю морфологией, либо объяснение изменений, которое я называю этиологией2. Первая изучает неизменные формы, последняя — изменчивую материю по законам ее перехода из одной формы в другую. Первая — это то, что во всем своем объеме именуется, хотя и не вполне правильно, естественной историей: она знакомит нас, особенно в качестве ботаники и зоологии, с различными, не изменяющимися при беспрестанной смене индивидов органическими и потому твердо определенными формами, которые составляют большую часть содержания наглядного представления. Эти формы морфология классифицирует, разделяет, соединяет по естественным и искусственным системам, подводит под известные понятия, делающие возможным обзор и изучение всех форм. Она указывает, далее, на проникающую все эти формы, полную бесконечных оттенков аналогию их в целом и частностях (unite de plan)*, в силу которой они подобны разнообразным вариациям на какую-то неведомую тему. Переход материи в эти формы, т. е. происхождение индивидов, не составляет главного момента изучения, потому что каждый индивид происходит от себе подобного через рождение, которое, всюду одинаково таинственное, до сих пор ускользает от полного объяснения, а то немногое, что мы знаем о нем, находит себе место в физиологии, принадлежащей уже к этиологическому естествознанию. К последнему склоняется и относящаяся в основном к мор-
95
фологии минералогия, особенно там, где она переходит в геологию. Этиологией в собственном смысле являются все те ветви естествознания, где главным всюду выступает познание причины и действия; они учат, как, согласно безошибочному правилу, за одним состоянием материи необходимо следует определенное другое, как определенное изменение необходимо обусловливает и влечет за собой другое, тоже определенное: указание на это называется объяснением. К этиологии относятся главным образом механика, физика, химия, физиология.
Но если мы вникнем в то, чему они учат, мы скоро убедимся, что желанного нам ответа этиология не дает, так же как не дает его и морфология. Последняя выводит перед нами бесчисленные, бесконечно разнообразные и все-таки по явному семейному сходству родственные формы, для нас — представления, которые остаются на этом пути вечно чуждыми для нас и, рассматриваемые лишь с этой точки зрения, похожи на непонятные иероглифы. Этиология же учит нас, что по закону причины и действия данное определенное состояние материи вызывает другое: этим она его объяснила и сделала свое дело. Между тем, в сущности, она делает только то, что раскрывает закономерный порядок, в котором возникают в пространстве и времени разные состояния, и учит раз и навсегда, какое явление необходимо должно наступить в данном месте и в данное время. Она, таким образом, указывает явлениям их место во времени и пространстве — по закону, определенное содержание которого дается опытом, но общая форма и необходимость которого осознается нами независимо от опыта. Однако о внутреннем существе какого-либо из этих явлений мы не получаем отсюда ни малейшего знания; это существо именуется силой природы и лежит вне сферы этиологического объяснения, называющего законом природы неизменность, с какой наступает проявление такой силы, если только даны условия, известные этиологии.
Но этот закон природы, эти условия, это проявление относительно определенного места и времени — это все, что знает и вообще может знать этиология. Самая сила, проявляющаяся здесь, внутреннее существо явлений, наступающих по этим законам, остается для нее вечной тайной, чем-то совершенно чуждым и неизвестным, как при самых простых, так и при самых сложных явлениях. В самом деле, хотя этиология до сих пор лучше всего достигла своей цели в механике и хуже всего в физиологии, однако та сила, благодаря которой камень падает на землю или одно тело толкает другое, в своем внутреннем существе не менее чужда и таинственна для нас, чем та, которая вызывает движение и рост животного. Механика предполагает материю, тяжесть, непроницаемость, передачу движения толчком, инерцию и т. п. как нечто объяснимое и называет их силами природы, а их необходимое и регулярное проявление при известных условиях — законом природы; и лишь затем она начинает свое объяснение, которое состоит в том, что она верно и математически точно указывает, как, где и когда обнаруживается каждая сила, и в том, что каждое встречаемое ею явление она сводит к одной из этих сил. То же в своей области делают физика, химия, физиология — с той лишь разницей, что они еще больше предполагают и меньше дают. Поэтому самое совершенное этиологическое
96
объяснение всей природы никогда не могло бы быть чем-то иным, кроме перечня необъяснимых сил и точного указания тех законов, согласно которым проявления этих сил наступают во времени и пространстве, следуют друг за другом, уступают друг другу место; внутреннее же существо проявляющихся таким образом сил должно всегда остаться необъяснимым для этиологии, потому что закон, которого она придерживается, к этому не приводит, и она ограничивается явлениями и их порядком. В этом отношении этиологическое объяснение можно сравнить с разрезом мрамора: мы видим множество прожилок друг возле друга, но их течение изнутри мрамора вплоть до противоположной его поверхности скрыто для нас. Или — если позволить себе шутливое сравнение, ибо оно поразительнее, — полная этиология всей природы непременно возбуждала бы в философе-исследователе такое же чувство, как у человека, который, сам не зная как, попал в совершенно незнакомое общество: каждый из его членов по очереди представляет ему другого как своего приятеля и родственника и этим ограничивает знакомство, а у гостя, уверяющего при каждой рекомендации, что ему очень приятно, все время готов сорваться вопрос: «Но каким же образом, черт возьми, доберусь я до всего общества?» Итак, и этиология никогда не в состоянии дать нам желанного ключа к тем явлениям, которые мы знаем лишь как свои представления, и вывести нас за их пределы. Ибо после всех ее объяснений эти явления по-прежнему остаются совершенно чуждыми для нас в качестве представлений, смысл которых нам непонятен. Причинная связь раскрывает нам только закон и относительный порядок их наступления в пространстве и времени; но что, собственно, наступает, этого она нам не раскрывает. К тому же самый закон причинности имеет силу лишь для представлений, для объектов определенного класса, и только предполагая их, он получает смысл; следовательно, как и самые эти объекты, он всегда существует только по отношению к субъекту, т. е. условно; вот почему его, как этому учил Кант, одинаково хорошо можно познать как исходя из субъекта, т. е. a priori, так и исходя из объекта, т. е. a posteriori. Нас же побуждает к дальнейшему исследованию именно то, что они такие-то и такие-то и что они связаны согласно известным законам, общим выражением которых всегда служит закон основания. Мы хотим знать смысл этих представлений, мы спрашиваем, действительно ли этот мир есть не более чем представление, и в таком случае не проходит ли он перед нами как бесплотное сновидение или воздушный призрак, недостойный нашего внимания, или же он представляет собой еще и нечто другое, нечто сверх того, и если да, то что же это такое. С самого начала несомненно одно: это искомое должно по всему своему существу коренным образом и безусловно отличаться от представления и быть поэтому совершенно чуждым его форм и законов; к этому искомому, следовательно, нельзя подойти, исходя из представления и держась путеводной нити тех законов, которые в качестве форм закона основания связывают друг с другом только объекты, представления.
Мы видим уже здесь, что совершенно невозможно проникнуть в существо вещей извне. Как бы далеко мы ни заходили в своем исследова-
97
нии, результатом будут только образы и имена. Мы уподобляемся человеку, который, бродя вокруг замка, тщетно ищет вход и между тем срисовывает фасад. И тем не менее именно таков был путь, которым шли все философы до меня.
§ 18
Действительно, искомый смысл мира, противостоящего мне лишь в качестве моего представления, или переход от него как простого представления познающего субъекта к тому, чем он может быть сверх того, — этот смысл и этот переход остались бы навсегда скрытыми, если бы сам исследователь был только чисто познающим субъектом, крылатой головой ангела без тела. Но ведь он сам укоренен в этом мире, находит себя в нем как индивида, т. е. его познание, которое является обусловливающим носителем целого мира как представления, все же неизбежно опосредствуется телом, чьи состояния, как показано, служат рассудку исходной точкой для познания мира. Это тело для чисто познающего субъекта как такового является таким же представлением, как и всякое другое, объектом среди объектов: его движения, его действия в этом отношении известны субъекту не более чем изменения всех других наглядных объектов, и они остались бы для него так же чужды и непонятны, если бы разгадка их смысла не предстояла ему на совершенно другом пути. Иначе ему казалось бы, что его действия следуют из данных мотивов, с постоянством закона природы, как и изменения других объектов, совершающиеся по причинам, раздражителям, мотивам. Влияние же мотивов он понимал бы не лучше, чем связь любого другого являющегося перед ним действия с его причиной.
Внутреннюю, непонятную ему сущность явлений и действий своего тела он тоже называл бы силой, свойством, характером — как ему угодно, но больше не знал бы о ней ничего. На самом деле все это не так; напротив, субъекту познания, выступающему как индивид, дано слово разгадки, и это слово — воля. Оно, и только оно, дает ему ключ к его собственному явлению, открывает ему, показывает ему внутренний механизм его существа, его деятельности, его движений. Субъекту познания, который в силу своего тождества с телом выступает как индивид, это тело дано двумя совершенно различными способами: во-первых, как представление в созерцании рассудка, как объект среди объектов, подчиненный их законам; но в это время оно дано и совершенно иначе, а именно как то, что непосредственно известно каждому и обозначается словом воля. Каждый истинный акт его воли тотчас же и неизбежно является также движением его тела: субъект не может действительно пожелать такого акта, не заметив в то же время, что последний проявляется в движении тела. Волевой акт и действие тела — это не два объективно познанных различных состояния, объединенных связью причинности; они не находятся между собою в отношении причины и действия, нет, они представляют собой одно и то же, но только данное двумя совершенно различными способами — один раз совершенно непосредственно и другой раз в созерцании для рассудка. Действие тела
98
есть не что иное, как объективированный, т. е. вступивший в созерцание, акт воли. Впоследствии мы увидим, что это относится ко всякому движению тела, не только совершающемуся по мотивам, но и непроизвольно следующему за простым раздражителем, мы увидим, что все тело есть не что иное, как объективированная, т. е. ставшая представлением, воля (все это обнаружится и выяснится в дальнейшем изложении). Вот почему тело, которое я в предыдущей книге и в трактате о законе основания, согласно намеренно односторонней точке зрения (а именно — представления), называл непосредственным объектом, здесь я назову, в другом отношении, объектностью воли. Можно поэтому в известном смысле сказать также, что воля — это априорное познание тела, а тело — апостериорное познание воли[76].
Решения воли, относящиеся к будущему, — это лишь размышления разума о том, чего мы некогда пожелаем, а не волевые акты в собственном смысле: только выполнение накладывает последнюю печать на решение, которое до этого является просто шатким намерением и существует исключительно в разуме, in abstracto. Только в рефлексии желание и действие различны: на самом деле они суть одно и то же[77]. Каждый истинный, настоящий, непосредственный акт воли есть в то же время и непосредственно проявляющийся акт тела; в соответствии с этим, с другой стороны, и каждое воздействие на тело является тотчас же и непосредственно воздействием на волю; как таковое, оно называется болью, если противно воле, удовольствием и наслаждением, если удовлетворяет ее. Степени их очень различны, но совершенно неправильно называть боль и наслаждение представлением, каковым они отнюдь не являются; они представляют собой непосредственные состояния воли в ее проявлении — теле, вынужденное мгновенное желание или нежелание того впечатления, которое испытывает тело. Непосредственно как простые представления и потому как исключения из сказанного можно рассматривать только некоторые немногие впечатления на тело, которые не возбуждают воли и лишь благодаря которым тело служит непосредственным объектом познания, между тем как в качестве созерцания для рассудка оно является уже косвенным объектом, подобно всем остальным. Здесь имеются в виду состояния чисто объективных чувств — зрения, слуха и осязания, но лишь постольку, поскольку эти органы аффицируются свойственным им, специфическим и сообразным их природе способом, а он является столь слабым возбуждением повышенной и специфически измененной чувствительности этих частей, что не действует на волю и, не смущаемый никаким возбуждением с ее стороны, сообщает только рассудку те данные, из которых возникает созерцание. Всякое же более сильное или другого рода воздействие на эти органы чувств болезненно, т. е. противно воле, к объектности которой принадлежат ведь и они. Слабость нервов выражается в том, что впечатления, которые должны были бы обладать лишь такой степенью силы, чтобы их можно было обращать в данные для рассудка, достигают более высокой ступени, где они затрагивают волю, т. е. вызывают боль или наслаждение — чаще, однако, боль; несколько тупая и неясная, она все же не только заставляет мучительно ощущать некоторые звуки и сильный свет, но и вообще порождает болезненное ипохондрическое настрое-
99
ние, хотя и не осознается отчетливо. Далее, тождество тела и воли, между прочим, обнаруживается в том, что всякое сильное и чрезмерное движение воли, т. е. всякий аффект, совершенно непосредственно потрясает тело и его внутренний механизм и нарушает ход его жизненных функций. Специально это изложено в «Воле в природе».
Наконец, познание, которое у меня есть о моей воле, хотя оно и непосредственное, все-таки неотделимо от познания о моем теле. Я познаю свою волю не в ее целом, не как единство, не вполне в ее существе: я познаю ее только в ее отдельных актах, т. е. во времени, которое служит формой явления моего тела, как и всякого объекта; поэтому тело составляет условие познания моей воли. Оттого без своего тела я, собственно, не могу себе представить этой воли. В моем трактате о законе основания воля (или, вернее, субъект желания) изображена, правда, как особый класс представлений, или объектов, но уже и там мы видели, что этот объект совпадает с субъектом, т. е. перестает быть объектом; это совпадение мы назвали там чудом χατ’εξοχην*, и до известной степени весь настоящий труд мой является его объяснением.
Поскольку я познаю свою волю собственно как объект, я познаю ее как тело; но в таком случае я снова прихожу к установленному в названном трактате первому классу представлений, т. е. к реальным объектам. Дальнейшее исследование все более и более убедит нас, что первый класс представлений находит свой ключ, свою разгадку только в там уже установленном четвертом классе, который, собственно, больше уже не хотел противостоять субъекту в качестве объекта, и мы убедимся далее, что, согласно этому, из господствующего в четвертом классе закона мотивации мы должны будем понять внутреннее существо действующего в первом классе закона причинности и всего, что совершается в соответствии с ним.
Предварительно намеченное здесь тождество воли и тела может быть — как я это сделал здесь впервые и как это в дальнейшем изложении будет повторяться — только указано, т. е. из непосредственного сознания, из познания in concreto, поднято до разумного знания или перенесено в познание in abstracto. Но по самой своей природе оно никогда не может быть доказано, т. е. выведено в качестве косвенного познания из другого, непосредственного познания, именно потому, что оно само наиболее непосредственно, и если мы не воспримем и не удержим его как таковое, то напрасно будет наше ожидание получить его снова, каким-нибудь косвенным путем, в качестве производного познания. Это тождество есть познание совершенно особого рода, и истинность его поэтому не может быть подведена под одну из тех четырех рубрик, на которые я разделил все истины в трактате о законе основания (§ 29 и сл.), а именно на логические, эмпирические, метафизические и металогические. Ибо истинность этого тождества не есть, как все эти истины, отношение одного абстрактного представления к другому представлению или к необходимой форме интуитивной или абстрактной представляющей деятельности: нет, она является отношением суждения к той связи, которую наглядное представление, тело, имеет с тем, что
100
есть вовсе не представление, а нечто
от него toto genere* отличное
— воля. Я желал бы оттого выделить эту истину из всех других и назвать ее философской
истиной χατ̔εξοχην.
Выражать ее можно различными способами;
можно говорить: мое тело и моя воля — это одно
и то же; или: то, что я в качестве наглядного представления называю своим телом, это же, поскольку я
сознаю это совершенно особым, ни с
чем не сравнимым образом, я называю своей волей; или: мое тело есть объектность моей воли; или: независимо от того, что
мое тело есть мое представление, оно
есть еще только моя воля, и т. д.**
§ 19
Если в первой книге мы, с внутренним сопротивлением, признали собственное тело, подобно всем остальным объектам этого наглядного мира, только представлением познающего субъекта, то теперь для нас стало ясно, что́ именно в сознании каждого отличает представление собственного тела от всех других представлений, с ним в остальном вполне сходных: это то, что тело появляется в сознании еще в совершенно ином, toto genere отличном виде, который обозначают словом воля, что именно это двоякое знание о собственном теле дает нам разгадку самого этого тела, его деятельности и движения по мотивам, а также его страдания от внешних воздействий — словом, разгадку того, чем оно является не как представление, но, кроме этого, что́ оно есть в себе; такой разгадки относительно существа, деятельности и страдания всех других реальных объектов непосредственно у нас нет.
Познающий субъект есть индивид именно в силу этого особого отношения к одному телу, которое, помимо этого отношения, является для него одним из представлений, подобно всем остальным, является индивидом. Но отношение, в силу которого познающий субъект является индивидом, существует поэтому только между ним и единственным из всех его представлений; вот почему лишь это единственное он сознает не только как представление, но в то же время и совершенно иначе — как волю. Но если отвлечься от этого особого отношения, от этого двоякого и совершенно разнородного познания одного и того же, то это одно, тело, является, конечно, представлением, подобно всем другим; поэтому, чтобы ориентироваться здесь, познающий индивид должен принять одно из двух: либо отличительная черта этого одного представления заключается лишь в том, что его, индивида, познание находится в таком двойном отношении только к этому представлению, имеет одновременно двойной доступ только в этот один наглядный объект, — но это объясняется не отличием данного объекта от всех других, а только отличием отношения его, индивида, познания к этому одному объекту сравнительно с отношением его к другим объектам; либо этот один объект по существу отличается от всех других объектов, единственно между всеми[78] есть одновременно и воля, и представление, тогда как
101
все остальные — только представления, т. е. простые фантомы, и тело человека, следовательно, есть единственный реальный индивид в мире, т. е. единственное проявление воли, и единственный непосредственный объект субъекта.
То, что другие объекты, рассматриваемые просто как представления, подобны телу субъекта, т. е., как и оно, наполняют пространство (существующее, может быть, тоже лить в качестве представления), и, как оно, действуют в пространстве, — это хотя и доказывается бесспорно из a priori несомненного для представлений закона причинности, не допускающего никакого действия без причины, но (не говоря уже о том, что от действий можно заключать только к причине вообще, а не к одинаковой причине) это не выводит нас еще из области чистого представления, для которой только и имеет силу закон причинности и дальше которой он никогда не может нас повести. Но будут ли объекты, известные индивиду лишь в качестве представлений, будут ли они все-таки, подобно его собственному телу, явлениями воли — вот в чем, как уже сказано в предыдущей книге, заключается истинный смысл вопроса о реальности внешнего мира. Отрицательный ответ на этот вопрос составляет сущность теоретического эгоизма, который именно потому и считает все явления, кроме собственного индивида, за фантомы, подобно тому как практический эгоизм поступает точно так же в практическом отношении: только собственную личность он рассматривает как действительную, а во всех остальных видит лишь призраки и соответственно обращается с ними. Теоретический эгоизм, правда, никогда не может быть опровергнут никакими доказательствами; однако в философии им всегда пользовались исключительно в качестве скептического софиза[79], т. е. для вида. А как серьезное убеждение его можно найти только в сумасшедшем доме, и тогда оно требует не столько аргументов, сколько лечения. Поэтому мы не станем больше останавливаться на нем, и в наших глазах оно будет только последней цитаделью скептицизма, который всегда имеет полемический характер. Если, таким образом, наше всегда привязанное к индивидуальности и именно этим ограниченное познание необходимо влечет за собою то, что каждый может быть лишь чем-то одним, все же остальное он может познавать (это ограничение и порождает, собственно, потребность в философии), то мы, стремясь именно поэтому расширить философией границы нашего познания, будем рассматривать этот выступающий против нас скептический аргумент теоретического эгоизма как маленькую пограничную крепость, которую, правда, никогда нельзя взять, но и гарнизон ее тоже никогда не может выйти наружу, поэтому ее можно смело обойти, не боясь оставить в тылу[80].
Итак, выясненное теперь двоякое, в двух совершенно различных видах данное нам познание о сущности и деятельности нашего собственного тела мы будем употреблять в качестве ключа к сущности всякого явления в природе. Все объекты, которые не есть наше собственное тело и потому даны нашему сознанию не двояко, а лишь как представления, мы будем рассматривать по аналогии с телом и признаем поэтому, что как они, с одной стороны, подобно телу, суть представления и в этом
102
совершенно однородны с ним, так и, с другой стороны, если устранить их бытие в качестве представлений субъекта, то полученный остаток по своему внутреннему существу должен быть тем самым, что́ мы в себе называем волей. Ибо какой же иной род бытия или реальности можно приписать остальному физическому миру? Откуда взять элементы, чтобы составить такую реальность? Кроме представления и воли, мы не знаем и не можем помыслить более ничего. Если мы хотим приписать физическому миру, непосредственно находящемуся лишь в нашем представлении, наибольшую известную нам реальность, то мы должны придать ему ту реальность, какой для каждого является его тело: ибо последнее для каждого есть самое реальное. Но если мы подвергнем анализу реальность этого тела и его действий, то, помимо того, что оно есть наше представление, мы не найдем в нем ничего другого, кроме воли: этим исчерпывается вся его реальность. Таким образом, мы нигде не можем найти другой реальности для физического мира. Если, следовательно, физический мир должен быть чем-то большим, нежели просто наше представление, то мы должны сказать, что он кроме представлений, т. е. в себе и по своему внутреннему существу, является тем, что мы в самих себе находим непосредственно как волю. Я говорю — по своему внутреннему существу, но это существо воли мы должны сперва познать конкретнее, чтобы уметь отличать то, что относится уже не к нему самому, а к его проявлению, имеющему много степеней; так, например, сопровождение воли познанием и обусловленная этим определенность ее мотивами относятся, как мы увидим дальше, не к ее существу, а лишь к ее очевиднейшему проявлению в животном и человеке. Поэтому если я скажу: сила, влекущая камень к земле, по своему существу, в себе и помимо всякого представления есть воля, то этому суждению не будут приписывать нелепого смысла, будто камень движется по сознательному мотиву, ибо воля проявляется в человеке именно так*[81].
Изложенное до сих пор предварительно и в общих чертах докажем теперь подробнее и яснее, дав ему полное развитие и обоснование**.
§ 20
Как сущность собственного тела сама в себе, как то, чем является это тело помимо того, что оно есть объект созерцания, представление, — воля, как сказано, выражается прежде всего произвольными движениями тела, ибо они суть не что иное, как видимость отдельных волевых актов, с которыми они наступают непосредственно и вполне одновре-
103
менно как нечто тождественное с ними, отличающееся от них только формой познания, в какую они перешли, сделавшись представлением.
Но эти акты воли всегда имеют еще причину вне себя — в мотивах. Последние определяют, однако, только то, чего я хочу в это время, на этом месте, при этих обстоятельствах, а не то, что я вообще хочу или чего я вообще хочу, т. е. они не определяют принцип, характеризующий все мое желание. Поэтому мое желание во всей своей сущности не может быть объяснено из мотивов: они определяют только его проявление в данный момент времени, они — только повод, обнаруживающий мою волю; сама же воля лежит вне области закона мотивации, только проявление воли в каждый момент времени неизбежно определяется этим законом. Лишь при условии моего эмпирического характера мотив служит достаточной объяснительной причиной моего поведения; если же я абстрагируюсь от своего характера и спрашиваю затем, почему я вообще хочу этого, а не того, то ответ на такой вопрос невозможен, потому что закону основания подчинено только проявление воли, а не сама воля, которую в этом отношении следует назвать безосновной.
При этом я отчасти предполагаю знакомство с учением Канта об эмпирическом и умопостигаемом характере3, как и с моими соображениями в «Основных проблемах этики»; отчасти же нам придется поговорить об этом подробнее в четвертой книге. А пока я хочу обратить внимание только на следующее: обоснованность одного явления другим (в данном случае поступка — мотивом) вовсе не противоречит тому, что внутренней сущностью этого явления будет воля, которая сама не имеет основания, так как закон основания во всех его видах является только формой познания, и его сила, следовательно, простирается только на представление, явление, видимость воли, а не на самую волю, становящуюся видимой.
Итак, если каждое действие моего тела есть проявление акта воли, в котором при данных мотивах высказывается и самая моя воля вообще и в целом, т. е. мой характер, то неизбежным условием и предпосылкой каждого действия тоже должно быть проявление воли, ибо ее проявление не может зависеть от чего-либо такого, что не существовало бы непосредственно и исключительно в силу ее самой, т. е. от чего-либо такого, что было бы для нее лишь случайным и что делало бы самое ее проявление лишь случайным; а таким условием и оказывается именно все тело. Последнее поэтому уже само должно быть проявлением воли и должно так относиться к моей воле в целом, т. е. к моему умопостигаемому характеру, проявлением которого во времени служит мой эмпирический характер, как отдельное действие тела — к отдельному акту воли. Следовательно, все тело не может быть не чем иным, как моею волей[82], сделавшейся видимой, не чем иным, как самою моею волей, поскольку она есть наглядный объект, представление первого класса[83].
В подтверждение этого было уже указано, что каждое воздействие на мое тело тотчас же и непосредственно аффицирует[84] и мою волю и в этом отношении называется болью или наслаждением, а на низшей ступени — приятным или неприятным ощущением и что, с другой стороны, каждое сильное движение воли, т. е. аффект и страсть, потрясает тело и нарушает течение его функций.
104
Можно представить себе этиологически[85], хотя и весьма несовершенно, возникновение и, несколько лучше, развитие и сохранение своего тела, что и составляет физиологию; однако последняя объясняет свой предмет лишь в той мере, в какой мотивы объясняют поведение. И подобно тому как то обстоятельство, что отдельный поступок имеет своим основанием мотив и необходимо из него вытекает, не противоречит тому, что поступок вообще и по своему существу есть лишь проявление некоторой воли, в самой себе безосно́вной, — так и физиологическое объяснение функций тела не наносит ущерба той философской истине, что все бытие этого тела и вся совокупность его функций есть лишь объективация той же самой воли, которая проявляется во внешних действиях этого тела в соответствии с мотивами[86]. Тем не менее физиология пытается свести к чисто органическим причинам даже и эти внешние действия, непосредственно произвольные движения, например, объяснить движение мускула приливом соков («как сжимание намоченной веревки», говорит Рейль в своем «Архиве физиологии», т. 6, с. 153); но если даже предположить, что можно достигнуть основательного объяснения подобного рода, это все же никогда не устранило бы той непосредственно достоверной истины, что каждое произвольное движение (functiones animales) есть проявление волевого акта. И физиологическое объяснение вегетативной жизни (functiones naturales, vitales), каковы бы ни были его успехи, тоже никогда не будет в состоянии опровергнуть ту истину, что вся наша развивающаяся животная жизнь сама есть проявление воли. Вообще, как выяснено раньше, всякое этиологическое объяснение может указать только необходимо определенное место во времени и пространстве для отдельного явления, его необходимое возникновение там согласно твердому правилу, внутренняя же сущность каждого явления всегда останется закрытой на этом пути, она предполагается каждым этиологическим объяснением и только обозначается названиями: сила, или закон природы, или же, если речь идет о действиях, характер, воля.
Итак, хотя каждый отдельный поступок, при условии определенного характера, необходимо вытекает из данного мотива и хотя рост, процесс питания и вся совокупность изменений животного тела совершаются по необходимо действующим причинам (раздражителям), тем не менее весь ряд поступков, а следовательно, и каждый в отдельности, а также их условие, самое тело, которое их исполняет, следовательно, и процесс, посредством которого оно существует и в котором оно состоит, — все это есть не что иное, как проявление воли, обнаружение, объектность воли[87]. На этом основывается полное соответствие человеческого и животного организма человеческой и животной воле вообще; оно похоже (но значительно превосходит его) на соответствие специально изготовленного орудия воле изготовителя и поэтому является целесообразностью, т. е. телеологической объяснимостью тела. Вот почему органы тела должны вполне соответствовать главным вожделениям, в которых проявляет себя воля, должны быть их видимым выражением: зубы, глотка и кишечный канал — это объективированный голод; гениталии — объективированное половое влечение; хватающие руки, быстрые ноги соответствуют тому уже более косвенному стремлению воли, какое они представляют.
105
Подобно тому как общечеловеческая форма соответствует общечеловеческой воле, так индивидуально модифицированной воле, характеру отдельного лица соответствует индивидуальное строение тела, которое поэтому вполне и во всех своих частях характерно и выразительно. Весьма примечательно, что это высказал уже Парменид в следующих стихах, приведенных у Аристотеля (Metaph. II, 5):
Ut enim cuique c
Ita mens h
Quod sapit, membrorum natura h
Et
§ 21
Кто благодаря всем этим соображениям овладел также in abstracto, т. е. ясно и твердо, тем познанием, которое in concreto есть у каждого непосредственно, т. е. в виде чувства, кто овладел познанием того, что внутренняя сущность его собственного явления, которое в качестве представления выступает перед ним как в его действиях, так и в их пребывающем субстрате, его собственном теле, что эта сущность есть его воля и что она составляет самое непосредственное в его сознании, но как таковое не вошла всецело в форму представления, где объект и субъект противостоят друг другу, а возвещает о себе непосредственным образом, без вполне ясного различения субъекта и объекта, и к тому же открывается самому индивиду не в целом, а лишь в своих отдельных актах, — кто, говорю я, пришел вместе со мной к этому убеждению, для того оно само собой сделается ключом к познанию внутренней сущности всей природы, если он перенесет его и на все те явления, которые даны ему не в непосредственном познании наряду с косвенным (как его собственное явление), а только в последнем, т. е. односторонне, в качестве одного представления. Не только в явлениях, вполне сходных с его собственным, в людях и животных, признает он в качестве их внутренней сущности все ту же волю, но дальнейшее размышление приведет его к тому, что и та сила, которая движет и живит растение, и та сила, которая образует кристалл, и та, которая направляет магнит к северу, и та, которая встречает его ударом при соприкосновении разнородных металлов, и та, которая в сродстве материальных веществ проявляется как отталкивание и притяжение, разделение и соединение, и, наконец, как тяготение, столь могучее во всей материи, влекущее камень к земле и землю к солнцу, — все это будет признано им различным лишь в явлении, а в своей внутренней сущности тождественным с тем самым, что ему непосредственно известно столь интимно и лучше всего другого и что в наиболее ясном своем обнаружении называется волей. Только
106
в силу размышления мы и не останавливаемся больше на явлении, а переходим к вещи в себе. Явление значит представление и ничего больше: всякое представление, какого бы рода оно ни было, всякий объект есть явление. Но вещь в себе — это только воля, и как таковая она есть вовсе не представление, а нечто toto genere от него отличное: то, проявлением чего, видимостью, объектностью выступает всякое представление, всякий объект. Она — самая сердцевина, ядро всего частного, как и целого; она проявляется в каждой слепо действующей силе природы, но она же проявляется и в обдуманной деятельности человека: великое различие между ними касается только степени проявления, но не сущности того, что проявляется.
§ 22
Эта вещь в себе (удержим
кантовский термин как устойчивую формулу), которая как таковая[88]
никогда не бывает объектом (потому что всякий объект есть лишь ее проявление, а
уже не она сама), эта вещь должна была, чтобы сделаться все-таки объективно
мыслимой, заимствовать себе название и понятие у какого-нибудь объекта, у
чего-нибудь данного объективно, следовательно, у какого-либо из своих
проявлений; но последнее, чтобы послужить объясняющим моментом, должно быть самым
совершенным из всех ее проявлений, т. е. самым ясным, наиболее развитым,
непосредственно освященным силой познания: таковой является именно человеческая
воля. Надо, однако, заметить, что мы, конечно, пользуемся лишь den
107
Противоположным образом, но столь же превратно понял бы меня тот, кто подумал бы, что в конце концов безразлично — называть ли эту внутреннюю сущность всех явленна словом воля или каким-нибудь другим. Так действительно было бы, если бы о существовании этой вещи в себе мы могли бы только умозаключить и таким образом познавали бы ее исключительно косвенно и лишь in abstracto: тогда, разумеется, эту вещь в себе можно было бы называть как угодно, имя было бы просто знаком неизвестной величины. В настоящем же случае термин воля, который, как волшебное слово, должен раскрыть нам сокровенную сущность каждой вещи в природе, обозначает вовсе не неизвестную величину, не достигнутое умозаключениями нечто, а вполне непосредственно познанное и настолько известное, что мы гораздо лучше знаем и понимаем, что такое воля, нежели всякая другая вещь.
До сих пор понятие воли подводили под понятие силы; я же поступаю как раз наоборот и каждую силу в природе хочу понять как волю. Пусть не подумают, что это безразличный спор о словах: все это в высшей степени значительно и важно. Ибо в конечном основании понятия силы, как и всякого другого, лежит наглядное познание объективного мира, т. е. явление, представление, откуда и почерпнуто это понятие. Оно абстрагировано из той области, где царят причина и действие, т. е. из наглядного представления, и означает именно наличие причины как причины, — в той точке, где это наличие совершенно не поддается дальнейшему и этиологическому объяснению, а само служит необходимой предпосылкой всякого этиологического объяснения. Напротив, понятие воли — единственное из всех возможных, которое имеет свой источник не в явлении, не просто в наглядном представлении, а исходит изнутри, вытекает из непосредственного сознания каждого, сознания, в котором каждый познает собственную индивидуальность в ее существе, непосредственно, вне всякой формы, даже вне формы субъекта и объекта, и которым он в то же время является сам, ибо здесь познающее и познаваемое совпадают.
Поэтому, сводя понятие силы к понятию воли, мы на самом деле сводим менее известное к бесконечно более известному, собственно, к единственно действительно известному нам непосредственно и совершенно, и расширяем свое познание. Подводя же, как это делалось до сих пор, понятие воли под понятие силы, мы отказываемся от единственного непосредственного познания, которое мы имеем о внутренней сущности мира, растворяя его в понятии, абстрагированном от явления, а с таким понятием мы никогда не можем выйти за пределы явления.
§ 23
Воля как вещь в себе совершенно отлична от своего явления и вполне свободна от всех его форм, которые она принимает лишь тогда, когда проявляется, и которые поэтому относятся только к ее объектности, ей же самой чужды. Уже самая общая форма всякого представления, форма объекта для субъекта, ее не касается; еще менее ее касаются формы, подчиненные этой последней и находящие себе общее выражение в зако-
108
не основания, куда, как известно, относятся также время и пространство, а следовательно, и множественность, существующая и ставшая возможной только благодаря им. В этом последнем отношении я буду называть время и пространство заимствованным из старой подлинной схоластики термином principium individuationis*, что прошу заметить раз и навсегда. Ибо только благодаря времени и пространству одинаковое и единое по своему существу и понятию является как различное, как множество, рядом и друг после друга: следовательно, время и пространство и есть principium individuationis, предмет стольких схоластических мудрствований и прений, собранных у Суареса (Disp. 5, sect. 3).
Согласно сказанному, воля как вещь в себе лежит вне сферы закона основания во всех его видах, и она поэтому совершенно безосновна, хотя каждое из ее проявлений непременно подчинено закону основания. Далее, она свободна от всякой множественности, хотя проявления ее во времени и пространстве бесчисленны; она сама едина, но не так, как один объект, единство которого познается лишь из контраста возможной множественности, не так, как едино понятие, которое возникает лишь через абстрагирование от множества: нет, воля едина, как то, что лежит вне времени и пространства, вне principium individuationis, т. е. возможности множественного. Только когда все это станет совершенно ясным для нас из дальнейшего обзора проявлений и различных манифестаций воли, лишь тогда мы вполне поймем смысл кантовского учения, что время, пространство и причинность не принадлежат вещи в себе, а представляют собой только формы познания.
Безосновность воли действительно познали там, где она проявляется наиболее очевидно, как воля человека, которую и назвали свободной, независимой. Но при этом из-за безосновности самой воли проглядели ту необходимость, которой всюду подчинены ее явления, и провозгласили свободными поступки, чего на самом деле нет, так как всякое отдельное действие со строгой необходимостью вытекает из влияния мотива на характер. Всякая необходимость — это, как уже сказано, отношение следствия к основанию и более решительно ничего. Закон основания — общая форма всех явлений, и в своей деятельности человек, как и всякое другое явление, должен ему подчиняться. Но так как в самосознании воля познается непосредственно и в себе, то в этом сознании заложено и сознание свободы. Однако при этом упускается из виду, что индивид, личность — это не воля как вещь в себе, но уже явление воли и, как таковая, личность уже детерминирована и приняла форму явления — закон основания. Отсюда вытекает тот удивительный факт, что каждый a priori считает себя совершенно свободным, даже в своих отдельных поступках, и думает, будто он в любой момент может избрать другой жизненный путь, т. е. сделаться другим. Но a posteriori, на опыте, он убеждается к своему изумлению, что он не свободен, а подчинен необходимости, что, несмотря на все свои решения и размышления, он не изменяет своей деятельности и от начала до конца жизни должен проявлять один и тот же им самим не одобряемый характер, как бы играть до конца однажды принятую на себя роль. Я не
109
могу здесь дольше останавливаться на этом соображении, потому что оно имеет этический характер и относится к другому месту настоящей книги. Здесь я хочу пока указать лишь на то, что явление воли, самой в себе безосновной, как таковое подчинено все же необходимости, т. е. закону основания, для того чтобы необходимость, с которой совершаются явления природы, не препятствовала нам видеть в них манифестации воли.
До сих пор явлениями воли считали только те изменения, которые не имеют другого основания, кроме мотива, т. е. представления, поэтому волю приписывали в природе одному лишь человеку и, в крайнем случае, животным, ибо познание, представление, как я уже упомянул в другом месте, — это, конечно, истинный и исключительный характер животности. Но то, что воля действует и там, где ею не руководит познание, это лучше всего показывают инстинкт и художественные порывы животных*.
То, что последние обладают представлениями и познанием, здесь не принимается в расчет, ибо цель, к которой они приближаются так, как если бы она была сознательным мотивом, остается им совершенно неведомой; их поступки совершаются здесь не по мотивам, не руководятся представлением, и из этого прежде всего и яснее всего видно, что воля действует и без всякого познания. Годовалая птица не имеет представления о яйцах, для которых она строит гнездо, а молодой паук — о добыче, для которой он ткет свою паутину; муравьиный лев не имеет представления о муравье, которому он впервые роет ямку; личинка жука-оленя, когда ей предстоит сделаться жуком-самцом, прогрызает в дереве отверстие, где совершится ее превращение, вдвое большее, чем если бы ей надо было обратиться в самку: она делает это в первом случае для того, чтобы приготовить место для рогов, о которых она не имеет еще никакого представления. Очевидно, что в таких действиях этих животных, как и в остальных, проявляется воля, но деятельность ее слепа и хотя сопровождается познанием, но не руководится им. Как только мы убедимся, что представление в качестве мотива не является необходимым и существенным условием для деятельности воли, нам станет легче распознавать ее действие и в таких случаях, где оно менее очевидно: например, домик улитки мы не будем считать продуктом чуждой ей, но руководимой познанием воли, как не считаем дом, который мы строим сами, результатом чьей-то другой, а не нашей собственной воли; нет, и в том, и в другом жилище мы признаем создание объективирующей в обоих явлениях воли, которая в нас действует по мотивам, в улитке же еще слепо, как направленный вовне строительный инстинкт. Да и в нас самих та же воля многообразно действует слепо: во всех функциях нашего тела, не руководимых познанием, во всех его животных и растительных процессах, пищеварении, кровообращении, выделениях, росте, воспроизведении. Не только действия тела, но и оно само, как показано выше, всецело есть проявление воли, объективированная воля, конкретная воля; поэтому все, что происходит в нем, должно совершаться волей, хотя в данном случае она не руководится
110
познанием и, действуя слепо, определяется не мотивами, а причинами, которые в этом случае называются раздражителями.
Я называю причиной, в узком смысле этого слова, то состояние материи, которое, необходимо вызывая другое, само испытывает такое же изменение, какое оно производит; это выражается законом: действие равно противодействию. Далее, в случае причины в собственном смысле действие возрастает строго пропорционально причине; так же, следовательно, возрастает и противодействие, и если поэтому известен род действия, то по степени интенсивности причины можно измерить и вычислить степень действия, и наоборот. Эти так называемые причины в собственном смысле действуют во всех проявлениях механизма, химизма и т. д. — словом, при всех изменениях неорганических тел. Напротив, раздражителем я называю такую причину, которая сама не испытывает противодействия, соответствующего ее действию, и интенсивность которой по своей степени вовсе не идет параллельно интенсивности действия, почему ее и нельзя измерять последней; наоборот, небольшое усиление раздражителя может или значительно увеличить действие, или же совершенно уничтожить прежнее действие и т. п. Такой характер имеет всякое воздействие на органические тела как таковые. Следовательно, все собственно органические и растительные изменения в животном теле совершаются благодаря раздражителям, а не просто по причинам. Но раздражитель, как и всякая причина вообще, как и мотив, определяет только начальный пункт проявления каждой силы во времени и пространстве, а не самое существо проявляющейся силы, которое мы, согласно предыдущим выводам, считаем волею, приписывая ей как бессознательные, так и сопровождаемые сознанием изменения тела. Раздражитель образует середину, переход от мотива, который является прошедшей через познание каузальностью, к причине в узком смысле. В отдельных случаях он ближе то к мотиву, то к причине, но его можно еще отличить от них, например, соки в растениях подымаются благодаря раздражителю, и этого нельзя объяснить просто причинами, по законам гидравлики или капиллярности, однако его явление поддерживается причинами и вообще уже очень близко к чисто причинным изменениям. С другой стороны, движения Hedysarum gyrans[89] и Mimosa pudica[90] хотя и происходят еще благодаря раздражителям, но уже очень похожи на мотивированные движения и являются как бы переходом к ним.
Сужение зрачка при усиленном свете совершается благодаря раздражителю, но уже переходит к мотивированным движениям: ведь оно возникает оттого, что слишком сильный свет болезненно поразил бы сетчатку и, чтобы избежать этого, мы суживаем зрачок. Поводом к эрекции служит мотив, так как этот повод — представление; но действует он с необходимостью раздражителя, т. е. ему невозможно противиться, и чтобы лишить его силы, надо его устранить[91]. Так же обстоит и с отвратительными предметами, возбуждающими позыв к рвоте. Как реальное промежуточное звено совершенно иного рода между движениями благодаря раздражителям и действиями по сознательным мотивам мы только что рассматривали инстинкты животных. В качестве другого промежуточного звена этого же рода можно было бы попытаться
111
рассмотреть дыхание: спорили ведь о том, принадлежит ли этот процесс к произвольным или непроизвольным движениям, т. е. совершается ли он, собственно, по мотиву или благодаря раздражителю; вероятно, потому, что он занимает середину между обоими. Маршалл Холл (Marshall Hall. On the diseases of the nervous system, § 293 sq.*) рассматривает дыхание как смешанную функцию, так как оно находится под воздействием нервов — отчасти головного мозга (произвольных), отчасти спинного (непроизвольных). Однако в конечном итоге мы должны причислить этот процесс к мотивированным проявлениям воли, ибо другие мотивы, т. е. чистые представления, могут склонить волю к задержке или ускорению дыхания, и нам кажется даже, что, как и все другие произвольные действия, его можно совершенно задержать, т. е. добровольно задохнуться. И это на самом деле было бы возможно, если бы другой мотив так сильно влиял на волю, что перевешивал бы настоятельную потребность в воздухе. Говорили, будто Диоген действительно покончил с жизнью таким образом (Диоген Лаэртий VI, 76). И негры будто бы так поступали (Ф. Б. Осиандер, «О самоубийстве», 1813, с. 170— 180). Это служило бы для нас ярким примером влияния отвлеченных мотивов, т. е. превосходства собственно разумной воли над чисто животной. То, что по крайней мере отчасти дыхание обусловлено мозговой деятельностью, видно из следующего факта: синильная кислота убивает преимущественно тем, что парализует мозг и этим косвенно задерживает дыхание, но если его искусственно поддержать, пока не пройдет отравление мозга, то смерть не наступит. Между прочим, дыхание является для нас здесь очевиднейшим примером того, что мотивы действуют с такой же необходимостью, как и раздражители и причины в узком смысле, и они могут быть нейтрализованы только противоположными мотивами, как действие противодействием: ведь при дыхании видимая возможность его задержки несравненно слабее, чем при других движениях, вытекающих из мотивов, ибо в первом случае мотив очень настоятелен и близок, а его удовлетворение, ввиду неутомимости совершающих его мускулов, очень легко; при этом ему обыкновенно ничто не препятствует, и все в целом поддерживается давней привычкой индивида.
И между тем все мотивы действуют, собственно, с одинаковой необходимостью. Признание того, что необходимость одинаково присуща как мотивированным движениям, так и движениям благодаря раздражителям, позволит нам легче понять следующее: даже и то, что в организме происходит благодаря раздражителям и вполне закономерно, является все-таки по своей внутренней сущности волей, которая, правда, не сама по себе, но во всех своих проявлениях подчинена закону основания, т. е. необходимости**. Поэтому мы не ограничимся тем, что признаем животных проявлением воли как в их действиях, так и во всем их существовании, физическом строе и организации;
112
нет, это единственно данное нам непосредственное познание внутренней сущности вещей мы перенесем и на растения, все движения которых совершаются благодаря раздражителям: ведь отсутствие познания и обусловленного им движения по мотивам составляет единственное существенное различие между животным и растением. Поэтому то, что для представления является растением, просто вегетативным процессом, слепою силой, мы будем постигать по своему внутреннему существу как волю, усматривая во всем этом именно то, что составляет основу нашего собственного явления, как оно выражается в нашей деятельности и даже в самом существовании нашего тела.
Нам остается сделать еще только последний шаг — приложить нашу точку зрения и ко всем силам, действующим в природе по общим, неизменным законам, согласно которым происходят движения всех тех тел, что, совершенно не имея органов, не обладают восприимчивостью — для раздражителей и познанием — для мотивов. Таким образом, ключ к пониманию внутренней сущности вещей, который могло нам дать только непосредственное познание нашего собственного существа, мы должны приложить теперь и к этим наиболее далеким от нас явлениям неорганического мира. И вот, когда мы направляем на них испытующий взор, когда мы видим мощное, неудержимое стремление вод к глубине, постоянство, с которым магнит неизменно обращается к северу, тяготение, с которым влечется к нему железо, напряженность, с которой полюсы электричества стремятся к воссоединению и которая, как и напряженность человеческих желаний, возрастает от препятствий; когда мы видим, как быстро и неожиданно осаждается кристалл, образуясь с такой правильностью, которая, очевидно, представляет собою лишь застывшую и фиксированную, но решительно и точно определенную устремленность по разным направлениям, когда мы замечаем выбор, с которым тела, получив свободу в состоянии жидкости и избавившись от оков застылости, ищут и бегут друг друга, соединяются и разлучаются; когда, наконец, мы непосредственно чувствуем, как тяжесть, стремлению которой к земной массе препятствует наше тело, беспрерывно давит и гнетет его, охваченная своим единственным порывом, — то нам не надо напрягать свое воображение, чтобы даже в таком отдалении распознать нашу собственную сущность, именно то самое, что в нас, при свете познания, преследует свои цели, а здесь в самых слабых своих проявлениях стремится лишь слепо, глухо, односторонне и неизменно, но, будучи, однако, всюду одним и тем же, — подобно тому как и первое мерцание утренней зари делит с лучами яркого полудня название солнечного света — должно и здесь, как и там, носить имя воли, означающее бытие в себе каждой вещи в мире и всеединое зерно каждого явления.
Несходство же и, на первый взгляд, даже совершенное различие между явлениями неорганической природы и волей, которую мы сознаем как внутреннее начало нашего существа, возникает главным образом из контраста между всецело определенной закономерностью в одной области явлений и кажущимся произволом в другой. Ибо в человеке мощно выступает индивидуальность: у каждого свой особый характер, поэтому один и тот же мотив не оказывает одинакового влияния на всех,
113
и тысячи побочных условий, имеющих место в широкой последовательной сфере данного индивида, но неведомые другим, видоизменяют действие этого мотива, так что на основании одного его нельзя заранее определить поступок, ибо отсутствует другой фактор — точное знакомство с индивидуальным характером и сопровождающим его познанием. Наоборот, явления сил природы обнаруживают в этом отношении другую крайность: они совершаются по общим законам, без отклонений, без индивидуальности, при явных обстоятельствах, заранее поддаются самому точному определению, и одна и та же сила природы выражается в миллионах своих проявлений совершенно одинаковым образом. Для того чтобы разъяснить этот пункт, для того чтобы показать тождество единой и нераздельной воли во всех ее столь различных проявлениях, как в самых слабых, так и в самых сильных, мы должны сначала рассмотреть отношение, в котором воля как вещь в себе находится к своему явлению, т. е. отношение мира как воли к миру как представлению; это откроет перед нами наилучший путь к более глубокому исследованию всего предмета этой второй книги*.
§ 24
Великий Кант научил нас, что время, пространство и причинность во всей своей закономерности и возможности всех своих форм находятся в нашем сознании совершенно независимо от объектов, которые в них являются и составляют их содержание; или, другими словами, к ним одинаково можно прийти, исходя из субъекта или из объекта; поэтому их можно с равным правом называть как способами созерцания субъекта, так и свойствами объекта, поскольку последний есть объект (у Канта: явление), т. е. представление. Можно также рассматривать эти формы как нераздельную границу между субъектом и объектом; поэтому, хотя каждый объект должен в них проявляться, но и субъект, независимо от являющегося объекта, вполне владеет ими и обозревает их. Но если только являющиеся в этих формах объекты не пустые призраки, а имеют реальное значение, то они должны указывать на что-то, быть выражением чего-то такого, что уже не есть объект, подобно им самим, не есть представление, нечто только относительное, т. е. существующее для субъекта, а что пребывает вне такой зависимости от противостоящего ему основного условия и его форм, т. е. является не представлением, а вещью в себе. Поэтому возможен, по крайней мере, следующий вопрос: есть ли эти представления, эти объекты еще что-нибудь[92] кроме того и независимо от того, что они являются представлениями, объектами субъекта? И если — да, то что же они такое в этом смысле? Что служит их другой, toto genere[93] отличной от представления стороной? Что такое вещь в себе? Воля — таков был наш ответ, но пока я оставляю его в стороне.
114
Чем бы ни была вещь в себе, Кант во всяком случае правильно заключил, что время, пространство и причинность (которые мы признали видами закона основания, а самый этот закон — общим выражением форм явления) не могут быть ее определениями, а присоединились к ней лишь тогда, когда и поскольку она сделалась представлением, т. е. они принадлежат только ее явлению, а не ей самой. В самом деле: так как субъект вполне познает и конструирует их из самого себя, независимо от всякого объекта, то они должны быть свойственны представляемости как таковой, а не тому, что становится представлением. Они должны быть формой представления как такового, а не свойствами того, что приняло эту форму. Они должны быть даны уже в самой противоположности субъекта и объекта (не в понятии, а в действительности), т. е. служить лишь ближайшим определением формы познания вообще, наиболее общим определением которого является сама эта противоположность. Все то, что в явлении, в объекте обусловлено временем, пространством и причинностью и может представляться лишь через их посредство, а именно множественность, вытекающая из рядоположности и следования друг за другом, изменяемость и пребывание, вытекающие из закона причинности; далее, материя, представляемая только при условии причинности; наконец, все то, что, в свою очередь, может быть представлено лишь посредством их, — все это, по существу, не свойственно тому, что здесь проявляется, что вошло в форму представления, только связано с самой этой формой. Напротив, то в явлении, что не обусловлено временем, пространством и причинностью и не может быть ни сведено к ним, ни объяснено из них, это и будет именно тем, в чем непосредственно высказывается являющееся, вещь в себе. Вследствие этого совершеннейшая, т. е. высшая, ясность, отчетливость и исчерпывающая доказуемость необходимо принадлежат тому, что свойственно познанию как таковому, т. е. форме познания, а не тому, что, не будучи в себе представлением, объектом, сделалось познаваемым, т. е. представлением, объектом, лишь тогда, когда приняло эти формы. Итак, только то, что зависит единственно от познаваемости, от представляемости вообще и как таковой (а не от того, что познается и что только стало представлением), что поэтому свойственно всему познаваемому без различия и что вследствие этого может быть одинаково обретено на пути как от субъекта, так и от объекта, — только это одно может дать удовлетворительное, вполне исчерпывающее познание, ясное до последних оснований. Познание же это состоит в a priori известных нам формах всякого явления; общим выражением их может служить закон основания, видами которого, относящимися к наглядному познанию (здесь мы имеем дело только с ним), являются время, пространство и причинность. Только на них опирается вся чистая математика и чистое естествознание a priori. Поэтому только в этих науках познание не встречает темноты, не наталкивается на непостижимое (безосновное, т. е. волю), на то, что уже не сводится к другому; в этом отношении и Кант, как уже сказано, хотел преимущественно, даже исключительно называть эти знания, вместе с логикой, науками. Но, с другой стороны, эти дисциплины не дают нам ничего иного, кроме просто отношений одного представления к другому, дают форму без всякого содержания. Каждое содержание,
115
которое они получают, каждое явление, которое наполняет эти формы, заключает в себе нечто такое, что уже не познаваемо во всей своей сущности, что уже не объяснимо всецело из другого, нечто, следовательно, безосновное: от этого познание тотчас же теряет в своей очевидности и лишается полной прозрачности. Но это недоступное обоснованию и есть именно вещь в себе, то, что по существу не есть представление, не есть объект познания и стало познаваемым лишь тогда, когда приняло познаваемые формы. Первоначально форма чужда ему, и оно никогда не может стать всецело единым с нею, никогда не может быть сведено просто к форме и — так как последняя является законом основания — никогда не может быть вполне исследовано. Если поэтому вся математика и дает нам исчерпывающее познание того, что в явлениях представляет собой величину, положение, число — короче, пространственное и временное отношение; если вся этиология вполне знакомит нас с теми закономерными условиями, при которых явления со всеми своими определениями наступают во времени и пространстве, но при всем этом объясняет нам только то, почему каждое определенное явление должно обнаружиться именно теперь здесь и именно здесь теперь, — то с их помощью мы все-таки никогда не проникнем во внутреннюю сущность вещей, все-таки всегда останется нечто такое, на что не отважится ни одно объяснение и что всегда будет предполагаться им, а именно силы природы, определенный род воздействия вещей, качество, характер каждого явления, безосновное, что не зависит от формы явления, закона основания, которому эта форма сама по себе чужда, но что вошло в нее и теперь обнаруживается по ее закону, однако закон этот опять-таки определяет лишь явления, только форму, а не содержание. Механика, физика, химия учат правилам и законам, согласно которым действуют силы непроницаемости, тяжести, инерции, текучести, сцепления, упругости, теплоты, света, химического сродства5, магнетизма, электричества и т. д., и таким образом учат закону, принципу, которому следуют эти силы по отношению ко всякому их проявлению во времени и пространстве; сами же силы остаются при этом, как ни старайся, qualitates occultae[94]. Ибо то, что, проявляясь, вызывает названные феномены, это — вещь в себе, от них совершенно отличная; хотя она и подчинена в своем явлении закону основания как форме представления, но сама она никогда не может быть сведена к этой форме и потому не поддается до конца этиологическому[95] объяснению и никогда не может быть всецело раскрыта в своем основании. Вполне постижимая, поскольку она приняла указанную форму, т. е. поскольку она есть явление, вещь в себе ни в малейшей степени не уясняется в своем внутреннем существе этой постижимостью. Поэтому чем более необходимости заключает в себе познание, чем больше в нем содержится такого, чего иначе нельзя даже помыслить и представить себе, — каковы, например, пространственные отношения, — чем оно, таким образом, яснее и удовлетворительнее, тем меньше в нем чисто объективного содержания или тем меньше дано в нем истинной реальности; и наоборот, чем больше надо признать в нем чисто случайных элементов, чем больше оно навязывает нам чисто эмпирических данных, тем больше собственно объективного и истинно реального содержится в таком познании, но в то же время и тем больше необъяснимого, т. е. несводимого далее ни к чему другому.
116
Разумеется, не понимающая своей цели этиология во все времена стремилась к тому, чтобы свести всю органическую жизнь к химизму и электричеству, всякий химизм, т. е. качественность, в свою очередь, к механизму (действие в силу форм атомов), последний — отчасти к предмету форономии, т. е. времени и пространству, объединенным в возможности движения, а отчасти к предмету чистой геометрии, т. е. положению в пространстве (приблизительно так, как — с полным правом — чисто геометрически конструируют уменьшение действия по квадрату расстояния и теорию рычага); геометрия, наконец, растворяется в арифметике, которая благодаря единству измерения является наиболее понятной, обозримой, до конца объяснимой формой закона основания. Примерами намеченного здесь в общих чертах метода служат атомы Демокрита, вихри Декарта, механическая физика Лесажа6, который, приблизительно в конце прошлого столетия, пытался как химическое сродство, так и тяготение объяснить механически, посредством толчка и давления (ближе с этим можно познакомиться из «Lucrece Neutonien»[96]). И рейлевские форма и состав как причина животной жизни имеют ту же тенденцию. Наконец, совершенно такой же характер носит грубый материализм, вновь подогретый именно теперь, в середине XIX века, и по невежеству мнящий себя оригинальным. Тупоумно отрицая жизненную силу, он хочет прежде всего объяснить явления жизни из физических и химических сил, а их, в свою очередь, вывести из механического действия материи, положения, формы и движения вымышленных атомов и таким образом свести все силы природы к толчку и ответному удару, которые и выступают для него в качестве «вещи в себе». Сообразно этому даже свет оказывается механической вибрацией или же волнообразным движением воображаемого и постулируемого для этой цели эфира, который, достигнув сетчатки, барабанит по ней, так что, например, 483 биллиона барабанных ударов в секунду производят красный цвет, 727 биллионов — фиолетовый и т. д. (значит, слепые к цветам — это те, кто не умеет счесть барабанных ударов, не правда ли?). Такие грубые, механические, демокритовские и воистину неуклюжие теории вполне достойны тех господ, которые пятьдесят лет спустя после появления гетевского учения о цветах еще верят в однородные лучи Ньютона и не стыдятся это высказывать. Они узнают на собственном опыте, что простительное ребенку (Демокриту) не останется безнаказанным для взрослого. Со временем их может ожидать позорный конец; впрочем, тогда они все улизнут и сделают вид, что они здесь ни при чем. Об этом неправильном сведении изначальных сил природы друг к другу нам скоро еще представится случай поговорить; пока же ограничимся сказанным. Если допустить правильность таких теорий, то, конечно, все было бы объяснено и раскрыто и в конце концов сведено к арифметической задаче, которая и служила бы святая святых в храме мудрости, куда благополучно приводил бы напоследок закон основания. Но тогда исчезло бы всякое содержание явления и осталась бы только форма: то, что является, было бы сведено к тому, как оно является, и это как было бы познаваемо и a priori, поэтому совершенно зависело бы от субъекта, существовало бы только для него и, наконец, было бы просто феноменом, всецело представлением и формой представления; ни о какой вещи
117
в себе нельзя было бы и спрашивать. Если допустить, что это так, то дей2ствительно весь мир мог бы быть выведен из субъекта и на самом деле было бы достигнуто то, что Фихте своим пустозвонством хотел выдать за достигнутое им.
Однако это не так: в подобном роде строились фантасмагории, софизмы, воздушные замки, а не наука. Удавалось — и каждый успех способствовал истинному прогрессу — сводить множество и разнообразие явлений природы к отдельным изначальным силам; многие силы и свойства, которые прежде считались различными, были выведены друг из друга (например, магнетизм из электричества), и таким образом их количество было уменьшено. Этиология достигнет своей конечной цели, когда познает и выяснит все изначальные силы природы как таковые и установит способ их действия, т. е. закон, по которому их проявления, руководствуясь причинностью, наступают во времени и пространстве и определяют свое место по отношению друг к другу, — но всегда останутся изначальные силы, всегда останется, как нерастворимый осадок, то содержание явления, которое нельзя свести к форме последнего и которое поэтому нельзя объяснить из чего-нибудь другого по закону основания[97]. Ибо в каждой вещи в природе есть нечто такое, чему никогда нельзя найти основания, указать дальнейшую причину, чего нельзя объяснить; это — специфический способ ее действия, т. е. образ ее бытия, ее сущность. Правда, для каждого отдельного действия вещи можно указать причину, вследствие которой эта вещь должна была произвести свое действие именно теперь, именно здесь, но никогда нельзя объяснить, почему она вообще действует и действует именно так. Если у нее нет других свойств, если она пылинка в солнечных лучах, то, по крайней мере, в своей тяжести и непроницаемости она обнаруживает это необъяснимое нечто, каковое и есть, говорю я, для нее то же самое, что для человека воля — подобно ей оно в своем внутреннем существе не поддается объяснению и в себе тождественно с нею. Конечно, для всякого проявления воли, для всякого отдельного ее акта в данное время, в данном месте можно указать мотив, в силу которого этот акт необходимо должен был совершиться при условии известного характера человека. Но то, что он обладает данным характером, что он вообще хочет, что из многих мотивов именно этот, а не другой, что вообще какой бы то ни было мотив движет его волей, — этого никогда нельзя объяснить. И что для человека есть его непостижимый характер, предполагаемый при всяком объяснении его мотивированных поступков, то для каждого неорганического тела есть его существенное качество, способ его действия, проявления которого вызываются внешними воздействиями, между тем как самый этот способ не определяется ничем внешним, а потому не может быть и объяснен: его отдельные обнаружения, посредством которых он только и становится явным, подчинены закону основания, сам же он безосновен. Уже схоластики по существу верно поняли это и назвали forma substantial*[98] (об этом у Суареса, Disput, metaph., disp. VX, sect. 1).
Столь же велико и обычное заблуждение, будто мы лучше всего понимаем самые многочисленные, самые общие и простые явления,
118
между тем как это скорее всего лишь те явления, которые мы более всего привыкли видеть и более всего привыкли не понимать. Для нас столь же необъяснимо, что камень падает на землю, как и то, что животное движется. Как сказано выше, думали, будто, исходя из самых общих сил природы (например, тяготения, сцепления, непроницаемости), можно объяснить из них и те, которые действуют не столь часто и при сложных условиях (например, химические свойства, электричество, магнетизм), а из этих последних, наконец, понять организм и жизнь животных, даже познание и волю человека. Молчаливо соглашались исходить из чистых qualitates occultae, от разъяснения которых совершенно отказались, потому что имели намерение на них строить, а не подкапываться под них. Это, как сказано, не может удаться. Но если бы это и удалось, то подобное здание всегда висело бы в воздухе. Какая польза от объяснений, которые приводят в итоге к столь же неизвестному, что и первая проблема? И разве в конце концов о внутренней сущности названных всеобщих сил природы мы знаем больше, чем о внутренней сущности животного? Разве первая не столь же не исследована, как и вторая? Сущность нельзя исследовать и обосновать, потому что она безосновна, потому что она — содержание, что явления, никогда не сводимое к его форме, к его как, к закону основания. Мы же, имея здесь целью не этиологию, а философию, т. е. не относительное, а безусловное познание сущности мира, избираем противоположный путь и исходим из того, что нам непосредственно и полнее всего известно, что нам ближе и роднее всего, чтобы постигнуть то, что известно нам лишь отдаленно, односторонне и косвенно; по самому мощному, значительному и ясному явлению мы хотим понять менее совершенное, более слабое. Во всех вещах, за исключением моего собственного тела, мне известна только одна сторона — сторона представления; их внутренняя сущность для меня закрыта и представляет глубокую тайну, даже если я знаю все причины, по которым совершаются их изменения. Только из сравнения с тем, что происходит во мне, когда мною движет мотив и мое тело производит известное действие, из сравнения с тем, что составляет сущность моих собственных изменений, определенных внешними основаниями, — только так я могу проникнуть в тот способ, каким изменяются безжизненные тела благодаря причинам, и постигнуть их внутреннюю сущность, между тем как знание причины явлений этой сущности дает мне только закон наступления их во времени и пространстве и больше ничего. Это возможно для меня потому, что мое тело есть единственный объект, в котором я знаю не одну только сторону, сторону представления, но и другую, называемую волей. Итак, вместо того чтобы думать, будто я лучше пойму свою собственную организацию, свое познание и волю, свое движение по мотивам, если мне удастся свести их к движению по причинам, силой электричества, химизма, механизма, — вместо этого, поскольку я стремлюсь к философии, а не к этиологии, я должен, наоборот, самые простые и обычные движения неорганических тел, совершающиеся, на мой взгляд, по причинам, научиться прежде всего понимать в их внутренней сущности из моего собственного движения по мотивам, и те необъяснимые силы, которые проявляются во всех телах природы, я должен признать тождественными по характеру
119
с тем, что во мне предстает как воля, и отличными от нее только по степени. Это значит, что установленный в трактате о законе основания четвертый класс представлений должен сделаться для меня ключом к познанию внутренней сущности первого класса и из закона мотивации я должен научиться понимать закон причинности в его внутреннем смысле.
Спиноза говорит (письмо 62): если бы камень, взлетевший в
воздух от толчка, обладал сознанием, он думал бы, что летит по собственной воле.
Я прибавлю только, что камень был бы прав. Толчок для него то же, что для меня
мотив, и то, что в камне проявляется как сцепление, тяжесть и устойчивость
данного положения, это по своему внутреннему существу то же самое, что я познаю
в себе как волю и что он познавал бы как волю, если бы только и он обрел
познание. Спиноза в приведенном месте имеет в виду ту необходимость, с которой
камень летит, и справедливо хочет перенести ее на необходимость единичного
волевого акта лица. Я же, напротив, рассматриваю ту внутреннюю сущность, которая
только и сообщает значение и силу всякой реальной необходимости (т. е. действию
из причины) в качестве ее предпосылки, которая называется у человека
характером, в камне свойством, но в обоих есть одно и то же, и которая там, где
она познается непосредственно, носит имя воли и в камне обладает самой слабой,
а в человеке самой сильной степенью видимости, объектности. Это тождественное с
нашей волей начало, содержащееся в стремлении всех вещей, познал верным
чувством своим даже блаженный Августин, и я не могу удержаться, чтобы не привести
здесь наивных слов, какими он выразил эту мысль: «Si pecora essemus, carnalem
vitam et quod secundum sensum ieusdem est amaremus; idque esset sufficiens
bonum nostrum, et secundum hoc si esset nobis bene, nihil aliud quaereremus.
Item, si arbores essemus, nihil quidem sentientes motu amare possemus:
verumtamen id quasi appetere videremur, quo feradus essemus, uberiusque
fructuosae. Si essemus lapides, aut fluctus, aut ventus, aut flamma, vel quid
ejusmodi, sine ullo quidem sensu atque vita, non tarnen nobis deesset quasi
quidam nostrorum locorum atque ordinis appetitus. Nam velut amores
corporum m
Достойно замечания и то, что, согласно Эйлеру, сущность тяготения должна в конце концов сводиться к свойственной телам «склонности и стремлению» (т. е. воле) (в 68-м письме к принцессе). Именно потому
120
ему и не нравится понятие тяготения, каким оно предстает у Ньютона, и он готов попытаться модифицировать его в духе прежней картезианской теории, т. е. вывести тяготение из толчка, производимого эфиром на тело: это «разумнее и для тех, кто любит ясные и понятные принципы», более подходит. Он хочет изгнать из физики притяжение как qualitas occulta[99]. Такой взгляд соответствует тому мертвому пониманию природы, которое в качестве коррелата имматериальной души господствовало во времена Эйлера. Примечательно, однако, по отношению к установленной мною основной истине, что дальние ее проблески уже тогда увидел этот тонкий ум; он поспешил заблаговременно уклониться от нее и, боясь, как бы не рухнуло все тогдашнее миросозерцание, был готов искать защиты даже в старом, отжившем абсурде.
§ 25
Мы знаем, что множественность вообще необходимо обусловлена временем и пространством и мыслима только в них; в этом отношении мы и называем их prinapium individuationis. Но время и пространство мы признали видами закона основания, а в нем выражается все наше познание a priori, которое, однако, как показано выше, именно в качестве априорного знания относится лишь к познаваемости вещей, а не к ним самим, т. е. выступает только формой нашего познания, а не свойством вещи в себе; последняя же, как таковая, свободна от всякой формы познания, даже от самой всеобщей, какой является бытие объекта для субъекта, другими словами, она есть нечто совершенно отличное от представления. И вот если эта вещь в себе, как я, кажется, достаточно доказал и выяснил, если она есть воля, то как таковая и независимо от своего проявления она лежит вне времени и пространства, не знает поэтому множественности и, следовательно, едина; но, согласно сказанному, она едина не так, как едины индивид или понятие, а как нечто такое, чему нужно условие возможности множественного, principium individuationis. Множественность вещей в пространстве и времени, составляющих вместе объектность воли, не распространяется потому на нее самое, и воля, несмотря на эту множественность, остается неделимой. Не существует, например, меньшей части ее в камне и большей в человеке, так как отношение части и целого принадлежит исключительно пространству и теряет всякий смысл, как только мы отрешаемся от этой формы созерцания; «больше» и «меньше» относятся только к явлению, т. е. к видимости объективации, каковая действительно имеет более высокую степень в растении, чем в камне, более высокую степень в животном, чем в растении. Внешнее обнаружение воли, ее объективация имеет такие же бесконечные ступени, какие существуют между слабым мерцанием и ярким лучом солнца, между сильным звуком и тихим отголоском. Ниже мы вернемся к рассмотрению этих степеней видимости, которые принадлежат к объективации воли, отображению ее существа. Но еще менее, чем степени ее объективации касаются непосредственно ее самой, еще менее касается ее множественность явлений на этих различных ступенях, т. е. множество индивидов каждой формы или
121
отдельных обнаружений каждой силы, ибо эта множественность непосредственно обусловлена временем и пространством, которым никогда не подвластна сама воля. Она с той же полнотой и силой проявляется в одном дубе, как и в миллионах: их число, их разветвление в пространстве и времени не имеет никакого значения для нее, а относится только ко множественности познающих в пространстве и времени и там же многократно повторенных и рассеянных индивидов, самая множественность которых, однако, тоже относится лишь к ее явлению, но не к ней самой. Можно поэтому сказать, что если бы, per impossibile*[100], было совершенно уничтожено единственное существо, хотя бы и самое незначительное, то вместе с ним должен был бы погибнуть и весь мир. Это чувство выразил великий мистик Ангелус Силезиус:
Я знаю, без меня Господь не может жить мгновенья:
Исчезни я, — невольно дух испустит Он в томленья7.
Было сделано много попыток приблизить к способности понимания каждого неизмеримую величину мироздания, и в этом видели повод для назидательных размышлений, например, об относительной малости Земли и тем более человека, затем в виде контраста указывали на величие духа в этом столь малом человеке, который в состоянии обнаружить, постигнуть и даже измерить эту мировую громаду, и т. д. Все это прекрасно! Но когда я размышляю о неизмеримости мира, самым важным кажется мне то, что внутренняя сущность, проявлением которой выступает мир, — чем бы она ни была — не может, однако, распространить и разделить свое истинное ядро в безграничном пространстве и что эта бесконечная протяженность принадлежит единственно ее явлению, сама же она всецело и нераздельно присутствует в каждой вещи природы, в каждом живом существе. Поэтому мы ничего не теряем, если останавливаем свое внимание на чем-нибудь отдельном, и истинная мудрость достигается не тем, чтобы измерить безграничный мир, что было бы еще целесообразнее, лично облететь бесконечное пространство, а тем, чтобы полностью исследовать что-нибудь отдельное, стараясь совершенно познать и понять его истинное и подлинное существо.
Сообразно этому предметом обстоятельного рассмотрения в следующей книге будет, как это здесь само собой ясно каждому ученику Платона, такая мысль: те различные ступени объективации воли, которые, выражаясь в бесчисленных индивидах, предстоят как недостигнутые их образцы или как вечные формы вещей, сами не вступают во время и пространство — среду индивидов, не подвержены становлению и никаким изменениям и незыблемо пребывают, вечно сущие, между тем как единичные вещи, вечно становящиеся и никогда не сущие, возникают и исчезают, — эти ступени объективации воли, говорю я, есть не что иное, как платоновские идеи. Я упоминаю здесь об этом заранее, чтобы в дальнейшем употреблять слово идея именно в этом смысле, т. е. идею надо понимать у меня всегда в ее истинном и первоначальном значении, какое придавал ей Платон, и никак не следует иметь в виду здесь те абстрактные порождения схоластически догматизирующего разума, для
122
обозначения которых Кант столь же неподходяще, как и неправомерно воспользовался словом, уже введенным в оборот Платоном и употребленным им очень кстати8. Итак, я понимаю под идеей каждую определенную и твердую ступень объективации воли, поскольку воля есть вещь в себе и потому чужда множественности; эти ступени относятся к определенным вещам как их вечные формы или их образцы. Наиболее краткое и сжатое выражение этого знаменитого платоновского догмата дает нам Диоген Лаэртий (3, 13): Plato ideas in natura velut exemplaria dixit subsistere; cetera his esse similia, ad istarum similitudinem consistentia*. О кантовском злоупотреблении словом «идея» я больше не буду говорить: все необходимое сказано об этом в приложении.
§ 26
Нижней ступенью объективации воли являются всеобщие силы природы, которые отчасти обнаруживаются в каждой материи без исключения, как, например, тяжесть, непроницаемость, отчасти же делят между собой всю наличную материю вообще, так что одни из них господствуют над одной, другие над другой материей, именно оттого и получающей свои специфические отличия: таковы твердость, текучесть, упругость, электричество, магнетизм, химические свойства и всякого рода качества. В себе они представляют собой непосредственные проявления воли, так же, как и деятельность человека, и в качестве таковых безосновны, подобно характеру человека; только их отдельные проявления подчинены закону основания, как и поступки человека, сами же они никогда не могут называться ни действием, ни причиной: они — предшествующие и предполагаемые условия всех причин и действий, в которых раскрывается их собственное существо. Бессмысленно поэтому спрашивать о причине тяжести, электричества — это изначальные силы; правда, обнаружения их происходят по причинам и действиям, так что у каждого отдельного проявления сил есть причина, которая сама, в свою очередь, есть такое же отдельное проявление и которая определяет, что данная сила должна была здесь обнаружиться, выступить во времени и пространстве; однако самая сила ни в каком случае не есть ни действие причины, ни причина действия. Вот почему неверно говорить: «Тяжесть — причина падения камня»; скорее причиной служит здесь близость земли, потому что она притягивает камень. Уберите землю — и камень не упадет, хотя тяжесть осталась. Сама сила лежит совершенно вне цепи причин и действий, которая предполагает время, ибо имеет значение лишь по отношению к нему; но сила лежит и вне времени. Отдельное изменение всегда имеет своей причиной опять такое же отдельное изменение, но не силу, выражением которой оно служит. Ибо сколь бесчисленное множество раз ни наступала бы причина, то, что всегда сообщает ей действенность, — это сила природы, и, как таковая, она безосновна, т. е. лежит совершенно вне цепи причин и вообще вне
123
области закона основания; философия признает ее непосредственной объектностью воли, а воля — это «в себе» всей природы; этиология же, в данном случае физика, указывает на нее как на изначальную силу, т. е. qualitas occulta.
На высших ступенях объектности воли мы видим значительное проявление индивидуальности, особенно у человека, в виде большого разнообразия индивидуальных характеров, т. е. в виде законченной личности, которая выражается уже и внешним образом сильно очерченной индивидуальной физиономией, включая и общий строй тела. Подобной индивидуальностью в такой степени не обладает ни одно животное; только у высших животных есть некоторое подобие ее, но над ним еще вполне преобладает родовой характер, и поэтому у них мало индивидуальной физиономии. Чем ниже мы спускаемся, тем более в общем характере вида теряется всякий след индивидуального характера и остается только физиономия первого. Зная физиологический характер рода, мы вполне знаем и то, чего ожидать от индивида, тогда как в человечестве каждый индивид требует отдельного исследования, и необычайно трудно с некоторой точностью предсказать его поступки, потому что вместе с разумом появляется и возможность притворства. Вероятно, с этим отличием человеческого рода от всех других связано то, что мозговые борозды и извилины, которые совершенно отсутствуют у птиц и еще очень слабы у грызунов, даже у высших животных гораздо симметричнее расположены по обеим сторонам и устойчивее повторяются для каждого индивида, чем у человека*.
Далее, как на феномен такого собственного индивидуального характера, отличающего человека от всех животных, следует смотреть и на то, что у животных половое влечение ищет себе удовлетворения без заметного выбора, между тем как у человека этот выбор — притом независимо от всякой рефлексии, инстинктивно — доходит до такой степени, что обращается в могучую страсть. И в то время как всякого человека можно рассматривать как особо определенное и охарактеризованное проявление воли, даже в известной мере как особую идею, у животных этот индивидуальный характер вообще отсутствует и только вид его сохраняет самобытное значение; след характера все более исчезает, чем далее мы отходим от человека, и растения, наконец, совсем не имеют других индивидуальных особенностей, кроме тех, которые совершенно объяснимы из внешних благоприятных или неблагоприятных влияний почвы и климата и других случайностей; наконец, в неорганическом царстве природы окончательно исчезает всякая индивидуальность. Только кристалл можно еще до известной степени рассматривать как индивид: он представляет собой единство стремления в определенных направлениях, объятое оцепенением, которое и закрепляет след этого стремления; он в то же время представляет собой агрегат своей собственной основной формы, связанный единством идеи, точно так же, как дерево — агрегат отдельного растущего волокна, которое запечатляется
124
и повторяется в каждой жилке листа, в каждом листе, в каждой ветви и которое до известной степени позволяет каждую из этих частей дерева рассматривать как отдельное растение, паразитически питающееся большим, так что дерево, подобно кристаллу, является систематическим агрегатом маленьких растений, хотя только целое представляет собой полное выражение неделимой идеи, т. е. этой определенной ступени субъективации воли. Но индивиды одного и того же рода кристаллов не могут иметь между собой иного различия, кроме вызываемого внешними случайностями: можно даже произвольно заставлять каждый род осаждаться большими или малыми кристаллами. Индивида же как такового, т. е. наделенного признаками индивидуального характера, в неорганической природе совсем нельзя найти.
Все ее явления — это обнаружения всеобщих сил природы, т. е. таких ступеней объективации воли, которые (в противоположность тому, что происходит в органической природе) совсем не объективируются через посредство различия индивидуальностей, отчасти выражающих целое идеи, но раскрываются только в виде и представляют его в каждом отдельном явлении вполне и без какого-либо уклонения. Так как время, пространство, множественность и обусловленность причиной принадлежат не воле и не идее (как ступени объективации воли), а только отдельным проявлениям воли, то во всех миллионах проявлений такой силы природы, например тяжести или электричества, она как таковая[101] должна выражаться совершенно одинаковым образом, и лишь внешние обстоятельства могут видоизменять явление. Это единство ее сущности во всех ее проявлениях, это неизменное постоянство в их наступлении, если только для этого даны условия согласно причинности, называется законом природы. Познав однажды его на опыте, можно с точностью предсказать и рассчитать проявление той силы природы, характер которой в нем выражен и заключен. Но эта закономерность явлений на низшей ступени объективации воли и служит именно тем, что так сильно отличает их от проявлений той же самой воли на более высоких, т. е. на более отчетливых, ступенях ее объективации — в животных, людях и их действиях, где более сильное или слабое обнаружение индивидуального характера и власть мотивов, часто скрытых от наблюдателя (ибо они заключены в познании), до сих пор очень мешали познавать тождество внутренней сущности обоих видов явлений.
Если исходить из познания не идеи, а частного, то непогрешимость законов природы являет собою нечто поразительное, иногда почти вызывая трепет. Можно изумляться, что природа ни разу не забывает своих законов, что, например, если закон природы требует, чтобы при встрече известных веществ при определенных условиях совершалось какое-нибудь химическое соединение, образование газов или горение, то всегда, как только эти условия сходятся, нашими ли стараниями или совершенно случайно (тогда точность по своей неожиданности еще поразительнее), сейчас, как и тысячу лет назад, должное явление происходит немедленно, без какой-либо отсрочки. Живее всего поражает нас это чудо при редких, возникающих только при очень сложных комбинациях явлениях: например, когда некоторые металлы соприкасаются
125
между собою, чередуясь друг с другом и с окисленной жидкостью, и серебряные пластинки, введенные между полюсами этой цепи, внезапно вспыхивают зеленым пламенем; или когда при известных условиях твердый алмаз превращается в углекислоту. Нас изумляет тогда духоподобное вездесущие сил природы[102], и то, что не приходит на ум при обыденных явлениях, останавливает наше внимание здесь, — именно то, что связь между причиной и действием в сущности так же таинственна, как сказочная связь между волшебным заклинанием и неизбежным появлением духа, которого оно вызывает. Если же мы проникнемся философским сознанием, что сила природы — это определенная ступень объективации воли, т. е. того, что мы и в себе познаем как свое глубочайшее существо и что эта воля сама в себе, в отличие от своего проявления и его форм, лежит вне времени и пространства, поэтому обусловленная ими множественность принадлежит не ей и не непосредственно ступени ее объективации, т. е. идее, а лишь проявлениям последней, закон же причинности имеет силу только по отношению ко времени и пространству, определяя в них место и порядок наступления многократных явлений различных идей, в которых открывается воля, — если, говорю я, в этом сознании для нас раскроется внутренний смысл великого учения Канта, что пространство, время и причинность присущи не вещи в себе, а лишь явлению, что они только формы нашего познания, а не свойства вещи в себе, то мы поймем, что изумление перед закономерностью и точностью действия силы природы, перед совершенным сходством всех миллионов ее проявлений, перед неизбежностью их наступления поистине уподобляется изумлению ребенка или дикаря, который, впервые рассматривая через многогранное стекло цветок, дивится совершенному сходству видимых им бесчисленных цветков и пересчитывает листья на каждом из них в отдельности.
Итак, всякая всеобщая изначальная сила природы в своем внутреннем существе есть не что иное, как объективация воли на более низкой ступени; мы называем каждую такую ступень вечной идеей в платоновском смысле. Закон же природы — это отношение идеи к форме ее проявления. Эта форма — время, пространство и причинность, которые находятся между собою в необходимой и нераздельной связи и соотношении. Посредством времени и пространства идея множится в бесчисленных явлениях; порядок же, в каком они принимают формы множественности, твердо определяется законом причинности: он составляет как бы ту норму для разграничения проявлений различных идей, согласно которой распределяются между ними пространство, время и материя. Данная форма поэтому необходимо распространяется на тождество всей существующей материи, которая служит общим субстратом всех этих различных явлений. Если бы всем им не была указана одна общая материя, которую они должны распределить между собой, то не было бы нужды в таком законе, определяющем их притязания: они могли бы все вместе и друг возле друга наполнять в течение бесконечного времени бесконечное пространство. Следовательно, только потому, что всем этим проявлениям вечных идей указана одна и та же материя, должен существовать закон их наступления и прекращения, иначе ни одно не уступало бы места другому. Таким образом, закон причинности по
126
существу связан с законом постоянства субстанции: только друг от друга они взаимно получают значение, и в точно таком же отношении находятся к ним пространство и время. Ибо чистая возможность противоположных определений в одной и той же материи при всех противоположных определениях — это пространство. Вот почему в предыдущей книге мы определили материю как соединение времени и пространства; это соединение проявляется в смене акциденции при сохранении субстанции, а общую возможность этого дает именно причинность, или становление. Поэтому мы сказали также, что материя — это всецело причинность. Мы определили рассудок как субъективный коррелат причинности и сказали, что материя (т. е. весь мир как представление) существует только для рассудка и что он есть ее условие, ее носитель как ее необходимый коррелат. Я мимоходом говорю здесь об этом только для того, чтобы напомнить изложенное в первой книге. Для полного понимания обеих книг надо иметь в виду их внутреннюю связь, ибо то, что нераздельно соединено в действительном мире как две его стороны, воля и представление, моими двумя книгами разорвано пополам для того, чтобы тем яснее познать каждую половину в отдельности.
Быть может, не лишне будет еще более уяснить на примере, как закон причинности имеет смысл только по отношению ко времени и пространству и соединению обоих — материи, потому что он определяет границы, в которых явления сил природы разделяют между собой материю, тогда как сами изначальные силы природы как непосредственные объективации воли, не подчиненной в качестве вещи в себе закону основания, лежат вне тех форм, в области которых всякое этиологическое объяснение только и имеет силу и смысл, так что оно никогда и не может раскрыть внутреннего существа природы. Для этой цели представим себе машину, построенную по законам механики. Железные гири своей тяжестью дают начало движению; медные колеса своей инерцией оказывают сопротивление, своей непроницаемостью толкают и поднимают друг друга и рычаги и т. д. Здесь тяжесть, инерция, непроницаемость — изначальные, необъяснимые силы; механика показывает только условия, при которых они обнаруживаются, выявляются и господствуют над определенной материей, временем и местом, и способ, как это происходит. Но вот, например, сильный магнит может подействовать на железо гирь и одолеть тяжесть: движение машины прекратится, и материя тотчас же станет ареной совершенно другой силы природы, для которой этиологическое объяснение тоже не дает ничего иного, кроме условий ее наступления, — силы магнетизма. Или же положим круги этой машины на цинковые листы и пропустим между ними окисленную жидкость: немедленно та же материя машины подчинится другой изначальной силе — гальванизму, который и начнет властвовать над нею по своим законам, открываясь в ней своими проявлениями; и для последних этиология тоже не может указать ничего иного, кроме условий и законов, согласно которым они происходят. Далее, повысим температуру, пустим чистого кислорода — вся машина сгорит; т. е. опять совершенно иная сила природы, химизм, в данное время, на данном месте заявляет на материю неотразимые права и проявляется в ней как идея, как определенная ступень объективации воли. Соединим,
127
далее, полученный сплав металла с кислотой — образуется соль, возникнут кристаллы: это явление другой идеи, которая сама опять совершенно необъяснима, тогда как явление ее наступало в зависимости от условий, которые этиология может указать. Кристаллы выветриваются, смешиваются с другими веществами, из них подымается растительность — новое проявление воли. И так можно было бы следить за той же пребывающей материей до бесконечности и наблюдать, как то одна, то другая сила природы получает на нее право и неизбежно овладевает ею, чтобы выступить и проявить свое существо. Осуществление этого права, точку во времени и пространстве, где оно становится действительным, дает закон причинности, но опять-таки основанное на нем объяснение доходит только до этих пределов. Самая сила есть явление воли, и, как таковая, она не подчинена формам закона основания, т. е. безосновна. Она лежит вне всякого времени, вездесуща и как бы неизменно выжидает условия, при которых она могла бы выступить и овладеть определенной материей, вытеснив другие силы, господствующие над нею до этого. Всякое время существует только для ее проявления, для нее же самой оно не имеет значения: целые тысячелетия дремлют в материи химические силы, пока их не освободит прикосновение реагентов, и тогда они проявляются; но время существует только для этого проявления, а не для самих сил. Тысячелетия дремлет гальванизм в меди и цинке, и они спокойно лежат возле серебра, которое неминуемо вспыхнет, как только при необходимых условиях совершится соприкосновение всех трех металлов. Даже в органическом царстве мы видим, как сухое зерно в течение трех тысячелетий хранит в себе дремлющую силу, которая, наконец, при появлении благоприятных условий подымается в виде растений*.
Если эти размышления уяснили для нас различие между силой природы и всеми ее проявлениями, если мы поняли, что она есть сама воля на определенной ступени своей объективации, что множественность присуща только явлениям, благодаря пространству и времени, и что закон причинности — это лишь определение места во времени и пространстве для отдельных явлений, то мы поймем и совершенную правильность, и глубокий смысл учения Мальбранша о случайных причи-
128
нах, causes occasionelles9. Очень стоило бы сравнить это учение, как оно изложено в «Разысканиях истины», особенно в третьей главе второй части шестой книги и в приложенных к этой главе «Разъяснениях», — сравнить с настоящим моим изложением и убедиться в полном совпадении обеих теорий при всем различии хода мыслей. Я невольно удивляюсь, как Мальбранш, весь во власти положительных догм, которые неотразимо навязывала ему его эпоха, как он мог, тем не менее,[103] в подобных тисках, под таким гнетом столь удачно, столь верно обрести истину и соединить ее с этими догмами, по крайней мере с их языком.
Да, сила истины невероятно велика и несказанно упорна. Мы часто находим ее следы во всех, даже самых причудливых и нелепых догмах разных времен и народов, часто, правда, в странном обществе, в удивительном смешении, но узнать ее все-таки можно. Она похожа тогда на растение, которое прозябает под кучей больших камней, но все же напряженно тянется к свету, пробивается окольными путями, исковерканное, захиревшее и поблекшее, — а все-таки к свету.
Разумеется, Мальбранш прав: всякая естественная причина — случайная причина, она дает только случай, повод для проявления той единой и нераздельной воли, которая представляет «в себе» все вещи и ступенями объективации которой является весь этот видимый мир. Только наступление, обнаружение в данном месте и в данное время вызывается причиной и в этом смысле от нее зависит, но не явление в целом, не его внутренняя сущность: последняя — это сама воля, к которой неприменим закон основания и которая поэтому безосновна. Ни одна вещь в мире не имеет причины своего существования безусловно и вообще, а имеет только причину того, почему она есть именно здесь и именно теперь. Почему камень обнаруживает то тяжесть, то инерцию, то электричество, то химическое свойство, это зависит от причин, от внешних воздействий и может быть объяснено из них; но самые эти свойства, т. е. вся сущность камня, состоящая из них и, следовательно, проявляющаяся всеми указанными способами, то, что он вообще таков, каков он есть, и то, что он вообще существует, — это не имеет основания, это обнаружение безосновной воли. Следовательно, всякая причина есть случайная причина. К такому выводу пришли мы по отношению к бессознательной природе, но точно так же обстоит дело и там, где уже не причины и не раздражители, а мотивы определяют момент наступления явлений, т. е. в действиях животных и людей. Ибо здесь, как и там, проявляется все та же воля, очень различная в степенях своей манифестации, множащаяся в своих явлениях и по отношению к ним подчиненная закону основания, но в себе от всего этого свободная. Мотивы определяют не характер человека, а только проявление этого характера, т. е. действия, внешний облик его жизненного пути, но не его внутренний смысл и содержание; последние вытекают из характера, который есть непосредственное проявление воли, т. е. безосновен. Почему один зол, а другой добр, это не зависит от мотивов и внешних влияний, например от поучений и проповедей, и в этом смысле совершенно необъяснимо[104]. Но являет ли злой свою злобу в мелочной неправде, в коварных проделках и низком плутовстве, совершаемых в тесном кругу близких, или же
129
он в качестве завоевателя угнетает народы, повергает в ужас целый мир, проливает кровь миллионов — это внешняя форма его явления, несущественная его часть, и она зависит от обстоятельств, которые ниспослала ему судьба, от окружающих внешних явлений, от мотивов, однако из них никогда нельзя объяснить его подчиненность этим мотивам, она вытекает из воли, проявлением которой служит этот человек.
Об этом будет сказано в четвертой книге. Способ, каким характер развивает свои свойства, совершенно подобен тому, как обнаруживает свои свойства всякое тело бессознательной природы. Вода остается водой, со всеми присущими ей свойствами, но отражает ли она в тихом озере его берега или, пенясь, дробится о скалы, или же, искусственно направленная, брызжет вверх высокой струею — это зависит от внешних причин, и одно для нее так же естественно, как и другое; смотря по обстоятельствам, она проявит то или другое свойство, одинаково готовая ко всему, но во всяком случае оставаясь верной своему характеру и всегда обнаруживая только его. Так и каждый человеческий характер раскроется при любых обстоятельствах; но явления, проистекающие отсюда, будут соответствовать данным обстоятельствам[105].
§ 27
Итак, если из всех предшествующих размышлений о силах природы и их проявлениях для нас стало ясно, как далеко может идти причинное объяснение и где оно должно остановиться, если не хочет поддаться безумному стремлению свести содержание всех явлений просто к их форме и ничему иному, то мы сумеем теперь в общих чертах определить и то, чего можно требовать от всякой этиологии. Она должна отыскать для всех явлений в природе причины, т. е. обстоятельства, при которых они непременно наступают, а затем многообразные явления, сопровождаемые различными обстоятельствами, она должна свести к тому, что действует в каждом явлении и предполагается его причиной — к изначальным силам природы, строго разграничивая, происходит ли различие в явлении от различий в силе или же только от различия в обстоятельствах, при которых обнаруживается сила, и равным образом остерегаясь считать проявлением разных сил то, что служит обнаружением одной и той же силы, но при различных обстоятельствах, как и, наоборот, остерегаясь считать обнаружением одной и той же силы то, что первоначально принадлежит разным силам. Для этого и нужна непосредственно способность суждения; вот почему так мало людей, способных расширить в физике понимание, но все могут расширить в ней опыт. Лень и невежество порождают склонность к поспешным ссылкам на изначальные силы, что находит иронически преувеличенное выражение в схоластических entitates* и quidditates**. Я меньше всего хотел бы способствовать их возрождению. Ссылаться вместо физического объяснения на объективацию воли так же нельзя, как и ссылаться на творческую мощь
130
Бога. Ибо физика требует причин, а воля никогда не может быть причиной, ее отношение к явлению строится совсем не по закону основания, но то, что в себе есть воля, то, с другой стороны, существует как представление, т. е. служит явлением. Как таковое, оно следует законам, составляющим форму явления, например, каждое движение, хотя оно всегда есть проявление воли, должно все-таки иметь причину, из которой его можно объяснять по отношению к определенному времени и месту, т. е. не вообще, не по его внутренней сущности, а как отдельное явление. Эта причина — механическая в случае камня, мотив — в движении человека, но ее не может не быть. Напротив, всеобщее, единая сущность всех явлений определенного рода — та предпосылка, без которой причинное объяснение не имело бы смысла и значения, — это всеобщая сила природы, которая в физике должна оставаться qualitas occulta, потому что здесь кончается этиологическое объяснение и начинается метафизическое. Но цепь причин и действий никогда не прерывается изначальной силой, на которую можно было бы ссылаться, она никогда не восходит к такой силе как своему первому звену; самое близкое звено цепи, как и самое отдаленное, одинаково предполагают изначальную силу, а иначе они ничего не могли бы объяснить. Ряд причин и действий может быть проявлением самых различных сил, последовательным обнаружением которых он руководит, как я это пояснил выше на примере металлической машины; но различие этих изначальных, невыводимых друг из друга сил совсем не прерывает единства цепи причин и связи между всеми ее звеньями. Этиология природы и философия природы никогда не мешают друг другу, а идут рука об руку, рассматривая один и тот же предмет с различных точек зрения. Этиология дает отчет о причинах, которые необходимо вызвали отдельное явление, подлежащее объяснению, и раскрывает в качестве основы всех своих объяснений всеобщие силы, действующие во всех этих причинах и результатах; она точно определяет эти силы, их количество, их отличие и, наконец, все те действия, где каждая сила, сообразно различию обстоятельств, различно проявляется в постоянном соответствии с присущим ей характером, развиваемым ею по неуклонному правилу, которое называется законом природы. Как только физика полностью осуществит все это и во всех отношениях, она достигнет своего совершенства; тогда не останется в неорганической природе ни одной неизвестной силы, ни одного действия, которое не было бы раскрыто как проявление одной из этих сил, возникающее при определенных условиях согласно закону природы. И все-таки закон природы останется только подмеченным у природы правилом, согласно которому она действует всякий раз при наступлении известных условий; поэтому закон природы можно все же определить как обобщенный факт, un fait généralisé[106], и законченное изложение всех законов природы было бы лишь полным регистром фактов.
Рассмотрение всей природы завершается далее морфологией, которая перечисляет, сравнивает и распределяет все постоянные формы органической природы. О причине возникновения отдельных существ она мало что может сказать, ибо такой причиной служит у всех рождение, теория которого существует сама по себе, и в редких случаях — generatio
131
aequivoca*. К последнему, строго говоря, относится
и тот способ, каким все низшие ступени объектности воли, т. е. физические и
химические явления, обнаруживаются в отдельных случаях, и указание условий этого
обнаружения и составляет задачу этиологии. Философия же рассматривает всюду, а
значит, и в природе только всеобщее; изначальные силы сами выступают ее
предметом, и она познает в них различные ступени объективации воли, составляющей
внутреннюю сущность, «в себе» этого мира, который она, отвлекаясь от воли, считает
лишь представлением субъекта. Если же этиология, вместо того чтобы предлагать путь
философии и подтверждать ее учение примерами, думает, напротив, что цель ее — отвергать
все изначальные силы за исключением какой-либо одной, самой общей, например
непроницаемости, и, воображая, что она вполне поняла эту силу, старается
насильственно свести к ней все остальные, то она сама лишает себя своей опоры и
может вместо истины давать только заблуждение. Содержание природы вытесняется
тогда формой, влиянию обстоятельств приписывается все, внутренней сущности
вещей не остается ничего. Если бы такой путь действительно приводил к успеху,
то, как уже сказано, загадку мира разрешала бы в конце концов арифметическая
задача. Но именно на этот путь вступают, когда, как уже упомянуто, всякое
физиологическое действие хотят свести к форме и составу, например к электричеству,
его, в свою очередь, — к химизму, а химизм — к механизму. Последнюю ошибку
совершали, например, Декарт и все атомисты, сводившие движение мировых тел к
толчку некоего флюида, а качества — к сочетанию и форме атомов и старавшиеся
все явления природы объяснить как простые феномены непроницаемости и сцепления.
Хотя от этих взглядов отказались, однако в наши дни точно так же поступают
физиологи электрического, химического и механического направления, которые упорно
хотят объяснить всю жизнь и все функции организма из «формы и состава» его
элементов. Что целью физиологического объяснения является сведение органической
жизни к всеобщим силам, изучаемым физикой, — это высказано еще в «Архиве
физиологии» Меккеля (1820, т. 5, с. 185). И Ламарк в своей «Философии зоологии»
(т. 2, гл. 3) считает жизнь простым действием теплоты и электричества: «Le calorique et la matiere electrique
suffisent parfaitement pour c
132
риваемый философски, не есть выражение особой идеи, т. е. он не представляет сам, непосредственно, объектность воли на определенной высокой ступени, но в нем проявляются лишь те идеи, которые объективируют волю в электричестве, в химизме, в механизме; организм, следовательно, так же случайно слит в одно целое совпадением этих сил, как и фигуры людей и животных из облаков или сталактитов, и потому сам по себе он мало интересен.
Мы сейчас увидим, насколько физические и химические объяснения организма в известных пределах все-таки законны и полезны; я покажу, что жизненная сила несомненно пользуется силами неорганической природы, употребляет их, но ни в каком случае не состоит из них, как не состоит кузнец из молота и наковальни. Поэтому никогда нельзя будет объяснить из них, например из капиллярной силы и эндосмоса, даже столь простой жизни, как жизнь растений, не говоря уже о животных. Следующее соображение проложит нам путь к этому довольно трудному исследованию.
Согласно всему сказанному, естествознание заблуждается, желая свести все высшие ступени объективации воли к низшим, ибо непризнание и отрицание изначальных и самостоятельных сил природы столь же ошибочно, как и необоснованное допущение особых сил там, где на самом деле имеется лишь специфический способ проявления уже известных сил. Поэтому справедливо говорит Кант, что нелепо ожидать Ньютона былинки, т. е. такого человека, который свел бы былинку к проявлениям физических и химических сил и показал бы, что она представляет собой их случайное сращение, т. е. простую игру природы, где совсем не проявляется самостоятельная идея, другими словами, где воля не обнаруживается непосредственно на высшей и особой ступени, а предстает лишь такой, какой она выступает в явлениях неорганической природы и только случайно, — в форме былинки. Схоласты, которые ни за что не допустили бы ничего подобного, совершенно справедливо сказали бы, что это было бы полным отрицанием forma substantial и низведением ее к forma accidentalis*[107]. Ибо аристотелевская forma substantialis10 означает как раз то, что я называю степенью объективации воли в известной вещи.
Однако, с другой стороны, нельзя упускать из виду, что во
всех идеях, т. е. во всех формах органической природы, раскрывается, т. е. принимает
форму представления, объектности, одна и та же воля. Ее единство должно
поэтому высказывать себя внутренним родством всех ее явлений. Последнее
раскрывается на более высоких ступенях ее объективации, где все явление яснее,
т. е. в растительном и животном царствах, всеобщей аналогией всех форм,
основным типом, повторяющимся во всех явлениях. Он сделался поэтому руководящим
принципом прекрасных зоологических систем, созданных в этом столетии французами;
наиболее полно он проводится в сравнительной анатомии как l’unité de plan, l’uniformité de l’élément
anat
133
лением натурфилософов шеллинговской школы, и последние в этом отношении имеют даже известную заслугу, хотя во многих случаях их погоня за аналогиями в природе вырождается в игру слов. Они справедливо указывали на это всеобщее родство и фамильное сходство также и в идеях неорганической природы, например между электричеством и магнетизмом, тождество которых было впоследствии установлено, между химическим влечением[108] и тяжестью и т. п. Особенно они указывали на то, что полярность, т. е. распадение силы на две качественно различные, противоположные и стремящиеся к воссоединению деятельности, которое большей частью выражается и пространственно — расхождением в противоположные стороны, — полярность составляет основной тип почти всех явлений природы, от магнита и кристалла до человека. В Китае, однако, познание этого получило распространение с древнейших времен в учении о противоположности инь и ян11. И так как все вещи мира — это объектность одной и той же воли и потому тождественны между собой в своем внутреннем существе, то в них не только должна быть эта явная аналогия и не только в каждом несовершенстве должны обнаруживаться след, намек, задаток ближайшей более высокой степени совершенства, но и — ввиду того что все эти формы свойственны только миру как представлению — мы можем допустить, что уже в самых общих формах представления, в этом подлинном и главном устое мира явлений, т. е. в пространстве и времени, можно найти и указать основной тип, намек, задаток всего того, что наполняет эти формы. По-видимому, смутная мысль об этом послужила источником каббалы12 и всей математической философии пифагорейцев, а также и китайцев в «И цзин»[109]; да и в шеллинговской школе, в ее многообразном стремлении раскрыть аналогию между всеми явлениями природы, встречаются некоторые, правда неудачные, попытки вывести законы природы из одних лишь законов пространства и времени. Впрочем, нельзя знать, в какой степени чей-либо гениальный ум осуществит когда-нибудь оба стремления.
Хотя никогда не следует упускать из виду разницу между явлением и вещью в себе и поэтому никогда нельзя превращать тождество объективированной во всех идеях воли (ибо она имеет определенные ступени своей объектности) в тождество самих отдельных идей, в которых она проявляется, т. е., например, химическое или электрическое притяжение никогда нельзя сводить к притяжению силой тяжести, хотя бы и была познана их внутренняя аналогия и в первых можно было видеть как бы высшие потенции последней; хотя равным образом и внутренняя аналогия в строении всех животных не дает права смешивать их роды, отождествлять или считать их более совершенные роды разновидностями менее совершенных; хотя, наконец, и физиологические функции никогда не могут быть сведены к химическим и физическим процессам, но для оправдания этого метода в известных пределах можно с большой степенью вероятности допустить следующее.
Если многие из проявлений воли на низших ступенях ее объективации, т. е. в неорганическом мире, вступают между собою в борьбу (ибо каждое, направляясь причинностью, стремится овладеть наличной материей), то из этого соперничества возникает проявление высшей
134
идеи, которая побеждает все прежние, менее совершенные, но побеждает так, что допускает сохранение их сущности в подчиненном виде, сама принимая в себя некоторую аналогию ее; такой процесс становится понятным лишь из тождества проявляющейся во всех идеях воли и из ее стремления ко все более высокой объективации. Поэтому мы видим, например, в отвердении костей явную аналогию кристаллизации, которая первоначально царила над известью, хотя окостенение никогда не может быть сведено к кристаллизации. Слабее проявляется аналогия в отвердении мяса. Состав соков в животном теле и секреция тоже представляют собой аналогию химическому соединению и выделению; даже законы последних еще действуют здесь, но в подчиненном и сильно модифицированном виде, побежденные высшей идеей; вот почему одни химические силы вне организма никогда не произведут таких соков:
«Encheiresin
naturae» — именует
Все
это химия: сама того не чует,
Что
над собой смеется13.
Более совершенная идея, возникающая из такой победы над несколькими идеями или объективациями воли, именно тем, что от каждой побежденной она принимает в себя более высокую по степени аналогию, приобретает совершенно новый характер: воля объективируется на новый, более явный лад, а именно, появляется, сперва через generatio aequivoca, a затем через ассимиляцию с данным зародышем, органический сок, растение, животное, человек. Итак, из борьбы низших проявлений возникает высшее, которое их все поглощает, но которое и осуществляет в более высокой степени стремления всех. Таким образом, уже здесь господствует закон: serpens nisi serpentem conmederit, non fit draco*.
Я очень хотел бы, чтобы ясностью изложения мне удалось одолеть свойственную содержанию этих мыслей темноту; но я очень хорошо вижу, что мне должно прийти на помощь собственное размышление читателя, чтобы я вообще был понят, и понят правильно.
Согласно моей точке зрения, в организме можно указать следы химической и физической деятельности, но его никогда нельзя объяснить из них, ибо он представляет собой вовсе не феномен, возникший из объединенного действия таких сил, т. е. случайно, а высшую идею, которая подчинила себе низшие посредством порабощающей ассимиляции, так как объективирующая себя во всех идеях единая воля в своем стремлении к возможно более высокой объективации жертвует здесь низшими ступенями своего проявления после их борьбы, чтобы тем могущественнее проявиться на более высокой ступени. Нет победы без борьбы: высшая идея, или объективация воли, может проявиться, только одержав победу над низшими; но она испытывает их противодействие, так как, хотя и покоренные, они все еще продолжают стремиться к независимому и полному обнаружению своей сущности. Подобно тому как
135
магнит, уж поднявший кусок железа, продолжает вести борьбу с тяжестью, которая как самая низшая объективация воли[110] имеет в первую очередь право на материю этого железа, и подобно тому как магнит даже усиливается в этой вечной борьбе, потому что сопротивление как бы заставляет его больше напрягаться, — так и всякое проявление воли, в том числе и обнаруживающееся в человеке, выдерживает долгую борьбу со множеством физических и химических сил, которые в качестве низших идей имеют первичное право на данную материю. Вот почему опускается рука, которую, одолевая тяжесть, долго держали поднятой; вот почему столь часто нарушается отрадное чувство здоровья, выражающее победу идеи самосознательного организма над физическими и химическими законами, которые первоначально властвовали над соками тела, и, собственно, это чувство всегда сопровождается известным, более или менее значительным недомоганием; последнее вытекает из противодействия названных сил, и вследствие него уже растительный момент нашей жизни всегда связан с легким страданием. Вот почему и пищеварение подавляет все животные функции: оно призывает всю жизненную силу, чтобы путем ассимиляции одолеть химические силы природы. Отсюда и вообще проистекают тяготы физической жизни, неизбежность сна и, наконец, смерти, ибо рано или поздно покоренные силы природы, пользуясь благоприятными условиями, отвоевывают у изнуренного постоянным успехом организма отторгнутую от них материю и достигают беспрепятственного проявления своей сущности. Можно поэтому сказать, что всякий организм представляет идею, отражением которой он служит, только лишившись предварительно той части своей силы, какая тратится на преодоление низших идей, оспаривающих у него материю. По-видимому, это представлялось Якобу Бёме, когда он в одном месте говорит, что собственно все тела людей и животных, даже все растения наполовину мертвы. Смотря по тому, в какой степени удается организму преодолеть силы природы, выражающие более низшие ступени объектности воли, он становится более или менее совершенным выражением своей идеи, т. е. стоит ближе к идеалу, которому в его роде присуща красота, или дальше от него.
Так мы повсюду видим в природе соперничество, борьбу,
непостоянство победы, и впоследствии мы поймем, что в этом заключается свойственное
воле раздвоение в себе самой. Каждая ступень объективации воли оспаривает у
другой материю, пространство, время. Постоянно пребывающая материя беспрерывно
должна менять свою форму, ибо направляемые причинностью механические,
физические, химические, органические явления, жадно стремясь к обнаружению, отторгают
одна у другой материю: каждая хочет раскрыть свою идею. Это соперничество можно
проследить во всей природе, и она даже существует только благодаря ему: nam si
non inesset in rebus contentio, unum
136
в животном царстве: оно питается
царством растений, и в нем самом, в свою очередь, каждое животное становится
добычей и пищей другого, т. е. должно уступать ту материю, в которой выражалась
его идея, для выражения другой идеи, потому что всякое животное может
поддерживать свое существование только посредством беспрестанного уничтожения других;
таким образом, воля к жизни всюду пожирает самое себя и в разных видах служит
своей собственной пищей, и, наконец, род человеческий в своей победе над всеми
другими видит в природе фабрикат для своего потребления; но и этот род (как мы
поймем это в четвертой книге) с ужасающей ясностью являет в самом себе ту же борьбу,
то же самораздвоение воли, и становится h
И ту же борьбу, то же порабощение мы встречаем и на низших ступенях объектности воли. Многие насекомые (особенно — ихневмоны) кладут свои яйца на кожу, даже в тело личинок других насекомых, медленное уничтожение которых — первое дело выползающего потомства.
Молодой полип, вырастающий в форме ветви из старого и впоследствии отделяющийся от него, еще сидя на нем, уже борется с ним из-за добычи, так что один вырывает ее изо рта у другого (Trembley Polypod. 2, р. 110; 3, р. 165). Но самый яркий пример в этом отношении представляет австралийский муравей-бульдог (bulldog-ant): если его разрезать, начинается борьба между отдельными частями — головой и хвостом; первая нападает своими челюстями, а последний храбро отражает ее своими уколами; борьба обыкновенно продолжается около получаса, пока части не замрут или пока их не оттащат другие муравьи.
Это явление повторяется каждый раз. (Из письма Ховитта в W. Journal, перепечатанного в «Messenger» Галиньяни, от 17 ноября 1855 г.) На берегах Миссури встречаются иногда могучие дубы, которые до такой степени обвиты и скованы по стволу и всем сучьям колоссальной лозой дикого винограда, что как бы задыхаются под нею и обречены на увядание. То же самое можно наблюдать даже на низших ступенях, например там, где в силу органической ассимиляции вода и уголь превращаются в растительный сок, а растения и хлеб — в кровь; и так это бывает всюду, где действие химических сил низводится на подчиненную роль и происходит животное выделение (секреция). То же наблюдается и в неорганической природе, например, осаждающиеся кристаллы встречаются между собой, перекрещиваются и до того мешают друг другу, что не могут представить чисто кристаллизованной формы, когда почти каждая дуга запечатляет на себе эту борьбу воли на столь низкой ступени ее объективации; или магнит навязывает железу свою магнитную силу, чтобы и здесь проявить свою идею; или гальванизм побеждает химические сродства, разрушает самые прочные соединения, до того нарушает химические законы, что кислота разложившейся у отрицательного полюса соли вынуждена достигать положительного полюса, не вступая в соединение со щелочами, которые она встречает на своем пути, и даже не смеет окрашивать в красный цвет попавшийся ей лакмус.
В бо́льших размерах это обнаруживается в отношении между центральным телом и планетой: последняя, несмотря на свою разнообраз-
137
ную зависимость, все еще сопротивляется, подобно химическим силам в организме; отсюда возникает то постоянное соперничество между центростремительной и центробежной силами, которое сохраняет движение мироздания и само уже выражает собой ту всеобщую борьбу, присущую явлениям воли, которую мы здесь рассматриваем. Ибо, ввиду того, что всякое тело надо рассматривать как проявление воли, а самая воля необходимо выражается как стремление, изначальным состоянием каждого шарообразного мирового тела должен быть не покой, а движение, поступательное, беспрерывное, бесцельное стремление в бесконечное пространство. Этому не противоречит ни закон инерции, ни закон причинности, ибо в силу первого для материи как таковой безразличны и покой, и движение, а потому ее первоначальным состоянием одинаково может быть как движение, так и покой, так что, встречая ее в движении, мы не имеем основания предполагать, что движению предшествовало состояние покоя, и спрашивать о причине наступившего движения, как и наоборот, если бы мы нашли ее в покое, мы не имели бы основания предполагать предшествовавшее покою движение и спрашивать о причине его прекращения. Поэтому не следует искать первого толчка для центробежной силы: она является в планетах, по гипотезе Канта и Лапласа15, остатком первоначального круговращения центрального тела, от которого отделились планеты при его сжатии. Самому же этому телу присуще движение, и оно все еще вращается и в то же время мчится в бесконечном пространстве или, быть может, циркулирует вокруг большего, нам невидимого центрального тела. Такой взгляд вполне согласуется с гипотезой астрономов о центральном солнце, как и с замеченным перемещением всей нашей солнечной системы и, быть может, всей группы звезд вместе с центральным солнцем, — перемещении, которое в бесконечном пространстве теряет, конечно, всякий смысл (движение в абсолютном пространстве не отличается от покоя) и этим, как уже и непосредственно своим бесцельным стремлением и полетом, становится выражением той ничтожности, того отсутствия конечной цели, которое мы в конце этой книги должны будем признать в стремлении воли во всех ее проявлениях; поэтому опять-таки бесконечное пространство и бесконечное время должны быть самыми общими и основными формами всех явлений воли, какие только есть для выражения ее сущности.
Междоусобную борьбу всех явлений воли мы можем, наконец, заметить и в чистой материи, взятой в качестве таковой, поскольку сущность ее явления правильно названа Кантом как сила отталкивания и притяжения, так что и самое существование ее связано с борьбой противоположных сил. Отвлечемся от всего химического разнообразия материи или перенесемся своею мыслью в цепи причин и действий туда, где еще нет химического различия, и тогда у нас останется чистая материя, шарообразный мир, жизнь которого, т. е. объективация воли, состоит в упомянутой борьбе между силами притяжения и отталкивания: первая, в виде тяжести, со всех сторон стремится к центру, вторая, в виде непроницаемости, противодействует ей своею инерцией или упругостью, и эти постоянные натиск и отражение можно рассматривать как объектность воли на самой низшей ступени, — уже там они выражают ее характер.
138
Так, на этой низшей ступени мы видим, что воля проявляется как слепое влечение, как темный, глухой порыв, далекий от всякой непосредственной познаваемости. Это — самый простой и самый слабый род ее объективации. Таким слепым влечением, таким бессознательным порывом она, однако, является еще во всей неорганической природе, во всех первоначальных силах, которыми занимаются физика и химия (стараясь их открыть и познать их закон) и каждая из которых предстает перед нами в миллионах совершенно однородных и закономерных явлений, не носящих на себе никакого следа индивидуального характера, — она только множится во времени и пространстве, т. е. силой principium individuationis, как гранями стекла, многократно повторяется изображение.
Объективируясь от ступени к ступени все отчетливее, воля, однако, и в растительном царстве, где связью ее явлений служат уже не собственно причины, а раздражители, действует еще вполне бессознательно, как темная движущая сила; таковая она еще, наконец, и в растительном моменте животного явления — в воспроизведении и развитии каждого животного и в поддержании его внутренней экономии: там все еще только раздражители необходимо определяют проявление воли. Все более высокие ступени объектности воли приводят, наконец, к такой точке, где индивид, представляющий идею, уже не мог бы получать необходимую для ассимиляции пищу посредством одних движений благодаря раздражителям, ибо такого раздражителя надо было бы выжидать, а пища между тем здесь определена специальнее, и при возрастающем разнообразии явлений сутолока и смятение сделались так велики, что эти явления мешают друг другу и случайность, от которой должны ожидать для себя пищу особи, движимые одними лишь раздражителями, здесь была бы слишком неблагоприятна. Пищу поэтому надо искать, ее надо выбирать с того момента, когда животное покидает оболочку яйца или материнскую утробу, в которой оно бессознательно прозябало. Поэтому здесь становятся необходимыми движение по мотивам и — ради него — познание, которое и появляется на этой ступени объективации воли в качестве вспомогательного средства, μηχανη, для поддержания индивида и продолжения рода. Оно появляется, представленное мозгом или бо́льшим ганглием, подобно тому как и всякое другое стремление или назначение объективирующейся воли репрезентируется в каком-либо органе, т. е. обнаруживает себя для представления в виде органа*.
Но вместе с этим вспомогательным средством, этой μηχανη, сразу возникает мир как представление со всеми своими формами, объектом и субъектом, временем, пространством, множественностью и причинностью. Мир показывает теперь свою вторую сторону. До сих пор он был только волей, теперь он становится и представлением, объектом познающего субъекта. Воля, которая до сих пор в потемках следовала своему порыву очень уверенно и безошибочно, зажигает себе на этой ступени свет как средство, необходимое для того, чтобы уничтожить вред, который из столкновения и сложных свойств ее проявлений мог бы
139
возникнуть именно для самых совершенных из них. Непогрешимая правильность и закономерность, с которой воля действовала до сих пор в неорганической и чисто растительной природе, основывались на том, что она созидала только в своей изначальной сущности, как слепое влечение, воля, без помощи, но и без помехи со стороны второго, совершенно иного мира, мира как представления, который хотя и служит лишь отпечатком ее собственного существа, но все же имеет совсем другую природу и теперь вторгается в сцепление ее явлений. Вот почему отныне исчезает ее непогрешимая уверенность. Животные подвержены уже иллюзии и обману. Между тем у них есть только наглядные представления, у них нет понятий, нет рефлексии; поэтому они привязаны к настоящему и не могут предусматривать будущее.
По-видимому, это лишенное разумности познание не всегда оказывалось достаточным для своей цели и порою как бы нуждалось в помощи. Ибо перед нами тот весьма замечательный факт, что в двух родах явлений слепая деятельность воли и деятельность, освещенная познанием, поразительнейшим образом вторгается одна в область другой. Так, с одной стороны, в действиях животных, руководимых наглядным познанием и его мотивами, мы находим и другие действия, протекающие без этих мотивов, т. е. с необходимостью слепо действующей воли, — таковы художественные порывы: не руководимые ни мотивом, ни познанием, они, однако, имеют вид, будто их создания осуществляются даже в силу отвлеченных, разумных мотивов. Другой, противоположный факт мы встречаем там, где, наоборот, свет познания проникает в мастерскую слепо действующей воли и озаряет растительные функции человеческого организма, — в магнетическом ясновидении. Наконец, там, где воля достигает самой высокой степени своей объективации, уже недостаточно появившегося у животных рассудочного познания, которое получает данные от чувств (откуда происходит простое созерцание, ограниченное настоящим): человек, это сложное, многостороннее, способное к развитию, исполненное потребностей и доступное бесчисленным ударам существо, чтобы отстоять свое бытие, должен был получить свет двойного познания; к его наглядному познанию должна была присоединиться как бы его повышенная степень, рефлексия — разум как способность к абстрактным понятиям. Вместе с ним появились обдуманность, которая обозревает будущее и прошлое, и, как ее результат, размышление, заботливость, способность к преднамеренной, независимой от настоящего деятельности, наконец, вполне ясное осознание решений собственной воли как таковых. Если уже вместе с наглядным познанием зародилась возможность иллюзии и обмана, отчего и нарушилась прежняя непогрешимость бессознательного влечения воли и на помощь познанию в руководимую им область должны были прийти инстинкт и художественный порыв как бессознательные обнаружения воли, то с появлением разума эта уверенность и безошибочность обнаружений воли (которая на противоположном полюсе, в неорганической природе, выражается даже в виде строгой закономерности) почти совершенно исчезает: инстинкт совершенно отступает назад, размышление, которое должно теперь все возместить собою, порождает (как объяснено в первой книге) неуверенность и колебания, становится воз-
140
можным заблуждение, которое во многих случаях мешает адекватной объективации воли в действиях. Ибо хотя воля и принимает уже в характере свое определенное и неуклонное направление, в соответствии с которым само желание, побуждаемое мотивами, наступает неизменно, все-таки заблуждение может исказить ее проявления, потому что в этом случае иллюзорные мотивы влияют наподобие действительных, уничтожая их*; так бывает, например, когда предрассудок представляет вымышленные мотивы, побуждающие человека к таким действиям, которые совершенно противоположны нормальному проявлению его воли при данных обстоятельствах: Агамемнон ведет на заклание свою дочь16, скупец раздает милостыню из чистого эгоизма, в надежде на будущее вознаграждение сторицей, и т. п.
Таким образом, все познание вообще, как разумное, так и чисто наглядное, первоначально возникает из самой воли, относится к существу высших ступеней ее объективации в качестве простого μηχανη средства к поддержанию индивида и рода, подобно всякому органу тела. Изначально предназначенное для служения воле, для осуществления ее целей, оно почти целиком и полностью служит ей — у всех животных и почти у всех людей. Тем не менее мы увидим в третьей книге, как у отдельных людей познание может освободиться от этой служебной роли, сбросить свое ярмо и, свободное от всяких целей желания, существовать само по себе, как зеркало мира, откуда и возникает искусство; наконец, в четвертой книге мы увидим, как подобное знание, если оно оказывает обратное воздействие на волю, может привести к ее самоуничтожению, т. е. к резиньяции, которая является конечной целью и сокровенной сущностью всякой добродетели и святости, является освобождением от мира.
§ 28
Мы рассмотрели великое многообразие и различие явлений, в которых объективируется воля, мы видели их междоусобную борьбу, бесконечную и непримиримую. Но, согласно всему нашему прежнему анализу, самая воля как вещь в себе вовсе не заключается в этой множественности, в этой смене. Различие идей (платоновских), т. е. ступеней объективации, множественность индивидов, в которых проявляется каждая из них, борьба форм за материю — все это не касается воли, а выступает только способом ее объективации и лишь благодаря последней имеет косвенное отношение к воле, в силу которого и служит выражению ее сущности для представления. Как волшебный фонарь показывает много различных картин, но при этом один и тот же огонь делает их все видимыми, так во всех многообразных явлениях, которые в своей рядоположности наполняют собою весь мир и в качестве событий вытесняют друг друга, является только единая воля, и все предстает ее видимостью,
141
объектностью, а она остается неподвижной в этой смене: только воля есть вещь в себе, всякий же объект — это явление, феномен, говоря языком Канта.
Хотя в человеке как идее (платоновской[112]) воля обретает самую ясную и совершенную объективацию, тем не менее последняя сама по себе не могла выразить всей сущности воли. Чтобы появиться в своем надлежащем значении, идея человека не могла выступать одинокой и изолированной, она должна была пройти в сопровождении нисходящих ступеней через все формы животных, через царство растений, вплоть до неорганического мира; все они лишь восполняют одна другую до полной объективации воли, и они так же предполагаются идеей человека, как цветы дерева предполагают листья, ветви, ствол и корни; они образуют пирамиду, вершина которой — человек. Для того, кому нравятся сравнения, можно сказать: явление их столь же необходимо сопровождает явление человека, как полный свет сопровождается постепенными градациями всех полутеней, благодаря которым он теряется во тьме; или можно назвать их отзвуком человека и сказать: животное и растение — нисходящая квинта и терция человека, неорганическое царство — нижняя октава17. Но вся меткость этого последнего сравнения уяснится для нас лишь тогда, когда мы в следующей книге постараемся проникнуть в глубокую значительность музыки и поймем, как мелодия, развивающаяся в стройном сочетании высоких подвижных звуков, может рассматриваться в известном смысле как изображающая собою жизнь и стремление человека, обретающие строй благодаря рефлексии, между тем как бессвязные голоса сопровождающих инструментов и медлительный бас, из которого вытекает необходимая для полноты музыки гармония, служат отображением остальной животной и бессознательной природы. Но об этом я скажу в своем месте, где это не будет уже звучать так парадоксально.
Мы находим, однако, что эта внутренняя, не отделимая от адекватной объектности воли необходимость лестницы ее проявлений, в целостности их самих, выражена и внешней необходимостью, а именно той, в силу которой человек нуждается в животных для своего самосохранения, они ступень за ступенью нуждаются одно в другом, а затем и в растениях, которые, в свою очередь, нуждаются в почве, воде, химических элементах и их сочетании, в планете, солнце, вращении и движении вокруг солнца, в наклонении эклиптики и т. д. В сущности, это происходит оттого, что воля должна пожирать самое себя, ибо кроме нее нет ничего, и она есть голодная воля. Отсюда — суета, тоска и страдание.
Подобно тому как познание единства воли в качестве вещи в себе в бесконечном различии и многообразии явлений только и дает истинный ключ к удивительной, очевидной аналогии всех созданий природы, к тому семейному сходству, которое заставляет видеть в них вариации на одну и ту же несообщенную тему, — так равным образом ясное и углубленное познание той гармонии, той существенной связи всех частей мира, той необходимости их постепенного строя, которые мы только что рассматривали, это познание дает нам верное и достаточное понимание внутренней сущности и смысл той неоспоримой целесообраз-
142
ности всех органических[113] созданий природы, которую мы даже a priori предполагаем при их рассмотрении и обсуждении.
Эта целесообразность — двоякого рода: отчасти внутренняя, т. е. такое стройное согласование всех частей отдельного организма, что из него вытекает сохранение этого организма и его рода, которое и предстает целью такого строя; отчасти же это целесообразность внешняя, а именно отношение неорганической природы к органической вообще или отдельных частей органической природы друг к другу, отношение, которое делает возможным сохранение всей органической природы или же отдельных пород животных и поэтому представляется, на наш взгляд, средством к этой цели[114].
Внутренняя целесообразность следующим образом входит в порядок нашего рассуждения. Если, согласно изложенному, все различия видов в природе и вся множественность индивидов относятся не к воле, а лишь к ее объектности и форме последней, то отсюда неизбежно следует, что воля неделима и всецело присуща каждому явлению, хотя степени ее объективации, идеи (платоновские) очень различны. Для большей понятности мы можем рассматривать эти различные идеи как отдельные и простые в себе акты воли, в которых более или менее выражается ее сущность; индивиды же — это опять-таки проявления идей, т. е. названных актов, во времени, пространстве, множественности. На низших ступенях объектности такой акт (или идея) сохраняет и в самом явлении свое единство, между тем как на высших ступенях он нуждается для своего проявления в целом ряде состояний и раскрытий во времени, которые лишь в своей совокупности завершают выражение его сущности.
Так, например, идея, проявляющаяся в какой-нибудь всеобщей силе природы, всегда имеет лишь одно простое обнаружение, хотя бы оно и выражалось различно в зависимости от внешних условий: иначе нельзя было бы показать его тождество, что производится удалением тех различий, которые вытекают из внешних условий. Так, у кристалла есть только одно жизненное проявление — его кристаллизация; оно получает затем свое вполне достаточное и исчерпывающее выражение в застывшей форме, в трупе этой мгновенной жизни. Но уже растение выражает идею, проявлением которой оно служит, не сразу и не простым обнаружением, а в последовательных стадиях развития своих органов, во времени. Животное не только развивает свой организм подобным же образом, в последовательности часто весьма различных форм (метаморфоза), но и сама эта форма, хотя она и является уже объектностью воли на этой ступени, оказывается недостаточной для полного выражения его идеи: последняя восполняется лишь действиями животного, в которых высказывается его эмпирический характер, одинаковый для всего вида; только он, этот характер, является полным раскрытием идеи, причем оно предполагает определенный организм как свое основное условие. У человека же, у каждого индивида есть особый эмпирический характер, который, как мы увидим в четвертой книге, доходит даже до полного уничтожения видового характера, а именно посредством самоуничтожения всех желаний. То, что в силу необходимого развития во времени и обусловленного этим распадения на отдельные поступки познается как эмпирический характер, — это при отвлечении от временной формы
143
явления предстает как умопостигаемый характер, по выражению Канта, бессмертной заслугой которого является проведение этого различия и изложение отношения между свободой и необходимостью, т. е. собственно между волей как вещью в себе и ее явлением во времени*.
Умопостигаемый характер совпадает, таким образом, с идеей, или, еще вернее, с изначальным волевым актом, который в ней раскрывается; в этом смысле как проявление умопостигаемого характера, т. е. вневременного неразделенного волевого акта, надо рассматривать эмпирический характер не только каждого человека, но и каждого вида животных, каждого вида растений и даже всякой изначальной силы неорганической природы. Попутно я хотел бы обратить внимание на ту наивность, с которой каждое растение одной своей формой выражает и откровенно показывает весь свой характер, обнаруживает все свое бытие и желание, отчего так интересны физиономии растений; между тем, чтобы познать идею животного, необходимо наблюдать его уже в его действиях и жизни, а человек требует глубокого изучения и испытания, так как разум в высокой степени делает его способным к притворству. Животное настолько же наивнее человека, насколько растение наивнее животного. В животном же мы видим волю к жизни как бы обнаженнее, чем у человека, где она настолько облечена познанием и к тому же прикрыта способностью к притворству, что ее истинная сущность выявляется почти только случайно и лишь временами. Совсем обнаженной, но зато и гораздо слабее выражается она в растении — просто как слепое влечение к бытию без замысла и цели. Ибо растение открывает все свое существо при первом же взгляде и с полной невинностью, которая ничего не теряет от того, что половые органы, занимающие у всех животных самое скрытое место, оно выставляет напоказ — на своей верхушке. Эта невинность растения основана на его бессознательности: вина не в желании вообще, а в желании сознательном. Каждое растение повествует прежде всего о своей родине, об ее климате и о природе той почвы, на которой оно произросло. Поэтому даже малоопытный легко распознает, принадлежит ли экзотическое растение тропическому или умеренному поясу и где оно произрастает — в воде ли, в болоте, на горах или на лугу. Кроме того, каждое растение высказывает еще специфическую волю своего рода и говорит нечто такое, чего нельзя выразить ни на каком другом языке.
Попробуем теперь применить сказанное к телеологическому рассмотрению организмов, поскольку оно касается их внутренней целесообразности. Если в неорганической природе идея, которую повсюду надо рассматривать как единый акт воли, раскрывает себя тоже лишь в едином и всегда одинаковом проявлении и можно поэтому сказать, что здесь эмпирический характер непосредственно сопричастен единству умопостигаемого характера и как бы совпадает с ним, почему здесь и не может обнаружиться внутренняя целесообразность; если, напротив, все
144
организмы выражают идею последовательностью развития одного за другим, обусловленной многообразием различных частей в их рядоположности, так что сумма проявлений их эмпирического характера выражает умопостигаемый характер лишь в их сочетании, — то эта необходимость рядоположности частей и последовательности развития не уничтожает все-таки единство являющейся цели, выражающегося волевого акта; наоборот, это единство находит себе выражение в необходимом соотношении и сцеплении упомянутых частей и отдельных развитии друг с другом по закону причинности. Так как во всей идее, как и в отдельном акте, раскрывается единая, нераздельная и потому тождественная самой себе воля, то хотя ее явление и распадается на различие частей и состояний, оно должно все-таки вновь обнаруживать это единство в полной их согласованности; это происходит в силу необходимого соотношения и зависимости всех частей между собою, благодаря чему и в явлении восстанавливается единство идеи. Вследствие этого мы признаем такие различные части и функции организма взаимными средствами и целью друг друга, а сам организм — конечной целью их всех. Следовательно, как распадение единой идеи на множественность частей и состояний организма, так и восстановление ее единства необходимым сочетанием этих частей и функций в силу того, что они суть причина и действие, т. е. средство и цель друг друга, — и то, и другое свойственно не являющейся воле как таковой, вещи в себе, а только ее явлению в пространстве, времени и причинности (все это — виды закона основания, формы явлений), существенно только для него. Они принадлежат миру как представлению, но не миру как воле: они относятся к тому способу, каким воля становится объектом, т. е. представлением на данной ступени своей объектности. Кто проник в смысл этой, может быть, несколько трудной теории, тот вполне поймет учение Канта, сущность которого заключается в том, что как целесообразность органического, так и закономерность неорганического вносятся в природу только нашим рассудком, почему и та и другая свойственны лишь явлению, а не вещи в себе. Упомянутое выше изумление перед неизменным постоянством закономерности неорганической природы по существу тождественно с тем изумлением, которое возбуждает в нас целесообразность органической природы, ибо в обоих случаях нас поражает только зрелище изначального единства идеи, которая для явления приняла форму множественности и разнообразия*.
Что касается второго, по нашей классификации, вида целесообразности, а именно целесообразности внешней, которая проявляется не во внутренней экономии организмов, а в той поддержке и помощи, какие они получают извне, от неорганической природы и друг от друга, то она в общем тоже находит себе объяснение в установленной только что теории, ибо весь мир со всеми своими явлениями есть объектность единой и нераздельной воли, идея, которая относится ко всем другим идеям, как гармония к отдельным голосам, почему такое единство воли должно обнаруживаться и в согласованности
145
всех ее явлений между собою. Но эту мысль мы сможем уяснить гораздо лучше, если несколько ближе подойдем к проявлениям этой внешней целесообразности и взаимной согласованности различных частей природы; такое исследование в то же время прольет свет и на предыдущее. И мы лучше всего придем к своей цели, рассмотрев следующую аналогию.
Характер каждого отдельного человека, поскольку он всецело индивидуален и не заключен вполне в характер вида, можно рассматривать как особую идею, соответствующую самостоятельному акту объективации воли. Самый этот акт, с подобной точки зрения, является умопостигаемым характером человека, а эмпирический есть его обнаружение. Эмпирический характер всецело определяется умопостигаемым, который представляет собой безосновную волю, т. е. в качестве вещи в себе не подчиненную закону основания (форме явления). Эмпирический характер в течение жизненного пути должен служить отпечатком умопостигаемого и не может быть иным, чем этого требует сущность последнего. Но эта обусловленность простирается только на существенные, а не второстепенные проявления жизненного пути. К таким второстепенным моментам относится ближайшее определение событий и поступков, этого материала, в котором обнаруживается эмпирический характер. Они определяются внешними обстоятельствами, внушающими мотивы, на которые характер реагирует согласно своей природе, и так как мотивы могут быть очень различны, то с их влиянием должна сообразовываться внешняя форма проявления эмпирического характера, т. е. определенный фактический или исторический строй жизненного пути. Строй этот может быть весьма различным, но сущность этого явления, его содержание остается тем же; например, неважно, ведут ли игру из-за орехов или из-за венцов, но обманывать в игре или играть честно — вот что существенно; последнее определяется умопостигаемым характером, а первое — внешними влияниями. Как на одну и ту же тему может быть сто вариаций, так один и тот же характер может проявиться в ста очень различных жизненных путях. Но как бы разнообразны ни были внешние влияния, тем не менее выражающийся в жизненном пути эмпирический характер должен, как бы он ни осуществлялся, точно объективировать умопостигаемый, приспособляя свою объективацию к наличному материалу фактических обстоятельств.
Нечто аналогичное этому влиянию внешних условий на жизненный путь, в существенном определяемый характером, мы должны допустить, если желаем представить себе, как воля в изначальном акте своей объективации определяет различные идеи, в которых она объективируется, т. е. различные формы всяких существ природы, по которым она распределяет свою объективацию и которые поэтому в явлении необходимо должны быть связаны между собою. Мы должны допустить, что между всеми этими проявлениями единой воли произошло всеобщее взаимное подчинение и приспособление друг к другу, причем надо отбросить всякое временно́е определение, как это мы сейчас увидим яснее, ибо идея лежит вне времени. В силу этого каждое явление должно было приспособляться к окружающим условиям, в которые оно вступа-
146
ло, а последние, в свою очередь, приспособлялись к нему, хотя во времени оно возникло гораздо позднее; и всюду мы наблюдаем этот consensus naturae[115]*[116]. Вот почему каждое растение соответствует своей почве и климату, каждое животное — своей стихии и добыче, которая должна его питать, и до известной степени оно тем или иным способом защищено от своего естественного врага; вот почему глаз приспособлен к свету и его преломляемости, легкие и кровь — к воздуху, плавательный пузырь — к воде, глаз тюленя — к изменчивости его среды, водоносные клетки в желудке верблюда — к засухе африканских пустынь, парус наутилуса — к ветру, который гонит его раковину; и так можно идти все дальше и дальше, спускаясь к самым специфическим и удивительным проявлениям внешней целесообразности**.
Но при этом надо отвлечься от всяких временны́х отношений, так как последние могут затрагивать лишь проявление идеи, но не ее саму. Поэтому можно придать и обратную силу нашему объяснению, т. е. не только допустить, что каждый вид приспособлялся к наличным условиям, но и что сами эти предшествовавшие по времени условия также сообразовывались с грядущими существами. Ибо во всем мире объективируется одна и та же воля: она не знает времени, так как эта форма закона основания относится не к ней и не к ее изначальной объектности — идеям, а лишь к тому способу, каким они познаются преходящими индивидами, т. е. к проявлению идей. Поэтому при нашем теперешнем рассмотрении способа, каким объективация воли распределяется в идеях, временная последовательность совсем не имеет значения, и те идеи, проявления которых, согласно закону причинности, подчиняющему их себе как таковые, наступили во временной последовательности раньше, не приобрели через это никакого преимущества сравнительно с теми, проявления которых наступают позже; наоборот, последние — это как раз самые совершенные объективации воли, и предшествующие должны были приспособляться к ним в той же мере, что и они к предшествующим. Таким образом, течение планет, наклонение эклиптики, вращение земли, отделение суши от моря, атмосфера, свет, теплота и все подобные явления, которые в природе то же, что основной бас в гармонии, приспособлялись в предвосхищении грядущих поколений живых существ, носителем и опорой которых они должны были стать. Точно так же почва приспособлялась к питанию растений, растения — к питанию животных, последние — к питанию других животных, и, наоборот, все последующее приспособлялось к предыдущему. Все части природы сходятся между собою, ибо во всех них проявляется единая воля; временна́я же последовательность совершенно чужда ее изначальной и единственно адекватной объектности (это выражение объяснит следующая книга) — идеям[117]. Даже и теперь, когда поколения уже больше не возникают и должны только поддерживать себя, мы еще встречаемся порой с такой простирающейся в будущее, собственно как бы абстрагирующейся от времени предусмотрительной заботливостью природы, видим приспособление того, что существует, к тому, что только еще должно насту-
147
пить. Так, птица строит гнездо для птенцов, которых она еще не знает; бобер возводит жилище, назначение которого ему неизвестно; муравей, хомяк, пчела собирают запасы для неведомой им зимы; паук, муравьиный лев как бы с обдуманным коварством устраивают силки для будущей, неизвестной им добычи; насекомые кладут яйца туда, где будущее потомство найдет себе пропитание. Когда во время цветения женский цветок двудомной валиснерии развертывает спираль своего стебля, которая до тех пор удерживала его на дне водоема, и этим подымается на поверхность, именно тогда мужской цветок, растущий на дне, отрывается от своего короткого стебля, жертвуя собственной жизнью, достигает поверхности и там, плавая по воде, отыскивает женский цветок; последний же, когда оплодотворение совершилось, сокращает свою спираль и возвращается ко дну, где созревает плод*[118].
И здесь я должен вторично упомянуть о личинке самца жука-оленя, которая для своей метаморфозы прогрызает в дереве вдвое большее отверстие, чем самка, чтобы сохранить место для будущих рогов[119]. Таким образом, инстинкт животных вообще лучше всего поясняет нам телеологию всей природы18. Ибо подобно тому, как инстинкт в своей деятельности как бы руководится сознательной целью, вовсе, однако, ее не имея, так и все творчество природы похоже на руководимое сознательной целью и, однако, вовсе ее не имеет: как во внешней, так и во внутренней телеологии природы то, что нам приходится мыслить как средство и цель, это повсюду есть лишь разделившееся во времени и пространстве для нашего способа познания явление единства дотоле согласующейся с самой собою единой воли.
Однако вытекающие из этого единства взаимное приспособление и подчинение явлений не могут устранить того изложенного выше внутреннего противоборства, которое присуще воле и обнаруживается во всеобщей борьбе природы. Гармония простирается лишь настолько, чтобы сделать возможной устойчивость мира и его существ, которые без нее давно бы погибли. Поэтому она простирается только на сохранение видов всеобщих условий жизни, а не на сохранение индивидов. Если, таким образом, благодаря этой гармонии и приспособлению виды в органическом царстве и всеобщие силы природы в неорганическом существуют рядом и даже поддерживают друг друга, то, с другой стороны, внутреннее противоборство объективированной во всех этих идеях воли выражается в беспрестанной истребительной войне между индивидами названных видов и в междоусобной борьбе явлений названных сил природы, как это показано выше. Театр и предмет этой войны — материя, которую они попеременно стремятся отторгнуть друг от друга, а также пространство и время; ведь последние, объединенные формой причинности, собственно, и составляют материю, как это объяснено в первой книге**.
148
§ 29
Я заканчиваю здесь вторую основную часть своего труда в надежде, что, насколько это возможно при первом изложении ни разу еще не высказанной мысли, которая поэтому не может быть вполне свободна от следов индивидуальности, впервые ее зародившей, — в надежде, что мне удалось доказать следующее: этот мир, в котором мы живем и пребываем, в своей сущности есть всецело воля и в то же время всецело представление; это представление уже как таковое предполагает форму, а именно объект и субъект, и потому оно относительно; и если мы спросим, что остается по устранении этой формы, как и всех форм, ей подчиненных и выражаемых законом основания, то этот остаток, toto genere отличающийся от представления, не может быть ничем иным, кроме воли, которая поэтому и есть подлинная вещь в себе. Каждый сознает самого себя этой волей, в которой состоит внутренняя сущность мира, как он сознает себя и познающим субъектом, чьим представлением является весь мир, существующий в этом смысле только по отношению к сознанию субъекта как своему необходимому носителю. Таким образом, каждый в этом двойном смысле сам представляет собою весь мир, микрокосм, и полностью и всецело находит в себе самом обе стороны мира. И то, что он познает как свою сущность, исчерпывает и сущность всего мира, макрокосма; мир так же, как и он сам, есть всецело воля и всецело представление, и больше нет ничего. Мы видим, таким образом, что здесь совпадают между собой философия Фалеса, рассматривавшая макрокосм, и философия Сократа, рассматривавшая микрокосм, так как предмет обеих оказывается одним и тем же19.
Но большую полноту, а потому и большую убедительность изложенное в двух первых книгах обретает благодаря двум последующим, где, я надеюсь, найдут удовлетворительное решение и те вопросы, которые могли смутно или отчетливо встать перед нами в ходе предшествующего изложения.
Пока же остановимся на рассмотрении одного из таких вопросов, потому что он, собственно говоря, может возникать лишь до тех пор, пока мы еще не вполне проникли в смысл предшествующего изложения, и именно оттого он может способствовать его усвоению. Он заключается в следующем. Каждая воля — это воля к чему-нибудь, она имеет объект, цель своего желания; так чего же хочет в конце концов или к чему стремится та воля, которую представляют нам внутренней сущностью мира? Этот вопрос, как и многие другие, основан на смешении вещи в себе с явлением. Закон основания (видом его выступает закон мотивации) распространяется только на явление, а не на вещь в себе. Основание можно всюду указывать только для явлений как таковых, для отдельных вещей, но никогда его нельзя искать для самой воли или для идеи, в которой она адекватно объективируется. Так, можно спрашивать о причине каждого отдельного движения или вообще изменения в природе, т. е. о состоянии, необходимо вызвавшем это изменение, но никогда нельзя искать причины для самой силы природы, которая обнаруживается как в данном, так и в бесчисленных сходных явлениях: и совершенно бессмысленно спрашивать о причине тяжести, электричес-
149
тва и т. п.[120] Только в том случае, если бы было показано, что тяжесть, электричество — это не изначальные и самобытные силы природы, а лишь способы проявления более общей, уже известной ее силы, — только тогда можно было бы спрашивать о причине, о том, почему эта сила природы вызывает здесь явления тяжести, электричества[121]. Обо всем этом подробно сказано выше. Точно так же у всякого отдельного волевого акта познающего индивида (а сам он есть лишь явление воли как вещи в себе) необходимо имеется мотив, и без него этот акт никогда бы не произошел; но как материальная причина заключает в себе только определение того, что в это время, на этом месте, в этой материи должно совершиться обнаружение той или иной силы природы, так и мотив определяет лишь волевой акт познающего существа в это время, на этом месте, при этих обстоятельствах как нечто вполне частное; но ни в коем случае он не определяет того, что данное существо вообще хочет и хочет именно так: это есть проявление умопостигаемого характера, который безосновен в качестве самой воли, вещи в себе, как находящийся вне сферы закона основания. Поэтому у каждого человека постоянно есть цели и мотивы, которые руководят его деятельностью, и он всегда может дать отчет в своих отдельных поступках; но если спросить его, почему он вообще хочет существовать, то он не нашел бы ответа, и даже самый вопрос показался бы ему нелепым: в этом недоразумении отразилось бы, собственно, сознание того, что он сам есть не что иное, как воля, воление которой вообще понятно само собою и нуждается в конкретном определении по мотивам только для своих отдельных актов в каждый момент времени.
И действительно, отсутствие всякой цели, всяких границ относится к существу воли в себе, ибо она есть бесконечное стремление. Выше я уже коснулся этого при упоминании о центробежной силе. Проще всего это обнаруживается на самой низкой ступени объектности воли, а именно в тяготении, постоянное стремление которого при явной невозможности конечной цели бросается в глаза. Ибо если бы даже, по воле тяготения, вся существующая материя собралась в один ком, то внутри него тяготение, устремляясь к центру, все еще продолжало бы бороться с непроницаемостью в качестве твердости или упругости. Стремление материи можно поэтому всегда только сдерживать, но никогда нельзя его осуществить или удовлетворить. И так же обстоит со всеми стремлениями всех явлений воли. Каждая достигнутая цель опять становится началом нового стремления, и так — до бесконечности. Растение от зародыша через стебель и лист доводит свое явление до цветка и плода, который, в свою очередь, служит лишь началом нового зародыша, нового индивида, опять проходящего старый путь, и так — в бесконечности времен[122]. Таков и жизненный путь животного: рождение — его вершина; достигнув ее, жизнь первого индивида быстро или медленно клонится к упадку[123], новый индивид служит для природы залогом сохранения вида и повторяет то же явление. Как на простой феномен этой беспрерывной борьбы и смены надо смотреть даже и на вечное обновление материи каждого организма, которое физиологи перестают теперь считать необходимым возмещением истраченного при движении вещества, ибо возможный износ машины решительно не может быть эк-
150
вивалентом для постоянного притока от питания: вечное становление, бесконечный поток свойствен раскрытию сущности воли. То же, наконец, замечается и в человеческих стремлениях и желаниях: они всегда обманчиво внушают нам, будто их существование есть конечная цель воли; но стоит только удовлетворить их, как они теряют свой прежний облик и потому скоро забываются, делаются для нас стариной, и мы, в сущности, всегда отбрасываем их как исчезнувшие призраки, хотя и не сознаемся в этом. И наше счастье, если еще у нас осталось чего желать и к чему стремиться, чтобы поддерживать игру вечного перехода от желания к удовлетворению и от него к новому желанию, — игру, быстрый ход которой называется счастьем, а медленный — страданием; чтобы не наступило то оцепенение, которое выражается ужасной, мертвящей жизнь, томительной скукой без определенного предмета, убийственным languor*.
Вследствие всего этого воля там, где ее озаряет познание, всегда знает, чего она хочет теперь, чего она хочет здесь, но никогда не знает, чего она хочет вообще; каждый отдельный акт ее имеет цель, общее же желание таковой не имеет, подобно тому как всякое отдельное явление природы определяется достаточной причиной для своего наступления в данном месте и в данное время, не имеет же причины раскрывающаяся в нем сила вообще, ибо последняя — это ступень проявления вещи в себе, безосновной воли.
Единственное самопознание воли в целом — это представление в целом, весь наглядный мир. Он есть ее объектность, ее откровение, ее зеркало. То, чем показывает он себя в этом качестве, составит предмет нашего дальнейшего размышления**.
О мире как представлении
Второе размышление:
представление, независимое от
закона основания:
платоновская идея: объект
искусства
Τί τὸ
ὂν μὲν α᾿εί, γένεοιν δέ
ου᾿χ
ἒχον; χαι τί
τὸ
φιφνόμενον μὲν χαι α’πολλύμενκν, ὂντως δὲ
ου’δέποτε ὂν;
Πλάτωγ*
§ 30
В первой книге мы изобразили мир как простое представление, объект для субъекта; во второй книге мы рассмотрели его с другой стороны и нашли, что он есть воля, так как именно последняя оказалась тем, чем является мир сверх представления; и вот, согласно этому, мы назвали мир как представление, взятый и в целом, и в частях, объектностью воли, что означает: воля, сделавшаяся объектом, т. е. представлением. Припомним далее, что такая объективация имеет многие, но определенные ступени, по которым с последовательно возрастающей ясностью и полнотой сущность воли входит в представление, т. е. представляется в качестве объекта. В этих ступенях мы и там уже признали платоновские идеи, поскольку именно эти ступени являются определенными видами, или первоначальными, неизменными формами и свойствами всех тел природы, как органических, так и неорганических, а также и общими силами, которые обнаруживаются по законам природы. Таким образом, все эти идеи выражаются в бесчисленных индивидах и частностях и относятся к ним как первообразы к своим подражаниям. Множественность таких индивидов представима только благодаря времени и пространству, а их возникновение и уничтожение — только благодаря причинности, и во всех этих формах мы признали только различные виды закона основания, который служит последним принципом всякой конечности, всякой индивидуации и общей формы представления, поскольку оно входит в познание индивида как такового. Идея же не подвластна этому принципу, вот почему ей не свойственны ни множественность, ни изменяемость. В то время как индивиды, в которых она выражается, бесчисленны и беспрестанно возникают и исчезают, она остается неизменной и равной себе, и закон основания не имеет для нее никакого значения. А так как этот закон есть форма, которую принимает всякое познание субъекта, поскольку он познает в качестве
152
индивида, то идеи должны находиться совершенно вне познавательной сферы индивида как такового. Поэтому если идеи должны стать объектом познания, то это возможно лишь при устранении индивидуальности в познающем объекте. Нам и предстоит теперь заняться ближайшим и более подробным разъяснением этой мысли.
§ 31
Впрочем, сначала еще одно очень существенное замечание. Я надеюсь, во второй книге мне удалось доказать следующее: то, что в кантовской философии называется вещью в себе и признано столь значительным, но темным и парадоксальным учением (в особенности благодаря способу, каким Кант его вводит, а именно — заключением от обоснованного к основанию), камнем преткновения, даже слабой стороной его философии, это, говорю я, если прийти к нему совершенно другим путем, тем, который избрали мы, оказывается не чем иным, как волей в расширенной и определенной нами сфере этого понятия. Я надеюсь, далее, что после всего изложенного никто не усомнится в определенных ступенях объективации этой воли, составляющей в себе мира, признать то, что Платон называл вечными идеями, или неизменными формами (εἲδη), то, что было признано самым главным, но в то же время и самым темным и парадоксальным догматом его учения и в течение столетий было предметом размышления, споров, насмешек и почитания множества различно настроенных умов.
Если воля для нас есть вещь в себе, а идея — непосредственная объектность воли на определенной ступени, то мы находим, что кантовская вещь в себе и платоновская идея, которая только и есть для Платона ὂντως ὂν (истинно сущее), — эти два великих темных парадокса двух величайших мыслителей Запада хотя и не тождественны друг другу, но находятся между собою в очень близком родстве и различаются только одним определением. Оба великих парадокса — именно потому, что при всем своем внутреннем согласии и родстве они ввиду крайнего различия индивидуальностей своих творцов звучат так несходно, — служат даже лучшим взаимным комментарием и уподобляются двум совершенно различным путям, приводящим к одной цели. Это можно пояснить в нескольких словах. То, что говорит Кант, сводится, в сущности, следующему: «Время, пространство и причинность — не определения вещи в себе, а принадлежат лишь ее явлению, ибо они суть не что иное, как формы нашего познания. А так как всякая множественность и всякое возникновение и исчезновение возможны только во времени, пространстве и причинности, то отсюда следует, что и они свойственны только явлению, а вовсе не вещи в себе. Но познание наше обусловлено указанными формами; поэтому весь опыт — только познание явления, а не вещи в себе, и, следовательно, его законы не могут прилагаться к вещи в себе. Сказанное простирается даже на наше собственное я, и мы познаем это я лишь как явление, а не как то, чем оно может быть в себе».
Вот, в рассматриваемом нами важном отношении, смысл и содержание учения Канта. Платон же говорит: «Вещи этого мира, который вос-
153
принимают наши чувства, вовсе не имеют истинного бытия: они — всегда становящееся, но никогда не сущее; они имеют лишь относительное бытие и все существуют только во взаимном соотношении и благодаря ему, — поэтому все их бытие можно называть также и небытием. Они, следовательно, не объекты подлинного знания (ἐπιο˜τήμη), ибо такое знание может быть лишь о том, что существует в себе и для себя и всегда одинаковым образом: они — только объекты мнения, порождаемого ощущением (δόξα μετ’ αὶσθήσεως ἀλόγου). Пока мы ограничиваемся их восприятием, мы подобны людям, которые сидят в темной пещере и так крепко связаны, что не могут даже повернуть головы, и при свете горящего позади них огня видят на противоположной стене только силуэты действительных вещей, которые проходят между ними и огнем, — и даже друг друга и самого себя каждый видит лишь как тень на этой стене. Их мудрость может заключаться только в предвидении познанного на опыте чередования этих теней. То же, что только и может быть названо истинно сущим (ὂντως ὂν), ибо оно всегда есть, но никогда не становится и не преходит, это — реальные первообразы силуэтов и теней, это вечные идеи, первичные формы всех вещей. Им не свойственна множественность, ибо каждая из них по своему существу только едина, будучи сама первообразом, снимки которого, или тени, являются одноименными ему, отдельными, преходящими вещами того же рода. Не свойственны им также возникновение и исчезновение, ибо они суть истинно сущее, но никогда не становящееся и не преходящее, как их исчезающие снимки. (В этих двух отрицательных определениях, однако, необходимо содержится в качестве предпосылки то, что время, пространство и причинность не имеют для идей никакого значения и силы, и идеи существуют не в них.) Поэтому только по отношению к ним имеется подлинное знание, так как объектом последнего может служить лишь то, что существует всегда и во всех отношениях (т. е. в себе), а не то, что и существует, и не существует в зависимости от точки зрения». Таково учение Платона.
Очевидно и не требует дальнейших пояснений, что внутренний смысл обеих теорий совершенно один и тот же, что обе считают видимый мир явлением, которое в себе ничтожно и получает значение и заимствованную реальность лишь от того, что в нем выражается (для Канта это — вещь в себе, для Платона — идея); по смыслу обоих учений, этому выражающемуся, истинно сущему вполне чужды даже самые общие и основные формы явления. Кант, чтобы отвергнуть эти формы, непосредственно заключил их в абстрактные термины и прямо отказал вещи в себе во времени, пространстве и причинности как простых формах явления; Платон же не дошел до крайнего выражения этой мысли и отказал своим идеям в этих формах лишь косвенно, отрицая у идей то, что возможно только в силу таких форм, а именно множественность однородного, возникновение и исчезновение. Хоть это и излишне, но я наглядно поясню замечательное и важное совпадение двух мыслителей еще одним примером. Вот перед вами животное, полное жизнедеятельности. Платон скажет: «Это животное — не истинное бытие, а только видимое, имеет беспрерывное становление, относительное существование, которое одинаково можно назвать как бытием, так и небытием.
154
Истинно сущее — это только идея, которая отображается в этом животном, или животное в себе (αὐτὸ το ϑηρίον), которое ни от чего не зависит, а существует в себе и для себя (χαϑ’ ἐαυτό, ἀεί ωσαύτως), не происшедшее, не преходящее, а постоянно одно и то же (ἀεί ὂv, χαί μηδέποτε οὔτε γιγνὁμενον, οὔτε ἀπολλύμενον*); поскольку мы познаем в этом животном его идею, то совершенно все равно и не важно, находится ли теперь перед нами именно то животное или его предок, живший за тысячу лет; все равно, далее, существует ли оно здесь или в дальнем краю, стоит ли оно перед нами так или иначе, в том или другом положении и действии, наконец, является ли оно именно этим или каким-нибудь другим индивидом своего рода: все это ничего не значит и касается только явления, лишь идея животного обладает истинным бытием и служит предметом действительного познания». Так сказал бы Платон. Кант же выразился бы приблизительно следующим образом: «Это животное — явление во времени, пространстве и причинности, которые в совокупности представляют собой заложенные в нашей познавательной способности априорные условия возможности опыта, а не определения вещи в себе; вот почему это животное, поскольку мы воспринимаем его в данное время, на данном месте, как индивид, возникший в связи опыта, т. е. в цепи причин и действий, и столь же неизбежно преходящий, есть не вещь в себе, а явление, имеющее значение только для нашего познания. Чтобы познать это животное так, каким оно есть в себе, т. е. независимо от всех лежащих во времени, пространстве и причинности определений, необходим был бы иной способ познания, а не тот единственно доступный для нас, который осуществляется посредством чувств и рассудка».
Чтобы еще более приблизить кантовское выражение к платоновскому, можно было бы сказать: время, пространство и причинность — это такое устройство нашего интеллекта, в силу которого имеющееся, собственно, только одно существо какого-либо рода представляется нам как множество однородных, постоянно возникающих вновь и преходящих существ в бесконечной последовательности. Восприятие вещей с помощью такого устройства и в соответствии с ним — это восприятие имманентное; то же, которое сопровождается сознанием своих обусловленных моментов, — это восприятие трансцендентальное. Последнее получается in abstracto посредством критики чистого разума; но в виде исключения оно может возникать также интуитивно (последнее — это уже мое добавление, которое я и постараюсь разъяснить настоящей третьей книгой).
Если бы у нас когда-нибудь действительно поняли и усвоили учение Канта, если бы со времени Канта усвоили Платона, если бы точно и серьезно продумали внутренний смысл и содержание теорий обоих учителей[124], вместо того чтобы перебрасываться техническими выражениями одного и пародировать стиль другого, то, наверное, давно бы увидели, насколько оба великих мудреца согласны между собою, увидели бы, что истинный смысл и конечная цель обоих учений совершенно одни и те же. Тогда не только перестали бы беспрестанно сравнивать
155
Платона с Лейбницем, на котором вовсе не почил его дух, или даже с одним еще здравствующим известным господином[125]*[126] (как бы в насмешку над тенью великого мыслителя древности), но и вообще подвинулись бы гораздо дальше, чем сейчас, или, вернее, не отступили бы так позорно далеко, как это случилось в последние сорок лет, не позволили бы тогда дурачить себя то одному, то другому пустозвону, и так достойно заявившее себя XIX столетие не было бы открыто в Германии философскими фарсами, какие разыгрывались на могиле Канта (как иногда у древних, на погребении родственников), при справедливых насмешках со стороны других народов, — ибо серьезным и даже чопорным немцам такое шутовство совсем не к лицу. Но столь малочисленна подлинная публика истинных философов, что даже понимающих учеников лишь скупо дарят им столетия. Thyrsigeri quidem multi, Bacchi verc pauci. Earn ob rem philosophia in infamiam inadit, quod non pro dignitate ipsam attingunt: neque enim a spuriis, sed a legitimis erat attrectanda (Plat.)**. Гонялись за словами, такими, как «априорные представления, независимо от опыта познаваемые формы созерцания и мышления, изначальные понятия чистого рассудка», и спрашивали о платоновских идеях (которые ведь тоже изначальные понятия и воспоминания о созерцании истинно сущих вещей, предшествовавшем жизни), — спрашивали, не то же ли это самое, что и кантовские формы созерцания и мышления, a priori заложенные в нашем сознании? Эти два совершенно разнородных учения, кантовское — о формах, ограничивающих познание индивида явлениями, и платоновское — об идеях, познание которых совершенно исключает такие формы, — эти два в данном смысле диаметрально противоположных учения, только потому, что они несколько сходны в своих выражениях, внимательно сравнивались между собою, о них держали совет, спорили об их тождестве и нашли, наконец, что они все-таки не одно и то же, и заключили, что платоновское учение об идеях и кантовская критика разума не имеют ничего общего***. Но довольно об этом.
§ 32
В результате наших предшествующих размышлений выяснилось, что при всем внутреннем единомыслии между Кантом и Платоном и при тождестве цели, которая предносилась[127] обоим[128], или мировоззрения, которое побуждало их к философствованию и руководило ими, — все-таки для нас идея и вещь в себе не совсем одно и то же: с нашей точки зрения, идея — это лишь непосредственная и потому адекватная объектность вещи в себе; последняя же является волей, — волей, поскольку она еще не объективировалась, еще не стала представлением. Ибо вещь в себе, по
156
Канту, должна быть свободной от форм, присущих познанию как таковому, и в этом (как я показал в приложении) надо видеть только ошибку Канта, что он не причислил к этим формам, прежде всех других, бытия объектом для субъекта, между тем как именно оно служит первой и самой общей формой всякого явления, т. е. представления; и Кант должен был бы решительно отказать своей вещи себе в бытии объектом, что предохранило бы его от его большой, давно замеченной непоследовательности. Наоборот, платоновская идея — это непременно объект, познанное представление, и именно этим, но и только этим она отличается от вещи в себе. Она сложила с себя только подчиненные формы явления, которые все мы понимаем под законом основания, или, точнее, она еще не вошла в них; но она сохранила первую и самую общую форму — форму представления вообще, форму бытия объектом для субъекта. Подчиненные ей формы (их общим выражением является закон основания) — вот что дробит идею на отдельные и преходящие индивиды, число которых по отношению к идее совершенно безразлично. Закон основания служит, таким образом, той новой формой, которую принимает идея, вступая в познание субъекта как индивида. Отдельная вещь, которая проявляется согласно закону основания, представляет собой поэтому лишь косвенную объективацию вещи в себе (т. е. воли), а между этой отдельной вещью и вещью в себе (волей) стоит еще идея как единственная непосредственная объектность воли, потому что она не приняла иной формы, свойственной познанию как таковому, кроме формы представления вообще, т. е. бытия объектом для субъекта. Вот почему только идея является и возможно более адекватной объектностъю воли, или вещи в себе; она даже есть вся вещь в себе, но только в форме представления, и на этом основано великое единомыслие между Платоном и Кантом, хотя, если судить строго, то, о чем они оба говорят, не одно и то же. Отдельные же вещи не составляют вполне адекватной объектности воли, но эта объектность уже замутнена здесь теми формами, общим выражением которых служит закон основания, — формами, составляющими, однако, условие познания, насколько оно возможно для индивида как такового.
Если позволено будет сделать выводы из невозможной предпосылки, то я скажу: мы и в самом деле познавали бы уже не отдельные вещи, не события, не перемену, не множественность, а в чистом, неомраченном познании воспринимали бы только идеи, только лестницу объективации единой воли, истинной веши в себе, и, следовательно, наш мир был бы для нас Nunc stans*4, — если бы мы в качестве субъекта познания не были в то же время индивидами, т. е. если бы наша интуиция не опосредствовалась нашим телом, из впечатлений которого она исходит и которое само представляет собой лишь конкретное желание, объектность воли, т. е. объект среди объектов, и в качестве такового может входить в познающее сознание лишь в формах закона основания, а следовательно, уже предполагает и этим вводит время и все другие формы, выражаемые этим законом. Время есть не что иное, как разделенный и раздробленный вид, в каком являются для индивидуального существа
157
идеи, сами же они лежат вне времени и потому вечны; вот почему и говорит Платон, что время — это подвижный образ вечности: αιώνος ειχὼν χινητὴ ὁ χρ́ονος*5.
§ 33
Итак, в качестве индивидов мы не обладаем другим познанием, кроме подчиненного закону основания, а так как эта форма исключает познание идей, то несомненно, что если и возможно для нас подниматься от познания отдельных вещей к познанию идей, то это происходит лишь потому, что в субъекте совершается изменение, соответствующее и аналогичное великой перемене во всем характере объекта, — изменение, благодаря которому субъект, поскольку он познает идею, более уже не есть индивид.
Из предыдущей книги мы помним, что познание вообще само принадлежит к объективации воли на ее высших ступенях, и чувствительность, нервы, мозг, подобно другим частям органического существа, суть лишь выражение воли в этой- степени ее объектности; поэтому возникающее благодаря им представление тоже предназначено служить воле в качестве средства (μηχανή) для достижения ее целей, теперь уже более сложных (πολυτελέστερα), — для сохранения существа, одаренного многоразличными потребностями. Таким образом, первоначально и по своему существу познание находится всецело на службе у воли, и подобно тому как непосредственный объект, составляющий при посредстве закона причинности исходный пункт познания, есть лишь объективированная воля, так и всякое познание, следующее закону основания, остается в близком или отдаленном отношении к воле. Ибо индивид находит свое тело как объект среди объектов, с которыми оно состоит в многообразных отношениях и связях по закону основания и созерцание которых поэтому всегда, близким или дальним путем, возвращает к собственному телу индивида, т. е. к его воле. Так как именно закон основания ставит объекты в это отношение к телу и через него к воле, то и познание, служащее воле, будет единственно проникнуто стремлением постигать в объектах именно те отношения, которые установлены законом основания, т. е. следовать за их многообразными сочетаниями в пространстве, времени и причинности. Ибо только ими объект интересен для индивида, т. е. имеет отношение к воле. Поэтому служащее воле познание не воспринимает в объектах, собственно, ничего другого, кроме их отношений, оно изучает объекты, лишь поскольку они существуют в это время, на этом месте, при этих условиях, по этим причинам, с этими действиями, — одним словом, постигает их как отдельные вещи, и если устранить все эти отношения, то для познания исчезнут и самые объекты, потому что оно не восприняло в них ничего другого.
Мы не должны скрывать и следующего: то, что в вещах рассматривают науки, по существу так же есть не что иное, как все названное выше, т. е. отношения вещей, обстоятельства времени и пространства, причины
158
естественных изменений, сравнение форм, мотивы событий — словом, одни только отношения. Отличие наук от обыденного знания состоит лишь в их форме, систематичности, в том, что они облегчают познание, соединяя, путем соподчинения понятий, все частное в общее, и достигают этим полноты знания. Всякое отношение само имеет только относительное существование: например, всякое бытие во времени есть, с другой стороны, и небытие, ибо время — это лишь то, благодаря чему одной и той же вещи могут быть свойственны противоположные определения. Поэтому каждое явление во времени и существует, и не существует, так как то, что отделяет его начало от его конца, есть только время, по существу своему нечто исчезающее, неустойчивое и относительное, называемое здесь продолжительностью. А время — это самая общая форма всех объектов познания, состоящего на службе у воли, и прототип остальных его форм.
Итак, обыкновенно познание остается на службе у воли, как оно и возникло для этой службы и даже как бы выросло из воли, словно голова из туловища. У животных этого господства воли над познанием никогда нельзя устранить. У человека такое устранение возможно в виде исключения, как это мы сейчас рассмотрим подробнее. Внешним образом это отличие между человеком и животным выражается в разном отношении головы к туловищу. У низших животных они еще совсем сросшиеся: голова у всех обращена к земле, где лежат объекты воли; даже у высших животных голова и туловище в гораздо большей степени представляют собой одно целое, чем у человека, голова которого свободно поставлена на тело и только носима им, а не служит ему. Высшую степень этого человеческого преимущества выражает Аполлон Бельведерский: голова бога муз, взирающего вдаль, так свободно высится на плечах, что кажется вполне отрешенной от тела и уже не подвластной заботе о нем.
§ 34
Как было сказано, возможный, хотя и лишь в виде исключения, переход от обыденного познания отдельных вещей к познанию идеи совершается внезапно, когда познание освобождается от служения воле и субъект вследствие этого перестает быть только индивидуальным, становится теперь чистым, безвольным субъектом познания, который не следует более, согласно закону основания, за отношениями, но пребывает в спокойном созерцании предстоящего объекта вне его связи с какими-либо другими и растворяется в нем.
Эта мысль для своего пояснения нуждается в обстоятельном развитии, и надо пока не обращать внимания на то, что будет казаться в нем странным: оно исчезнет само собой, когда будет понята вся излагаемая в этом произведении мысль.
Когда, поднятые силой духа, мы оставляем обычный способ наблюдения вещей согласно формам закона основания и перестаем интересоваться только их взаимными отношениями, конечной целью которых всегда является отношение к нашей собственной воле; когда мы, следовательно, рассматриваем в вещах уже не где, когда, почему и для чего,
159
а единственно их что? и не даем овладеть нашим сознанием даже абстрактному мышлению, понятиям разума; когда вместо этого мы всей мощью своего духа отдаемся созерцанию, всецело погружаясь в него, и наполняем все наше сознание спокойным видением предстоящего объекта природы, будь это ландшафт, дерево, скала, строение или что-нибудь другое, и, по нашему глубокомысленному выражению, совершенно теряемся в этом предмете, т. е. забываем свою индивидуальность, свою волю и остаемся лишь в качестве чистого субъекта, ясного зеркала объекта, так что нам кажется, будто существует только предмет и нет никого, кто бы его воспринимал, и мы не можем больше отделить созерцающего от созерцания, но оба сливаются в одно целое, ибо все сознание совершенно наполнено и объято единым созерцаемым образом; когда, таким образом, объект выходит из всяких отношений к чему-нибудь вне себя, а субъект — из всяких отношений к воле, тогда то, что познается, представляет собой уже не отдельную вещь как таковую, но идею, вечную форму, непосредственную объектность воли на данной ступени. И именно оттого погруженная в такое созерцание личность уже не есть индивид, ибо индивид как раз растворился в этом созерцании, но это чистый, безвольный, безболезненный, вневременной субъект познания. Эта пока еще необычная мысль (она, я знаю, подтверждает принадлежащее Томасу Пэйну изречение: du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas*6 в дальнейшем изложении будет все более проясняться и станет менее странной. То же самое представлялось и Спинозе, когда он писал: «Душа вечна, поскольку она представляет вещи под формою вечности» (sub specie aeternitatis) (Eth. V, pr. 31, schol.)**. В таком созерцании отдельная вещь сразу становится идеей своего рода, а созерцающий индивид — чистым субъектом познания. Индивид как таковой познает лишь отдельные вещи, чистый субъект познания — только идеи. Ибо индивид — это субъект познания в его отношении к определенному отдельному явлению воли, которому он и служит. Это отдельное явление воли подчинено как таковое закону основания во всех его видах; поэтому всякое относящееся к нему познание равным образом подчиняется закону основания, и для воли не годится никакое иное познание, кроме этого одного, всегда имеющего своим объектом только отношения. Познающий индивид как таковой и познаваемая им отдельная вещь существуют где-нибудь и когда-нибудь, это звенья в цепи причин и действий. Чистый субъект и его коррелат, идея, свободны от всех этих форм закона основания: время, место, индивид, который познает, и индивид, который познается, не имеют для них значения. Лишь когда познающий индивид возвышается, как было описано, до чистого субъекта познания и тем самым возвышает рассматриваемый объект до идеи, лишь тогда мир как представление выступает во всей своей чистоте и совершается полная объективация воли, ибо только идея представляет собой адек-
160
ватную объектность воли. Последняя тоже заключает в себе объект и субъект, потому что они суть ее единственная форма; но в ней оба они вполне сохраняют равновесие: подобно тому как объект и здесь есть только представление субъекта, так и субъект, вполне растворяясь в созерцаемом предмете, сам делается этим предметом, ибо все сознание есть уже не что иное, как совершенно ясный образ его. Именно это сознание (если представить себе, что через него по очереди проходят все идеи, или ступени объектности воли) и составляет, собственно, весь мир как представление. Отдельные вещи всех времен и пространств суть не что иное, как умноженные законом основания (формой познания индивидов как таковых) и потому замутненные в своей чистой объектности идеи. Подобно тому как, когда выступает идея, в ней нельзя уже отличить субъекта от объекта, потому что лишь в силу их взаимного восполнения и проникновения и возникает эта идея, адекватная объектность воли, подлинный мир как представление, — так и познающий и познаваемый индивид как вещи в себе тоже неотличимы тогда друг от друга. Ибо если совсем отвлечься от этого подлинного мира как представления, то не останется ничего, кроме мира как воли. Воля — это «в себе» идеи, которая ее полностью объективирует; воля также и «в себе» отдельной вещи и познающего ее индивида, которые не полностью объективируют волю. В качестве воли, вне представления и всех его форм, она одна и та же в созерцаемом объекте и в индивиде, который, возносясь в таком созерцании, сознает себя чистым субъектом; поэтому объект и субъект в себе не отличаются друг от друга, так как в себе они суть воля, которая познает здесь самое себя, и только в качестве способа, каким для нее совершается это познание, т. е. только в явлении и благодаря его форме — закону основания, существуют множественность и различие. Насколько без объекта, без представления я оказываюсь не познающим субъектом, а лишь слепой волей, настолько же без меня как субъекта познания познаваемая вещь есть не объект, а лишь воля, слепой порыв. Эта воля в себе, т. е. вне представления, составляет одно и то же с моей собственной волей: только в мире как представлении, формой которого, по крайней мере, являются субъект и объект, мы расходимся друг с другом как познаваемый и познающий индивиды. Как только устраняется познание, мир как представление, не остается вообще ничего другого, кроме просто воли, слепого порыва. Для того чтобы воля получила объектность, стала представлением, необходимы сразу как субъект, так и объект; но чтобы эта объектность была чистой, совершенной, адекватной объектностью воли, необходимы объект как идея, свободный от форм закона основания, а субъект — как чистый субъект познания, свободный от индивидуальности и служения воле. Кто описанным выше образом настолько погрузился в созерцание природы, настолько забылся в нем, что остается только чистым познающим субъектом, тот непосредственно сознает, что в качестве такового он есть условие, т. е. носитель мира и всего объективного бытия, так как последнее является ему тогда зависящим от его собственного существования. Он, следовательно, вбирает в себя природу, так что чувствует ее лишь как акциденцию своего существа. В этом смысле говорит Байрон:
161
Are not the mountains, waves
and skies, a part
Of me and of my soul, as I of
them?*
Но как же тот, кто это чувствует, может считать себя, в
противоположность непреходящей природе, абсолютно преходящим? Нет, скорее его
охватывает то сознание, о котором говорят Упанишады Вед: Нае
§ 35
Чтобы глубже проникнуть в сущность мира, надо непременно научиться различать волю как вещь в себе от ее адекватной объектности, а затем различать отдельные ступени, на которых она выступает более отчетливо и полно, т. е. самые идеи, от простого явления идей в формах закона основания, этого ограниченного способа познания, присущего индивидам. Тогда мы согласимся с Платоном, который приписывает подлинное бытие только идеям, за вещами же в пространстве и времени, этом для индивида реальном мире, признает лишь призрачное существование, похожее на сон. Тогда мы увидим, как одна и та же идея раскрывается в таком множестве явлений и обнаруживает познающим индивидам свое существо только по частям, одну сторону за другой. Тогда мы и самую идею отличим от того способа, каким ее явление становится доступным наблюдению индивида, и идею мы признаем существенным, а способ этот — несущественным. Рассмотрим это на примерах, сначала в малом, а потом — в великом.
Когда проносятся облака, фигуры, которые они образуют, для них несущественны, безразличны; но то, что это — упругие пары, которые дуновение ветра сгущает, уносит, растягивает, разрывает, — в этом их природа, сущность объективирующихся в них сил, их идея; каждая же фигура существует только для индивидуального наблюдателя. Для ручья, сбегающего по камням, безразличны и несущественны водовороты, волны, пена, которые он образует; но то, что он повинуется тяготению и является неупругой, всецело подвижной, бесформенной, прозрачной жидкостью, — в этом, если познавать наглядно, его идея; названные же образования ручья существуют только для нас, пока мы познаем как индивиды. Лед на оконном стекле осаждается по законам кристаллизации, которые раскрывают сущность являющейся здесь силы природы, выражают идею; но деревья и цветы, которые он при этом образует, несущественны и существуют только для нас.
То, что является в облаках, ручье и кристалле, это — самый слабый отзвук воли, которая полнее выступает в растении, еще полнее в животном и наиболее полно в человеке. Но только существенное всех этих ступеней ее объективации составляет идею; развитие же идеи, в силу которого она, в формах закона основания, развертывается в разнообраз-
162
ных и многосторонних явлениях, — это не существенно для идеи, обусловлено только способом познания индивида и имеет реальность лишь для него. То же самое необходимо относится и к развитию той идеи, которая представляет собой самую полную объектность воли; следовательно, история человечества, поток событий, смена эпох, многообразные формы человеческой жизни в разные века и в разных странах — все это лишь случайная форма явления идеи и принадлежит не ей самой, содержащей исключительно адекватную объектность воли, а только явлению, которое попадает в сферу познания индивида, все это для самой идеи так же чуждо, несущественно и безразлично, как для облаков — их фигуры, для ручья — форма его струй и пены, для льда — его деревья и цветы.
Кто хорошо это понял и умеет отличать волю от идеи, а идею от ее явления, для того мировые события будут иметь значение не сами по себе, а лишь постольку, поскольку они — буквы, по которым может быть прочитана идея человека. Он не будет думать вместе с людьми, что время действительно приносит нечто новое и значительное, что с помощью времени или в нем осуществляется нечто безусловно реальное, или же само время как целое имеет начало и конец, план и развитие и своей конечной целью ставит полное усовершенствование (согласно своим понятиям) последнего поколения, живущего тридцать лет. И поэтому он не призовет вместе с Гомером целого Олимпа богов для направления временных событий8, как не признает вместе с Оссианом фигур облаков за индивидуальные существа; ибо, как я сказал, и те и другие имеют одинаковое значение по отношению к являющейся в них идее. В разнообразных формах человеческой жизни и беспрерывной смене событий он увидит постоянное и существенное только в идее, в которой воля к жизни находит свою самую совершенную объектность и которая показывает свои различные стороны в свойствах, страстях, заблуждениях и достоинствах человеческого рода — в своекорыстии, ненависти, любви, робости, отваге, легкомыслии, тупости, лукавстве, остроумии, гениальности и т. п.; все это, соединяясь и отлагаясь в тысячах разнородных образов (индивидов), беспрерывно создает великую и малую историю мира, причем по существу безразлично, что приводит все это в движение — орехи или венцы. Он найдет, наконец, что мир похож на драмы Гоцци, где постоянно являются одни и те же лица, с одинаковыми замыслами и одинаковой судьбой; конечно, мотивы и события в каждой пьесе другие, но дух событий один и тот же, действующие лица одной пьесы ничего не знают о событиях в другой, хотя сами участвовали в ней; вот почему после всех опытов прежних пьес Панталоне не стал проворнее или щедрее, Тартания — совестливее, Бригелла — смелее и Коломбина — скромнее.
Если бы нам дано было когда-нибудь ясными очами проникнуть в царство возможного и обозреть все цепи причин и действий, если бы явился дух земли и показал нам образы прекраснейших личностей, просветителей мира и героев, которых случай погубил до начала их подвигов; если бы он показал затем великие события, которые изменили бы мировую историю и повлекли бы за собою периоды высшей культуры и просвещения, но которые при своем зарождении были заглушены какой-нибудь слепой случайностью, ничтожнейшим происшествием; ес-
163
ли бы, наконец, он показал нам замечательные силы великих индивидов, которые оплодотворили бы целые века, но в заблуждении и страсти или под гнетом необходимости были бесполезно растрачены на недостойные и бесплодные дела либо же просто пущены на ветер, — если бы мы увидели все это, мы содрогнулись бы и возопили о погибших сокровищах целых веков. Но дух земли улыбнулся бы и сказал: «Источник, из которого текут индивиды и их силы, неисчерпаем и бесконечен, как время и пространство, ибо они, подобно этим формам всех явлений, тоже суть лишь явление, видимость воли. Никакая конечная мера не может исчерпать этого бесконечного источника; оттого каждому событию или созданию, заглушённому в своем зародыше, открыта для возвращения ничем не ущемленная бесконечность. В этом мире явлений так же невозможна истинная утрата, как и истинное приобретение. Существует исключительно воля: она — вещь в себе, она — источник всех явлений. Ее самопознание и опирающееся на него самоутверждение или самоотрицание — вот единственное событие в себе»*.
§ 36
За нитью событий следит история: она прагматична, поскольку выводит их по закону мотивации, а этот закон определяет являющуюся волю там, где она освещена познанием. На низших ступенях объектности воли, там, где она действует еще без познания, законы изменения ее явлений рассматриваются естествознанием в качестве этиологии, а постоянное в этих законах — в качестве морфологии, которая облегчает себе свою почти бесконечную задачу с помощью понятий, схватывая общее, чтобы выводить из него частное. Наконец, просто формы, в которых для познания субъекта как индивида идеи являются развернутыми во множественность, т. е. время и пространство, рассматривает математика. Все эти знания, носящие общее имя науки, следуют, таким образом, закону основания в его различных формах, и их предметом остаются явление, его законы, связь и возникающие отсюда отношения. Но какого же рода познание рассматривает то, что существует вне и независимо от всяких отношений, единственную подлинную сущность мира, истинное содержание его явлений, не подверженное никакому изменению и поэтому во все времена познаваемое с одинаковой истинностью, — словом, идеи, которые представляют собой непосредственную и адекватную объектность вещи в себе, воли?
Это — искусство, создание гения. Оно воспроизводит постигнутые чистым созерцанием вечные идеи, существенное и постоянное во всех явлениях мира, и в зависимости от материала, в котором оно их воспроизводит, это — изобразительное искусство, поэзия или музыка. Его единственный источник — познание идей, его единственная цель — передать это познание. В то время как наука, следуя за беспрерывным и изменчивым потоком четверояких оснований и следствий, после каж-
164
дой достигнутой цели идет все дальше и дальше и никогда не может обрести конечной цели, полного удовлетворения, как нельзя в беге достигнуть того пункта, где облака касаются горизонта, — искусство, напротив, всегда находится у цели. Ибо оно вырывает объект своего созерцания из мирового потока и ставит его изолированно перед собой, и это отдельное явление, которое в жизненном потоке было исчезающее малой частицей, становится для искусства представителем целого, эквивалентом бесконечно многого в пространстве и времени. Оттого искусство и останавливается на этой частности: оно задерживает колесо времени9, отношения исчезают перед ним, только существенное, идея — вот его объект.
Мы можем поэтому прямо определить искусство как способ созерцания вещей независимо от закона основания, в противоположность такому рассмотрению вещей, которое придерживается последнего и составляет путь опыта и науки. Второй из названных способов рассмотрения подобен бесконечной, горизонтально бегущей линии, а первый — пересекающей ее в любом пункте перпендикулярной. Тот, что следует закону основания, — это разумный способ созерцания, который только и имеет значение и силу как в практической жизни, так и в науке; тот же, который отклоняется от содержания названного закона, — это гениальный способ созерцания, единственно имеющий значение и силу в искусстве. На первой точке зрения стоял Аристотель, на второй, в целом, — Платон.
Первый способ подобен могучему урагану, который мчится без начала и цели, все сгибает, колеблет и уносит с собою; второй — спокойному лучу солнца, который пересекает путь этого урагана, им совершенно не затронутый. Первый подобен бесчисленным летящим брызгам водопада, которые, постоянно сменяясь, не успокаиваются ни на миг; второй — радуге, которая тихо покоится на этой бушующей стихии.
Идеи постигаются только путем описанного выше чистого созерцания, которое совершенно растворяется в объекте, и сущность гения состоит именно в преобладающей способности к такому созерцанию; и так как последнее требует полного забвения собственной личности и ее интересов, то гениальность есть не что иное, как полнейшая объективность, т. е. объективное направление духа в противоположность субъективному, которое обращено к собственной личности, т. е. воле. Поэтому гениальность — это способность пребывать в чистом созерцании, теряться в нем и освобождать познание, существующее первоначально только для служения воле, избавлять его от этого служения, т. е. совершенно упускать из виду свои интересы, свои желания и цели, полностью отрешаться на время от своей личности, оставаясь только чистым познающим субъектом, ясным оком мира, — и это не на мгновения, а с таким постоянством и с такою обдуманностью, какие необходимы, чтобы воспроизвести постигнутое сознательным искусством и «то, что предносится в зыбком явленьи, в устойчивой мысли навек закрепить».
Для того чтобы в индивиде проявился гений, он как будто должен был получить в удел такую меру познавательной способности, которая далеко превосходит то, что требуется для служения индивидуальной воле; и этот высвободившийся избыток познания становится здесь без-
165
вольным субъектом, ясным зеркалом сущности мира. Отсюда объясняется живое беспокойство гениальных индивидов: действительность редко может их удовлетворить, потому что она не наполняет их сознания; это и сообщает им неутомимую стремительность, беспрерывное искание новых и достойных размышления объектов, почти всегда неудовлетворенное тяготение к себе подобным, к равным себе существам, с которыми они могли бы иметь общение, между тем как обыкновенный сын земли, совершенно наполненный и удовлетворенный обычной действительностью, растворяется в ней, всюду находя себе подобных, испытывает тот особый комфорт повседневной жизни, в котором отказано гению.
Существенным элементом гениальности признавали фантазию и даже иногда отождествляли ее с нею: первое — правильно, второе — нет. Так как объекты гения как такового — это вечные идеи, пребывающие формы мира и всех его явлений, и так как познание идей необходимо имеет созерцательный, а не абстрактный характер, то познание гения было бы ограничено идеями действительно предстоящих его личности объектов и зависело бы от сцепления обстоятельств, доставляющих ему эти идеи, если бы фантазия не расширяла его горизонт далеко за действительные пределы его личного опыта и не давала ему возможности из того малого, что проникло в его наличную апперцепцию10, созидать все остальное и таким образом пропустить перед собою почти все возможные картины жизни. К тому же действительные объекты почти всегда являются лишь очень несовершенными экземплярами выражающейся в них идеи: вот почему гений нуждается в фантазии, чтобы видеть в вещах не то, что природа действительно создала, а то, что она пыталась создать, но чего не достигла вследствие упомянутой в предыдущей книге междоусобной борьбы ее форм. К этому мы вернемся в дальнейшем при рассмотрении скульптуры. Таким образом, фантазия расширяет кругозор гения за пределы действительно предстоящих его личности объектов — как в качественном, так и в количественном отношении. Вот почему необыкновенная сила фантазии является спутницей и даже условием гениальности, но сама она еще не свидетельствует о последней: напротив, даже в высшей степени негениальные люди могут обладать большой фантазией. Ибо подобно тому как действительный объект можно рассматривать двумя совершенно различными способами: чисто объективно, гениально, постигая его идею, или же обычно, в его подчиненных закону основания отношениях к другим объектам и к собственной нашей воле, — так тем же двояким способом можно созерцать и образ фантазии: в первом случае он выступает как средство к познанию идеи, передача которой и есть художественное произведение; во втором случае образ фантазии употребляют для построения воздушных замков, льстящих себялюбию и прихоти, доставляющих мимолетный мираж и восторг; при этом в соединенных таким путем фантастических образах всегда познаются, собственно, только их отношения. Кто предается этой игре, тот фантазер: картины, которые тешат его в одиночестве, он будет смешивать с действительностью и потому станет для нее непригодным; быть может, он опишет игру своей фантазии, как это обыкновенно бывает во всяких романах, которые забавляют ему подобных и большую публику, ибо читатели воображают себя на месте героев и находят описание очень «милым».
166
Обыкновенный человек, этот фабричный товар природы, какой она ежедневно производит тысячами, как я уже сказал, совершенно не способен на незаинтересованное в полном смысле слова наблюдение, по крайней мере сколько-нибудь продолжительное, что и составляет истинную созерцательность: он может направлять свое внимание на вещи лишь постольку, поскольку они имеют какое-нибудь, хотя бы и очень косвенное, отношение к его воле. Так как для этого требуется познание отношений и достаточно абстрактного понятия вещи (а по большей части оно даже пригоднее всего), то обыкновенный человек не останавливается долго на чистом созерцании, не пригвождает надолго своего взора к одному предмету, но для всего, что ему встречается, ищет поскорее понятие, под которое можно было бы все это подвести, как ленивый ищет стул, и затем предмет больше уже не интересует его. Вот почему он так быстро управляется со всем: произведениями искусства, прекрасными созданиями природы и многозначительным зрелищем жизни во всех ее сценах, повсюду. Но ему некогда останавливаться: он ищет в жизни только свою дорогу, в крайнем случае, еще и все то, что может когда-нибудь стать его дорогой, т. е. топографические заметки в широком смысле этого слова; на созерцание же самой жизни как таковой он не теряет времени. Наоборот, познавательная сила гения в своем избытке на некоторое время освобождается от служения его воле, и гений останавливается на созерцании самой жизни, стремится в каждой вещи постигнуть ее идею, а не ее отношения к другим вещам; вот почему он часто не обращает внимания на свой собственный жизненный путь и потому в большинстве случаев проходит его довольно неискусно. Если для обыкновенного человека познание служит фонарем, который освещает ему путь, то для гения оно — солнце, озаряющее для него мир. Это великое различие в способе созерцания не преминет отразиться даже и на внешности обоих. Взор человека, в котором живет и действует гений, легко отличает его от других: живой и в то же время пристальный, он носит созерцательный характер, как это видно на изображениях немногих гениальных голов, которые время от времени среди бесчисленных миллионов создавала природа; напротив, во взоре других людей, если только он, как в большинстве случаев, не тупой или вялый, легко заметить настоящую противоположность созерцания — высматривание. Поэтому «гениальное выражение» головы состоит в том, что виден решительный перевес познания над желанием, так что здесь выражается познание без всякого отношения к воле, т. е. чистое познание. Наоборот, обычно же в голове преобладает выражение воли, и видно, что познание начинает здесь действовать, лишь следуя импульсам воли, и, значит, обращено просто на мотивы.
Так как гениальное познание, или познание идеи, не следует закону основания, а познание, которое ему следует, наделяет в жизни умом и разумностью и создает науки, то гениальные индивиды обременены недостатками, вытекающими из пренебрежения вторым из названных способов познания. Но здесь надо оговориться, что моя дальнейшая речь касается гениальных индивидов лишь постольку, поскольку и пока они действительно проникнуты гениальным способом познания, что бывает вовсе не в каждый момент их жизни, ибо великое, хотя и непроиз-
167
вольное напряжение, необходимое для безвольного восприятия идей, впоследствии неизбежно ослабевает, и возникают большие перерывы, когда эти гениальные личности становятся почти на один уровень с обыкновенными людьми как в своих преимуществах, так и в своих недостатках. Вот почему творчество гения искони признавали вдохновением и, как показывает само слово, в нем видели действие какого-то отличного от самого индивида сверхчеловеческого существа, которое овладевает им лишь периодически. Нерасположенность гениальных индивидов к тому, чтобы внимательно вникнуть в содержание закона основания, проявляется прежде всего по отношению к основанию бытия как нерасположенность к математике, рассматривающей самые общие формы явления, пространство и время (которые сами — лишь виды закона основания), и потому составляющей полную противоположность того созерцания, которое, отвлекаясь от всяких отношений, направлено только на содержание явления, на выражающуюся в нем идею. Кроме того, гения отталкивают и логические приемы математики, потому что они, закрывая путь к подлинному уразумению, не удовлетворяют, а предлагают лишь простую цепь умозаключений, по закону основания познания, и из всех духовных сил больше всего требуют памяти, чтобы постоянно иметь наготове все те прежние положения, на которые делаются ссылки. И опыт подтвердил, что великие гении искусства не обладают способностью к математике: никогда не было человека, который бы одновременно отличался в обеих сферах. Альфьери рассказывает, что он никогда не мог понять даже четвертой теоремы Евклида. Что касается Гёте, то неразумные противники его теории цветов вдоволь упрекали его в недостатке математических сведений, хотя здесь, где речь шла не об измерении и вычислении по гипотетическим данным, а о непосредственно рассудочном познании причины и действия, подобные упреки были до того нелепы и неуместны, что их авторы обнаружили этим, как и другими своими мидасовскими приговорами, полный недостаток способности суждения. То, что и теперь, почти через полвека после появления гетевской теории цветов, ньютоновские небылицы даже в Германии все еще невозбранно владеют кафедрами и публика продолжает совершенно серьезно толковать о семи однородных цветах и их различной преломляемости, некогда будет причислено к очень характерным интеллектуальным чертам человечества вообще и немцев в особенности.
Этой же указанной выше причиной объясняется и тот известный факт, что, наоборот, выдающиеся математики мало восприимчивы к произведениям искусства, — с особенной наивностью это выражено в известном анекдоте о том французском математике, который, прочитав «Ифигению» Расина, пожал плечами и спросил: «Qu’est-ce-que cela prouve?»* Далее, так как быстрое восприятие отношений по закону причинности и мотивации и составляет, собственно, практический ум, а гениальное познание не направлено на отношения, то умный, поскольку и пока он умен, не может быть гениальным, а гений, поскольку и покуда он гениален, не может быть умным. Наконец, наглядное познание вообще, в области которого исключительно находится идея,
168
прямо противоположно разумному, или абстрактному познанию, которым руководит закон основания. Как известно, гениальность редко встречается в союзе с преобладающей разумностью; напротив, гениальные индивиды часто подвержены сильным аффектам и неразумным страстям. Причиной этого служит, однако, не слабость разума, но отчасти необычайная энергия воли, которую представляет собой гениальный индивид и которая выражается в стремительности всех волевых актов; отчасти же — преобладание наглядного чувственного и рассудочного познания над абстрактным, отсюда и решительная направленность на наглядное: оно производит на гения очень энергичное впечатление, которое до того затмевает бесцветные понятия, что уже не они, а это впечатление руководит поступками, отчего поступки и становятся неразумными; вот почему впечатление минуты так сильно действует на гениев, увлекая их к необдуманному, к аффекту, к страсти. Поэтому — да и вообще оттого, что их познание отчасти освободилось от служения воле — они в разговоре думают не столько о лице, с которым беседуют, сколько о предмете беседы, который живо предстает им; оттого они судят или рассказывают слишком объективно для собственного интереса и не обходят молчанием того, о чем благоразумнее было бы умолчать, и т. д. Поэтому, наконец, они склонны к монологам и вообще проявляют слабости, которые действительно приближают их к безумию. Часто отмечалось, что у гениальности и безумия есть такая грань, где они соприкасаются между собою и подчас переходят друг в друга, и даже поэтическое вдохновение признавалось видом безумия: Гораций (Оды III, 4) называет его amabilis insania*, и также «милым безумием» называет его Виланд во вступлении к «Оберону». Даже Аристотель, по свидетельству Сенеки[129] (De tranq. animi, 15, 16), сказал: «Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit»**. Платон в приведенном выше мифе о темной пещере («Государство», 7) выражает это так: кто вне пещеры лицезрел настоящий солнечный свет и действительно сущие вещи (идеи), не могут уже после этого видеть в пещере, потому что их глаза отвыкли от темноты; они не в состоянии уже хорошо различать силуэты и своими ошибками навлекают на себя насмешки других, никогда не выходивших из этой пещеры, от этих силуэтов. Точно так же в «Федре» он прямо говорит, что ни один истинный поэт не может обойтись без некоторой доли безумия и что всякий, кто в преходящих вещах познает вечные идеи, кажется безумцем. И Цицерон свидетельствует: «Negat enim, sine furore, Democritus, quemquam poetam magnum esse posse; quod idem dicit Plato (De divin. I, 37)»***. И наконец, Поп говорит:
Great wits to madness are
near allied,
And thin partitions do their bounds divide****.
169
Особенно поучителен в этом отношении «Торквато Тассо» Гёте, где перед нами изображено не только страдание, характерное мученичество гения как такового, но и его постепенный переход к безумию. Наконец, факт непосредственной близости между гениальностью и безумием подтверждается биографиями очень гениальных людей, например Руссо, Байрона, Альфьери, и анекдотами из жизни других. С другой стороны, я должен сказать, что при своем частом посещении сумасшедших домов я встречал отдельных субъектов с неоспоримо великими задатками, и их гениальность ясно просвечивала сквозь их безумие, которое, однако, получило решительное преобладание. Это не может быть случайным, потому что, с одной стороны, количество сумасшедших сравнительно очень мало, а с другой стороны, гениальный индивид представляет собой редкое явление, превосходящее всякую оценку, — величайшее исключение в природе; в этом можно убедиться, хотя бы сосчитав действительно великих гениев, которых создала вся образованная Европа в течение всей древности и новых веков и к которым надо причислить только тех, кто оставил творения, сохранившие вечную и непреходящую ценность для человечества, — сосчитав, говорю я, эти единицы и сравнив их число с теми 250 миллионами, которые, обновляясь каждые тридцать лет, постоянно живут в Европе. Я не скрою и того, что знал людей, — правда, не выдающейся, но несомненной духовной силы, — которые обнаруживали в то же время легкий оттенок помешательства. Отсюда следует, по-видимому, что каждое повышение интеллекта сверх обычного уровня уже располагает, как аномалия, к безумию. Постараюсь, однако, возможно короче выразить свое мнение о чисто интеллектуальной причине такого сродства между гениальностью и безумием, потому что это несомненно поможет уяснить подлинное существо гениальности, т. е. той способности духа, которая только и в состоянии творить истинные произведения искусства. Но для этого необходимо вкратце рассмотреть самое безумие*.
Насколько мне известно, до сих пор еще нет ясного и законченного воззрения на сущность безумия и не найдено верного и отчетливого понятия о том, чем, собственно, безумный отличается от нормального. Безумным нельзя отказать ни в разуме, ни в рассудке, потому что они говорят и понимают и часто делают очень правильные умозаключения; точно так же они, как правило, верно воспринимают настоящее и видят связь между причиной и действием. Видения, подобные лихорадочным фантазиям, не составляют обычного симптома безумия: бред искажает созерцание, безумие — мысли. Большей частью безумные вовсе не заблуждаются в познании непосредственно предстоящего: их бред относится всегда к отсутствующему и прошедшему и лишь через это — к связи последнего с настоящим. Поэтому, думается мне, болезнь особенно поражает у них память, хотя и не так, чтобы они совсем лишились ее, ибо многие из них помнят немало наизусть и иногда узнают лиц, которых они давно не видели, нет, память у них поражается в том смысле, что нить ее рвется, рушится ее стройная связь и становится невозможным равномерное связное воспоминание прошлого. Отдель-
170
ные сцены из этого прошлого, как и отдельные моменты настоящего, сохраняются, однако в воспоминании безумных существуют пробелы, которые они заполняют фикциями: последние либо остаются неизменными и превращаются в идефикс, и в таком случае возникает навязчивое помешательство, меланхолия; либо они каждый раз меняются — мгновенные причуды, и тогда это называется слабоумием, fatuitas. Вот почему, когда безумный поступает в сумасшедший дом, у него так трудно допытаться о его прежней жизни. В его памяти действительность все более и более смешивается с вымыслом. Хотя непосредственно предстоящее безумные познают верно, оно искажается у них вымышленной связью с воображаемым прошлым; поэтому они принимают себя и других за лиц, существующих лишь в их вымышленном прошлом, некоторых знакомых они вообще не узнают и, имея верные представления об отдельных моментах предстоящего, совершенно ложно судят об их отношениях к прошлому. Если безумие достигает высокой степени, то наступает утрата памяти, отчего безумец теряет всякую способность сообразоваться с чем-нибудь отсутствующим или прошлым: он подчиняется лишь мгновенной прихоти, в связи с фикциями, наполняющими в его голове прошлое, и тогда мы ни на мгновение не застрахованы от насилия и убийства с его стороны, если только постоянно не показывать ему своей власти.
Познание безумного имеет с познанием животного то общее, что оба они ограничены настоящим. Но отличает их следующее: животное не обладает, собственно, никаким представлением о прошлом как таковом, хотя последнее действует на него через посредство привычки, так что собака, например, узнает своего прежнего хозяина даже через несколько лет, т. е. при взгляде на него получает привычное впечатление, но она все-таки не хранит воспоминания об истекшем промежутке времени. Напротив, безумец всегда носит в своем разуме прошлое in abstracto, но прошлое мнимое, существующее только для него, и так бывает с ним либо всегда, либо только в отдельные моменты; влияние этого мнимого прошлого мешает ему пользоваться и верно понятым настоящим, между тем как животному это доступно. То, что сильное душевное страдание, неожиданные и ужасные события часто ведут к безумию, я объясняю себе следующим образом. Каждое подобное страдание как действительное событие всегда ограничено настоящим, т. е. оно проходит и потому еще не безмерно велико. Невыносимо тяжелым оно делается лишь тогда, когда становится постоянной мукой; в качестве же таковой оно опять-таки есть только мысль и потому находится в памяти. И вот когда такое горе, такое болезненное сознание или воспоминание столь мучительно, что становится совершенно невыносимым и человек должен изнемочь от него, тогда угнетенная природа хватается за безумие как за последнее средство к спасению жизни: столь сильно терзаемый дух как бы разрывает нить своей памяти, заполняет пробелы фикциями и таким образом спасается в безумие от душевной боли, превосходящей его силы, подобно тому как отнимают пораженный гангреной член и заменяют его деревянным. Как пример этого можно было бы привести Неистового Аякса, Короля Лира и Офелию, потому что создания истинного гения, на которые как на общеизвестные только и можно здесь
171
ссылаться, должны быть поставлены по своему правдоподобию на один уровень с действительными лицами; впрочем, и реальный опыт часто показывает здесь совершенно то же самое. Слабой аналогией этого перехода от страдания к безумию является то, что мы все как бы механически отгоняем от себя громким возгласом или движением какое-нибудь внезапное мучительное воспоминание, чтобы отвлечься от него и заставить себя рассеяться.
И вот, если безумец верно познает отдельные моменты настоящего, как и отдельные моменты прошлого, но неверно познает их связь, их отношения и поэтому заблуждается и бредит, то в этом и состоит точка его соприкосновения с гениальным индивидом: ведь и последний, пренебрегая совершающимися по закону основания познанием отношений, чтобы узреть и отыскать в вещах только их идеи и постигнуть их наглядно выражающуюся подлинную сущность, по отношению к которой одна вещь является представительницей своего рода и потому, как говорит Гёте, один случай сходит за тысячи, ведь и гений через это упускает из виду познание связи вещей; отдельный объект его созерцания или необычайно живо воспринимаемое им настоящее предстают перед ним в столь ярком свете, что от этого как бы остаются в тени прочие звенья цепи, к которой они принадлежат, и отсюда возникают феномены, сходные с феноменами безумия, как это было признано с давних пор. То, что в отдельной наличной вещи несовершенно и ослаблено модификациями, созерцанием гения возводится к своей идее, к совершенству; поэтому он видит повсюду крайности, и оттого его поступки тоже доходят до крайностей: он не различает должной меры, ему недостает трезвости взгляда, и в результате получается то, о чем говорилось выше. Он в совершенстве познает идеи, но не индивиды Поэтому и заметили, что поэт может глубоко и основательно знать человека, но очень плохо людей: его легко обмануть, и он становится игрушкой в руках хитреца*.
§ 37
Хотя, согласно нашему взгляду, гений заключается в способности познавать независимо от закона основания и, следовательно, вместо отдельных вещей, существующих только в отношениях, постигать их идеи и соответственно самому быть коррелатом идеи, т. е. уже не индивидом, а чистым субъектом познания, однако эта способность в меньшей и различной степени должна быть присуща всем людям, потому что иначе они так же не были бы способны наслаждаться произведениями искусства, как не способны создавать их, и вообще не обладали бы никакой восприимчивостью к прекрасному и возвышенному, и даже сами слова эти не могли бы иметь для них смысла. Мы должны поэтому предположить, что у всех людей, исключая разве совершенно неспособных к эстетическому наслаждению, есть некоторый дар познавать в вещах их идеи и тем самым отрешаться на мгновение от собственной личности.
172
Гений превосходит их только значительно более высокой степенью и большей устойчивостью такого познания, что и позволяет ему сохранять при этом ту обдуманность, которая необходима для того, чтобы воспроизвести познанное в свободном творении: такое воспроизведение и есть создание искусства. С его помощью он передает постигнутую идею другим. Она при этом остается неизменно той же самой: вот почему эстетическое наслаждение по существу одинаково, вызывает ли его произведение искусства или непосредственное созерцание природы и жизни. Произведение искусства — это лишь средство для облегчения того познания, в котором заключается эстетическое наслаждение. То, что в художественном произведении идея являет себя нам с большей легкостью, чем непосредственно в природе и действительности, объясняется исключительно тем, что художник, который познал только идею, а не действительность, в своем творении тоже воспроизводит только чистую идею, выделяет ее из действительности, устраняя всякие побочные и случайные элементы. Художник заставляет нас смотреть на мир его глазами. То, что у него такие глаза, что он познает сущность вещей вне всяких отношений, — это и есть прирожденный дар гения; но то, что он способен разделить с нами этот дар, дать нам свои глаза, — это приобретенная техника искусства. Поэтому, изложив выше в самых общих и основных чертах внутреннюю сущность эстетического познания, в дальнейшем, более обстоятельном философском рассмотрении прекрасного и возвышенного я буду объяснять их одновременно и в природе, и в искусстве, уже не разделяя последних. Что происходит в человеке, когда его трогает прекрасное, когда его волнует возвышенное, — это мы рассмотрим прежде всего; а черпает ли он это волнение непосредственно из природы, из жизни или же приобщается к нему только при посредстве искусства — это несущественное, только внешнее различие.
§ 38
В эстетическом способе созерцания мы нашли два нераздельных элемента: познание объекта не как отдельной вещи, а как платоновской идеи, т. е. пребывающей формы всего данного рода вещей, и самосознание познающего не как индивида, а как чистого, безвольного субъекта познания. Условием, при котором оба эти составные элемента выступают вместе, мы признали отрешение от способа познания, связанного с законом основания, способа, который, однако, только и пригоден для служения воле и для науки. Мы увидим также, что и наслаждение, вызываемое созерцанием красоты, проистекает из этих двух элементов, и притом преимущественно из одного или из другого из них, в зависимости от того, каков предмет эстетического созерцания.
Всякое желание возникает из потребности, т. е. из нужды, т. е. из страдания. Последнее прекращается с удовлетворением, и все-таки на одно удовлетворенное желание остается, по крайней мере, десять отвергнутых, и, кроме того, стремление продолжительно, требования бесконечны, удовлетворение же кратковременно и скупо отмерено. Но даже и окончательное удовлетворение — только мнимое: исполнившееся же-
173
лание сейчас же уступает место новому; первое — это осознанное, а последнее — еще не осознанное заблуждение. Длительного, уже не меняющегося удовлетворения не может дать ни один достигнутый объект желания; напротив, он всегда похож на подаяние, которое бросают нищему и которое сегодня поддерживает его жизнь, чтобы продлить его муки до завтра. Оттого, пока наше сознание полно нашей воли, пока мы отдаемся порыву желаний с его вечной надеждой и страхом, пока мы — субъект желания, никогда не будет у нас ни длительного счастья, ни покоя. Ищем мы или бежим, боимся несчастья или стремимся к наслаждению — это по существу безразлично: забота о вечно требовательной воле, все равно в каком виде, беспрерывно наполняет и волнует сознание, а без покоя совершенно невозможно истинное благополучие. Так субъект желания вечно прикован к вертящемуся колесу Иксиона, постоянно черпает решетом Данаид, — вечно жаждущий Тантал12.
Но когда внешний повод или внутреннее настроение внезапно исторгают нас из бесконечного потока желаний, отрывают познание от рабского служения воле и мысль не обращена уже на мотивы желания, а воспринимает вещи независимо от их связи с волей, т. е. созерцает их бескорыстно, без субъективности, чисто объективно, всецело погружаясь в них, поскольку они суть представления, а не мотивы, — тогда сразу и сам собою наступает покой, которого мы вечно искали и который вечно ускользал от нас на первоначальном пути — пути желания, и нам становится хорошо. Мы испытываем то безболезненное состояние, которое Эпикур славил как высшее благо и состояние богов13, ибо в такие мгновения мы сбрасываем с себя унизительное иго воли, празднуем субботу каторжной работы желания, и колесо Иксиона останавливается.
Но именно такое состояние я и описал выше как необходимое для познания идеи, как чистое созерцание: мы растворяемся в нем, теряемся в объекте, забываем всякую индивидуальность, отрешаемся от познания, идущего вслед за законом основания и воспринимающего только отношения; и при этом, одновременно и нерасторжимо, созерцаемая единичная вещь возвышается до идеи своего рода, а познающий индивид — до чистого субъекта безвольного познания, и оба как таковые уже находятся вне потока времени и всяких других отношений. Тогда уже безразлично, смотреть на заход солнца из темницы или из чертога.
Внутреннее настроение, перевес сознания над желанием может вызывать такое состояние в любой обстановке. Это доказывают нам те замечательные нидерландские художники, которые обращали такое чисто объективное созерцание на самые незначительные предметы и в своих натюрмортах воздвигли долговечный памятник своей объективности и душевному покою: зритель не может без умиления созерцать эти картины, потому что они воскрешают перед ним то спокойное, мирное, безвольное настроение художника, которое было необходимо, чтобы предаться такому объективному созерцанию столь незначительных вещей, так внимательно рассмотреть их и так обдуманно воспроизвести это созерцание. И так как подобная картина склоняет и зрителя к участию в этом настроении, то его умиление часто еще усиливается контрастом собственного душевного склада, беспокойного, волнуемого сильными желаниями. В том же духе художники ландшафтов, особенно
174
Рейсдал, часто писали в высшей степени незначительные виды — и производили то же впечатление, даже еще более отрадное.
Такого результата достигает только внутренняя сила художественного духа; но это чисто объективное настроение становится доступнее и встречает себе внешнюю поддержку благодаря окружающим объектам, изобилию красот природы, которые манят к созерцанию, сами напрашиваются на него. Когда природа внезапно раскрывается перед нашим взором, ей почти всегда удается хотя бы на мгновение исторгнуть нас из нашей субъективности, из рабского служения воле и погрузить в состояние чистого познания. Оттого-то человек, даже угнетенный страстями, нуждой и заботой, в одном свободном взгляде на природу нежданно находит себе облегчение, бодрость и силу: буря страстей, порыв желаний и страха и вся мука хотения тотчас укрощаются каким-то чудом. Ибо в тот миг, когда, оторванные от желания, мы отдаемся чистому безвольному познанию, мы как бы вступаем в другой мир, где нет уже ничего того, что волнует нашу волю и так сильно потрясает нас. Освобожденное познание возносит нас так же далеко и высоко над всем этим, как сон и сновидение: исчезают счастье и несчастье, мы уже не индивид, он забыт, мы только чистый субъект познания, единое мировое око, которое смотрит из всех познающих существ, но исключительно в человеке может совершенно освободиться от служения воле, и от этого настолько уничтожается всякое различие индивидуальности, что тогда все равно, принадлежит это созерцающее око могущественному королю или нищему. Ибо эту границу не преступают ни счастье, ни горе. Столь близко всегда лежит к нам та область, где мы вполне отрешаемся от всего нашего горя, но у кого хватит силы долго оставаться в ней? Как только в сознание снова проникает какое-либо отношение этих чисто созерцаемых объектов к нашей воле и личности, очарованию наступает конец: мы опять погружаемся в то познание, где царит закон основания, мы познаем уже не идею, а только единичную вещь, звено цепи, к которой принадлежим и мы сами, и мы снова отданы всем своим горестям. Большинство людей, совершенно не обладая объективностью, т. е. гениальностью, почти всегда пребывают в таком положении. Вот почему они неохотно остаются наедине с природой — они нуждаются в обществе, по крайней мере, в книге. Ибо их познание не прекращает своего служения воле, поэтому они ищут в предметах хоть какого-нибудь отношения к своей воле, а все, что не имеет такого отношения, неизменно вызывает в глубине их души, словно генерал-бас, безутешный возглас: «От этого мне нет пользы»; поэтому в одиночестве даже прекраснейшее окружение получает для них пустынный, мрачный, чуждый и враждебный вид.
Наконец, то же блаженство безвольного созерцания распространяет свои дивные чары и на прошлое и отдаленное, представляя их благодаря самообману в приукрашенном виде. Ибо оживляя в нашей памяти давно минувшие дни, проведенные нами где-нибудь далеко, фантазия воскрешает только объекты, а не субъект воли, который и тогда, как и теперь, влачил за собой свои неисцелимые страдания; но мы забыли их, ибо с тех пор они уступили свое место другим. И вот объективное созерцание действует в воспоминании точно так же, как действовало бы
175
и в настоящем, если бы только мы были способны отдаться ему безвольно. От этого и происходит, что, особенно в те моменты, когда нас необычайно гнетет какое-нибудь горе, неожиданное воспоминание о прошлом и отдаленном проносится перед нами, словно потерянный рай. Лишь объективное, не индивидуально-субъективное воскрешает фантазия, и мы воображаем, что это объективное предстояло тогда нам столь же чистым, не омраченным никаким отношением к воле, как стоит теперь его образ в нашей фантазии; между тем отношение объектов к нашему желанию, наверное, так же мучило нас тогда, как мучит теперь. И предстоящие объекты могут так же освобождать нас от всяких страданий, как и отдаленные, если только мы способны подняться к чисто объективному созерцанию их и вызвать иллюзию, что существуют одни лишь эти объекты, а не мы сами; тогда, отрешенные от своего страдающего я, мы, как чистый субъект познания, сливаемся воедино с этими объектами, и, как им чуждо наше горе, так, в подобные мгновения, оно чуждо и нам самим. Тогда остается только мир как представление, а мир как воля исчезает.
Всеми этими соображениями я хотел показать, какова по природе и сколь велика та доля, которую имеет в эстетическом наслаждении его субъективное условие: освобождение познания от служения воле, забвение собственного я в качестве индивида, возвышение сознания до чистого, безвольного, вневременного, независимого от всяких отношений субъекта познания. С этой субъективной стороной эстетического созерцания всегда одновременно выступает как необходимый коррелят и объективная сторона — интуитивное восприятие платоновской идеи. Но прежде чем обратиться к более подробному рассмотрению этой второй стороны и к роли искусства по отношению к ней, будет целесообразнее еще немного остановиться на субъективной стороне эстетического наслаждения, чтобы закончить ее рассмотрение анализом только от нее зависящего и вызываемого ее модификацией впечатления возвышенного. А затем уже наше исследование эстетического наслаждения получит полную законченность благодаря рассмотрению объективной его стороны.
Изложенное до сих пор надо дополнить еще следующими замечаниями. Свет — это самое отрадное из всех вещей: он стал символом всего доброго и благодатного. Во всех религиях он означает вечное спасение, а тьма — проклятие. Ормузд обитает в чистейшем свете, Ариман — в вечной ночи14. Дантов рай имеет почти такой же вид, как лондонский вокзал: все блаженные духи кажутся светящимися точками, которые соединяются в правильные фигуры. Отсутствие света непосредственно наводит на нас грусть, его возвращение дает нам счастье; цвета непосредственно возбуждают живую радость, достигающую высшей степени в случае их прозрачности. Все это происходит только от того, что свет является коррелятом и условием самого совершенного наглядного способа познания — единственного, непосредственно совсем не аффинирующего воли. Ибо зрение, в противоположность другим чувствам, само по себе, непосредственно и своим чувственным действием не способно возбуждать в органе приятность или неприятность ощущения, т. е. оно не имеет непосредственной связи с волей; только зарождающе-
176
еся в рассудке созерцание может иметь такую связь, заключающуюся тогда в отношении объекта к воле. Уже применительно к слуху это обстоит иначе: звуки могут непосредственно возбуждать страдание и, с другой стороны, непосредственно, без отношения к гармонии или мелодии, могут быть чувственно приятны. Осязание как тождественное с общим чувством всего тела еще более подчинено этому непосредственному влиянию на волю, хотя и существуют прикосновения без боли и без удовольствия. Запахи же всегда приятны или неприятны, вкусы — еще более. Два последних чувства, таким образом, более всего приближаются к воле, поэтому они — самые неблагородные, и Кант назвал их субъективными чувствами.
Таким образом, радоваться свету — означает, собственно, радоваться объективной возможности самого чистого и совершенного наглядного познания, и эта радость объясняется тем, что чистое познание, свободное и отрешенное от всякого желания, в высшей степени радостно и уже как таковое имеет большую долю в эстетическом наслаждении. Это восприятие света объясняет также, почему мы считаем необычайно красивым отражение объектов в воде. Самый легкий, скорый и тончайший способ воздействия тел друг на друга, которому мы обязаны совершеннейшим и чистейшим из наших восприятий — действием отраженных световых лучей, способ этот масштабно предстает здесь нашему взору совершенно отчетливо, обозримо и полно, в причине и действии, отсюда — наш эстетический восторг от этого зрелища, который главной своей стороной коренится всецело в субъективном основании эстетического наслаждения и является восторгом от чистого познания и его путей*.
§ 39
Ко всем этим размышлениям, выдвигающим субъективный момент эстетического наслаждения, т. е. поскольку это наслаждение есть восторг чистого, наглядного познания как такового в противоположность воле, — к этим мыслям примыкает следующее, непосредственно с ними связанное объяснение того настроения, которое было названо чувством возвышенного.
Уже было замечено выше, что погрузиться в чистое созерцание легче всего тогда, когда предметы идут ему навстречу, т. е. своей разнообразной и вместе с тем определенной и отчетливой формой легко становятся представителями своих идей, — в этом и состоит красота в объективном смысле. Прекрасная природа преимущественно обладает этим свойством, и оттого даже самому нечувствительному человеку доставляет хотя бы мимолетное эстетическое наслаждение. Замечательно, что растительный мир особенно манит к эстетическому созерцанию и словно напрашивается на него; хочется даже сказать: такая отзывчивость растений связана с тем, что эти органические существа не служат сами непосредственным объектом познания, подобно животным организмам, и пото-
177
му нуждаются в чужом понятливом индивиде, чтобы из мира слепого желания перейти в мир представления; и они как бы тоскуют по такому переходу, чтобы хотя бы косвенно достигнуть того, чего непосредственно они лишены. Впрочем, я совершенно оставляю здесь эту рискованную и, быть может, граничащую с фантазией мысль, ибо только очень проникновенное и беззаветное созерцание природы может ее возбудить или оправдать*. И вот, пока эта отзывчивость природы, значительность и ясность ее форм, в которых нас пленяют индивидуализированные в них идеи, пока это переносит нас из подвластного воле познания одних лишь отношений в эстетическое созерцание и тем самым возвышает нас до безвольного субъекта познания, — до тех пор то, что действует на нас, есть прекрасное, а то, что возбуждается в нас, есть чувство красоты. Но если те же самые предметы, значимые образы которых манят нас к чистому созерцанию, если они находятся во враждебном отношении к человеческой воле вообще, как она выражается в своей объектности — человеческом теле, противоборствуют ей, грозят ей своим неодолимым превосходством или принижают ее до ничтожества своим неизмеримым величием, и если зритель тем не менее не обращает внимания на это надвигающееся враждебное отношение к его воле, а сознательно отворачивается от него, хотя воспринимает и сознает его; если он, насильно отрешаясь от своей воли и ее отношений и отдаваясь исключительно познанию, как чистый безвольный субъект спокойно созерцает эти страшные для воли предметы, воспринимая только их идею, чуждую какому-либо отношению, и потому охотно останавливается на их созерцании и этим возвышается над самим собою, над своей личностью, над своим желанием и всяким желанием вообще, — тогда его наполняет чувство возвышенного, он находится в состоянии подъема, а потому и предмет, который вызывает такое состояние, тоже называется возвышенным. Таким образом, чувство возвышенного отличается от чувства прекрасного следующим: в случае красоты чистое познание одерживает верх без борьбы, потому что красота объекта, т. е. его свойство, облегчающее познание его идеи, без сопротивления и потому незаметно устраняет из сознания волю и служащее ей познание отношений, обращая это сознание в чистый субъект познания, так что не остается даже воспоминания о воле; наоборот, в случае возвышенного это состояние чистого познания достигается только путем сознательного и насильственного отрешения от признанных неблагоприятными отношений этого объекта к воле, путем свободного и сознательного возвышения над волей и относящимся к ней познанием. Этого возвышения надо не только сознательно достигнуть, но и удержать его, и поэтому оно сопровождается постоянным воспоминанием о воле, но не о част-
178
ном, индивидуальном волении, каковы страх или желание чего-то, а о человеческом хотении вообще, поскольку оно находит себе общее выражение в своей объектности — человеческом теле. Стоит только реальному отдельному акту воли вступить в сознание в виде действительной личной беды и опасности со стороны предмета, и тотчас же взволнованная этим индивидуальная воля одержит верх, сделает невозможным покой созерцания, и впечатление возвышенного исчезнет, уступив место страху, под влиянием которого стремление индивида к спасению вытеснит всякую другую мысль.
Несколько примеров очень помогут уяснить эту теорию эстетически возвышенного и поставить ее вне всякого сомнения; вместе с тем они покажут, как различны степени чувства возвышенного. Ибо ввиду того, что последнее тождественно с чувством прекрасного в главном, т. е. в чистом безвольном познавании и неизбежно сопровождающем его познании идей, стоящих вне всякого отношения, определяемого законом основания, и отличается от него только одним дополнительным моментом — а именно тем, что субъект возвышается над осознанным им враждебным отношением созерцаемого объекта к воле вообще, то, в зависимости от того, характеризуется ли этот дополнительный момент силой, внятностью, настойчивостью и близостью или же слаб, далек и только намечен, возникает много степеней возвышенного и переходов от прекрасного к возвышенному. Я считаю более удобным в целях изложения показать сначала примеры этих переходов и вообще более слабых степеней впечатления возвышенного, хотя те, у кого эстетическая восприимчивость вообще не очень велика и фантазия не очень живая, поймут только дальнейшие примеры более высоких и более отчетливых степеней этого впечатления; пусть же такие читатели обратят внимание только на них, оставив в стороне предшествующие примеры весьма слабых степеней названного впечатления.
Подобно тому как человек в одно и то же время представляет собой неукротимый и слепой порыв желания (характеризуемый полюсом гениталий как своим фокусом) и вечный, свободный, светлый субъект чистого познания (характеризуемый полюсом мозга), так, в соответствии с этой противоположностью, солнце является одновременно источником света, условия для самого совершенного рода познания, и оттого источником самой радостной из вещей, и источником тепла, первого условия жизни, т. е. всякого проявления воли на ее высших ступенях. Поэтому то, что для воли есть тепло, то для познания — свет. Оттого свет составляет величайший алмаз в короне красоты и оказывает решительное влияние на познание каждой прекрасной вещи: его присутствие вообще служит непременным условием; его удачное распределение усиливает красоту самого прекрасного. Но особенно благоприятен он для усиления красоты в архитектуре; впрочем, он может сделать прекрасным даже самый незначительный предмет. И вот когда в суровую зиму, при общем оцепенении природы, мы видим, как лучи низкостоящего солнца, отражаемые каменными громадами, светят, но не греют, т. е. благоприятны только чистейшему роду познания, а не воле, то зрелище прекрасной игры света на этих громадах повергает нас в состояние чистого познания, как и всякая красота; однако это состояние легким напомина-
179
нием о недостатке тепла, приносимого этими же лучами, т. е. о недостатке живительного начала, требует здесь известного возвышения над интересами воли, содержит в себе тихий призыв к пребыванию в чистом познании, отрешенном от всякого желания, и потому является переходом от чувства прекрасного к чувству возвышенного. Это — самое слабое присутствие возвышенного в прекрасном, которое само выступает здесь лишь в небольшой степени[130]. Почти такой же слабый пример — следующий.
Перенесемся в уединенную местность с открытым горизонтом, где небо без единого облака, деревья и растения подымаются в совершенно неподвижном воздухе, где нет животных, нет людей, не колышутся воды, царит глубокая тишина. Такая обстановка словно призывает к серьезности, созерцанию, отрешенному от всякого желания с его нуждами, и уже одно это придает столь пустынной и глубоко безмятежной природе оттенок возвышенного. Ибо она не предлагает воле, нуждающейся в постоянном стремлении и достижении, никаких объектов, ни благоприятных, ни неблагоприятных, и потому остается только покой чистого созерцания; а кто на него не способен, того охватывает пустота не занятой воли, мучения скуки и стыд собственного ничтожества. Эта пустынность окружающего является мерой нашего интеллектуального достоинства, для которого вообще хорошим мерилом служит степень нашей способности переносить и любить уединение. Описанная обстановка дает пример возвышенного в слабой степени, потому что в ней к состоянию чистого познания в его покое и самодостаточности примешивается в виде контраста напоминание о зависимости и бедности воли, нуждающейся в постоянной суете. Это именно тот род возвышенного, которым славится зрелище бесконечных прерий в глубине Северной Америки[131].
Но представим себе теперь, что такая местность лишена даже растений, что кругом видны одни только голые скалы; тогда полное отсутствие всего органического, необходимого для нашего существования, уже наполнит нашу волю тревогой, и пустыня получит страшный характер; трагизм настроения усилится, подняться к чистому познанию можно будет только путем более глубокого отрешения от интереса воли, и если нами надолго овладеет состояние чистого познания, то отчетливо проявится чувство возвышенного[132].
В еще более высокой степени его может возбудить такая обстановка: бурное волнение природы; полумрак от грозных, черных туч; огромные, голые, нависшие скалы, которые, теснясь друг к другу, закрывают горизонт; шумные пенящиеся воды; совершенная пустыня; стоны ветра по ущельям. Наша зависимость, наша борьба с враждебной природой, наша воля, сломленная ею, теперь ясно выступают перед нами; но пока личная стесненность не одерживает верх и мы остаемся в эстетическом созерцании, до тех пор сквозь эту борьбу природы, сквозь этот образ сломленной воли проглядывает чистый субъект познания и спокойно, невозмутимо, безучастно (unconcerned) постигает идеи тех самых вещей, которые грозны и страшны для воли. В этом контрасте и заключается чувство возвышенного.
Впечатление становится еще сильнее, когда мы видим пред собою масштабную борьбу возмущенных сил природы, когда, при описанной обстановке, низвергающийся поток своим грохотом лишает нас возмож-
180
ности слышать собственный голос; или когда мы стоим у беспредельного моря, потрясаемого бурей: волны, огромные, как дома, подымаются и опускаются, всей своей силой разбиваясь о крутые скалы и высоко вздымая пену; воет буря, ревет море, молнии сверкают из черных туч, и раскаты грома заглушают бурю и море. Тогда в невозмутимом зрителе этой картины двойственность его сознания достигает предельной отчетливости: он чувствует себя индивидом, бренным явлением воли, которое может быть раздавлено малейшим ударом этих сил; он видит себя беспомощным перед этой могучей природой, подвластным ей, отданным на произвол случайности, исчезающим ничто перед исполинскими силами; и вместе с тем он чувствует себя вечным спокойным субъектом познания, который в качестве условия объекта является носителем всего этого мира, и страшная борьба природы есть лишь его представление, сам же он в спокойном восприятии идей свободен, чужд всякого желания и всякой нужды. Вот полное впечатление возвышенного; поводом для него здесь служит зрелище силы, грозящей индивиду гибелью и безмерно превосходящей его.
Совершенно иным образом возникает оно, если представить в пространстве и времени простую величину, перед неизмеримостью которой индивид ничтожен. Первый род возвышенного мы можем назвать динамическим, второй — математическим, сохраняя таким образом термины Канта и его правильную классификацию, хотя в истолковании внутренней сущности этого впечатления мы с ним вполне расходимся и не признаем здесь никакого участия ни моральных рефлексий, ни гипостазированных сущностей схоластической философии15.
Когда мы теряемся в размышлении о бесконечной огромности мира в пространстве и времени, когда мы думаем о прошедших и грядущих тысячелетиях или когда ночное небо действительно являет нашему взору бесчисленные миры и таким образом неизмеримость вселенной невольно проникает в наше сознание, тогда мы чувствуем себя ничтожно малыми, чувствуем, что как индивид, как одушевленное тело, как преходящее явление воли мы исчезаем, словно капля в океане, растворяемся в ничто. Но в то же время против такого призрака нашего собственного ничтожества, против этой неправды и невозможности подымается непосредственное сознание того, что все эти миры существуют только в нашем представлении, что они — модификации вечного субъекта чистого познания, того субъекта, которым мы осознаем себя, как только забываем о своей индивидуальности, и который есть необходимый, обусловливающий носитель всех миров и всех времен. Огромность мира, тревожившая нас раньше, теперь покоится в нас: наша зависимость от него уничтожается его зависимостью от нас. Все это, однако, не сразу становится предметом нашей рефлексии, а проявляется лишь как предчувствие того, что в известном смысле (разъясняемом только философией) мы едины с миром, и потому его неизмеримость не подавляет нас, а возвышает. Это — предчувствие того, что Упанишады Вед многократно выражают в столь различных формах, особенно в уже приведенном нами изречении: «Я есмъ все эти творения в совокупности, и, кроме меня, нет ничего» (Oupnek’hat, т. 1, с. 122). Это есть возвышение над собственным индивидом, чувство возвышенного.
181
Мы совершенно непосредственно воспринимаем математически-возвышенное уже благодаря какому-нибудь пространству, которое хотя и мало в сравнении с мирозданием, но тем, что оно непосредственно стало вполне обозримым для нас, действует на нас всеми тремя измерениями своей величины, достаточной для того, чтобы сделать почти бесконечно малыми размеры нашего собственного тела. Такого действия никогда не может произвести пространство открытое, ничего не дающее для восприятия: оно должно непосредственно восприниматься благодаря ограничениям во всех измерениях, — таков высокий и огромный свод, например, в римском храме Петра или в лондонском храме Павла. Чувство возвышенного рождается здесь от сознания исчезающей ничтожности нашего собственного тела перед величиной, которая, с другой стороны, сама лежит только в нашем представлении и носителем которой являемся мы в качестве познающего субъекта; другими словами, здесь, как и повсюду, это чувство возникает в силу контраста между незначительностью и зависимостью нашего я как индивида, как явления воли и нашим сознанием себя как чистого субъекта познания. Даже звездный небосвод, если смотреть на него без рефлексии, действует лишь наподобие каменного свода и действует не своей настоящей, а лишь кажущейся величиной.
Некоторые предметы нашего созерцания вызывают впечатление возвышенного тем, что благодаря как их пространственной величине, так и их глубокой древности, т. е. временной продолжительности, мы чувствуем себя рядом с ними ничтожно малыми и все же утопаем в блаженстве их созерцания; таковы высокие горы, египетские пирамиды, колоссальные руины далекой старины.
Наше объяснение возвышенного приложимо и к этической области, а именно к тому, что называют возвышенным характером. И он проистекает из того, что воля не возбуждается предметами, способными ее возбуждать, но и над ними берет верх познание. Человек с подобным характером будет смотреть на людей чисто объективно, а не ценить их по тем отношениям, которые они могли бы иметь к его воле; например, он будет замечать их недостатки, даже их ненависть и несправедливость к нему самому, но это не побудит его к ответной ненависти; он будет свидетелем их счастья, не чувствуя зависти, будет признавать их добрые качества, но без желания теснее сблизиться с ними, он будет любоваться красотой женщин без вожделения. Личное счастье или несчастье не будет сильно волновать его, он останется таким, каким Гамлет описывает Горацио:
for thou hast been
As one, in suffering all, that suffers nothing;
A man, that fortune's buffers and rewards
Hast ta'en with equal thanks etc.
(A. 3, sc. 2)*
182
Ибо в течение своей жизни и ее невзгод он меньше будет видеть свою индивидуальную участь, нежели жребий человечества вообще, и оттого он будет отвечать на это не столько страданием, сколько познанием.
§ 40
Так как противоположности объясняют одна другую, то здесь будет уместно заметить, что подлинной противоположностью возвышенного является нечто такое, что с первого взгляда вовсе не кажется таковым, а именно — привлекательное. Но я понимаю под этим то, что возбуждает волю, непосредственно предлагая ей удовлетворение, исполнение. Если чувство возвышенного проистекает из того, что какой-нибудь прямо неблагоприятный для воли предмет становится объектом чистого созерцания, поддерживаемого только постоянным отрешением от воли и возвышением над ее интересами (в чем и состоит возвышенность настроения), то привлекательное, наоборот, низводит зрителя из чистого созерцания, требуемого для каждого восприятия красоты, необходимо прельщая его волю непосредственно приятными ей вещами, отчего он перестает уже быть чистым субъектом познания, а становится нуждающимся и зависимым субъектом желания. Все прекрасное в веселом роде обыкновенно называют привлекательным, но это слишком широкое понятие, обусловленное недостатком правильного различения, и я не могу его одобрить и должен совершенно устранить его. В указанном же и разъясненном мною смысле я нахожу в области искусства только два рода привлекательного, и оба они его недостойны. Один из них, совсем низменный, — это нидерландские натюрморты, извращенным сюжетом которых служат съедобные вещи: такие обманчивые изображения неминуемо возбуждают аппетит, т. е. стремление воли, а оно кладет конец всякому эстетическому созерцанию объекта. Написанные плоды еще допустимы, так как они являются дальнейшим развитием цветка и своей формой и цветом представляют красивое создание природы, не возбуждая непременно мысли об их съедобности; но, к сожалению, часто встречаются изображенные с иллюзорной естественностью, сервированные и приготовленные кушанья — устрицы, сельди, омары, бутерброды, пиво, вино и т. п., что совсем не годится. В исторической живописи и скульптуре привлекательное заключается в обнаженных фигурах: их поза, неполное одеяние и самая манера изображения рассчитаны на то, чтобы вызвать у зрителя похоть, а этим тотчас же уничтожается чисто эстетическое созерцание, что противоречит цели искусства. Этот недостаток совершенно соответствует тому, что мы только что осудили у нидерландцев. От него почти всегда свободны античные произведения, при всей красоте и полной обнаженности фигур, потому что сам художник создавал их в чисто объективном духе, исполненном идеальной красоты, а не в субъективном духе презренного вожделения[133]. Таким образом, привлекательного в искусстве надо повсюду избегать.
Существует и отрицательно-привлекательное, которое еще менее допустимо, чем рассмотренное только что положительно-привлекательное: это — отвратительное. Как и собственно привлекательное, оно
183
пробуждает в зрителе волю и нарушает этим чисто эстетическое созерцание. Но оно вызывает сильное нежелание, отпор; оно пробуждает волю тем, что ставит перед ней предметы ее отвращения. Поэтому издавна было признано, что оно совершенно недопустимо в искусстве, тогда как безобразное, пока оно не отвратительно, может быть терпимо на своем месте, как мы увидим это ниже.
§ 41
Ход нашего изложения принудил нас включить здесь рассмотрение возвышенного, несмотря на то что мы успели исследовать прекрасное лишь наполовину, только с одной его субъективной стороны. Но дело в том, что лишь особая модификация этой субъективной стороны отличает возвышенное от прекрасного. А именно: возникает ли состояние чистого безвольного познания, предполагаемое и требуемое всяким эстетическим созерцанием, как бы само собою, побуждаемое к этому объектом, без сопротивления, просто благодаря исчезновению воли из сознания, или же его надо еще достигнуть свободным, сознательным возвышением над волей, к которой сам созерцаемый предмет находится в неблагоприятном, враждебном отношении, так что углубиться в него значило бы нарушить созерцание, — вот в чем состоит различие между прекрасным и возвышенным. Они несущественно различаются между собой по объекту; ибо во всяком случае объект эстетического созерцания есть не отдельная вещь, но стремящаяся в ней к раскрытию идея, т. е. адекватная объектность воли на определенной ступени; ее необходимый и, как и она сама, свободный от власти закона основания коррелят есть чистый субъект познания, подобно тому как коррелят отдельной вещи есть познающий индивид, причем и вещь, и индивид находятся в области закона основания.
Называя какой-нибудь предмет прекрасным, мы выражаем этим, что он есть объект нашего эстетического созерцания. Это имеет двойной смысл: во-первых, тот, что зрелище данного предмета делает нас объективными, что, другими словами, созерцая его, мы сознаем себя уже не индивидом, а чистым безвольным субъектом познания; во-вторых, тот, что мы познаем в предмете не отдельную вещь, а идею, что возможно лишь постольку, поскольку наше созерцание предмета не подчинено закону основания, не следует за отношением предмета к чему-нибудь вне его самого (такое отношение в конце концов всегда связано с отношениями к нашей воле), а покоится на самом объекте. Ибо идея и чистый субъект познания как необходимые корреляты всегда вступают в сознание одновременно, и при этом вступлении тотчас же исчезает всякое временное различие, так как и эта идея, и этот субъект совершенно чужды закону основания во всех его видах и лежат вне устанавливаемых им отношений, подобно радуге и солнцу, не причастных вечному движению и смене падающих капель. Поэтому, если я смотрю на дерево эстетически, т. е. глазами художника, и, следовательно, познаю не его, а его идею, то безразлично, стоит ли передо мной именно это дерево или же его за тысячу лет расцветавший предок; и так же безразлично,
184
является ли зритель именно этим или же каким-нибудь другим, когда-либо и где-либо живущим индивидом: вместе с законом основания исчезли отдельная вещь и познающий индивид, и не осталось ничего, кроме идеи и чистого субъекта познания, которые вместе составляют адекватную объективность воли на данной ступени. И не только от времени, но и от пространства отрешается идея: ибо не предносящийся мне пространственный образ, но его выражение, чистый смысл, его сокровенная сущность, которая раскрывается предо мною и меня пленяет, — вот что, собственно, есть идея и что может оставаться совершенно тем же самым, как бы ни было велико различие пространственных отношений образа.
И вот, так как, с одной стороны, всякая наличная вещь может рассматриваться чисто объективно и вне всяких отношений; так как, далее, с другой стороны, в каждой вещи является воля на известной ступени своей объективности и вещь поэтому служит выражением идеи, то всякая вещь прекрасна.
То, что и самое незначительное может быть предметом чисто объективного и безвольного созерцания и тем свидетельствовать о своей красоте, доказывают уже упомянутые в этом отношении (§ 38) нидерландские натюрморты. Одно же бывает прекраснее, чем другое, тем, что облегчает чисто объективное созерцание, идет ему навстречу, даже как бы вынуждает его, — и тогда мы называем такую вещь весьма прекрасной. Эта особенная красота предмета состоит отчасти в том, что как отдельная вещь он весьма отчетливым и ясно определенным, безусловно значительным соотношением своих частей ясно выражает идею своего рода и соединенной в нем, предмете, полнотою всех возможных для этого рода проявлений совершенно раскрывает идею последнего, так что крайне облегчает зрителю переход от отдельной вещи к идее и этим самым легко вызывает состояние чистой созерцательности; отчасти же преимущество особенной красоты объекта заключается в том, что сама идея, которая нас пленяет в нем, служит высокой ступенью объектности воли и потому крайне выразительна и многосодержательна. Вот почему человек прекрасен преимущественно перед всем другим, и раскрытие его существа составляет высшую цель искусства. Человеческий облик и человеческое выражение — самый значительный объект изобразительного искусства, как человеческие действия — самый значительный объект поэзии.
Но и каждая вещь обладает своей особой красотой, — не только все органическое и проявляющееся в единстве какой-нибудь индивидуальности, но и все неорганическое, бесформенное, даже всякая поделка. Ибо все они раскрывают идеи, в которых объективируется воля на низших ступенях; они издают как бы самые низкие, замирающие басовые тоны природы. Тяжесть, инерция, текучесть, свет и т. п. — вот идеи, которые выражаются в скалах, строениях, водах. Парковое искусство и архитектура могут только способствовать ясному, многостороннему и полному развитию этих свойств, дать им повод выразиться во всей чистоте, чем они и побуждают к эстетическому созерцанию и облегчают его. Напротив, плохие строения и местности, которыми пренебрегла природа или которые испортило искусство, мало или совсем не способны произ-
185
водить такое впечатление; но и из них не могут совершенно исчезнуть эти общие основные идеи природы. Зрителя, который ищет их, они пленяют и здесь, и даже плохие здания и т. п. еще могут быть объектом эстетического созерцания: идеи самых общих свойств их материала еще распознаются в них, однако искусственно приданная им форма служит здесь не вспомогательным средством, а скорее препятствием, затрудняющим эстетическое созерцание. Следовательно, и поделки тоже служат выражению идей, но то, что в них выражается, есть не идея поделки, а идея материала, которому придали эту искусственную форму. На языке схоластов можно очень удобно выразить это в двух словах, а именно, в поделке проявляется идея ее forma substantialis*, a не идея ее forma accidentalis**, — последняя указывает не на идею, а только на человеческое понятие, из которого она произошла. Понятно, что здесь под словом «поделка» вовсе не имеется в виду произведение изобразительного искусства. Впрочем, схоласты на самом деле понимали под forma substantialis то, что я называю степенью объективации воли в какой-нибудь вещи. Скоро, при рассмотрении искусства зодчества, мы вернемся к выражению идеи материала.
Придерживаясь нашего взгляда, мы не можем, однако, принять утверждение Платона (De Rep. X, p. 284— 285; Pannen., p. 79, ed. Bip.), что стол и стул выражают идеи стола и стула: нет, мы говорим, что они выражают те идеи, которые проявляются уже в самом материале как таковом. По Аристотелю (Метафизика, XI, гл. 3), сам Платон, впрочем, признавал идеи только того, что создано самой природой (Plato dixit, quod ideae eorum sunt, quae natura sunt)***; а в 5-й главе сказано, что, согласно платоникам, нет идей дома и кольца. Во всяком случае, уже ближайшие ученики Платона, как нам сообщает Алкиной (Introductio in Platonicam philosophiam, cap. 9), отрицали существование идей поделок. Вот что говорит последний: «Definiunt autem ideam exemplar aeternum eorum, quae secundum naturam existunt. Nam plurimis ex iis, qui Platonem secuti sunt, minime placuit, arte factorum ideas esse, ut clypei atque lyrae; neque rursus eorum, quae praeter naturam, ut febris et cholerae; neque particularium, ceu Socratis et Piatonis; neque etiam rerum vilium, veluti sordium et festucae; neque relationum, ut majoris et excedentis: esse namque ideas intellectiones dei aeternas, ac seipsis parfectas»****[134]. По этому поводу упомяну еще о другом пункте, в котором наше учение об идеях сильно уклоняется от платоновского. Он учит (De Rep. X, p. 288), что предмет, изображение которого является целью искусства, прообраз живописи и поэзии, есть не идея, а отдельная вещь. Все наше предыдущее изложе-
186
ние доказывает прямо противоположное, и теория Платона тем менее введет нас в заблуждение, что она служит источником одной из самых крупных и признанных ошибок этого великого человека, — источников его пренебрежения и отрицательного отношения к искусству, особенно к поэзии: свой ложный взгляд на них он непосредственно связывает с приведенным местом.
§ 42
Возвращаюсь к нашему разбору эстетического впечатления. Познание прекрасного всегда предполагает чисто познающий субъект и познаваемую идею в качестве объекта — вместе и нераздельно. Тем не менее источник эстетического наслаждения заключается то больше в восприятии познанной идеи, то больше в блаженстве и душевном покое чистого познания, освобожденного от всякого желания и потому от всякой индивидуальности и вытекающих из нее мук; это преобладание одного или другого из составных элементов эстетического наслаждения зависит от того, является ли интуитивно воспринятая идея высокой или же низкой ступенью объектности воли. Так, при эстетическом созерцании природы (в действительности или через посредство искусства), в ее неорганическом и растительном царстве и при созерцании созданий искусства зодчества преобладает наслаждение чистого безвольного познания, потому что воспринимаемые здесь идеи служат лишь низшими ступенями объектности воли и оттого не представляют собой феноменов глубокого смысла и многозначительного содержания. Наоборот, когда предметом эстетического созерцания или изображения бывают животные и люди, наслаждение заключается больше в объективном восприятии этих идей, составляющих очевиднейшие откровения воли, потому что они выражают величайшее многообразие форм, богатство и глубокий смысл явлений и в совершенстве открывают нам сущность воли, будь то в ее страсти, ужасе, удовлетворении или в ее сокрушении (последнее в трагических образах), наконец, даже в ее повороте или самоотрицании, служащем преимущественной темой христианской живописи (как и вообще историческая живопись и драма имеют своим объектом идею воли, освещенной совершенным познанием). Рассмотрим теперь каждое искусство в отдельности: это сообщит изложенной нами теории прекрасного ясность и полноту.
§ 43
Материя как таковая не может быть выражением идеи. Ибо, как мы видели в первой книге, она есть всецело причинность: ее бытие — сплошная действенность; причинность же — это вид закона основания, а познание идеи по существу исключает содержание этого закона. Точно так же во второй книге мы видели, что материя есть общий субстрат всех отдельных проявлений идей; следовательно, она представляет собой соединительное звено между идеей и явлением, или единичной вещью.
187
Таким образом, и в силу первой, и в силу второй причины материя сама по себе не может выражать идеи. A posteriori18 же это подтверждается тем, что не может быть наглядного представления о материи как таковой, возможно только понятие о ней, ибо в представлении выражаются только формы и свойства, носителем которых служит материя и в которых во всех раскрываются идеи. Это соответствует и тому, что причинность (вся сущность материи) сама по себе не может быть выражена наглядно: может быть представлено лишь определенное причинное сочетание.
Но, с другой стороны, каждое явление идеи, принимая как таковое форму закона основания, или principium individuationis19, должно выражаться в материи как ее свойство. И в этом смысле материя, как я сказал, является соединительным звеном между идеей и принципом индивидуации, представляющим собой форму познания индивида, или закон основания. Поэтому Платон совершенно правильно наряду с идеей и ее проявлением, отдельной вещью (обе они, в сущности, обнимают собою все вещи мира), поставил еще и материю как нечто третье, отличное от первых двух («Тимей», с. 345). Индивид как проявление идеи всегда есть материя. Точно так же н каждое свойство материи — это всегда проявление идеи, и как таковое оно может быть предметом и эстетического созерцания, т. е. познания выражающейся в нем идеи. Это относится даже к самым общим свойствам материи, без которых она никогда не существует и идеи которых составляют самую слабую объектность воли. Таковы тяжесть, сцепление, инерция, текучесть, реакция на свет и т. п.
Если мы обратимся теперь к рассмотрению архитектуры просто как искусства, помимо ее утилитарных целей, когда она служит воле, а не чистому познанию и, следовательно, уже не является искусством в нашем смысле, то мы можем приписать ей только одно стремление: довести до полной наглядности некоторые из тех идей, которые представляют собой низшие ступени объектности воли, а именно тяжесть, сцепление, инерцию, твердость, эти общие свойства камня, эти первые, самые простые, самые приглушенные зримые явления воли, генерал-басы природы, а затем, наряду с ними, свет, который во многих отношениях предстает их противоположностью. Даже на этой глубокой ступени объектности воли мы уже видим, как ее сущность выражается в раздоре: ведь собственно борьба между тяжестью и инерцией составляет единственный эстетический материал искусства архитектуры, задача которого — самыми разнообразными способами выявить с полной ясностью эту борьбу. Оно решает ее тем, что преграждает этим неодолимым силам кратчайший путь к их удовлетворению и задерживает их на окольном пути, отчего борьба становится продолжительнее и неисчерпаемое стремление сил получает многообразное зримое проявление.
Вся масса строения, предоставленная своей первоначальной склонности, была бы просто грудой, связанной предельно прочно с земным шаром, к которому беспрестанно влечет тяжесть (чем в данном случае является воля) и которому противится инерция (тоже объектность воли). Но именно этой склонности, этому стремлению зодчество отказывает в непосредственном удовлетворении и предоставляет лишь косвенное, на
188
окольных путях. Так, балка может давить на землю только через посредство столба; свод должен сам себя поддерживать, и лишь через посредство устоев он может удовлетворять свое стремление к земной массе и т. п. Но именно на этих вынужденных окольных путях, именно благодаря этим стеснениям раскрываются во всей ясности и многообразии силы, присущие грубой каменной массе, и дальше этого чисто эстетическая цель зодчества не может идти. Поэтому красота строения заключается в явной целесообразности каждой части, и не для внешней, произвольной цели человека (поскольку здание относится к утилитарной архитектуре), а непосредственно для поддержания целого, так что расположение, величина и форма каждой части должны находиться в таком необходимом соотношении с целым, что оно неминуемо обрушилось бы, если убрать какую-нибудь одну часть. Ибо лишь тогда, когда каждая часть выдерживает именно столько, сколько может, и каждая находит себе опору именно там и именно так, как ей должно, — лишь тогда раскрывается с полной очевидностью то состязание, та борьба между инерцией и тяжестью, которые составляют жизнь, являют собой волю камня, и тогда ясно обнаруживаются эти глубочайшие ступени объектности воли. Точно так же и форма каждой части должна определяться не произвольно, а согласно своему назначению и отношению к целому. Колонна — это самая простая, только своим назначением определяемая форма опоры; витая колонна безвкусна, а четырехугольный столб в действительности менее прост, чем круглая колонна, хотя по случайности его и легче воздвигнуть. Точно так же форма фриза, балок, свода, купола совершенно определяется своим непосредственным назначением и благодаря этому объясняется сама собой. Украшения капителей и т. п. относятся к скульптуре, а не к архитектуре, которая просто допускает их как добавочное убранство, но могла бы и вовсе устранить.
Согласно сказанному, чтобы понять архитектурное произведение и эстетически насладиться им, необходимо непосредственно и наглядно знать его материю в ее весе, инерции и сцеплении, и наше удовольствие от такого произведения сразу же уменьшилось бы, если бы мы обнаружили в качестве строительного материала пемзу, ибо оно показалось бы нам тогда чем-то вроде декорации. Почти так же подействовало бы на нас известие, что оно из дерева, тогда как мы предполагали камень: это изменяет и нарушает отношение между инерцией и тяжестью, а оттого и значение и необходимость всех частей, так как в деревянном строении названные силы природы проявляются гораздо слабее. Вот почему из дерева нельзя, собственно, создать художественно-архитектурное произведение, хотя дерево и может принять любую форму: это объясняется только нашей теорией. Но если бы нам сказали, наконец, что строение, вид которого доставляет нам удовольствие, состоит из совершенно различных материалов, очень не одинаковых по весу и составу, но не отличимых на глаз, то благодаря этому все здание стало бы для нас столь же недоступным, как стихотворение на непонятном языке. Все это доказывает, что архитектура действует на нас не просто математически, а динамически, и через нее говорят нам не просто форма и симметрия, а упомянутые основные силы природы, эти первые идеи, низшие ступени объектности воли. Соразмерность здания и его частей является, с одной стороны,
189
результатом непосредственной целесообразности каждой части для поддержки целого; с другой стороны, она облегчает обзор и понимание целого; и, наконец, соразмерные фигуры, раскрывая закономерность пространства как такового, способствуют красоте. Но все это имеет лишь второстепенное значение и необходимость, а вовсе не составляет главное, потому что даже симметрия нужна не безусловно, ибо ведь и руины прекрасны.
Совершенно особое отношение у произведений архитектуры к свету: они обретают двойную красоту при полном солнечном сиянии, на фоне голубого неба, и производят опять-таки совершенно иное впечатление при лунном свете. Поэтому при возведении прекрасного архитектурного строения всегда обращают особое внимание на эффекты света и на то, где восток. Хотя все это основано преимущественно на том, что только яркое и сильное освещение вполне проявляет все части и их взаимоотношения, но я, кроме того, думаю, что одновременно и наравне с тяжестью и инерцией архитектура предназначена раскрывать и совершенно противоположную им сущность света. А именно свет, поглощаясь, задерживаясь, отражаясь большими, непрозрачными, резко очерченными и многообразно сформированными массами, раскрывает этим во всей чистоте и ясности свою природу и свойства, к великому наслаждению зрителя, потому что свет — это самая отрадная из вещей как условие и объективный коррелят самого совершенного наглядного способа познания.
Так как идеи, которые зодчество доводит до ясного созерцания, представляют собой низшие ступени объектности воли и, следовательно, объективная значимость того, что нам раскрывает это искусство, сравнительно невелика, то эстетическое наслаждение при виде красивого и удачно освещенного здания заключается не столько в восприятии идеи, сколько в неотделимом от этого восприятия субъективном корреляте его, т. е. оно состоит преимущественно в том, что при таком зрелище человек освобождается от присущего индивиду способа познания, служащего воле и следующего закону основания, и возвышается до чистого, безвольного субъекта познания; другими словами, наслаждение состоит в чистом созерцании, освобожденном от всякого страдания воли и индивидуальности. В этом отношении противоположностью архитектуры и другим полюсом в ряду искусств является драма, сообщающая познание самых значительных идей, поэтому в эстетическом наслаждении ею объективная сторона решительно преобладает.
Архитектура тем отличается от изобразительных искусств и поэзии, что она дает не снимок, а самую вещь, она не воспроизводит, как они, познанную идею и не снабжает зрителя глазами самого художника, но здесь художник только приспособляет объект к зрителю, облегчая восприятие идеи тем, что заставляет действительный индивидуальный объект ясно и полно раскрыть свою сущность.
Создания архитектуры в противоположность произведениям других искусств очень редко возводятся для чисто эстетических целей, напротив, последние подчиняются другим, чуждым искусству, утилитарным целям. Именно в том и состоит великая заслуга художника-архитектора, чтобы все-таки провести и осуществить чисто эстетические замыслы, несмотря
190
на их зависимость от посторонних соображений; он достигает этого тем, что на разные лады умело примиряет эстетическое с данной произвольной целью, верно оценивая, какая эстетико-архитектоническая красота соответствует и подходит для храма, какая — для дворца, какая — для цейхгауза и т. п. Чем более суровый климат усиливает требования потребностей, полезности, чем тверже он их определяет и строже предписывает, тем менее простора дает прекрасному архитектура. В мягком климате Индии, Египта, Греции и Рима, где требования необходимости были слабее и не так настоятельны, зодчество могло с предельной свободой стремиться к своим эстетическим целям. Под северным же небом они были для него сильно ограничены: там, где требовались лари, остроконечные кровли и башни, архитектура, имея возможность развивать свою собственную красоту лишь в очень узких границах, вынуждена была позаимствовать тем больше украшений у скульптуры, как это видно на примере готического зодчества.
Но если в этом отношении архитектура, в силу требований необходимости и полезности, должна подвергаться большим стеснениям, то, с другой стороны, именно они служат для нее и мощной опорой, потому что при больших размерах и дороговизне своих созданий и при ограниченной сфере своего эстетического воздействия она совсем не могла бы удержаться в качестве искусства, если бы не занимала одновременно прочного и почетного места среди человеческих рукоделий в качестве полезного и необходимого ремесла. Отсутствие последнего и есть именно то, что мешает поставить рядом с архитектурой как ее сестру другое искусство, хотя в эстетическом отношении оно, собственно, полностью соответствует ей: я имею в виду искусство гидравлики. Ибо то, что делает архитектура для идеи тяжести там, где последняя является в соединении с инерцией, то гидравлика делает для этой же самой идеи там, где к ней присоединяется текучесть, т. е. бесформенность, величайшая подвижность и прозрачность. С пеной и ревом низвергающиеся со скал водопады, тихой пылью рассеивающиеся катаракты, стройные колонны фонтанов раскрывают идеи текучей, тяжелой материи именно так, как создания архитектуры развертывают идеи инертной материи. В утилитарной гидравлике искусство не находит себе никакой опоры, потому что их цели обыкновенно не совмещаются между собою, и соединить их можно только в виде исключения, как это мы видим в Cascata di Trevi* в Риме**.
§ 44
То, чем для низших ступеней объектности воли служат оба упомянутые искусства, тем для высшей ступени растительной природы является в известной мере парковое искусство. Ландшафтная красота местности по большей части основывается на разнообразии сочетающихся в ней предметов природы и на том, что последние ясно разграничены между
191
собою, отчетливо выступают каждый в отдельности и все-таки представляют собой стройную связь и чередование. Этим двум условиям и приходит на помощь парковое искусство; однако оно далеко не в такой степени господствует над своим материалом, как зодчество — над своим, и действие его поэтому ограничено. Красота, которую оно показывает, почти целиком принадлежит природе, само же оно мало что прибавляет к этому; с другой стороны, оно почти бессильно, если природные условия для него неблагоприятны, и там, где природа не способствует, а противодействует ему, его результаты незначительны.
Следовательно, в той мере, в какой растительный мир, который повсюду сам, без помощи искусства предлагает себя для эстетического наслаждения, в той мере, в какой он есть объект искусства, он относится главным образом к ландшафтной живописи. В области последней лежит вместе с ним и вся остальная бессознательная природа. В натюрмортах и просто в картинах архитектуры, руин, интерьеров храма и т. п. преобладает субъективная сторона эстетического наслаждения: радость, которую они возбуждают в нас, состоит не столько в непосредственном восприятии изображенных идей, сколько в субъективном корреляте этого восприятия — в чистом, безвольном познании; ибо в то время как художник заставляет нас смотреть на вещи его глазами, мы вместе с тем сами проникаемся отраженным ощущением и чувством того глубокого душевного покоя и полного безмолвия воли, которые необходимы были для того, чтобы всецело погрузиться познанием в эти безжизненные предметы и воспринять их с такой любовью, т. е. в данном случае с такой объективностью.
Впечатление, какое производит настоящая ландшафтная живопись, в общем тоже относится еще к этому роду; но так как выражаемые в ней идеи как более высокие ступени объектности воли уже значительнее по смыслу, то объективная сторона эстетического удовольствия выступает здесь сильнее и уравновешивает субъективную. Чистое познание как таковое больше не составляет главного момента: с одинаковой силой действует и познанная идея, мир как представление на высокой ступени объективации воли.
Еще более высокую ступень раскрывает живописное и скульптурное изображение животных; от последнего сохранились у нас значительные античные остатки, например, бронзовые и мраморные кони в Венеции, на Monte covallo*, на рельефах, выведенных Эльджином, а также во Флоренции; там же — античный вепрь, воющие волки, далее — львы у венецианского арсенала, а в Ватикане — целая зала, наполненная преимущественно античными зверями и т. п. В этих изображениях объективная сторона эстетического наслаждения получает решительный перевес над субъективной. Правда, и здесь, как и при всяком эстетическом созерцании, присутствует спокойствие познающего эти идеи субъекта, обуздавшего собственную волю, но оно не ощущается, потому что нас перед нашими глазами та самая воля, которая составляет и нашу собственную сущность, и выступает в таких образах, где ее проявление
192
не сдерживается и не смягчается, как у нас, рассудительностью, а выражается более резкими чертами и столь наглядно, что это граничит с гротеском, но зато и без притворства, наивно и открыто, при полном свете (на чем, собственно, и основывается наш интерес к животным).
Характерные признаки родов заметны уже и в изображении растительного мира, но они обнаруживаются только в формах; здесь же они становятся гораздо значительнее и выражаются не только во внешнем облике, но и в действиях, позе и жестах, хотя все еще как характер вида, а не индивида.
Это познание идей высших ступеней мы получаем в живописи
через чужое посредство, но мы можем стать причастными ему и непосредственно — путем
чистого созерцания растений и наблюдения животных, причем последних — в их
свободном, естественном и спокойном состоянии. Объективное рассмотрение их
разнообразных, удивительных форм, их поведения и нравов раскрывает поучительную
страницу из великой книги природы, дает разгадку истинной signature rerum*: мы видим в ней многообразные степени и
способы обнаружения воли, которая, будучи во всех существах одна и та же, всюду
хочет одного и того же, что и объективируется как жизнь, как бытие в столь
бесконечных переменах и различных формах, служащих приспособлением к различным внешним
условиям и подобных множеству вариаций на одну и ту же тему. Если бы, однако,
нам нужно было дать разгадку их внутренней сущности для наблюдателя, а также
для рефлексии и притом одним словом, то для этого лучше всего было бы
воспользоваться той санскритской формулой, которая так часто встречается в
священных книгах индуистов и носит имя Махавакья, т. е. великое слово: «Tat twam asi», что значит: «Это
живущее есть ты».
§ 45
Непосредственно наглядно представить ту идею, в которой воля достигает высшей степени своей объективации, — вот, наконец, великая задача исторической живописи и скульптуры. Объективная сторона эстетического наслаждения здесь безусловно преобладает, а субъективная отходит на задний план. Следует заметить, что еще на ближайшей более низкой ступени этого искусства, в изображении животных, характерное вполне тождественно с прекрасным: наиболее характерный лев, волк, конь, баран, бык — непременно и самый прекрасный. Причина этого та, что у животных есть только родовой характер, а не индивидуальный. При изображении же человека родовой характер отделяется от характера индивида: первый называется красотой (в чисто объективном смыс-
193
ле), второй сохраняет имя характера или выражения, и здесь возникает новая трудность: в совершенстве представить их оба в одном и том же индивиде.
Человеческая красота есть объективное выражение, которое обозначает совершеннейшую объективацию воли на высшей ступени ее познаваемости, идею человека вообще, полностью выраженную в созерцаемой форме. Но как ни сильно выступает здесь объективная сторона прекрасного, субъективная остается все же ее неизменной спутницей и именно потому, что ни один объект так не влечет нас столь быстро к чисто эстетическому созерцанию, как прекраснейший человеческий образ и облик, при виде которых нас мгновенно охватывает несказанная радость, возносящая нас над собою и над всем, что нас терзает; и это возможно лишь благодаря тому, что эта наиболее очевидная и чистейшая познаваемость воли вызывает у нас с той же легкостью и быстротой то состояние чистого познания, в котором, пока длится чистая эстетическая радость, исчезает наша личность, наше желание с его постоянной мукой; вот почему и сказал Гёте: «Кто видит человеческую красоту, того не может коснуться ничто дурное: он чувствует себя в гармонии с самим собою и с миром»20.
То, что природе удается прекрасный человеческий облик, мы должны объяснить себе так: воля, объективируясь на этой высшей ступени в индивиде, благодаря благоприятным обстоятельствам и собственной силе полностью преодолевает все препятствия и то сопротивление, какое оказывают ей явления воли на низших ступенях, например силы природы, у которых она непременно должна сперва отобрать принадлежащую всем материю. Далее, явление воли на высших ступенях всегда многообразно по своей форме: уже дерево представляет собой лить систематический агрегат бесчисленно повторенных растительных волокон; чем выше ступень, тем эта сложность возрастает, и человеческое тело является в высшей степени сложной системой совершенно различных частей, каждая из которых хотя и подчинена целому, но обладает все же самостоятельной жизнью, vita propria[135]; и вот, чтобы все эти части были надлежащим образом подчинены и соотнесены между собою, чтобы они гармонически стремились к воспроизведению целого и чтобы не было ничего чрезмерного, ничего чахлого, — все это редкие условия, результатом которых является красота, идеально отчеканенный родовой характер. Так обстоит дело в природе. Но как поступает искусство? Говорят — подражая природе. Но по какому же признаку распознает художник ее удачное и достойное подражания создание и найдет его среди неудачных, если он уже до опыта не антиципирует[136] прекрасного? И кроме того, разве природа создала когда-нибудь вполне прекрасного человека? На это отвечали, что художник должен собирать рассеянные по отдельным людям красивые черты и составлять из них одно прекрасное целое, — ложный и бессмысленный взгляд. Ибо снова возникает вопрос: как художник может знать, что эти формы красивы, а те нет? Да мы и видим, как преуспели в красоте старые немецкие художники благодаря подражанию природе. Посмотрите только на их обнаженные фигуры.
Чисто апостериорным и исключительно опытным путем совершенно невозможно познание красоты: оно всегда априорно, по крайней мере,
194
отчасти, хотя и имеет совсем другой характер, чем априорно известные нам виды закона основания. Они касаются общей формы явления как такового, поскольку она обосновывает возможность познания вообще, относятся к общему, не знающему исключений как всего являющегося, и из этого познания вытекают математика и чистое естествознание, между тем как другой род априорного познания, делающий возможным изображение прекрасного, относится не к форме, а к содержанию явлений, не к как, а к что являющегося. То, что мы все узнаем человеческую красоту, когда встречаем ее (в настоящем художнике это происходит с такой ясностью, что он показывает ее так, как никогда ее не видал, и превосходит природу в своем изображении), — это возможно лишь оттого, что та воля, чья адекватная объективация на ее высшей ступени должна быть здесь оценена и найдена, эта воля есть мы сами. Только поэтому мы действительно имеем антиципацию21 того, что старается изобразить природа (которая именно и есть воля, составляющая нашу собственную сущность); эта антиципация в истинном гении сопровождается такой проницательностью, что он, познавая в отдельной вещи ее идею, как бы понимает природу с полуслова и ясно выражает то, о чем она только лепечет: в твердом мраморе запечатлевает он красоту формы, которая природе не удавалась в тысячекратных попытках, и эту красоту он показывает природе, словно взывая к ней: «Вот что ты хотела сказать!» — и раздается ответ знатока: «Да, именно это!» Только этим путем гениальный грек мог найти прототип человеческого образа и установить его в качестве канона скульптурной школы, и лишь благодаря такой антиципации мы все в состоянии узнавать прекрасное там, где оно в отдельных случаях действительно удалось природе. Эта антиципация есть идеал; она — идея, поскольку она, по крайней мере наполовину, познана a priori и, дополняя собою то, что дано природой a posteriori, становится для искусства практическим моментом. Возможность такой априорной антиципации прекрасного со стороны художника, как и его апостериорного познания со стороны знатока, объясняется тем, что художник и знаток сами представляют собою «в себе» природы, объективирующуюся волю. Ибо, как говорит Эмпедокл, только подобным познается подобное: только природа может понять самое себя; только природа сама себя постигает, но также и только духом воспринимается дух*.
Ложное мнение (хотя и высказанное Сократом, по Ксенофонту, Stobaei Floril., vol. 2, p. 384), будто греки нашли установленный идеал человеческой красоты совершенно эмпирически, путем сопоставления отдельных прекрасных частей, обнажая и подмечая здесь колено, там руку[137], — это мнение имеет себе полную аналогию и по отношению к поэзии; предполагают, например, что Шекспир подметил и воспроиз-
195
вел на опыте собственной жизни бесконечно разнообразные, столь правдоподобные, выдержанные и глубоко продуманные характеры своих драм. Нечего и доказывать всю невозможность и нелепость такого мнения: очевидно, что подобно тому как гений создает произведения изобразительного искусства только предчувствием и предвосхищением красоты, так и творения поэзии создает он подобным же предвосхищением характерного; в обоих случаях, правда, он нуждается в опыте как схеме, которая только и может довести до полной отчетливости то, что a priori осознается смутно, и так получается возможность обдуманного изображения.
Мы определили выше человеческую красоту как совершеннейшую объективацию воли на высшей ступени ее познаваемости. Она выражается формой, которая находится только в пространстве и не имеет необходимого отношения ко времени, как его имеет, например, движение. Мы можем поэтому сказать: адекватная объективация воли в одном лишь пространственном явлении — это красота в объективном смысле. Растение есть не что иное, как именно такое исключительно пространственное явление воли, ибо к выражению его сущности не принадлежит никакое движение и, следовательно, никакое временное отношение (помимо его роста): самый вид растения уже выражает всю его сущность и открыто показывает ее. Между тем животное и человек для полного раскрытия являющейся в них воли нуждаются еще в ряде действий, отчего это явление получает в них непосредственное отношение ко времени. Все это уже разъяснено в предыдущей книге, но связано с нашими теперешними размышлениями следующим образом. Подобно тому как чисто пространственное явление воли может полностью или неполно объективировать ее на каждой данной ступени (что и составляет красоту или безобразие), так и временная объективация воли, т. е. действие, и притом непосредственное, т. е. движение, может или полностью соответствовать являющейся в нем воле, без чуждой примеси, излишка и недостатка, выражая каждый раз только данный определенный акт воли, или же действие и являющаяся в нем воля могут превратно соотноситься между собой. В первом случае движение совершается с грацией, в последнем — оно лишено ее. И подобно тому как красота представляет собой соответственное изображение воли вообще в ее чисто пространственном явлении, так грация есть соответственное изображение воли в ее временном явлении, т. е. совершенно правильное и соразмерное выражение всякого акта воли в движении и позе, объективирующих его. Так как движение и поза уже предполагают тело, то слова Винкельмана: «Грация — это своеобразное отношение действующего лица к действию» — очень верны и метки (Соч., т. 1, с. 258). Само собою понятно, что растениям можно приписывать красоту, но не грацию, разве только в переносном смысле; между тем животные и люди обладают и той и другою: они и красивы, и грациозны. Согласно сказанному, грация состоит в том, чтобы каждое движение и поза осуществлялись наиболее легким, соразмерным и удобным способом и потому адекватно выражали свое назначение, или волевой акт, — без излишества, выливающегося в нецелесообразную, бессмысленную суету или неестественность, без недостаточности, оборачивающейся натяну-
196
той скованностью. Грация предполагает как свое условие полную соразмерность всех членов, правильное и гармоничное телосложение, потому что только при этом возможны совершенная легкость и явная целесообразность всех поз и движений; таким образом, грация никогда не бывает без известной степени физической красоты. Обе они полностью и вместе друг с другом составляют самое ясное проявление воли на высшей ступени ее объективации.
Особенностью человечества, как упомянуто выше, является то, что в нем родовой характер отделен от характера индивидуального, и поэтому каждый человек, как я сказал в предыдущей книге, до известной степени выражает собой совершенно самостоятельную идею. Вот почему для искусств, целью которых служит изображение идеи человечества, наряду с красотой как характером рода предстоит еще задача выразить характер индивида, носящий по преимуществу название характера, но опять-таки и последний важен для них не как случайное нечто, присущее индивиду в его исключительности, но как особенно выступающая именно в этом индивиде сторона идеи человечества, раскрытию которой и служит изображение индивида. Поэтому характер, хотя как таковой он индивидуален, должен быть все-таки воспринят и изображен идеально, т. е. в нем должно быть выявлено его значение для идеи человечества вообще (объективации которой он на свой лад содействует); иначе изображение будет портретом, воспроизведением частного как такового, со всеми случайными элементами. Впрочем, даже и портрет, как говорит Винкельман, должен представлять собой идеал индивида.
Этот подлежащий идеальному восприятию характер, который служит выявлению особой стороны в идее человечества, зримо выражается отчасти в неизменной физиономии и строении тела, отчасти в преходящих аффектах и страстях, этой взаимной модификации познавания и желания, а все это вместе отражается в лице и движениях. Так как индивид всегда принадлежит человечеству, а, с другой стороны, человечество всегда раскрывается в индивиде и даже со свойственной последнему идеальной значительностью, то ни красота не должна подавлять характера, ни характер — красоты: ибо подавление родового характера индивидуальным создает карикатуру, а подавление индивидуального характера родовым дает нечто незначительное. Поэтому изображение, стремящееся к красоте (чем преимущественно занимается скульптура), всегда несколько модифицирует ее (т. е. родовой характер) при помощи индивидуального характера и всегда выражает идею человечества в определенном индивидуальном образе, выделяя в ней какую-нибудь особую черту; ибо человеческий индивид как таковой до известной степени запечатлен достоинством самобытной идеи, а существенный признак идеи человечества в том и состоит, что она находит себе выражение в индивидах, обладающих самобытной значительностью. Вот почему древние выражали в своих произведениях ясно постигнутую ими красоту не одной фигурой, а многими, носящими различный характер, словно эта красота воспринимается каждый раз с другой стороны и потому в Аполлоне изображена иначе, чем в Вакхе, в Геркулесе иначе, чем в Антиное; мало того, характерное может оттеснять красоту и, наконец, переходить даже в безобразное, как, например, в пьяном Селене, Фавне
197
и т. п. Но если характерное доходит до действительного подавления характера рода, т. е. до неестественного, то оно становится карикатурой.
Грация в еще меньшей степени, чем красота, может быть ущемлена вмешательством характерного: каких бы поз и движений ни требовало выражение характера, они должны выполняться наиболее соответственным данному лицу, наиболее целесообразным и легким способом. Это будет соблюдать не только скульптор и живописец, но и всякий хороший актер, иначе и здесь возникает карикатура — искаженный, утрированный образ.
В скульптуре красота и грация всегда играют главную роль. Истинный характер духа, выступающий в аффекте, страсти, взаимной игре познавания и желания, изобразимой только выражением лица и жестикуляцией, является преимущественной особенностью живописи. Ибо хотя глаз и цвет, находящиеся вне сферы ваяния, много способствуют красоте, но еще более существенны они для характера. Далее, красота раскрывается полнее при созерцании ее с разных точек зрения; наоборот, выражение, характер вполне постижимы и с одной точки зрения.
Так как красота, очевидно, составляет главную цель скульптуры, то Лессинг пытался объяснить тот факт, что Лаокоон не кричит, несовместимостью крика с красотой22. Ввиду того что предмет этот послужил Лессингу темой или, по крайней мере, исходным пунктом для особой книги, и так как и до него, и после него об этом очень много писали, то да будет мне позволено эпизодически высказать и свое мнение по этому поводу, хотя такое специальное исследование и не связано, собственно, с нашим рассуждением, направленным только на общие вопросы.
§ 46
То, что Лаокоон в знаменитой группе не кричит, — это очевидно, и общее, постоянное удивление перед этим фактом объясняется тем, что мы все кричали бы в его положении; да этого требует и природа, так как при сильной физической боли и внезапном приступе великого физического страха вся рефлексия, которая, может быть, и привела бы к молчаливому терпению, совершенно вытесняется из сознания, и природа криком разрывает свои путы, чем одновременно выражает боль и страх, призывая спасителя и пугая нападающего. Уже Винкельман заметил поэтому отсутствие крика; но желая оправдать в этом художника, он, собственно, превратил Лаокоона в стоика, который считает ниже своего достоинства кричать secundum naturam* и к своему страданию присоединяет еще бесполезное усилие удержаться от его выражения; Винкельман поэтому видит в Лаокооне «твердую душу великого человека, который борется с болью и старается сдержать и подавить выражение своего страдания, он не издает громкого стона, как у Вергилия, но у него вырывается лишь сдавленный вздох» и т. д. (Соч., т. VII, с. 98; то же подробнее, т. VI, с. 104 и сл.). Вот это мнение Винкельмана Лессинг и подверг критике в своем «Лаокооне», сделав к нему указанную выше
198
поправку: вместо психологического объяснения он предложил чисто эстетическое, а именно то, что красота, принцип древнего искусства, не допускает выражения крика. Его другой, дополнительный аргумент, будто в неподвижном изображении искусства нельзя изображать преходящего и по самой своей природе кратковременного состояния23, имеет против себя сотни примеров в тех прекрасных фигурах, которые застигнуты в совершенно мимолетных движениях — танцующими, борющимися, хватающими. Мало того: Гёте в своей статье о Лаокооне, открывающей «Пропилеи» (с. 8)[138], считает выбор такого преходящего мгновения даже прямо необходимым. В наши дни Гирт («Оры», 1797, 10-я статья), сводя все к высшей реальности выражения, решил дело так: Лаокоон не кричит потому, что он близок к смерти от удушья и уже не в состоянии кричать. Наконец, Фернов (Römische Studien, т. I, с. 426 и сл.), разобрав и взвесив эти три мнения, сам от себя не высказал ничего нового, а только соединил и примирил их все три.
Я не могу не удивляться, что такие вдумчивые и остроумные писатели усердно притягивают издалека недостаточные основания, хватаются за психологические, даже физиологические аргументы, чтобы объяснить вещь, причина которой лежит совсем близко и сразу видна непредубежденному исследователю; я удивляюсь в особенности тому, что Лессинг, который так близко подошел к правильному объяснению, все-таки не попал в надлежащую точку[139].
Прежде всяких психологических и физиологических изысканий о том, станет или не станет Лаокоон в своем положении кричать (на что я, впрочем, даю безусловно утвердительный ответ), необходимо по отношению к данной группе выяснить себе следующее: нельзя было допустить в ней изображения крика единственно потому, что такое изображение совершенно выходит за пределы скульптуры. В мраморе нельзя было воспроизвести кричащего Лаокоона, можно было представить только раскрывшего рот и напрасно порывающегося кричать — Лаокоона, у которого голос застрял в горле, vox faucibus haesit24. Сущность, а следовательно, и действие крика на зрителя состоит исключительно в звуке, а не в открывании рта. Последнее (это феномен, неизбежно сопровождающий крик) само находит себе мотивировку и оправдание только в производимом посредством него звуке: в таком случае оно как характерное для действия допустимо и даже необходимо, хотя и наносит ущерб красоте. Но изображать открытый рот, это напряженное средство крика, искажающее черты и все выражение лица, изображать его в пластическом искусстве, для которого воспроизведение самого крика совершенно чуждо и невозможно, было бы в самом деле неразумно, потому что этим перед нашим взором ставилось бы средство, требующее в остальных отношениях так много жертв, тогда как цель его, самый крик, отсутствовал бы, как и воздействие его на душу. Мало того: это создало бы неизбежно смешное зрелище бесполезного напряжения, подобно тому, какое доставляет себе шутник, когда, плотно заткнувши воском рожок заснувшего ночного сторожа, будит его криками «пожар» и потешается над его бесплодными усилиями трубить[140].
Напротив, там, где изображение крика не выходит из сферы искусства, там оно вполне допустимо, потому что способствует истине, т. е.
199
полному выражению идеи. Так обстоит дело в поэзии, которая в том, что касается наглядности изображения, рассчитывает на фантазию читателя: вот почему у Вергилия Лаокоон кричит, как вырвавшийся бык, который получил удар топора; вот почему Гомер (Илиада, XX, 48— 53) заставляет Марса и Минерву страшно кричать, без ущерба для их божественного достоинства, как и для их божественной красоты. Так обстоит дело и в театральном искусстве: Лаокоон на сцене непременно должен был бы кричать. Софокл заставляет кричать своего Филоктета, который несомненно и кричал на древней сцене. Совершенно аналогичный факт припоминается мне самому: я видел в Лондоне знаменитого актера Кембля, в переведенной с немецкого пьесе «Писсаро»; он играл американца Ролла, полудикаря, но человека очень благородного, тем не менее, когда его ранили, он закричал громко и сильно, и это произвело большое и прекрасное впечатление как весьма характерный и естественный прием. Наоборот, немой крикун в живописи или скульптуре был бы гораздо курьезнее[141], чем картины музыки в живописи, осужденные еще в «Пропилеях» Гёте, потому что крик наносит остальному выражению лица и красоте несравненно больший ущерб, чем музыка, которая большей частью занимает только руки и ноги, является действием, характеризующим данное лицо, и потому вполне может воспроизводиться живописью (если только не требует напряженных движений тела или искривления рта): таковы, например, св. Цецилия у органа, музыкант, играющий на виоле Рафаэля в галерее Sdarri в Риме и многие другие. Итак, вследствие того что границы искусства не позволяют выражать боль Лаокоона криком, художник должен был запечатлеть все другие ее выражения, и он исполнил это с высоким совершенством, как это мастерски поясняет Винкельман (Соч., т. VI, с. 104 и сл.); его превосходное описание сохраняет потому всю свою ценность и правду, за исключением лишь того, что он приписывает Лаокоону стоический образ мыслей*.
§ 47
Так как красота вместе с грацией составляет главный предмет скульптуры, то последняя любит наготу и допускает одежды лить постольку, поскольку они не скрывают форм. Она пользуется драпировкой не в качестве покрывала, а для косвенного изображения форм; этот способ изображения сильно интересует рассудок, так как последний доходит здесь до созерцания причины, т. е. формы тела, лишь через непосредственно данный результат — расположение складок. Поэтому драпировка в скульптуре служит до известной степени тем же, чем в живописи — ракурс. Это намеки, но не символические, а такие, которые (если только они удачны) непосредственно побуждают рассудок созерцать намеченное так, будто бы оно дано в действительности.
Да будет мне позволено мимоходом вставить здесь сравнение, относящееся к словесному искусству. Подобно тому как прекрасные очертания тела лучше всего обнаруживаются при самой легкой одежде или
200
совсем без нее, и потому очень красивый человек, если бы он к тому же обладал вкусом и осмелился бы следовать ему, охотнее всего ходил бы почти нагим и одевался бы лишь наподобие древних, — так и всякий прекрасный, богатый мыслями дух будет всегда выражаться самым естественным, бесхитростным, простым образом, стремясь, насколько это возможно, сообщать свои мысли другим, чтобы облегчить себе этим то одиночество, которое он должен испытывать в мире, подобном нашему. Наоборот, духовная нищета, путаность и манерность будет облекаться в самые изысканные выражения и туманные слова, чтобы скрыть под этими тяжеловесными и напыщенными фразами мелкие, ничтожные, жалкие или пошлые мысли, — подобно человеку, который хочет возместить себе одеждой отсутствующее величие красоты и старается замаскировать тщедушность или безобразие своей фигуры варварскими украшениями, мишурой, перьями, брыжами, буфами и мантиями. И подобно тому как смутился бы такой человек, если бы ему пришлось выйти нагим, так смущен был бы и иной автор, если бы его заставили свести его пышную туманную книгу к ее малому ясному содержанию.
§ 48
Историческая живопись наряду с красотой и грацией имеет главным предметом еще и характер; под ним вообще надо понимать изображение воли на высшей ступени ее объективации, где индивид как выявление особой стороны в идее человечества обладает самобытной значительностью и выражает ее не только своей фигурой, но и всякого рода действиями и теми модификациями познания и воли, которые возбуждают и сопровождают эти действия, отражаясь в лице и жестах. Для того чтобы идея человечества была представлена в этом объеме, развитие ее многосторонности должно быть показано в значительных индивидах, а они, в свою очередь, могут быть изображены во всей своей значительности только при посредстве разнообразных сцен, событий и деяний. Историческая живопись разрешает эту свою бесконечную задачу тем, что рисует всякого рода жизненные сцены большей или малой значимости. Нет индивида и нет действия, которые не имели бы никакого значения: во всех них и посредством всех их все более и более раскрывается идея человечества. Поэтому нет решительно ни одного события человеческой жизни, которое могло бы быть изъято из живописи. И великая несправедливость по отношению к превосходным живописцам нидерландской школы — ценить только их технические способности, в остальном же смотреть на них свысока на том основании, что они по большей части изображают предметы обыденной жизни, тогда как значительными считаются только события мировой или библейской истории[142]. Следовало бы сначала подумать о том, что внутренняя значительность какого-нибудь действия совершенно отличается от внешней и обе часто расходятся между собой. Внешняя значительность — это важность действия по отношению к его результатам для реального мира и в мире, т. е. мерилом здесь служит закон основания. Внутренняя значительность — это глубина прозрения в идею человечества; она
201
раскрывается тем, что на свет выходят редко являющиеся стороны этой идеи, а определенно и ясно выраженные индивидуальности, в силу целесообразного сочетания обстоятельств, развивают свои характерные черты. Только внутренняя значительность принадлежит искусству; внешняя относится к истории. Обе они совершенно независимы друг от друга, могут появляться вместе, но могут существовать каждая в отдельности. Действие, необычайно важное для истории, может по своей внутренней значительности быть очень обыденным и простым, и, наоборот, какая-нибудь сцена из повседневной жизни может иметь глубокий внутренний смысл, если в ней, в ясном и полном свете, в своих самых сокровенных изгибах являются человеческие индивиды, поступки и желания. Точно так же при очень различной внешней значительности внутренняя может быть совершенно одинаковой: с этой точки зрения, например, совершенно безразлично, спорят ли министры над ландкартой из-за государств и народов или мужики в кабаке отстаивают друг перед другом свои права за игральными картами и костями, — как безразлично, играть ли в шахматы золотыми или деревянными фигурами[143]. Да и кроме того, сцены и происшествия, наполняющие жизнь стольких миллионов людей, их дела и нравы, их горе и радость, уже по одному этому достаточно важны для того, чтобы служить предметом искусства, и в своем богатом многообразии они должны давать достаточный материал для развития многосторонней идеи человечества. Даже самая летучесть мгновения, фиксированная искусством в подобной картине (теперь называемой жанром), производит тихое, своеобразно трогательное впечатление: ибо закрепить в долговечной картине мимолетный и беспрерывно меняющийся мир, закрепить его в частных событиях, представляющих, однако, целое, — вот достижение живописи, которым она как будто останавливает само время, возводя единичное к идее его рода. Наконец, исторически и внешне значительные сюжеты живописи часто имеют тот недостаток, что как раз значительное в них не может быть изображено наглядно, а должно привноситься мысленно. В этом отношении следует вообще отличать номинальное значение картины от реального: первое — это внешний смысл, который присоединяется, однако, лишь в виде понятия; последнее — это одна из сторон идеи человечества, благодаря картине доступная для созерцания. Например, первое значение — это Моисей, найденный египетской царевной25[144]: для истории необычайно важный момент; реальное же значение этой картины то, что действительно дано созерцанию, — это найденыш, спасенный знатной женщиной из его плавучей колыбели: случай, который может произойти не раз. Только костюм может указать ученому здесь на определенное историческое событие; но костюм важен лишь для номинального значения, для реального же он безразличен, ибо последнее знает лишь человека как такового, а не произвольные формы. Сюжеты, заимствованные из истории, не имеют никакого преимущества перед теми, которые почерпнуты из одной лишь возможности, и должны поэтому называться не индивидуальными, а общими; ибо истинно значительное в первых — это все же не индивидуальное, не частное событие как таковое, а то, что есть в нем общего, та сторона идеи человечества, которая выражается в нем. С другой стороны, из-за этого вовсе не следует отвергать определенные
202
исторические темы; но только собственно художественное понимание их, как в живописи, так и в зрителе, никогда не обращено на то, что есть в них индивидуально-частного, исторического в собственном смысле, а направлено на то общее, что выражается в них, на идею. Кроме того, и выбирать следует лишь такие исторические сюжеты, где главный момент действительно поддается изображению, а не должен только подразумеваться, иначе номинальное значение картины слишком разойдется с реальным: то, что в картине лишь подразумевается, станет самым важным и нанесет ущерб созерцаемому[145]. Если уже на сцене не годится, чтобы (как во французской трагедии) главное действие происходило за кулисами, то в картине это, очевидно, еще гораздо большая ошибка. Решительно вредны исторические сюжеты лишь тогда, когда они ограничивают художника полем, избранным произвольно и не ради художественных, а ради иных целей, в особенности если это поле бедно живописными и значительными предметами, если, например, оно является историей народа маленького, обособленного, упрямого, подчиненного иерархической власти, т. е. предрассудкам, презираемого современными ему великими народами Востока и Запада; таковы евреи[146].
Ввиду того что переселение народов разделило нас и все древние народы так же, как происшедшее некогда изменение морского дна провело границу между теперешней земной поверхностью и той, организмы которой являются нам лишь в виде окаменелостей, то надо вообще усматривать великое несчастье в том, что народом, прошлой культуре которого суждено было преимущественно лечь в основание нашей, были, например, не индийцы, не греки, даже не римляне, а именно эти евреи. Но особенно для гениальных живописцев Италии XV и XVI веков злополучной звездой было то, что в тесном кругу сюжетов, которым они были произвольно ограничены, они должны были хвататься за всякого рода негодные вещи: ибо Новый Завет в своей исторической части еще менее благоприятен для живописи, чем Ветхий, а следующая затем история мучеников и отцов церкви — уже совсем неподходящий предмет. Однако от картин, имеющих своим сюжетом исторический или мифологический элемент иудейства и христианства, надо строго отличать те, в которых истинный, т. е. этический, дух христианства наглядно раскрывается в изображениях людей, исполненных этого духа. Такие картины действительно представляют собой самые высокие и изумительные произведения живописи, и они удавались только величайшим мастерам этого искусства, особенно Рафаэлю и Корреджо, — последнему преимущественно в его ранних картинах. Такие картины, собственно, нельзя причислять к историческим, потому что они, в большинстве случаев, не рисуют никакого события, никакого действия: они только изображают в разных сочетаниях группы святых, самого Спасителя, часто еще младенца, с его Матерью, ангелами и т. п. В их лицах, особенно в их глазах, мы видим выражение, отблеск совершенного познания, того познания, которое обращено не на отдельные вещи, а на идеи, т. е. в совершенстве постигло всю сущность мира и жизни; того познания, которое в обратном воздействии на их волю не внушает ей, как любое другое, мотивов, а, наоборот, стало квиетивом[147] всякого желания, из которого возникли полная резиньяция[148], составляю-
203
щая сокровенный дух христианства, как и индийской мудрости, отказ от всякого желания, устранение, уничтожение воли, а вместе с ней и всей сущности этого мира, т. е. искупление. Так эти навек прославленные мастера искусства своими творениями наглядно выразили высшую мудрость. И здесь — венец всякого искусства: проследив волю в ее адекватной объектности — идеях по всем ступеням, от самых низших, где ею управляют причины, до тех, где она повинуется раздражителям, и, наконец, до тех ступеней, где столь разнообразно ею движут и раскрывают ее сущность мотивы, оно завершает все изображением ее свободного самоотрицания посредством единого великого квиетива, который восстает перед ней из совершеннейшего познания ее собственного существа*.
§ 49
В основе всех наших предыдущих размышлений об искусстве лежит та истина, что объект искусства, изображение которого есть цель художника и познание которого должно поэтому предшествовать творению как его зародыш и источник, — этот объект есть идея в платоновском смысле и решительно ничто иное, не отдельная вещь, предмет обычного восприятия, и не понятие, объект разумного мышления и науки. Хотя идея и понятие имеют между собой то общее, что как первая, так и второе в качестве единства представляют множество реальных вещей, все же, я думаю, большое различие между ними выяснилось достаточно ясно и отчетливо из того, что в первой книге сказано о понятии и в этой книге — об идее. Но я вовсе не утверждаю, что еще Платон ясно понимал это различие; наоборот, многие из его примеров идей и его пояснений к ним применимы только к понятиям. Однако не будем останавливаться на этом вопросе и пойдем своей собственной дорогой, радуясь каждой встрече со следами великого и благородного ума, но шествуя не по его стопам, а двигаясь к собственной цели.
Понятие абстрактно, дискурсивно, совершенно неопределенно внутри своей сферы, определенно же только в своих границах, допустимо и понятно для каждого, кто только обладает разумом, может быть передано словами без дальнейшего посредничества, вполне исчерпывается своим определением. Напротив, идея, которую можно, пожалуй, определить как адекватную представительницу понятия, всецело наглядна и, хотя замещает бесконечное множество отдельных вещей, безусловно определенна: никогда она не познается индивидом как таковым, а только тем, кто возвысился над всяким желанием и всякой индивидуальностью до чистого субъекта познания. Таким образом, она доступна только гению, а затем тому, кто возвысился своей чистой способностью познания большей частью благодаря созданиям гения и сам обрел гениальное настроение духа; поэтому она может быть передана не всецело, а только условно, ибо постигнутая и воспроизведенная в худо-
204
жественном творчестве идея воздействует на каждого только в соответствии с его собственным интеллектуальным уровнем, отчего именно самые прекрасные творения каждого искусства, благороднейшие создания гения навеки остаются для тупого большинства людей книгой за семью печатями и недоступны для него, отделенного от них глубокой пропастью, как недоступно для черни общение с королями. Правда, и самые пошлые люди, опираясь на чужой авторитет, не отрицают общепризнанных великих творений, чтобы не выдать собственного ничтожества; но втайне они всегда готовы вынести им обвинительный приговор, если только им подадут надежду, что они могут сделать это не осрамясь, — и тогда, ликуя, вырывается на волю их долго сдерживаемая ненависть ко всему великому и прекрасному, которое никогда не производило на них впечатления и тем их унижало, и ненависть к его творцам. Ибо вообще чтобы добровольно и свободно признавать и ценить чужие достоинства, надо иметь свои. Этим объясняется и необходимость скромности при всякой заслуге и необычайно громкое прославление этой добродетели: ее одну, из всех ее сестер, называет каждый осмеливающийся похвалить какого-нибудь замечательного человека, всегда присоединяя ее к своей хвале, чтобы успокоить ничтожество и погасить его гнев. Да и что такое скромность, как не лицемерное смирение, с помощью которого в нашем мире, исполненном низкой зависти, достоинства и заслуги выпрашивают себе прощение тех, кто их вовсе лишен. Ведь тот, кто не приписывает себе заслуг потому, что у него их действительно нет, не скромен, а только честен.
Идея — это благодаря временной и пространственной форме нашего интуитивного восприятия есть единство, распавшееся на множественность; наоборот, понятие — это единство, вновь восстановленное из множественности посредством абстракции нашего разума, понятие может быть названо imitas post rem*, между тем как идея — imitas ante rem**26. Наконец, различие между понятием и идеей можно выразить еще сравнением: понятие сходно с безжизненным футляром, в котором, правда, лежит друг возле друга то, что в него вложили, но из которого зато нельзя и вынуть (аналитическими суждениями) больше того, что в него вложили (синтетической рефлексией); идея же, наоборот, развивает в том, кто ее воспринял, такие представления, которые сравнительно с одноименными ей понятиями новы: она подобна живому, развивающемуся, одаренному порождающей силой организму, который создает то, что и не лежало в нем готовым.
В силу всего сказанного понятие, как оно ни полезно для жизни и как ни пригодно, необходимо и плодотворно для науки, — вовеки бесплодно для искусства. Постигнутая идея — вот истинный и единственный источник всякого настоящего произведения искусства. В своей первозданной силе она черпается только из самой жизни, из природы, из мира, и постигает ее только истинный гений или человек, на мгновение вдохновленный до гениальности. Только из такого непосредственного восприятия рождаются истинные произведения, носящие в себе бессмерт-
205
ную жизнь. Именно потому, что идея всегда наглядна, художник не осознает in abstracto замысла и цели своего произведения: не понятие, а идея предносится ему; поэтому он не может дать себе отчета в своих действиях, он творит, как выражаются люди, одним чувством и бессознательно, даже инстинктивно. Наоборот, подражатели, маньеристы, imitatores, servum pecus* исходят в искусстве из понятия: они подмечают то, что нравится и действует в истинных произведениях, уясняют себе это, облекают в понятие, т. е. абстракцию, и затем подражают этому явно или скрыто, с рассудительной преднамеренностью. Подобно растениям-паразитам, они высасывают себе пищу из чужих произведений и, как полипы, принимают цвет своей пищи. Можно даже продлить сравнение и сказать, что они подобны тем машинам, которые, правда, раскалывают на мелкие части и дробят все влагаемое в них, но никогда не в состоянии этого переварить, так что всегда можно найти и выделить из смеси чуждые составные элементы; и только гений похож на ассимилирующий, претворяющий и продуктивный организм. Ибо хотя он и получает свое воспитание и развитие от своих предшественников и их творений, но оплодотворяет его непосредственно сама жизнь, сам мир — своими наглядными впечатлениями; поэтому даже высокое образование никогда не вредит его оригинальности. Все подражатели, все маньеристы схватывают сущность чужих образцовых произведений в понятиях, но понятия никогда не могут сообщить произведению внутренней жизни. Век, т. е. тупая чернь каждой эпохи, знает только понятия и льнет к ним, готовя поэтому манерным произведениям скорый и громкий успех; но через несколько лет они уже не годятся, потому что изменился дух времени, т. е. господствующие понятия, на которые те лишь и могли опираться. Только истинные творения, которые непосредственно почерпнуты из природы, из жизни, остаются, как и они сами, вечно юными и навсегда сохраняют свою первоначальную мощь. Ибо они принадлежат не тому или иному веку, а человечеству; и хотя именно поэтому они были равнодушно приняты своим веком, не захотев приспособляться к нему, косвенно и отрицательно вскрывая заблуждения своей эпохи, они были признаны поздно и неохотно, но зато не могут и устареть, продолжая пленять позднейшие столетия своей вечной свежестью и новизной. И тогда их уже нельзя больше игнорировать, потому что они увенчаны и санкционированы восхищением немногих знатоков, изредка появляющихся в течение веков** и подающих свои голоса; медленно возрастающая сумма этих голосов создает авторитет — тот единственный суд, который мы имеем в виду, когда апеллируем к потомству. Да, только из таких от времени до времени появляющихся личностей состоит этот суд, ибо масса потомства всегда остается такой же извращенной и тупой, какой всегда была и остается масса современности. Прочтите жалобы великих умов всех столетий на современников: они постоянно звучат так, как и ныне, ибо род людской всегда одинаков. Во все времена и во всех искусствах манерность заступает место духовности, составля-
206
ющей достояние лишь немногих,
манерность же — это старое, сброшенное облачение
получившего признание духовного феномена, который явился в последний раз. Отсюда следует, что одобрение потомства достигается обыкновенно за счет
одобрения современников, и наоборот*.
§ 50
Итак, если целью всякого искусства служит передача постигнутой идеи, которая благодаря этому посредничеству духа художника, очищаясь и обособляясь от всего чужеродного, становится доступной и гораздо менее восприимчивому человеку, не одаренному творческой способностью; если, далее, в искусстве нельзя исходить из понятий, то мы не можем одобрить того, когда произведение искусства намеренно и сознательно предназначается для выражения понятия, как это бывает в аллегории. Последняя — это художественное произведение, которое означает нечто иное сравнительно с тем, что оно изображает. Между тем все наглядное, а следовательно, и идея, выражает само себя непосредственно и со всей полнотой и не нуждается в посредничестве чего-нибудь другого, которое намекало бы на него. Отсюда то, что уясняется и представляется через нечто совершенно другое, ибо само не в состоянии достигнуть созерцания, — это всегда понятие. Аллегория поэтому всегда выражает понятие, и дух зрителя отвлекается от изображенного наглядного представления и направляется на совершенно иное, абстрактное, не наглядное представление, лежащее совсем вне данного художественного произведения; здесь, таким образом, картина или статуя должны выполнять то, что гораздо лучше выполняют буквы. Итак, то, что мы считаем целью искусства — изображение наглядно постигаемой цели, здесь не является целью. Но для того, к чему стремится аллегория, вовсе и не требуется большого художественного совершенства; достаточно, чтобы зрителю было видно, чем должна быть изображаемая вещь, и если это условие исполнено, то цель достигнута и дух направлен на представление совершенно иного рода, на абстрактное понятие, которое и составляло намеченную цель. Аллегория в изобразительном искусстве, следовательно, — это иероглифы; художественная ценность, которой они могут обладать в качестве наглядных изображений, присуща им не как аллегориям, но помимо того. «Ночь» Корреджо[149], «Гений славы» Аннибала Карраччи[150], «Часы» Пуссена[151] — прекрасные картины, но это совершенно не связано с тем, что они — аллегории. В качестве последних они дают только надпись и даже еще меньше. Вспомним еще раз указанную выше разницу между реальным и номинальным значением картины. Номинальным здесь является именно аллегорическое как таковое, например, гений славы; реальным служит то, что действительно изображено, — в данном случае прекрасный крылатый юноша, вокруг которого летают прекрасные мальчики: это выражает идею. Но такое реальное значение действует на нас лишь до тех пор, пока мы забываем номиналь-
207
ное, аллегорическое; стоит только вспомнить о нем, как наше созерцание нарушено, дух погружается в абстрактное понятие, а переход от идеи к понятию — это всегда падение. Номинальное значение, аллегорический умысел часто даже вредят реальному значению, наглядной правде; таково, например, неестественное освещение в «Ночи» Корреджо, которое, при всем своем прекрасном исполнении, мотивировано только аллегорически и в действительности невозможно. Если, таким образом, аллегорическая картина имеет художественную ценность, то последняя совершенно не зависит от того, что она дает в качестве аллегории; такое художественное произведение служит сразу двум целям — выражению понятия и выражению идеи; но только последнее может быть целью художественного произведения, первое же — это чуждая цель, забавная игра, состоящая в том, что картину одновременно заставляют играть роль надписи, иероглифа, — и придумано это в угоду тем, кому недоступна истинная сущность искусства. Это все равно что художественное произведение, которое одновременно является полезной утварью и служит двум целям: например, статуя, которая одновременно канделябр, или кариатида, или барельеф, который одновременно — щит Ахиллеса29. Истинные друзья искусства не одобрят ни того, ни другого. Правда, аллегорическая картина может и в этом своем качестве производить живое впечатление на душу, но такое же влияние, при одинаковых обстоятельствах, оказала бы и надпись. Например, если в душе человека прочно и глубоко укоренилось желание славы и он смотрит на нее как на свое законное достояние, которым он не пользуется лишь временно, пока еще не представил документов на право владения, и если он увидит перед собой гения славы с его лавровыми венками, то вся душа его придет в волнение и силы его пробудятся к деятельности; но с ним произошло бы то же самое, если бы он внезапно увидел на стене крупную и отчетливую надпись «Слава». Или если человек возвестил истину — важное открытие для практической жизни или научную теорию, и она не встретила себе признания, то на него произведет сильное впечатление аллегорическая картина, изображающая время, которое срывает покрывало и являет обнаженную истину; но точно так же подействовал бы на него и девиз «Le temps découvre la verité»*. Ибо то, что, собственно, производит здесь впечатление, — это лишь абстрактная мысль, а не созерцаемое.
Если, таким образом, аллегория представляет собой в изобразительном искусстве ложную тенденцию, направленную к совершенно чуждой для искусства цели, то она становится совсем невыносимой, когда доходит до изображения вымученных и натянутых толкований, вырождающихся в пошлость. Таковы, например, черепаха, означающая женское домоседство, Немезида, смотрящая в складки своего одеяния, — намек на то, что она видит сокровенное; комментарий Беллори, согласно которому Аннибал Карраччи потому облек сладострастие в желтую одежду, что хотел этим выразить, как скоро блекнут и желтеют его утехи, подобно соломе.
Если между изображением и выражаемым им понятием нет никакой связи, основанной на подведении под это понятие или на ассоциации
208
идей, а знак и означаемое связаны друг с другом совершенно условно, в силу положительного, случайного установления, то этот вид аллегории я называю символом. Так, роза — символ молчаливости, лавр — символ славы, пальма — символ победы, раковина — символ паломничества, крест — символ христианской религии; сюда же относятся и все значения, непосредственно выражаемые цветами: например, желтое — цвет измены, голубое — цвет верности[152]. Подобные символы часто могут быть полезными в жизни, но для искусства они не имеют ценности: они совершенно похожи на иероглифы или даже на китайское идеографическое письмо, и действительно, они одного порядка с гербами, с пучком, означающим гостиницу, с ключом, по которому узнают камергера, или кожей, по которой узнают рудокопов.
Когда, наконец, известные исторические или мифические лица или олицетворенные понятия обозначаются раз и навсегда определенными символами, то, собственно, последние следовало бы называть эмблемами: таковы животные евангелистов30, сова Минервы[153], яблоко Париса, якорь надежды и т. п. Между тем под эмблемами большей частью понимают те иносказательные, простые и поясненные девизом изображения, которые имеют своей целью наглядно представить какую-нибудь моральную истину; существуют большие сборники таких изображений, составленные И. Камерарием, Альциатом и др. Они служат переходом к поэтической аллегории, о чем речь будет ниже. Греческая скульптура обращается к созерцанию, поэтому она эстетична; индостанская обращается к понятию, поэтому она имеет характер чисто символический.
Этот взгляд на аллегорию, основанный на наших прежних размышлениях о внутренней сущности искусства и тесно с ним связанный, прямо противоречит мнению Винкельмана, который далек от мысли считать аллегорию чем-то совершенно чуждым цели искусства и часто мешающим ей: он всюду заступается за нее и даже видит высшую цель искусства в «изображении общих понятий и нечувственных вещей» (Соч., т. 1, с. 55 и сл.). Каждый может примкнуть к тому или другому взгляду. Но эти и подобные ему суждения Винкельмана, касающиеся собственно метафизики прекрасного, вполне убедили меня в той истине, что можно обладать необычайной восприимчивостью к художественной красоте и верно судить о ней, не умея, однако, дать абстрактное и подлинно философское объяснение сущности красоты и искусства, — как можно быть очень благородным и доброжелательным человеком и обладать крайне чувствительной совестью, точной в отдельных случаях, как химические весы, не умея, однако, философски обосновать и разъяснить in abstracto моральную ценность поступков.
Но к поэзии аллегория находится в совершенно ином отношении, чем к изобразительному искусству, и если здесь она неприемлема, то в поэзии она вполне уместна и целесообразна. Ибо в изобразительном искусстве она ведет от наглядно данного, этого подлинного предмета всякого искусства, к абстрактной мысли; в поэзии же отношение обратное: здесь непосредственно данное в словах есть понятие, и ближайшая цель всегда заключается в том, чтобы от него привести к наглядному, образ которого должна представлять себе фантазия слушателя. Если в изобразительном искусстве от непосредственно данного совершается
209
переход к чему-то другому, то этим другим неминуемо служит понятие, так как только абстрактное не может быть здесь дано непосредственно; понятие же никогда не должно быть источником, а его передача — целью художественного произведения. Наоборот, в поэзии понятие есть материал, непосредственно данное, от которого поэтому вполне можно отойти, чтобы вызвать нечто совершенно иное — наглядное, в каковом достигается цель. В общей связи поэтического произведения иное понятие, или абстрактная мысль, может быть неизбежным, хотя само по себе и непосредственно это понятие и не способно к наглядному изображению; тогда его часто делают наглядным посредством какого-либо подходящего примера. Так бывает уже при каждом тропе, в каждой метафоре, параболе и аллегории, в каждом сравнении: все они различаются между собой только размерами и обстоятельностью изображения. В словесных искусствах такие сравнения и аллегории производят замечательное впечатление. Как прекрасно выражает Сервантес ту мысль, что сон освобождает нас от всех духовных и физических страданий: «Сон — это плащ, покрывающий всего человека»! Какой прекрасной аллегорией выражает Клейст ту мысль, что философы и ученые просвещают человеческий род:
Те,
чья ночная лампада весь мир озаряет земной!
Как сильно и наглядно характеризует Гомер Ату, приносящую несчастье:
Нежны
стопы у нее: не касается ими
Праха
земного; она по главам человеческим ходит31.
(Илиада,
XIX, 91)
Как сильно подействовала басня Менения Агриппы о желудке и членах на удалившийся римский народ! Как прекрасно выражает предельно абстрактный философский догмат упомянутая платоновская аллегория о пещере в начале седьмой книги «Государства»!32 Глубокомысленной аллегорией с философской тенденцией предстает также миф о Просерпине, которая оказывается во власти подземного царства, потому что вкусила в нем гранатное яблоко33: это особенно ясно из той обработки этого мифа у Гёте, которая выше всяческих похвал и которую он вставил в качестве эпизода в свое «Торжество чувствительности». Мне известны три пространных аллегорических произведения: явное и откровенное — это несравненный «Критикон» Балтазара Грасиана34; он представляет собой обширное и богатое сплетение связанных между собой глубокомысленных аллегорий, служащих живым облачением моральных истин, которые получают благодаря этому величайшую наглядность и поражают нас богатством фантазии автора. Замаскированные же две аллегории — это «Дон Кихот» и «Гулливер в стране лилипутов»35. Первый аллегоризирует жизнь такого человека, который в противоположность другим не занят только устроением своего личного блага, а стремится к объективной, идеальной цели, овладевшей его помыслами и волей, — отчего он и кажется странным в этом мире. В Гулливере же все
210
физическое надо понимать в духовном смысле, и тогда станет ясно, что именно хотел сказать satirical rogue*, как его назвал бы Гамлет.
Так как, следовательно, для поэтической аллегории понятие всегда есть данное, которое она стремится представить наглядно, картинно, то иногда она может находить себе выражение или поддержку в написанной картине; последняя в таком случае рассматривается не как произведение изобразительного искусства, а лишь как поясняющий иероглиф и притязает только на поэтическое, а не на живописное значение. Такова прекрасная аллегорическая виньетка Лафатера, которая должна воодушевлять каждого благородного поборника истины: руку, держащую свечу, жалит оса, в то время как наверху пламя сжигает комаров; внизу подпись:
И пусть комару он и крылья сожжет,
И череп, и весь его мозг разорвет.
Свет все-таки свет;
Ко мне пусть и злая оса пристает,
Не брошу держать его, — нет**.
Сюда же относится надгробная плита с изображением погасшей дымящейся свечи и надписью:
Была ли сальная она, иль восковая, —
Покажет нам свеча, навеки погасшая.
Таково же, наконец, одно древненемецкое родословное древо: последний отпрыск разорившейся семьи выразил свою решимость провести жизнь в полном воздержании и целомудрии и этим прекратить свой род тем, что представил себя у корней многоветвистого дерева подрезающим его ножницами. Сюда же относятся вообще те упомянутые выше образы, обычно называемые эмблемами, которые можно было бы назвать также краткими нарисованными баснями с выраженной моралью.
Аллегории такого рода всегда надо причислять к поэзии, а не к живописи, и именно в этом заключается их оправдание: живописное их выполнение всегда остается здесь побочным элементом, и от него требуется только то, чтобы изображаемую вещь можно было узнать. Но как в изобразительном искусстве, так и в поэзии аллегория переходит в символ, если между наглядно представленным и абстрактным значением существует только произвольная связь. Так как все символическое основано в сущности на условном соглашении, то среди прочих недостатков в символе имеется и тот, что смысл его со временем забывается и он совершенно немеет: кто мог бы угадать, если бы это не было известно, почему рыба есть символ христианства?37 Разве какой-нибудь Шамполион38, потому что это решительно есть не что иное, как фонетический иероглиф. Поэтому Откровение Иоанна39 как поэтическая аллегория находится почти в таком же положении, как рельефы с magnus Deus sol Mithra***, все еще комментируемые****.
211
§ 51
Если предыдущие наши размышления об искусстве вообще мы от изобразительных искусств приложим к поэзии, то не усомнимся, что и ее цель — раскрывать идеи, ступени объективации воли и передавать их слушателю со всей той отчетливостью и живостью, как их постигла душа поэта. Идеи по существу наглядны; поэтому хотя в поэзии непосредственно передаются словами лишь абстрактные понятия, все же очевидно намерение показать слушателю в представителях этих понятий идеи жизни, что осуществимо только при помощи его собственной фантазии. Но чтобы возбудить ее согласно намеченной цели, абстрактные понятия, составляющие непосредственный материал как поэзии, так и самой сухой прозы, должны быть сопоставлены следующим образом: сферы их должны пересекаться между собою так, чтобы ни одно из них не застывало в своей абстрактной всеобщности, а вместо них выступали перед фантазией их наглядные представители, модифицируемые далее в словах поэта согласно его замыслу. Как химик из совершенно светлых и прозрачных жидкостей получает путем их соединения твердые осадки, так поэт умеет из абстрактной, прозрачной всеобщности понятий как бы извлечь благодаря самому способу их соединения нечто конкретное и индивидуальное — наглядное представление. Ибо лишь наглядно познается идея, а познание цели — это цель всякого искусства. Мастерство в поэзии, как и в химии, приводит к умению получать каждый раз именно тот осадок, которого желали. Этой цели служат многочисленные эпитеты поэзии, которые все более и более суживают общность понятия, доводя ее до наглядности. Гомер почти к каждому существительному присоединяет имя прилагательное, понятие которого врезается в сферу первого понятия и тотчас же значительно суживает его, отчего оно уже так сильно приближается к созерцанию, например:
Occidit
vero in Oceanum splendidum lumen solis,
Trahens
noctem nigram super almam terrain*.
Или стихи:
Где
негой юга дышит небосклон,
Где дремлет мирт, где лавр заворожен…42
немногими понятиями запечатлевают перед фантазией все очарование южного климата.
Совершенно особое вспомогательное средство поэзии — ритм и рифма. Я не могу иначе объяснить их невероятно могущественное воздействие, кроме как тем, что наша способность представления, существенно связанная со временем, получила от этого то свойство, благодаря которому мы внутренне сопровождаем каждый регулярно возвращающийся звук и как бы вторим ему. Вот почему ритм и рифма отчасти приковывают наше внимание, побуждая нас тем охотнее следить за повествуемым; отчасти же благодаря им в нас возникает слепое, предшествующее
212
всякому суждению согласие с повествуемым, отчего последнее приобретает известную эмфатическую убедительность, не зависимую от каких-либо доводов.
Ввиду общности материала, которым пользуется поэзия для передачи идей, т. е. общности понятий, пределы ее сферы очень широки. Она может изображать всю природу, идеи всех ступеней, потому что, в соответствии с передаваемой идеей, она прибегает то к описательному, то к повествовательному, то непосредственно к драматическому изображению. Если, однако, в изображении низших ступеней объективности воли изобразительное искусство большей частью превосходит ее, потому что бессознательная, а также чисто животная природа раскрывает почти всю свою сущность уже в одном хорошо подмеченном моменте, то, напротив, человек, поскольку он высказывается не одним лишь своим обликом и выражением лица, но и цепью поступков и сопутствующих им аффектов и мыслей, — человек составляет главный предмет поэзии, с которой в этом отношении не сравнится никакое другое искусство, потому что ей приходит здесь на помощь поступательное движение, чуждое изобразительным искусствам.
Итак, раскрытие той идеи, которая является высшей ступенью объектности воли, изображение человека в связной цепи его стремлений и поступков — вот великий замысел поэзии. Правда, знакомят с человеком и опыт, и история, но они знакомят чаще с людьми, чем с человеком, т. е. скорее дают эмпирические сведения о взаимоотношениях людей (каждый извлекает отсюда правила для собственного поведения), чем позволяют глубоко заглянуть во внутреннюю сущность человека. Правда, и она не остается для них вовсе закрытой; но всякий раз, когда в истории или в нашем собственном опыте нам раскрывается самая сущность человечества, мы воспринимаем этот опыт, как историки — историю, уже глазами художника, поэтически, т. е. в идее, а не в явлении, во внутреннем существе, а не в отношениях. Собственный опыт служит неизбежным условием для понимания поэзии, как и истории, потому что он является как бы словарем того языка, на котором говорят они обе. Но история относится к поэзии, как портретная живопись к исторической: первая дает частную истину, вторая — общую; первая обладает истиной явления и может в нем ее удостоверить, вторая обладает истиной идеи, которую нельзя найти в каком-нибудь отдельном явлении, но которая говорит во всех них. Поэт избирательно и намеренно изображает значительные характеры в значительных положениях; историк берет те и другие так, как они являются ему. Он не может даже рассматривать и выбирать события и деятелей по их внутреннему, подлинному значению, насколько они выражают идею, — он должен придерживаться их внешней, показной, относительной важности с точки зрения связей и результатов. Он не имеет права рассматривать что бы то ни было само по себе, в его существенном характере и выражении, а ко всему должен подходить с мерилом относительного, все изучать в связи событий, во влиянии на последующее и особенно на современность. Поэтому он не обойдет молчанием незначительное, даже пошлое действие короля, потому что оно вызывает известные последствия и оказывает влияние. Напротив, он не имеет права упоминать о необычайно значительных действиях отдельных лиц, о выдающихся индивидах, если эти события
213
не имели последствий и если эти личности не оказали влияния. Ибо его рассмотрение руководствуется законом основания и подмечает явления, формой которых служит этот закон. Поэт же схватывает идею, сущность человечества, вне всяких отношений, вне всякого времени, — адекватную объектность вещи в себе на ее высшей ступени. Поэтому, хотя и при этом способе изучения, которого необходимо держаться историку, внутренняя сущность, смысл явлений, ядро любой оболочки не могут совсем исчезнуть и остаются доступными и познаваемыми по крайней мере для того, кто их ищет, — однако то, что имеет значение само по себе, а не по своим отношениям, истинное раскрытие идеи происходит гораздо вернее и отчетливее в поэзии, чем в истории, и потому, как ни парадоксально это звучит, следует признать, что в поэзии гораздо больше подлинной, настоящей, внутренней правды, чем в истории. Ведь историк обязан держаться индивидуального события именно так, как оно происходило в жизни, как оно развивалось во времени, в многообразном сплетении причин и следствий, но он не может обладать для этого всеми данными, все видеть или все разузнать: в каждое мгновение оригинал его картины оставляет его или подменяется ложным, и это происходит столь часто, что можно подумать, будто во всякой истории больше лжи, чем истины[154]. Наоборот, поэт схватывает идею человечества с какой-нибудь определенной подлежащей изображению стороны, и то, что в ней объективируется для него, есть сущность его собственного я; его познание, как объяснено выше по поводу скульптуры, наполовину априорно, его образец предстоит его духу непоколебимо, отчетливо, в ярком освещении и не может его покинуть, — оттого в зеркале своего духа он показывает нам идею в ее чистоте и ясности, и его изображение правдиво до мельчайших деталей, как сама жизнь*[155]. Поэтому великие историки древности — поэты в деталях, там, где
214
данные их оставляют, например, в речах своих героев; да и самый способ обработки материала приближается у них к эпосу, но именно это и придает их изображениям единство и позволяет им сохранять внутреннее правдоподобие даже там, где внешняя правда для них недоступна или совсем искажена; и если мы недавно сравнивали историю с портретной живописью, в противоположность поэзии, которая соответствует исторической живописи, то теперь мы видим, что требование Винкельмана — портрет должен быть идеалом индивида — соблюдалось еще древними историками: они так изображали даже детали, что выражающая их сторона идеи человечества все же выступает наружу; между тем как новые историки, за немногими исключениями, дают по большей части только «рухлядью заваленный чулан» и, в лучшем случае, «государственное действо»45.
Таким образом, кто хочет познать человечество в его идее, в его внутренней сущности, тождественной во всех проявлениях и в развитии, тому произведения великих бессмертных поэтов раскроют картину гораздо более верную и отчетливую, чем это могут сделать историки, потому что даже лучшие из них далеко не выдаются как поэты, а руки у них к тому же связаны. Взаимоотношение между ними в этом смысле может быть пояснено следующим сравнением. Просто чистый историк, работающий только на основании данного материала, подобен человеку, который безо всякого знания математики посредством измерения случайно найденных фигур исследует их отношения, отчего эти эмпирические выводы страдают всеми ошибками начерченных фигур; напротив, поэт подобен математику, который конструирует эти отношения a priori, в чистом созерцании, и выражает их не такими, как они действительно начертаны в данной фигуре, а такими, каковы они в идее, которую должен представлять чертеж. Поэтому и говорит Шиллер:
Не
стареет лишь одно вовеки:
То,
что не свершалось никогда, нигде46.
С точки зрения познания сущности человечества я склонен даже приписывать больше значения биографиям, особенно автобиографиям, чем собственно истории, по крайней мере, как ее обычно трактуют. С одной стороны, в биографии можно собрать данные правильнее и полнее, чем в истории; с другой стороны, в истории действуют не столько люди, сколько народы и войска, и отдельные личности, выступающие в ней, появляются в таком отдалении, так плотно окруженные, с такой свитой, и притом затянутые в официальные одежды или прикрытые тяжелыми негнущимися панцирями, что поистине трудно разглядеть сквозь все это человеческие движения. Напротив, верно изображенная жизнь отдельной личности в узком кругу показывает нравы людей во всех их оттенках и формах — благородство, доблесть и даже святость немногих, низость иных, извращение, ничтожество, коварство большинства. При этом в единственно рассматриваемом здесь отношении, а именно в отношении внутреннего смысла явлений, совершенно безразлично, будут ли предметы, вокруг которых вращается действие, срав-
215
нительно мелкими или важными, будут ли это крестьянские дворы или государства: ибо все эти вещи, не имея значения сами по себе, получают его лишь оттого и настолько, насколько они движут волю, — мотив приобретает значение только благодаря своему отношению к воле; напротив, то отношение, в котором он как вещь находится к другим подобным вещам, совсем не принимается в расчет. Как круг с диаметром в один дюйм обладает совершенно такими же геометрическими свойствами, как и круг с диаметром сорок миллионов миль, так история и события деревни и государства по существу одни и те же; как по одним, так и по другим можно изучать и познавать человечество. И несправедливо думать, будто автобиографии исполнены лжи и притворства. Напротив, ложь (возможная, впрочем, везде) там, быть может, труднее, чем где бы то ни было[156]. Притворяться легче всего в простой беседе; и как это парадоксально ни звучит, притворство в сущности уже труднее в письме, потому что здесь человек, предоставленный самому себе, смотрит в себя, а не наружу, с трудом вникает в чуждое и далекое и не имеет перед глазами масштаба того впечатления, которое он производит на другого; а этот другой, напротив, спокойно, в настроении, чуждом писавшему, просматривает его письмо, перечитывает его несколько раз и в разное время и таким образом легко обнаруживает скрытый умысел. И автора легче всего можно узнать как человека из его книги, потому что все названные условия действуют здесь еще сильнее и устойчивее; притворяться в автобиографии так трудно, что, быть может, нет ни одной из них, которая в целом не была бы правдивее всякой другой написанной истории. Человек, излагающий свою жизнь, обозревает ее в целом и в крупных чертах; детали уменьшаются, близкое удаляется, далекое вновь приближается, перспективы сдвигаются: он исповедует самого себя и добровольно кается в грехах; дух лжи здесь не так легко овладевает им, потому что в каждом человеке таится и склонность к истине, которую надо сперва одолеть при всякой лжи и которая именно здесь занимает необыкновенно твердую позицию. Отношение между биографией и историей народов можно наглядно представить в следующем сравнении. История показывает нам человечество так, как природа показывает с высокой горы какой-нибудь ландшафт: сразу является перед нами многое — далекие пространства, большие массы; но нет ничего отчетливого, и ничего нельзя распознать во всем его подлинном существе. Напротив, описание жизни отдельной личности показывает человека так, как мы познаем природу, когда бродим среди ее дерев, растений, скал и вод. Но подобно тому как ландшафтная живопись, в которой художник заставляет нас смотреть на природу его глазами, весьма облегчает нам познание ее идей и требующееся для этого состояние безвольного чистого познания, так для изображения тех идей, которые мы можем искать в истории и биографии, поэзия имеет значительное преимущество перед ними обеими, потому что и здесь гений держит перед нами проясняющее зеркало, в котором все существенное и важное является собранным воедино и при ярком освещении, все же случайное и чуждое устранено*.
216
Предназначенное поэту изображение идеи человечества он может осуществлять либо так, что изображенный в то же время будет и изображающим: это бывает в лирической поэзии, собственно в песне, где поэт живо созерцает и описывает только свое личное настроение, отчего этому роду поэзии, в силу его содержания, присуща известная субъективность; либо так, что изображаемое будет совершенно отделено от изображающего: это бывает во всех других родах поэзии, где изображающий в большей или меньшей степени скрывается за изображаемым и, наконец, совсем исчезает. В романсе автор еще выражает свое настроение в тоне и строе целого; поэтому, хотя и более объективный, чем песнь, романс все-таки содержит в себе еще нечто субъективное; оно слабеет в идиллии, еще более — в романе, почти совершенно исчезает в чистом эпосе, и, наконец, все следы его теряются в драме, которая представляет собою самый объективный, во многих отношениях самый совершенный и в то же время самый трудный род поэзии. Лирика, таким образом, — самый легкий ее род, и хотя искусство вообще служит достоянием только редкого истинного гения, но человек, в целом даже не очень выдающийся, может все-таки создать прекрасную песнь, если какое-нибудь сильное внешнее впечатление действительно его вдохновит, ибо для этого требуется лишь живое созерцание собственного настроения в минуту возбуждения. Это доказывает множество отдельных песен, авторы которых остались неизвестными, — особенно немецкие народные песни (превосходный их сборник мы имеем в «Волшебном роге»), а также бесчисленные любовные и другие народные песни на всех языках. Ибо постигнуть настроение минуты и воплотить его в песне — вот вся сущность этого рода поэзии. Тем не менее в лирике истинных поэтов запечатлевается душа всего человечества, и все, что испытали и испытывают в тождественных, вечно возвращающихся положениях миллионы живших, живущих и будущих людей, находит в ней соответствующий отзвук. Так как эти положения, вечно повторяясь, как само человечество, остаются неизменными и всегда вызывают одни и те же чувства, то лирические создания истинных поэтов сохраняют свою правдивость, действенность и свежесть на протяжении тысячелетий. Ведь поэт вообще — это всечеловек: все, что только волновало когда-нибудь сердце человека и что в разные моменты воссоздает из себя природа человеческого духа, все, что живет и зреет в человеческой груди, все это — его сюжет, его материал, а кроме того, и вся остальная природа. Вот отчего поэт может одинаково воспевать и сладострастие, и мистику, быть Анакреоном или Ангелусом Силезиусом47, писать трагедии или комедии, изображать возвышенное или низменное в зависимости от своего настроения или призвания. Поэтому никто не имеет права указывать поэту быть благородным и возвышенным, нравственным, благочестивым, христианином, быть тем или другим; а еще меньше — упрекать его за то, что он таков, а не иной. Поэт — зеркало человечества, и он доводит до сознания человечества то, что оно чувствует и делает.
Если мы ближе рассмотрим сущность песни в собственном смысле и в качестве примеров возьмем прекрасные и чистые образцы, а не такие, которые так или иначе приближаются уже к другому роду, например
217
к романсу, элегии, гимну, эпиграмме и т. п., то мы найдем, что эта специфическая сущность песни в узком смысле заключается в следующем. То, что наполняет сознание поющего, это — субъект воли, т. е. собственное его желание, часто разрешенное, удовлетворенное (радость), чаще же задержанное (печаль) и всегда — аффект, страсть, возбужденное состояние духа. Но наряду и одновременно с этим вид окружающей природы вызывает в певце сознание того, что он субъект чистого безвольного познания, и невозмутимый блаженный покой этого познания составляет контраст с волнением всегда ограниченной, никогда не насыщаемой воли; ощущение этого контраста, этой борьбы и есть собственно то, что выражает целое песни и в чем, собственно, состоит лиризм. В нем как бы охватывает нас чистое познание, чтобы освободить нас от желания и его порывов; мы повинуемся, но только на мгновение: желания и думы о наших личных целях снова отрывают нас от спокойного созерцания, но, с другой стороны, нас опять отвлекает от желания то прекрасное, что нас окружает и где восстает перед нами чистое безвольное познание. Поэтому в песне и лирическом настроении желание (личный интерес целей) и чистое созерцание окружающего проходят в удивительном союзе: между тем и другим отыскиваются и воображаются связи; субъективное настроение, состояние воли сообщают свою окраску созерцаемой обстановке, а последняя, в свою очередь, отражается в этом настроении и окрашивает его собою; настоящая песнь — отпечаток всего этого смешанного и расщепленного состояния духа.
Чтобы уяснить на примере это абстрактное расчленение душевного состояния, весьма далекого от всякой абстракции, можно взять любую из бессмертных песен Гёте; как особенно подходящие для этой цели я назову лишь некоторые: «Жалоба пастуха», «Свидание и разлука», «К луне», «На озере», «Осеннее чувство». Прекрасными примерами могут служить также песни в собственном смысле из «Волшебного рога», особенно та, которая начинается словами: «О Бремен, я должен покинуть тебя». Примечательной кажется мне одна песнь Фосса — комическая, меткая пародия лирического характера: он изображает в ней ощущение падающего с колокольни пьяного кровельщика, который, падая, замечает нечто весьма далекое от его положения и, следовательно, относящееся к безвольному познанию, а именно то, что башенные часы показывают как раз половину двенадцатого.
Кто разделяет изложенный мною взгляд на лирическое настроение, тот согласится и с тем, что в сущности оно является поэтическим и наглядным познанием той высказанной в моем трактате о законе основания уже упомянутой в этом сочинении истины, что тождество субъекта познания и субъекта желания может быть названо чудом χατ᾿ εξοχην; поэтическое воздействие песни основывается в конце концов, собственно, на этой истине. На жизненном пути оба эти субъекта, или, выражаясь популярно, голова и сердце, все более и более расходятся между собою; все более и более отделяем мы свое субъективное ощущение от своего субъективного познания. В ребенке они еще вполне слиты: он едва отличает себя от окружающего и растворяется в нем. В юноше
218
каждое восприятие вызывает прежде всего ощущение и настроение, даже смешивается с ними, как это прекрасно выражает Байрон:
I live not in myself, but I
bec
Portion of that around me; and
to me
High mountains are a feeling*.
Именно оттого юноша так сильно тяготеет к наглядной внешней стороне вещей, именно оттого он способен только на лирическую поэзию, и лишь зрелый муж способен к драме. Старика можно представить себе разве только эпиком, в роли Оссиана, Гомера, ибо повествование присуще характеру старца. В более объективных родах поэзии, особенно в романе, эпосе и драме, цель их, раскрытие идеи человечества, достигается преимущественно двумя средствами: верным и глубоким изображением значительных характеров и созданием значимых ситуаций, в которых они раскрываются. Ибо подобно тому как химик обязан не только чисто и верно проявлять элементы и их главные соединения, но и подвергать их влиянию таких реагентов, при которых с поразительной ясностью и отчетливостью обнаруживаются их особенности, так и поэт должен не только выводить перед нами правдиво и верно, словно сама природа, значительные характеры, но и, чтобы они стали нам понятными, ставить их в такие ситуации, где их особенности получили бы полное развитие и они приняли бы отчетливые, резкие очертания, отчего такие ситуации и называются значительными. В действительной жизни и в истории случай лишь изредка создает положения такого рода, и там они единичны, затеряны и скрыты в массе незначительного. Значительность всех ситуаций должна так же отличать роман, эпос, драму от действительной жизни, как и сопоставление, и выбор значительных характеров; но чтобы они производили впечатление, непременным условием тех и других является строжайшая правда, и недостаток единства в характерах, противоречие их самим себе или сущности человечества вообще, как и невозможность или граничащее с ней неправдоподобие событий, хотя бы даже в деталях, так же оскорбляют в поэзии, как неверный рисунок, фальшивая перспектива или неправильное освещение — в живописи: ибо как там, так и здесь мы требуем верного зеркала жизни, человечества, мира — лишь проясненного благодаря изображению и осмысленного через сопоставление. Так как у всех искусств цель только одна — изображение идей и существенное различие между искусствами заключается лишь в том, какую ступень объективации воли представляет изображаемая идея (а этим, в свою очередь, определяется материал изображения), то даже самые отдаленные друг от друга искусства можно пояснить, сравнивая их друг с другом. Так, чтобы вполне постигнуть идеи, выражающиеся в воде, недостаточно видеть ее в спокойном пруду и ровно текущей реке: эти идеи находят свое полное раскрытие лишь тогда, когда вода является при всех тех условиях и препятствиях,
219
которые, действуя на нее, побуждают ее к полному обнаружению всех ее свойств. Вот почему мы находим прекрасным, когда она низвергается, бурлит, пенится, вновь вздымается ввысь или, падая, разбивается на множество брызг, или же, наконец, искусственной струей устремляется вверх: так, принимая при разных условиях разные формы, она тем не менее всегда остается верной своему характеру — для нее столь же естественно пускать брызги вверх, как и хранить зеркальный покой; она одинаково готова и к тому, и к другому, смотря по обстоятельствам. И вот то, чего мастер гидравлики добивается с текучей материей, а архитектор — с застывшей, этого же эпический или драматический поэт достигает с идеей человечества. Раскрытие и уяснение идеи, выражающейся в объекте каждого искусства, раскрытие и уяснение объективирующейся на каждой ступени воли — такова общая цель всех искусств. Жизнь человека, как она большей частью происходит в действительности, подобна воде в пруду или реке, как она чаще всего встречается; в эпосе же, романе и трагедии избранные характеры ставятся в такие условия, при которых развиваются все их особенности, раскрываются глубины человеческого духа, проявляясь в необычных и знаменательных действиях. Так поэзия объективирует, идею человека, которой свойственно выражать себя в характерах предельно индивидуальных.
Вершиной поэзии, как по силе впечатления, так и по трудности осуществления, надо считать трагедию, да ее и признают таковой. Важно и знаменательно для общей мысли всего нашего исследования, что целью трагедии, этой вершины поэтического творчества, является изображение страшной стороны жизни, — здесь показывают нам несказанное горе, скорбь человечества, торжество злобы, насмешливое господство случая и неотвратимую гибель праведного и невинного: это — знаменательное указание на характер мира и бытия. Здесь, на высшей ступени объектности воли, грозно выступает в своем полном развитии ее борьба с самой собою. Она проявляется в страдании людей, которое вызывают отчасти случай и заблуждение, эти властители мира, до того коварные, что кажутся преднамеренными и потому олицетворяются в виде судьбы; отчасти же оно вытекает из самого человечества, в силу скрещения индивидуальных желаний, в силу злобы и извращенности большинства. Во всех людях живет и проявляется одна и та же воля, но явления ее всегда борются между собою и терзают самих себя. В одном индивиде она выступает сильнее, в другом — слабее, здесь она осознана и смягчена светом познания в большей степени, там — в меньшей, пока, наконец, это познание, очищенное и усиленное самим страданием, не достигает в отдельных личностях того пункта, где его уже не обманывает явление, пелена Майи, где оно прозревает форму явления, principium individuationis, и основывающийся на этом принципе эгоизм именно потому отмирает, так что мотивы, прежде столь могучие, теряют свою власть, и вместо них совершенное познание сущности мира, действуя как квиетив воли, вызывает резиньяцию, отречение не только от жизни, но и от самой воли к жизни. Так, мы видим в трагедии, что ее благороднейшие герои, после долгой борьбы и страданий, навсегда отрекаются и от своих целей, к которым они столь пламенно стремились до тех пор, и от всех радостей жизни, или же охотно и радостно покидают самую
220
жизнь; таков стойкий принц Кальдерона, такова Гретхен в «Фаусте», таков Гамлет, за которым охотно последовал бы его Горацио, если бы тот не упросил его остаться и еще некоторое время потерпеть в этом суровом мире, чтобы разъяснить судьбу Гамлета и очистить память о нем; такова и Орлеанская дева, и Мессинская невеста: все они умирают, очищенные страданием, т. е. после того как в них уже умерла воля к жизни. В «Магомете» Вольтера это выражено даже буквально — в заключительных словах, с которыми обращается к Магомету умирающая Пальмира: «Мир создан для тиранов: живи!» Наоборот, требование так называемой поэтической справедливости основано на совершенном непонимании существа трагедии и даже существа мира. Во всей своей банальности оно дерзко выступает в той критике, которой доктор Самуил Джонсон подверг отдельные пьесы Шекспира49; в ней он весьма наивно жалуется на сплошное пренебрежение этим требованиям, что, разумеется, имеет место — ибо чем провинились Офелии, Дездемоны, Корделии? Но только плоское, оптимистическое, протестантско-рационалистическое или, собственно, еврейское мировоззрение[157] способно требовать поэтической справедливости и в ее осуществлении находить удовлетворение себе50. Истинный смысл трагедии заключается в более глубоком взгляде: то, что искупает герой, — это не его личные грехи, а первородный грех, т. е. вина самого существования[158]:
Pues el delito mayor
Del h
как это прямо говорит Кальдерон51.
Относительно построения трагедии я позволю себе только одно замечание. Изображение великого несчастья только и существенно для трагедии. Но различные пути, которыми поэт осуществляет это изображение, могут быть сведены к трем категориям. Во-первых, он может изображать необыкновенную, доходящую до предела возможного злобу характера, который и становится причиной несчастья; примеры этого рода — Ричард III, Яго в «Отелло», Шейлок в «Венецианском купце», Франц Моор, Федра Еврипида, Креон в «Антигоне»[159] и т. п. Во-вторых, несчастье может быть вызвано слепой судьбою, т. е. случайностью и ошибкой; истинным образцом этого рода может служить царь Эдип Софокла, затем «Трахинянки» и вообще большинство трагедий древних, а среди новых — «Ромео и Джульетта», «Танкред» Вольтера, «Мессинская невеста». Наконец, в-третьих, несчастье может быть вызвано и просто положением действующих лиц относительно друг друга, их взаимными связями, так что для этого вовсе не нужно ни чудовищного заблуждения, ни неслыханной случайности, ни характера, достигшего пределов человеческой злобы: просто обыкновенные в моральном смысле характеры при обстоятельствах, какие бывают нередко, поставлены в такие отношения между собою, что их положение заставляет их сознательно и заведомо причинять друг другу величайшее зло, и при том ни одна сторона не оказывается исключительно неправой. Мне
221
кажется, что этот последний род трагедии гораздо предпочтительнее двух других, ибо он рисует нам величайшее несчастье не в виде исключения, не как продукт редкого сочетания обстоятельств или чудовищных характеров, а как нечто почти неизбежное, легко и само собой вытекающее из людских поступков и характеров, и именно этим являет несчастье в устрашающей близости к нам. И если в двух других видах трагедии жестокая судьба и ужасная злоба казались нам страшными, но лишь издалека грозящими силами, которые мы лично можем миновать без отречения, то последний вид воочию показывает нам, что эти разрушающие счастье и жизнь силы в любой момент могут настигнуть и нас самих и что величайшее страдание бывает результатом сплетений, по существу своему способных затронуть и нашу судьбу, результатом поступков, которые мы сами, вероятно, могли бы совершить, так что не имели бы права жаловаться на несправедливость, — и тогда мы с ужасом чувствуем себя на дне ада. Но и создать трагедию этого последнего рода необычайно трудно, потому что здесь требуется произвести сильнейшее впечатление при незначительной затрате средств и движущих причин, просто лишь их сопоставлением и распределением: вот почему даже во многих лучших трагедиях эта трудность совсем обойдена. Как совершеннейший образец этого рода можно все-таки привести одну пьесу, которую в иных отношениях значительно превзошли многие другие пьесы того же великого мастера: это «Клавиго». «Гамлет» до известной степени относится сюда же, если иметь в виду только отношение героя к Лаэрту и Офелии; «Валленштейн» тоже обладает этим преимуществом; «Фауст» всецело принадлежит к этому же роду, если видеть главный момент действия в событии с Гретхен и ее братом; таков же и «Сид» Корнеля, но только ему недостает той трагической развязки, какую имеют аналогичные отношения Макса и Теклы*.
§ 52
Мы рассмотрели все искусства в той общности, какая соответствует нашей точке зрения, начав с искусства зодчества, целью которого как такового служит уяснение объективации воли на самой низшей ступени ее видимости, где воля выражается как глухое, бессознательное, закономерное стремление массы и, однако, уже являет самораздвоение и борьбу (а именно между тяжестью и инерцией), и закончив трагедией, которая на высшей ступени объективации воли выводит перед нами этот ее разлад с самой собою с ужасающей масштабностью и ясностью. Но мы видим, что одно искусство все-таки не вошло в наше исследование и не должно было войти в него, так как в систематической связи нашего изложения для него не оказалось подходящего места: это — музыка. Она стоит совершенно особняком от всех других. Мы не видим в ней подражания, воспроизведения какой-либо идеи существ нашего мира; и тем не менее она представляет собой великое и прекрасное искусство, так сильно влияет на душу человека и так полно и глубоко понимается
222
им в качестве всеобщего языка, который своею внятностью превосходит даже язык наглядного мира, что мы, несомненно, должны видеть в ней нечто большее, чем exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi*, как определил ее Лейбниц**, который, однако, был совершенно прав, поскольку он имел в виду лишь ее непосредственное и внешнее значение, ее оболочку. Но если бы она была только этим, то доставляемое ею удовлетворение было бы подобно тому, какое мы испытываем при верном решении арифметической задачи, и оно не могло бы быть той внутренней отрадой, какую доставляет нам выражение сокровенной глубины нашего существа[160]. Поэтому, с нашей точки зрения, имеющей в виду эстетический результат, мы должны приписать ей гораздо более серьезное и глубокое значение: оно касается внутренней сущности мира и нашего я, и в этом смысле числовые отношения, к которым может быть сведена музыка, представляют собой не означаемое, а только знак. То, что она должна относиться к миру в известном смысле как изображение к изображаемому, как снимок к оригиналу, это мы можем заключить по аналогии с прочими искусствами, которым свойствен этот признак и воздействие которых на нас однородно с воздействием музыки. Последнее только сильнее и быстрее, более неизбежно и неотвратимо. И ее воспроизведение мира должно быть очень интимным, бесконечно истинным и верным, ибо всякий мгновенно понимает ее; и уже тем обнаруживает она известную непогрешимость, что форма ее может быть сведена к совершенно определенным правилам, выражаемым числами, и она не может уклониться от этих правил, не перестав совсем быть музыкой. И все же точка соприкосновения между музыкой и миром, то отношение, в силу которого она является подражанием миру или воспроизведением его, таится очень глубоко. Музыкой занимались во все времена, но не отдавали себе в ней отчета: довольствуясь ее непосредственным пониманием, отказывались от абстрактного постижения этого непосредственного понимания.
Всецело предав свой дух впечатлениям музыки в ее разнообразных видах и вернувшись затем к рефлексии и к изложенному в настоящей книге ходу своих мыслей, я нашел разгадку ее внутренней сущности и характера ее воспроизведения мира, которое необходимо предполагается в силу аналогии. Эта разгадка вполне удовлетворяет меня и мое исследование и, вероятно, будет столь же убедительна и для тех, кто следил за мною и согласен с моим взглядом на мир. Но доказать эту разгадку я считаю по существу невозможным, ибо она принимает и устанавливает отношение музыки как представления к тому, что по существу никогда не может быть представлением, и требует, чтобы в музыке видели копию такого оригинала, который сам непосредственно никогда не может быть представлен. Поэтому я должен ограничиться только тем, что здесь, в конце этой третьей книги, посвященной главным образом рассмотрению искусств, изложу эту найденную мною разгадку чудесного искусства звуков, а подтверждение или отрицание своего
223
взгляда я должен предоставить тому впечатлению, которое производит на каждого читателя отчасти музыка, отчасти же вся единая мысль, изложенная мною в этом сочинении. Кроме того, чтобы предстоящее изложение смысла музыки могло быть принято с полным убеждением, необходимо, по-моему, часто вслушиваться в музыку с продолжительным раздумьем об этом изложении, а для этого опять-таки требуется уже близкое знакомство со всей изложенной мною мыслью.
Адекватной объективацией воли служат платоновские идеи; вызвать познание этих идей путем изображения отдельных вещей (ибо таковыми являются все художественные произведения), что возможно лишь при соответствующем изменении познающего субъекта, — вот цель всех других искусств. Таким образом, все они объективируют волю лишь косвенно — при посредстве идей; и так как наш мир есть не что иное, как явление идей во множественности, посредством вступления в principium individuationis (форму познания, возможного для индивида как такового), то музыка, не касаясь идей, будучи совершенно независима и от мира явлений, совершенно игнорируя его, могла бы до известной степени существовать, даже если бы мира не было вовсе, чего о других искусствах сказать нельзя. Музыка — это непосредственная объективация и отпечаток всей воли, подобно самому миру, подобно идеям, множественное явление которых составляет мир отдельных вещей. Музыка, следовательно, в противоположность другим искусствам, есть не отпечаток идей, а отпечаток самой воли, объектность которой представляют идеи; вот почему действие музыки настолько мощнее и глубже действия других искусств: ведь последние говорят только о тени, она же — о существе. Но так как и в идеях, и в музыке объективируется одна и та же воля (только совершенно различным образом в каждой из этих областей), то между музыкой и идеями, явлением которых во множественности и несовершенстве предстает видимый мир, несомненно существует все же параллелизм, аналогия, хотя и не непосредственное сходство. Указание на эту аналогию поможет легче понять мою трудную, в силу темноты предмета, мысль.
В самых низких тонах гармонии, в ее басовом голосе я узнаю низшие ступени объективации воли, неорганическую природу, планетную массу[161]. Все высокие тоны, подвижные и скорее замирающие, как известно, следует считать происшедшими от побочных колебаний низкого основного тона, звучание которого они всегда тихо сопровождают; и это — закон гармонии, что на басовую ноту могут приходиться вверху лишь те ноты, которые действительно сами по себе звучат одновременно с ней (ее sons harmoniques*) как следствие ее побочных колебаний52. Это представляет аналогию с тем, что все тела и организации природы надо рассматривать как возникшие в последовательном развитии из планетной массы: она — их носитель, как и их источник; и в таком отношении более высокие тоны находятся к основному басу53. Высота тона имеет границу, дальше которой не слышен уже никакой звук; это соответствует тому, что никакая материя не воспринимается без формы и свойств, т. е. без обнаружения той или другой, далее необъяснимой силы, в которой
224
и выражается определенная идея, или, говоря в более общем виде, никакая материя не может быть совершенно безвольной: значит, подобно тому как от тона в качестве такового неотделима известная степень высоты, так и от материи неотделима известная степень обнаружения воли. Таким образом, с нашей точки зрения, основной бас в гармонии есть то же самое, что в мире — неорганическая природа, грубейшая масса, на которой все основывается и из которой все произрастает и развивается. Далее, в совокупности сопровождающих голосов, образующих гармонию, между басом и ведущим, исполняющим мелодию голосом, я узнаю́ всю лестницу идей, в которых объективируется воля. Ближайшие к басу тоны — низшие ступени этой лестницы, еще неорганические, но уже многообразно проявляющиеся тела; выше лежащие звуки являются в моих глазах представителями растительного и животного царств. Определенные интервалы звуковой гаммы параллельны определенным ступеням объективации воли, определенным видам в природе. Отклонение от арифметической правильности интервалов, вызванное темперацией или выбором строя54, аналогично отклонению индивида от видового строя; более того, нечистые диссонирующие совпадения тонов, не дающие определенного интервала, можно сравнить с уродливыми монстрами, рожденными от двух животных видов или от человека и животного. Всем этим басовым и сопровождающим голосам, составляющим гармонию, недостает, однако, того связного последования, которым обладает только верхний поющий мелодию голос: только ему одному свойственны быстрые и легкие мелодические повороты и ходы, между тем как все другие движутся гораздо медленнее, не отличаясь каждый сам по себе самостоятельной связью. Наиболее затруднительно движется нижний бас, представитель грубейшей массы: его повышение и понижение совершается только по большим ступеням, на терцию, кварту, квинту, а никак не на секунду55, разве что только когда это бас, перемещенный двойным контрапунктом. Это медленное движение присуще ему и в физическом отношении: быстрой рулады или трели в нижнем регистре нельзя себе даже и вообразить[162]. Быстрее, но еще без мелодической взаимосвязи и осмысленного последования движутся более высокие сопровождающие голоса, которые идут параллельно животному миру. Бессвязное течение и закономерная определенность всех сопровождающих голосов аналогичны тому факту, что во всем неразумном мире, от кристалла до совершеннейшего животного, ни одно существо не обладает действительно связным сознанием, которое делало бы его жизнь осмысленным целым, и не одно существо не знает последовательности духовного развития, ни одно не совершенствуется в организации, а все существует равномерно во всякое время таким, каково оно по своему роду, определяемое твердым законом. Наконец, в мелодии, в главном высоком голосе, который поет, ведет все целое и в нестесняемом произволе развивается от начала до конца в непрерывной, многозначительной связи единой мысли и изображает целое, — в этом голосе я узнаю высшую ступень объективации воли, осмысленную жизнь и стремление человека. Подобно тому как только человек, будучи одарен разумом, постоянно смотрит вперед и оглядывается назад, на путь своей действительности и своих бесчисленных возможнос-
225
тей, и таким образом осуществляет осмысленный и оттого цельный жизненный путь, так, в соответствии с этим, только мелодия обладает от начала до конца осмысленной и целесообразной связностью. Она, таким образом, рассказывает историю освещенной сознанием воли, отпечаток которой в действительности есть ряд ее деяний; но она говорит больше: она раскрывает интимную историю воли, живописует всякое побуждение, всякое стремление, всякое движение ее, все то, что разум объединяет под широким и отрицательным понятием чувства и чего он не в силах уже воспринимать в свои абстракции. Поэтому и говорили всегда, что музыка — это язык чувства и страсти, подобно тому как слова — это язык разума: уже Платон определяет ее как melodiarum motus, animi affectus mutans (De leg. VII)*, и Аристотель говорит: «Cur numeri musici et modi, qui voces sunt, moribus similes esse exhibent?» (Probl., cap. 19)**.
Подобно тому как сущность человека состоит в том, что его воля стремится, удовлетворяется и снова стремится, и так беспрерывно, как счастье и благополучие его заключается лишь в том, чтобы этот переход от желания к удовлетворению и от него к новому желанию совершался быстро, ибо задержка удовлетворения порождает страдание, а задержка нового желания — бесплодное томление, languor, скуку, так, в соответствии с этим, сущность мелодии есть постоянное отклонение от тоники, переход тысячами путей не только к гармоническим ступеням — терции и доминанте, но и к всевозможным другим тонам, к диссонирующей септиме и к ступеням, образующим чрезмерные интервалы, причем в конце концов всегда происходит возвращение к тонике; на всех этих путях мелодия выражает многообразное стремление воли, но выражает и ее удовлетворение — посредством конечного обретения гармонической ступени и, более того, тоники. Изобрести мелодию, раскрыть в ней все глубочайшие тайны человеческого желания и ощущения — это дело гения; здесь его творчество очевиднее, чем где бы то ни было: оно далеко от всякой рефлексии и сознательной преднамеренности и может быть вызвано вдохновением. Понятие здесь, как и всюду в искусстве, бесплодно; композитор раскрывает внутреннюю сущность мира и выражает глубочайшую мудрость на языке, которого его разум не понимает, подобно тому как сомнамбула в состоянии магнетизма дает откровения о вещах, о которых она наяву не имеет никакого понятия. Вот почему в композиторе больше, чем в каком-нибудь другом художнике, человек совершенно отделен и отличается от художника. Даже при объяснении этого дивного искусства понятие обнаруживает свою скудость и ограниченность, но я все-таки попробую довести нашу аналогию до конца.
Как быстрый переход от желания к удовлетворению и от него к новому желанию есть счастье и благополучие, так и быстрые мелодии, без значительных отклонений, веселы; медленные же, впадающие в мучительные диссонансы и лишь через множество тактов вновь достигающие тоники, — такие мелодии грустны, составляя аналогию задержанному, затрудненному удовлетворению. Задержка нового импульса воли,
226
languor, не может найти себе другого выражения, кроме продолжительно выдержанной тоники; но действие ее скоро стало бы невыносимым: к этому близки слишком монотонные, невыразительные мелодии. Короткие, легко уловимые фразы быстрой танцевальной музыки как бы говорят только о легко достижимом, будничном счастье; напротив, Allegro maestoso56 в широких предложениях, длинных ходах, далеких отклонениях выражает более серьезное и благородное стремление к далекой цели и конечное достижение ее. Adagio57 говорит о муках великого и благородного стремления, презирающего всякое мелкое счастье. Но как очаровательно воздействие Moll и Dur58! Как изумительно, что изменение на один полутон, появление малой терции вместо большой тотчас же и неизбежно вызывает в нас робкое, томительное чувство, от которого нас так же мгновенно освобождает Dur! Adagio достигает в Moll выражения величайшей скорби, обращается в потрясающий вопль. Танцевальная музыка в Moll как будто означает неудачу в мелком счастье, которое лучше было бы презреть; она словно говорит о достижении низменной цели путем мучительных усилий. Неисчерпаемость возможных мелодий соответствует неисчерпаемости природы в разнообразии индивидов, физиономий и жизненных путей. Переход из одного тона в другой, совершенно уничтожая связь с предыдущим, подобен смерти, поскольку в ней индивид находит свой конец; но воля, являвшаяся в этом индивиде, продолжает жить, как жила и прежде, являясь в других индивидах, сознание которых, однако, не имеет связи с сознанием первого.
Но, указывая все приведенные аналогии, никогда нельзя забывать, что музыка имеет к ним не прямое, а лишь косвенное отношение, так как она выражает вовсе не явление, а исключительно внутреннюю сущность, в себе всех явлений, самую волю. Она не выражает поэтому той или другой отдельной радости, той или другой печали, муки, ужаса, ликования, веселья или душевного покоя: нет, она выражает радость, печаль, муку, ужас, ликование, веселье, душевный покой вообще, как таковые сами по себе, до известной степени in abstracto, выражает их сущность без какого-либо побочного дополнения и без мотивов к ним. Тем не менее мы понимаем ее в этой извлеченной квинтэссенции в совершенстве. Отсюда и происходит, что наша фантазия так легко возбуждается музыкой и пробует оформить, облечь в плоть и кровь этот непосредственно говорящий нам, незримый и притом столь оживленный мир духов, т. е. старается воплотить его в аналогичном примере. В этом — источник пения словами и, наконец, оперы, текст которой поэтому никогда не должен выходить из своей подчиненной роли и становиться чем-то главным, не должен делать музыку лишь средством для своего выражения: это — дурная, превратная практика и большое заблуждение. Ибо музыка выражает всюду только квинтэссенцию жизни и ее событий, но вовсе не самые события, поэтому различия их не должны непременно влиять на нее. Именно эта исключительно ей свойственная всеобщность, при строжайшей определенности, придает ей то высокое значение, которое она имеет как панацея всех наших страданий. Если, таким образом, музыка чересчур следует за словами и приспосабливается к событиям, то она силится говорить не на своем родном языке. Никто так не избежал
227
этой ошибки, как Россини; оттого его музыка и говорит столь отчетливо и чисто на своем собственном языке, совсем не нуждаясь в словах, и действует во всю мощь даже при одном инструментальном исполнении.
Вследствие всего этого мы можем рассматривать мир явлений, или природу, и музыку как два различных выражения одной и той же вещи, которая сама, таким образом, составляет единое посредствующее звено аналогий между ними — звено, познание которого необходимо для того, чтобы усмотреть эту аналогию. Поэтому музыка, рассматриваемая как выражение мира, представляет собой в высшей степени всеобщий язык, который даже ко всеобщности понятий относится почти так, как они — к отдельным вещам. Но ее всеобщность — вовсе не пустая всеобщность абстракции, у нее совершенно другой характер, и она связана с полной и ясной определенностью. В этом отношении она подобна геометрическим фигурам и числам, которые в качестве всеобщих форм всех возможных объектов опыта применимы ко всем a priori, тем не менее не абстрактны, но наглядны и всегда определенны. Все возможные стремления, волнения и проявления воли, все сокровенные движения человека, которые разум объединяет в широкое отрицательное понятие «чувства», — все это поддается выражению в бесконечном множестве возможных мелодий, но выражается всегда во всеобщности одной только формы, без содержания, непременно в себе, а не в явлении, как бы сокровенная его душа, без тела. Из этого интимного отношения, связывающего музыку с истинной сущностью всех вещей, объясняется и тот факт, что если при какой-нибудь сцене, ситуации, каком-нибудь поступке и событии прозвучит соответствующая музыка, то она как бы раскрывает нам их таинственный смысл и является их верным и лучшим комментарием; и кто всецело отдается впечатлению симфонии, тому кажется, что перед ним проходят все события жизни и мира, но очнувшись, он не может указать какого бы то ни было сходства между этой игрой и тем, что предносилось ему. Ибо музыка, как уже сказано, отличается от всех других искусств тем, что она не отображает явления, или, правильнее говоря, адекватную объектность воли, но непосредственно отображает саму волю и, таким образом, для всего физического в мире показывает метафизическое, для всех явлений — вещь в себе. Поэтому мир можно назвать как воплощенной музыкой, так и воплощенной волей; этим и объясняется, отчего музыка сразу же повышает значение всякой картины и даже всякой сцены действительной жизни и мира, — и конечно, тем сильнее, чем аналогичнее ее мелодия внутреннему духу данного явления. На этом основано то, что стихотворение можно перелагать на музыку в виде песен, наглядное описание — в виде пантомимы, или то и другое — в виде оперы. Такие отдельные картины человеческой жизни, переложенные на всеобщий язык музыки, никогда не связаны с ним безусловной необходимостью или полным соответствием, а находятся к нему только в отношении произвольно выбранного примера к общему понятию; они представляют в определенных очертаниях действительности то, что музыка выражает во всеобщности чистой формы. Ибо мелодии, подобно общим понятиям, являются до известной степени абстракцией действительности. Последняя, т. е. мир отдельных вещей, доставляет наглядное, частное и индивидуальное, отдельный случай — как для
228
всеобщности понятий, так и дня всеобщности мелодий; но эти две всеобщности в известном отношении противоположны друг другу, ибо понятия содержат в себе только формы, абстрагированные от предварительного созерцания, как бы снятую внешнюю оболочку вещей, т. е. представляют собой настоящие абстракции, тогда как музыка дает предшествующее всякой форме сокровенное зерно, или сердцевину вещей. Это отношение можно хорошо выразить на языке схоластиков: понятия — universalia post rem, музыка дает — universalia ante rem, а действительность — universalia in rem59. Общему смыслу мелодии, приданной известному стихотворению, могли бы в одинаковой степени соответствовать и другие, столь же произвольно выбранные словесные иллюстрации к тому общему, что выражено в ней; вот отчего одна и та же композиция подходит ко многим куплетам, вот отчего произошел водевиль. Вообще самая возможность связи между композицией и наглядным описанием основывается, как было сказано, на том, что они представляют собой лишь совсем различные выражения одной и той же внутренней сущности мира. И вот когда в отдельном случае действительно имеется такая связь, т. е. композитор сумел высказать на всеобщем языке музыки те волевые движения, которые составляют зерно данного события, тогда мелодия песни, музыка оперы очень выразительны. Но эта найденная композитором аналогия должна проистекать, бессознательно для его разума, из непосредственного познания сущности мира и не должна быть сознательно-преднамеренным подражанием с помощью понятий. В противном случае музыка не выражает внутреннюю сущность, саму волю, а лишь неудовлетворительно копирует ее явление, как это и бывает во всей собственно подражательной музыке, например во «Временах года» Гайдна; таково же и его «Сотворение мира» — во многих местах, где звучит непосредственное подражание явлениям внешнего мира; таковы и все пьесы батального характера. Вот это совершенно недопустимо.
Несказанная проникновенность всякой музыки, то, благодаря чему она проносится перед нами как совсем близкий и столь же вечно далекий рай, предстает совершенно понятной и столь же необъяснимой, — все это основывается на том, что музыка воссоздает все сокровенные движения нашего существа, но вне какой-либо реальности и в удалении от ее страданий. И присущая ей серьезность, совершенно исключающая из непосредственной ее области все смешное, тоже объясняется тем, что ее объект — не представление, относительно которого только и можно обманываться и смеяться: нет, ее объект — это непосредственно воля, а воля по существу есть самое серьезное, то, от чего все зависит. Как богат содержанием и смыслом язык музыки, это показывают даже знаки повторения и Da capo60*, которые были бы невыносимы в произведениях словесного искусства, здесь же, напротив, весьма целесообразны и благотворны, ибо для полного постижения данного места надо прослушать его дважды.
Если во всем этом описании музыки я старался показать, что она предельно всеобщим языком выражает то внутреннее существо, в себе
229
мира, которое мы по самому
отчетливому из его проявлений мыслим в понятии воли, и выражает его в однородном
материале — в одних только звуках, притом с величайшей точностью и правдой;
если, далее, согласно моему взгляду и замыслу, философия есть не что иное, как полное
и верное воспроизведение и выражение сущности мира во всеобщих понятиях, ибо
лишь в таких понятиях возможен всеобъемлющий и всесторонний обзор этой
сущности, то читатель, следящий за мною и разделяющий мой образ мыслей, не увидит
значительного парадокса в следующих моих словах: если бы удалось найти
совершенно правильное, полное и простирающееся до мельчайших деталей объяснение
музыки, т. е. если бы удалось обстоятельно воспроизвести в понятиях то, что она
выражает собою, то это оказалось бы одновременно достаточным воспроизведением и
объяснением мира в понятиях или было бы с ним совершенно согласно, т. е. было
бы истинной философией. И, следовательно, приведенное нами выше изречение
Лейбница, в узком смысле совершенно правильное, мы в духе нашего более
глубокого понимания музыки могли бы пародировать так: Musica est exercitium
metaphysices occultum nesdentis se philosophai! animi*. Ибо scire — знать — везде означает: укладывать
в отвлеченные понятия. Но так как, далее, в силу многократно подтвержденной
истинности лейбницевского изречения, музыка, помимо ее эстетического или
внутреннего смысла, рассматриваемая только с внешней стороны, чисто
эмпирически, есть не что иное, как средство постигать непосредственно и in
concreto те большие числа и числовые отношения, которые вообще мы можем
познавать лишь косвенно, в понятиях, — то, соединив эти два столь различных и
все же правильных взгляда на музыку, мы сумеем составить себе понятие о
возможности философии чисел, какой была философия Пифагора, а также китайцев в
«И цзине», и в этом смысле истолковать приводимое Секстом Эмпириком (Adv. Math.
L. VII) выражение: τ ῶ
ἀριϑμῶ δὲ τὰ πὰντ᾿**. И если, наконец, мы сопоставим этот
взгляд с нашим предыдущим истолкованием гармонии и мелодии, то найдем, что
чисто моральная философия без объяснения природы, как ее хотел установить Сократ61, вполне аналогична той мелодии без гармонии, какой
исключительно желал Руссо; и в противоположность этому чистая физика и
метафизика без этики соответствуют чистой гармонии без мелодии.
К этим эпизодическим соображениям да будет мне позволено присоединить еще несколько замечаний, касающихся аналогии музыки с миром явлений. В предыдущей книге мы нашли, что высшая ступень объективации воли — человек не мог появиться одиноко и изолированно, а ему должны были предшествовать низшие ступени, которые, в свою очередь, предполагают еще более низкие, точно так же и музыка, которая, подобно миру, непосредственно объективирует волю, достигает совершенства только в полной гармонии. Высокий ведущий голос мелодии, чтобы произвести свое впечатление, нуждается в сопровождении всех других голосов, до самого низкого баса, в котором надо видеть
230
источник их всех; мелодия сама составною частью входит в гармонию, как гармония в нее; и подобно тому как музыка лишь этим способом, лишь в полногласном целом выражает то, что она хочет выразить, так единая и вневременная воля находит совершенную объективацию только в полном соединении всех ступеней, которые раскрывают ее существо в бесконечной гамме все возрастающей явственности. Весьма замечательна еще и следующая аналогия. Как мы знаем из предыдущей книги, несмотря на то что все явления воли как виды приспосабливаются друг к другу (что и дало повод к телеологическому миросозерцанию), все же остается неустранимое противоборство между названными явлениями как индивидами, противоборство, наблюдаемое на всех их ступенях и превращающее мир в постоянное поле борьбы между всеми этими явлениями одной и той же воли, отчего и делается явным внутреннее противоречие ее с самой собой. Даже и этому есть некоторое соответствие в музыке. А именно: совершенно чистая гармоническая система тонов невозможна не только физически, но и даже арифметически. Самые числа, посредством которых могут быть выражены тоны, имеют неразрешимые иррациональности: нельзя даже высчитать такой гаммы, внутри которой каждая квинта относилась бы к основному тону как 2 к 3, каждая большая терция как 4 к 5, каждая малая терция как 5 к 6 и т. д. Ибо если тоны находятся в правильном отношении к основному тону, то отношение их друг к другу уже неправильно, потому что, например, квинта должна была бы быть малой терцией терции и т. д., — тоны гаммы похожи на актеров, которые должны играть то одну, то другую роль. Вот отчего нельзя себе даже и представить совершенно правильной музыки, не только что осуществить ее, и поэтому каждая возможная музыка уклоняется от совершенной чистоты: она может только маскировать свойственные ей диссонансы посредством распределения их по всем тонам, т. е. посредством темперации62 (см. об этом у Хладни в «Акустике», § 30, и в его «Кратком обзоре учения о звуках», с. 12)*.
Я мог бы прибавить еще кое-что относительно способа восприятия музыки, которое совершается только во времени и посредством него, при полном исключении пространства и без познания причинности, т. е. помимо рассудка: ибо звуки производят эстетическое впечатление уже своим воздействием, и нам вовсе не надо, как при созерцании, восходить к их причине. Однако я не буду продолжать эти размышления, потому что я и так уже в своей третьей книге, вероятно, показался кому-нибудь чересчур обстоятельным или входил в излишние детали. Но меня побуждала к этому моя цель, и меня не осудят за это, принимая во внимание ту важность и высокую ценность искусства, которые редко находят себе достаточное признание; пусть сообразят, что если, согласно нашему взгляду, весь видимый мир — это только объективация, зеркало воли, сопутствующее ей для ее самопознания и даже, как мы скоро увидим, для возможности ее искупления, и что если в то же время мир как представление, рассматриваемый отдельно, когда в обособленности от желания только он один и входит в сознание, мир есть самая отрадная
231
и единственно невинная сторона жизни, — то мы должны видеть в искусстве более высокую степень, более совершенное развитие всех этих свойств, ибо оно по существу дает то же, что и сам видимый мир, только сосредоточеннее, полнее, сознательно и намеренно, и потому в полном смысле слова может быть названо цветом жизни. Если весь мир как представление есть лишь видимость воли, то искусство — это уяснение этой видимости, camera obscura, которая отчетливо показывает вещи и позволяет лучше обозревать и схватывать их — пьеса в пьесе, сцена на сцене в «Гамлете».
Наслаждение всем прекрасным, утешение, доставляемое искусством, энтузиазм художника, позволяющий ему забывать жизненные тягости, — это преимущество гения перед другими, которое одно вознаграждает его за страдание, возрастающее в той мере, в какой светлеет сознание, и за одиночество в пустыне чуждого ему поколения, — все это основывается на том, что, как мы впоследствии увидим, в себе жизни, воля, самое бытие есть постоянное страдание, отчасти жалкое, отчасти ужасное, взятое же только в качестве представления, в чистом созерцании, или воспроизведенное искусством, свободное от мук, оно являет знаменательное зрелище. Это чисто познаваемая сторона мира, и воспроизведение ее в каком-нибудь искусстве — вот стихия художника. Его приковывает зрелище объективации воли, он отдается ему и не устает созерцать его и воспроизводить в своих созданиях, и сам несет тем временем издержки по постановке этого зрелища, т. е. он сам — та воля, которая объективируется и пребывает в постоянном страдании. Это чистое, истинное и глубокое познание сущности мира обращается для него в самоцель, и он весь отдается ему. Поэтому оно не становится для него квиетивом воли, как для святого, достигнувшего резиньяции: оно искупает его от жизни не навсегда, а только на мгновения, и следовательно, еще не есть для него путь, ведущий из жизни, а только временное утешение в ней, пока его возросшие от этого силы не утомятся, наконец, такой игрою и не обратятся к серьезному. Символ такого перехода можно видеть в святой Цецилии Рафаэля63. Обратимся же и мы в следующей книге — к серьезному.
О
мире как воле
Второе размышление:
утверждение и отрицание воли
к жизни при достигнутом самопознании
Tempore quo cognitio
simul advenit, amor e medio supersurrexit.
Oupnek’hat, studio Anquetil Duperron, vol. II,
p. 216*
§ 53
Последняя часть нашего рассуждения предстает как самая серьезная, потому что речь в ней идет о человеческих поступках — предмете, который непосредственно затрагивает каждого и никому не может быть чужд и безразличен; более того, сводить к нему все остальное до такой степени свойственно природе человека, что при каждом цельном исследовании мы всегда смотрим на ту его часть, которая относится к деятельности, как на вывод из всего содержания (по крайней мере, насколько оно для нас интересно) и потому обращаем серьезное внимание на эту часть, хотя бы другими и пренебрегали. В указанном смысле можно было бы, употребляя обычное выражение, назвать следующую теперь часть нашего рассуждения практической философией в противоположность теоретической, которой мы занимались до сих пор. Но, по моему мнению, всякая философия всегда теоретична, потому что, каков бы ни был непосредственный предмет ее исследования, она по существу своему только размышляет и изучает, а не предписывает. Становиться же практической, руководить поведением, перевоспитывать характер — теперь, созрев в своих взглядах, она должна бы, наконец, отказаться от этих старых притязаний. Ибо здесь, где ставится вопрос о ценности или ничтожестве бытия, о благословении или осуждении, решающий голос имеют не ее мертвые понятия, а внутренняя сущность самого человека — демон, который им руководит и который не его выбрал, а выбран им самим, как говорит Платон, его умопостигаемый характер, как выражается Кант. Добродетели, как и гению, нельзя научить: для нее понятие столь же бесплодно, как и для искусства, и может служить только орудием. Поэтому с нашей стороны было бы так же нелепо ожидать, чтобы наши моральные системы и этики создали доблестных,
233
благородных и святых людей, как думать, будто наши эстетики пробудят поэтов, скульпторов и музыкантов.
Философия не может делать ничего другого, как уяснять и истолковывать существующее и возводить сущность мира, которая in concreto, т. е. в виде чувств, понятна каждому, до отчетливого, абстрактного познания разума; но решать эту задачу она должна во всех возможных отношениях и со всех точек зрения. В предыдущих трех книгах я пытался, со свойственной философии всеобщностью, выполнять это с иных точек зрения; теперь, в этой книге, я намерен таким же образом рассмотреть человеческие действия; эта сторона мира может быть признана важнее всех остальных не только, как я заметил выше, для субъективного, но и для объективного понимания. При этом я останусь вполне верен своему прежнему методу рассмотрения и на сказанное до этого буду опираться как на свои предпосылки; собственно говоря, я буду развивать, на примере человеческих действий, ту единую мысль, которая составляет содержание всего предлагаемого сочинения (как прежде развивал ее по отношению ко всем другим предметам), и тем приложу свои последние усилия, чтобы возможно полнее ее изложить.
Данная точка зрения и намеченный способ исследования уже ясно говорят о том, что в этой этической книге не следует ожидать ни предписаний, ни учения о нравственных обязанностях, и, уж конечно, здесь не будет указываться общий моральный принцип, подобный универсальному рецепту для производства всяческих добродетелей. Не будет у нас речи и ни о каком «безусловном долге», ибо последний, как это показано в приложении, заключает в себе противоречие, — ни о «законе для свободы», который находится в таком же положении. Мы вообще не будем говорить ни о чем «должном», так как об этом можно говорить только с детьми и народами в пору их детства, а не с теми, кто усвоил себе всю культуру эпохи, достигшей совершеннолетия. Ведь это явное противоречие — называть волю свободной и тем не менее предписывать ей законы, по которым она должна желать: «должна желать» — деревянное железо! Но, согласно нашему общему взгляду, воля не только свободна, но и всемогуща: из нее вытекают не только ее деятельность, но и ее мир, и какова она, таковой является и ее деятельность, таковым является и ее мир: ее самопознание — вот что такое эта деятельность и этот мир, и больше ничего; она определяет себя и этим определяет их, ибо вне ее нет ничего, и мир и деятельность — это она сама; лишь в этом смысле она истинно автономна, с любой же другой точки зрения — ге- терономна. Наш философский замысел может стремиться только к тому, чтобы человеческую деятельность и столь различные, даже противоположные принципы, живым выражением которых она служит, истолковать и объяснить по их внутреннему существу и содержанию, в связи с нашими предыдущими размышлениями, — точно так же, как мы до сих пор пытались истолковать прочие явления мира и сделать их сокровенную сущность предметом отчетливого абстрактного познания.
Наша философия будет при этом держаться той же имманентности, что и во всем предыдущем изложении: она не станет, наперекор великому учению Канта, пользоваться формами явления (общим выражением которых служит закон основания) как палкой, чтобы, опираясь на нее,
234
перескочить через самое явление, только одно и дающее им смысл, и причалить к безграничной области пустых фикций. Нет, этот действительный мир познаваемости, в котором мы существуем и который существует в нас, останется как материалом, так и границей нашего изучения, — этот мир, столь богатый содержанием, что его не могло бы исчерпать самое глубокое исследование, на какое только способен человеческий ум. И так как действительный, познаваемый мир никогда не оставит наших этических соображений без материала и реальности, как не оставлял нас в предыдущих книгах, то у нас совсем не будет надобности искать спасения в бессодержательных, отрицательных понятиях или уверять себя, будто мы что-нибудь сказали, если, подняв брови, говорили об «абсолютном», о «бесконечном», «о сверхчувственном» и тому подобных пустых отрицаниях (οὐδέν ἐστι, ἢ τὸ της στερήσεως ὂνομα, μετά ἀμυδραᾶς ἐπινοίας (Jul. or. 5)*, — вместо чего можно было бы выразиться проще: заоблачное кукушечье гнездо (νεφελοχοχχυγια); нет, подавать к столу такие пустые, но прикрытые блюда нам не придется. Наконец, как и до сих пор, мы не будем рассказывать истории и выдавать их за философию. Ибо мы придерживаемся того мнения, что все те бесконечно далеки от философского познания мира, кто думает, будто можно как-нибудь исторически постигнуть его сущность, хотя бы это и было очень тонко замаскировано; а так думают все те, кто в своих воззрениях на сущность мира допускает какое бы то ни было становление, или ставшее, или то, что станет; кто приписывает хотя бы малейшее значение понятиям раньше или позже и таким образом явно или скрыто ищет и находит начальный и конечный пункты мира, а уже заодно и дорогу между обоими, причем философствующий индивид узнает, пожалуй, и свое собственное место на этой дороге. Такое историческое философствование в большинстве случаев создает космогонию, допускающую много вариантов, или же систему эманации1, теорию отпадения2, или, наконец, с отчаяния от бесплодности попыток на этих путях оно ищет последнего убежища и строит противоположное учение о постоянном становлении, произрастании, происхождении, проявлении на свет из мрака, из темного основания, первоосновы, безосновности3 и тому подобном вздоре, от которого, впрочем, можно легче всего отделаться замечанием, что до настоящего мгновения протекла уже целая вечность, т. е. бесконечное время, и потому все, что может и должно совершиться, уже должно было быть. Ибо вся эта историческая философия, какую бы важность она на себя ни напускала, принимает время за определение вещей в себе (словно Кант никогда и не существовал) и поэтому застревает на том, что Кант называл явлением в противоположность вещи в себе, на том, что Платон называл становящимся, никогда не сущим в противоположность сущему, никогда не становящемуся, на том, наконец, что у индийцев называется покрывалом Майи; другими словами, эта философия ограничивается тем подвластным закону основания познанием, с помощью которого никогда нельзя достигнуть внутренней сущности вещей, а можно только до бесконечности идти вслед за
235
явлениями, двигаться без конца и
цели, подобно белке в колесе, пока, наконец,
утомленный искатель не остановится на любой точке, вверху или внизу, желая добиться и от других почтительного
отношения к ней. Истинный философский
взгляд на мир, учащий нас познавать его внутреннюю сущность и таким образом выводящий нас за пределы явления, не спрашивает откуда, куда и
зачем, а всегда и всюду его интересует только что мира, иначе говоря, он рассматривает вещи не в
каком-либо отношении, не как
становящиеся и преходящие, словом, не в какой-либо из четырех форм закона основания, а, наоборот, он имеет своим объектом именно то, что остается по устранении
всего этого способа познания, подчиненного
названному закону, то, что проявляется во всякой относительности, но само ей не подчинено, то, что составляет всегда равную себе сущность мира, его идею. Из
такого познания исходит как искусство,
так и философия, исходит также (как мы увидим в этой книге) и то настроение духа, которое одно ведет к
истинной святости и избавлению от
мира.
§ 54
Надеюсь, первые три книги привели к ясному и твердому убеждению, что в мире как представлении перед волей раскрылось ее зеркало, в котором она узнает самое себя с возрастающей степенью ясности и полноты, и высшей точкой этой полноты является человек; но свое полное выражение сущность его получает лишь в связном ряде его поступков, а сознательную связь их делает возможной разум, позволяющий человеку, всегда in abstracto, обозревать целое.
Воля сама по себе бессознательна и представляет собой лишь слепой, неудержимый порыв, — такой она проявляется еще в неорганической и растительной природе и ее законах, как и в растительной части нашей собственной жизни. Но благодаря привходящему, развернутому для служения воле миру представления она получает познание своего желания и того, что составляет предмет последнего: оказывается, он есть не что иное, как этот мир, жизнь, именно такая, какова она есть. Мы назвали поэтому мир явлений зеркалом воли, ее объективностью, и так как то, чего хочет воля, всегда есть жизнь (потому что именно в ее образе является для представления это желание), то все равно, сказать ли просто «воля» или «воля к жизни»: последнее — только плеоназм[163].
Так как воля — это вещь в себе, внутреннее содержание, существо мира, а жизнь, видимый мир, явление — только зеркало воли, то мир так же неразлучно должен сопровождать волю, как тень — свое тело; и если есть воля, то будет и жизнь, мир. Таким образом, за волей к жизни обеспечена жизнь, и пока мы проникнуты волей к жизни, нам нечего бояться за свое существование — даже при виде смерти. Конечно, на наших глазах индивид возникает и уничтожается, но индивид — это только явление, он существует только для познания, подвластного закону основания, этому principio individuationis; с точки зрения такого познания индивид, разумеется, получает свою жизнь как подарок, приходит из ничего, в смерти своей несет утрату этого подарка и возвраща-
236
ется в ничто. Но ведь мы хотим рассматривать жизнь именно философски, т. е. по отношению к ее идеям, а с такой точки зрения мы найдем, что рождение и смерть совсем не касаются ни воли — вещи в себе во всех явлениях, ни субъекта познания — зрителя всех явлений. Рождение и смерть относятся к проявлению воли, т. е. к жизни, а последней свойственно выражать себя в индивидах, которые возникают и уничтожаются, — мимолетные, выступающие в форме времени явления того, что само в себе не знает времени, но должно все-таки принимать его форму, чтобы объективировать свою действительную сущность. Рождение и смерть одинаково относятся к жизни и уравновешивают друг друга в качестве взаимных условий или — если кому-нибудь нравится такое сравнение — в качестве полюсов целостного явления жизни. Мудрейшая из всех мифологий, индийская, выражает это тем, что именно тому богу, который символизирует разрушение, смерть (как Брахма, самый грешный и низменный бог Тримурти, символизирует рождение, возникновение, а Вишну — сохранение4), именно этому богу, Шиве, говорю я, она вместе с ожерельем из мертвых голов5 придает в качестве атрибута лингам[164], этот символ рождения, которое, таким образом, выступает здесь как противовес смерти, и этим указывается на то, что рождение и смерть по своему существу — корреляты, которые взаимно себя нейтрализуют и уничтожают.
Совершенно та же мысль побуждала греков и римлян украшать драгоценные саркофаги (как это мы видим еще и теперь) картинами празднеств, плясок, свадебных торжеств, охот, боев зверей, вакханалий, т. е. изображениями самого мощного порыва жизни, который они рисуют нам не только в подобных утехах, но и в сладострастных группах — вплоть до совокуплений между сатирами и козами[165]. Цель этого, очевидно, заключалась в том, чтобы по случаю смерти оплакиваемого индивида как можно выразительнее указать на бессмертную жизнь природы и этим, хотя бы и без абстрактного знания, пояснить, что вся природа — это явление и осуществление воли к жизни. Формой этого явления служат время, пространство и причинность, а посредством них — индивидуация, которая влечет за собою то, что индивид должен возникнуть и исчезнуть, но это столь же мало нарушает волю к жизни, в явлении которой индивид составляет лишь как бы[166] отдельный экземпляр или образец, как мало урона терпит и целое природы от смерти отдельного индивида. Ибо не он, а только род — вот чем дорожит природа и о сохранении чего она печется со всей серьезностью, в своей расточительной заботе о нем создавая огромный избыток зародышей и великую мощь инстинкта оплодотворения. Индивид же не имеет для нее никакой ценности и не может ее иметь, так как царство природы — это бесконечное время, бесконечное пространство и в них бесконечное число возможных особей; поэтому она всегда готова пожертвовать индивидом, и он не только на тысячу ладов, от ничтожнейших случайностей, подвержен гибели, но уже изначально обречен на нее и самой природой влечется к ней с того момента, как послужит сохранению рода[167]. С полной наивностью выражает этим сама природа ту великую истину, что только идеи, а не индивиды имеют истинную реальность, т. е. представляют собой полную объектность воли. И так как человек сам
237
— это природа, и притом на высшей ступени ее самосознания, а природа — это только объективированная воля к жизни, то человек, если только он воспринял эту точку зрения и остановился на ней, имеет несомненное право находить себе утешение в своей смерти и смерти своих друзей[168] — в зрелище бессмертной жизни природы, которой является он сам. Так, следовательно, надо понимать Шиву с лингамом, так надо понимать античные саркофаги, которые своими картинами страстной жизни взывают к сетующему зрителю: Natura non contristatur*.
То, что рождение и смерть надо рассматривать как нечто относящееся к жизни и присущее этому проявлению воли, вытекает также из следующего: рождение и смерть— это для нас только повышенное выражение того, из чего состоит и вся остальная жизнь. Ведь последняя сплошь есть не что иное, как постоянная смена материи при неизменном сохранении формы: именно это и есть бренность индивидов при сохранении рода. Постоянное питание и воспроизведение только степенью отличаются от рождения, а постоянное выделение только степенью отличается от смерти. Первое явственнее и проще всего сказывается в растении. Оно всецело представляет собой постоянное повторение одного и того же импульса — своего простейшего волокна, которое группируется в лист и ветку; оно есть систематический агрегат однородных, друг друга поддерживающих растений, беспрерывное воспроизведение которых составляет его единственный импульс: для более полного его удовлетворения растение поднимается по лестнице метаморфозы, пока, наконец, не доходит до цветка и плода, этого компендия своего бытия и стремления, где оно более коротким путем достигает того, что служит его единственной целью, и сразу тысячекратно совершает то, что до сих пор производило по частям: повторение самого себя. Его произрастание и созревание так относится к плоду, как письмо к книгопечатанию. У животного, очевидно, дело обстоит совершенно так же. Процесс питания — это постоянное рождение, процесс рождения — это усиленная степень питания; сладострастие рождения — это усиленная радость чувства жизни. С другой стороны, выделение, постоянное выдыхание и извержение материи — это то же, чем в повышенной степени является смерть, противоположность рождения. Подобно тому как мы при этом всегда довольны, что сохраняем свою форму, и не оплакиваем отброшенной материи, так следует нам поступать и тогда, когда смерть в повышенной степени и полностью совершит то же самое, что ежедневно и ежечасно происходит с нами при выделении по частям: как мы равнодушны в первом случае, так не должны трепетать и во втором. С этой точки зрения столь же несообразно требовать продолжения нашей индивидуальности, которая возмещается другими индивидами, как и требовать сохранения материи нашего тела, которая постоянно замещается новой; с этой точки зрения столь же нелепо бальзамировать трупы, как было бы нелепо заботливо хранить свои извержения[169]. Что касается связанного с телом индивидуального сознания, то оно каждый день совершенно прерывается сном. Глубокий сон, пока он длится, ничем не отличается от смерти, в которую он часто, например у замерзающих, постепенно и переходит; он отличается от нее только своим отношением к будущему,
238
т. е. пробуждением. Смерть — это сон, в котором забывается индивидуальность, все же другое опять просыпается, или, скорее, оно совсем и не засыпало*.
Прежде всего мы должны понять то, что формой проявления воли, т. е. формой жизни или реальности, служит, собственно, только настоящее, — не будущее и не прошедшее: последние находятся только в понятии, существуют только в связи познания, поскольку оно следует закону основания. В прошедшем не жил ни один человек, и ни один никогда не будет жить в будущем; только настоящее есть форма всей жизни, но зато оно — ее прочное достояние, которого никогда нельзя у нее отторгнуть. Настоящее всегда налицо, вместе со своим содержанием: оба они тверды и незыблемы, как радуга на водопаде. Ибо воле надежно обеспечена жизнь, а жизни — настоящее. Конечно, возвращаясь своей мыслью к протекшим тысячелетиям, к миллионам людей, которые жили в них, мы спрашиваем: чем они были? что с ними стало? Но, с другой стороны, стоит нам только вызвать прошлое нашей собственной жизни и воскресить в фантазии его картины, а затем опять спросить себя: что все это было? что с ним стало?[170] Так же обстоит дело и с жизнью отживших миллионов. Или следует думать, что прошедшее, запечатленное смертью, получает от этого новое бытие? Нет, наше собственное прошлое, даже самое близкое, даже вчера — это уже только пустая греза воображения, и то же самое представляет собой прошлое всех отживших миллионов. Что же было? Что есть? Воля, чье зеркало — жизнь, и безвольное познание, которое в этом зеркале ясно видит ее. Кто этого еще не познал или не хочет познать, должен к прежнему вопросу о судьбе минувших поколений добавить еще и такой: почему именно он, вопрошающий, так счастлив, что владеет этим драгоценным, мимолетным, единственно реальным настоящим, между тем как те сотни человеческих поколений и даже герои и мудрецы тех времен погрузились в ночь прошедшего и этим обратились в ничто, — он же, его незначительное я, действительно существует? Или короче, хотя и странно: почему это теперь, его теперь, существует именно теперь, а не было, как другие, уже давно?[171] Предлагая такой необычный вопрос, он рассматривает свое существование и свое время как независимые друг от друга, и первое для него как бы заброшено в последнее; он, собственно, принимает два теперь: одно, принадлежащее объекту, другое, принадлежащее субъекту, и удивляется счастливой случайности их совпадения. На самом же деле (как это показано в трактате о законе основания) только точка соприкосновения
239
объекта, формой которого служит время, с субъектом, который не имеет своей формой ни одного из видов закона основания, составляет настоящее. Но всякий объект — это воля, поскольку она стала представлением, а субъект — необходимый коррелят объекта; реальные же объекты существуют только в настоящем, прошедшее и будущее содержат в себе лишь понятия и образы фантазии, поэтому настоящее — это естественная форма явления воли и от него неотделима. Только настоящее есть то, что есть всегда и существует незыблемо. Самое мимолетное из всего, с эмпирической точки зрения, оно представляет собой единственно пребывающее Nunc stans* схоластов для метафизического понимания, которое подымается над формами эмпирического созерцания. Источник и носитель его содержания — это воля к жизни, или вещь в себе, которая есть мы сами. То, что непрерывно становится и исчезает, уже бывшее или еще долженствующее быть, принадлежит явлению как таковому в силу его форм, делающих возможным становление и исчезновение. Поэтому надо мыслить так: Quid fuit? — Quod est. — Quid erit? — Quid fuit**[172] и принимать это в строгом смысле данных слов, т. е. понимать не simile***, а idem****. Ибо воле обеспечена жизнь, а жизни — настоящее. Поэтому каждый и может сказать: «Я раз и навсегда господин настоящего, и оно во веки веков будет сопутствовать мне, как моя тень; поэтому я не спрашиваю и меня не удивляет, откуда это оно пришло и как это случилось, что оно есть именно теперь».
Мы можем сравнить время с бесконечно вращающимся кругом: опускающаяся половина — прошедшее; подымающаяся — будущее; неделимая же точка вверху, где проходит касательная, — непротяженное настоящее; подобно тому как касательная не следует за вращательным движением, так не следует за ним и настоящее, эта точка соприкосновения объекта, формой которого служит время, с субъектом, у которого нет никакой формы, потому что он не принадлежит к познаваемому, а составляет условие всего познаваемого[173]. Или: время подобно неудержимому потоку, а настоящее — скале, о которую он разбивается, но не увлекает ее с собою. Воля как вещь в себе, подобно субъекту познания (который в конце концов, в известном отношении, есть та же воля или ее обнаружение), не подвластна закону основания, и — как воле обеспечена жизнь, ее собственное проявление — так ей обеспечено и настоящее, единственная форма реальной жизни. Нам поэтому нечего допытываться ни о прошлом до жизни, ни о будущем после смерти: напротив, единственной формой, в которой является себе воля, мы должны признать настоящее*****: оно не минует воли, но и воля поистине не минует его.
240
Поэтому кого жизнь удовлетворяет такою, как она есть, кто всячески ее утверждает, тот может с упованием считать ее бесконечной и изгнать страх смерти как иллюзию, внушающую нелепую боязнь когда-либо утратить настоящее и обманывающую его призраком времени, где нет настоящего, — иллюзию, которая по отношению ко времени есть то же самое, что по отношению к пространству другая иллюзия, в силу которой каждый в своем воображении считает занимаемое им место на земном шаре верхом, все же остальное — низом[174]; именно так каждый связывает настоящее со своей индивидуальностью и думает, что вместе с нею гаснет всякое настоящее, так что и прошедшее и будущее остаются без настоящего. Но как на земном шаре повсюду — верх, так и форма всякой жизни — это настоящее, и страшиться смерти потому, что она исторгает у нас настоящее, не более умно, чем бояться, как бы не соскользнуть вниз с круглого земного шара, на котором мы, к счастью, находимся в данный момент наверху. Объективации воли присуща форма настоящего, которое в качестве непротяженной точки рассекает бесконечное в обе стороны время и стоит неподвижно, как вечный полдень без прохладного вечера, — подобно тому как действительное солнце горит непрерывно, и только кажется, будто оно тонет в лоне ночи; поэтому если человек боится смерти как своего уничтожения, то это все равно, что думать, будто солнце жалуется вечером: «Горе мне! я погружаюсь в вечную ночь»*. Но и наоборот: кого гнетет бремя жизни, кто хотел бы жизни и утверждает ее, но трепещет ее мучений и не хочет больше переносить тягостного жребия, выпавшего как раз на его долю, — такой человек не может надеяться на освобождение в смерти и не может найти спасения в самоубийстве: обманчивым призраком манит его темный и холодный Орк7 в пристань отдохновения. Земля в своем вращении переходит изо дня в ночь, индивид умирает, но само солнце непрерывно горит вечным полуднем. Воле к жизни обеспечена жизнь: форма жизни — это настоящее без конца; неважно, что индивиды, проявления идеи, возникают и исчезают во времени, подобно мимолетным грезам. Таким образом, самоубийство уже и здесь представляется нам напрасным и потому неразумным поступком: когда мы подвинемся далее в своем рассуждении, оно предстанет нам в еще менее благоприятном свете.
Догматы меняются, и наше знание обманчиво; но природа не ошибается: ход ее верен, и она его не скрывает. Все полностью в ней, и она полностью во всем. В каждом животном находится ее средоточие;
241
животное верно нашло свой путь в бытие, как верно найдет и путь из него, а пока оно живет без страха перед уничтожением и без заботы: его поддерживает сознание, что оно есть сама природа и, как природа, нетленно. Один человек всюду влачит за собой отвлеченную мысль о своей грядущей смерти; но и она, что весьма замечательно, может угнетать его лишь в отдельные моменты, если по случайному поводу возникнет в его воображении. Рефлексия не может противостоять могучему голосу природы. И в человеке, как и в неразумном животном, господствует в качестве длительного состояния та (вытекающая из сокровенного сознания, что он есть сама природа, самый мир) уверенность, в силу которой никого заметно не тревожит мысль о неизбежной и отнюдь не далекой смерти, но каждый продолжает себе жить, как будто ему суждено жить вечно; это доходит до того, что, можно сказать, никто собственно не питает живого убеждения в неизбежности своей смерти, так как иначе между его настроением и настроением осужденного на казнь преступника не могло бы быть большой разницы; на самом же деле каждый исповедует это убеждение in abstracto и теоретически, но отлагает его в сторону, как и другие теоретические истины, не применимые на практике, и совсем не принимает его в свое живое сознание. Кто вдумается в эту особенность человеческого настроения, тот поймет, что объяснять ее психологически, например привычкой или покорностью перед неизбежным, совершенно недостаточно: верно более глубокое объяснение, предложенное мною. Оно проливает свет и на то, почему во все времена и у всех народов существуют и почитаются догматы о том или ином виде загробной жизни индивида, между тем как доказательства этого всегда, разумеется, крайне неудовлетворительны, а доказательства противоположного, наоборот, сильны и многочисленны: дело в том, что первое, собственно, и не нуждается ни в каком доказательстве, а признается здравым рассудком за факт и в качестве такового находит себе подтверждение в уверенности, что природа так же не лжет, как и не ошибается, а, напротив, открыто показывает и даже наивно выражает свои действия и свой характер, только мы сами затемняем их своими химерами, чтобы вывести из них именно то, что нравится нашему ограниченному пониманию.
Но то, что мы теперь ясно сознали, а именно что, хотя отдельное явление воли начинается и кончается во времени, на самую волю как вещь в себе это не распространяется, как не распространяется и на коррелят всякого объекта — познающий, но никогда не познанный субъект, и что воле к жизни всегда обеспечена жизнь, — это не относится к упомянутым учениям о загробном существовании. Ибо воле, рассматриваемой как вещь в себе, равно как и чистому субъекту познания, вечному оку мира, одинаково несвойственно ни сохранение, ни уничтожение, ибо все это определения, имеющие силу только во времени, воля же и субъект лежат вне времени. Вот почему эгоизм индивида (этого отдельного явления воли, освещенного субъектом познания) никак не может почерпнуть из предложенного нами взгляда пищи и утешения для своего желания существовать бесконечно долгое время, как не мог он их почерпнуть из сознания, что после его смерти все-таки будет продолжаться во времени остальной внешний мир, — а ведь это тот же самый
242
взгляд, но только с объективной и потому временной точки зрения. Ибо хотя каждый есть нечто преходящее только в качестве явления, а как вещь в себе он вневременен и, следовательно, бесконечен, но зато лишь в качестве явления он и отличается от остальных вещей мира; как вещь в себе он есть воля, которая является во всем, и смерть уничтожает иллюзию, отделяющую его сознание от сознания других: в этом и состоит продолжение бытия. Незатронутость человека смертью, присущая ему только как вещи в себе, совпадает для явления с тем обстоятельством, что существование остального внешнего мира продолжается*. Этим объясняется и следующий факт: хотя сокровенное и смутное сознание того, что мы сейчас подняли до уровня ясного и отчетливого сознания, — хотя оно, как я уже сказал, и не дает мысли о смерти отравлять жизнь даже разумному существу, ибо такое сознание лежит в основе той жизненной силы, которая поддерживает все живущее и позволяет ему, пока оно обращено к жизни и направлено на нее, бодро продолжать эту жизнь, как будто бы смерти и не существовало, тем не менее, когда смерть в действительности или только в фантазии конкретно подступает к индивиду и он должен взглянуть ей прямо в лицо, его объемлет страх смерти, и он всячески пытается избегнуть ее. Ибо пока его познание было направлено на жизнь как таковую, он должен был постигнуть ее непреходящий характер, а когда перед его глазами является смерть, он должен признать ее за то, что́ она есть, за временный конец отдельного временно́го явления. То, чего мы боимся в смерти, — это вовсе не боль, ибо отчасти она явно лежит по сю сторону смерти, отчасти же мы нередко ищем в смерти спасения от боли, как и наоборот — обрекаем себя иногда на ужаснейшие муки, лишь бы еще на некоторое время отсрочить смерть, хотя бы легкую и быструю. Мы таким образом различаем боль и смерть как два совершенно разных зла: то, чего мы боимся в смерти, это в действительности гибель индивида, за каковую она себя откровенно и выдает, и так как индивид — это сама воля к жизни в ее отдельной объективации, то все его существо противится смерти.
Там, где чувство оставляет нас беспомощными, может все-таки выступить разум и большей частью одолеть пугающие впечатления чувства, подняв нас на более высокую точку зрения, где вместо частностей перед нами раскрывается целое. Поэтому философское познание сущности мира, которое дошло бы до той точки, где находимся теперь мы в своем рассмотрении, но не подвинулось бы дальше, могло бы уже в этой точке одолеть страх смерти — в той мере, в какой рефлексия у данного индивида одержала бы верх над непосредственным чувством. Человек, который в своих помыслах твердо проникся бы изложенными до сих пор истинами, но вместе с тем, путем собственного опыта или более глубокого усмотрения, не пришел бы к осознанию того, что
243
длительное страдание присуще всякой жизни; который, наоборот, находил бы в жизни удовлетворение, чувствовал бы себя в ней прекрасно и, по спокойном размышлении, хотел бы, чтобы его жизненный путь, каким он его познал до сих пор, продолжался бесконечно или постоянно возобновлялся; который имел бы столько жизненной силы, чтобы за все наслаждения жизни добровольно и охотно принять все тяготы и терзания, каким она подвержена, — такой человек твердо стоял бы «костью дебелой на крепкозданной прочной земле»8, и для него ничего не было бы страшно; вооруженный познанием, которое мы в нем предполагаем, он спокойно смотрел бы в лицо смерти, прилетающей на крыльях времени, и видел бы в ней обманчивый мираж, бессильный призрак, пугающий слабых, но не имеющий власти над тем, кто знает, что сам он есть та воля, объективацией или отпечатком которой выступает весь мир; кому поэтому во всякое время обеспечена жизнь, равно как и настоящее — эта подлинная, единственная форма явления воли; кого поэтому не может страшить бесконечное прошлое или будущее, где ему не суждено быть, ибо он считает это прошлое и будущее пустым наваждением и пеленой Майи, кто поэтому столь же мало должен бояться смерти, как солнце — ночи. На эту точку зрения Кришна ставит в Бхагаватгите своего вопрошающего ученика Арджуну, когда последний при виде готовых к бою полчищ (нечто, напоминающее Ксеркса), объятый грустью, колеблется и хочет отказаться от битвы, чтобы предотвратить гибель стольких тысяч; Кришна ставит его на эту точку зрения, и смерть стольких тысяч уже не может его страшить: он подает знак к битве9. Эту же точку зрения выражает и Прометей Гёте, особенно в словах:
Вот
я — гляди! Я создаю людей,
Леплю
их по своему подобью.
Чтобы
они, как я, умели
Страдать,
и плакать,
И
радоваться, наслаждаясь жизнью,
И презирать
ничтожество твое,
Подобно
мне!10
К этой же точке зрения могла бы привести философия как Бруно, так и Спинозы11, особенно тех, кому ошибки и несовершенства этих систем не помешали бы примкнуть к ним всецело или отчасти. В философии Бруно нет этики в собственном смысле, а у Спинозы этика совершенно не вытекает из сущности его учения: сама по себе прекрасная и достойная хвалы, она соединена с ним лишь посредством слабых и очевидных софизмов. На указанную точку зрения встало бы, наконец, много людей, если бы их познание шло в уровень с их желаниями, т. е. если бы они, свободные от всяких химер, были в состоянии уяснить себе самих себя. Ибо в этом и состоит для познания точка зрения полного утверждения воли к жизни.
Воля утверждает самое себя, — это значит: когда в ее объектности, т. е. в мире и жизни, ей полностью и отчетливо дается в качестве представления ее собственная сущность, то это познание нисколько не задерживает ее желания: она продолжает хотеть этой жизни даже такой, какой она ее познала, и если прежде она хотела ее, не зная ее, в слепом порыве, то теперь она хочет ее, узнав ее, сознательно и обдуманно. Противоположность этого, отрицание воли к жизни, наступает в том случае, если
244
вслед за таким познанием прекращается желание, так что познанные отдельные явления уже не воздействуют тогда как мотивы, а все выросшее из восприятия идей познание сущности мира, отражающего волю, становится квиетивом воли, и она таким образом свободно сама себя отвергает. Эти совершенно новые и в такой общей форме едва ли понятные мысли, я надеюсь, скоро станут ясными из предстоящего описания тех феноменов (в данном случае — человеческих поступков), в которых проявляется, с одной стороны, утверждение в его различных степенях, а с другой стороны, отрицание. Ибо хотя то и другое исходит из познания, но это — познание не абстрактное, выражаемое в словах, а живое, оно находит себе выражение только в делах и жизни и остается независимым от догматов, занимающих при этом, в качестве абстрактного познания, разум. Описать то и другое и возвести к ясному познанию разума — только это может быть моею целью; я вовсе не думаю предписывать или рекомендовать какое-нибудь из них: это было бы так же глупо, как и бесполезно, потому что воля в себе безусловно свободна, всецело определяет самое себя, и для нее не существует никакого закона. Но прежде чем приступить к указанной задаче, мы должны сперва разъяснить и точнее определить эту свободу и ее отношение к необходимости; кроме того, надо высказать несколько общих, относящихся к воле и ее объектам размышлений о жизни, утверждение и отрицание которой составляет нашу проблему; все это облегчит для нас задуманное познание этического смысла человеческих поступков в их внутреннем существе.
Я сказал уже, что все это сочинение представляет собой лишь развитие единой мысли; отсюда следует, что все его части теснейшим образом связаны между собою и не только каждая необходимо соотносится с предыдущей и прежде всего ее предполагает в памяти читателя (как это бывает во всех философских системах, состоящих просто из ряда умозаключений), но и каждая часть всего произведения родственна каждой другой и ее предполагает. Поэтому требуется, чтобы читатель помнил не только непосредственно предшествующее, но и все прежнее, и умел соединять его с каждым данным местом, сколько бы другого материала ни находилось между ними; такое требование предъявлял к своему читателю и Платон: в запутанном лабиринте его диалогов можно лишь длинными окольными путями возвратиться к главной мысли, становящейся оттого гораздо яснее. С нашей стороны подобное требование неизбежно, ибо хотя расчленение нашей единой мысли на многие соображения и составляет единственное средство для ее передачи, но для самой мысли это не существенная, а только искусственная форма. Чтобы облегчить изложение и сделать его понятнее, материал разделен, с четырех главных точек зрения, на четыре книги, и все родственное и однородное тщательно связано между собою; однако само содержание не допускает прямолинейного хода мысли (как это бывает в исторических работах), а делает необходимым более извилистый путь и потому требует неоднократного изучения книги: только это позволит уяснить связь каждой части с любой другой, и лишь все они, взятые вместе, полностью освещают одна другую*.
245
§ 55
Воля как таковая свободна: это следует уже из того, что она, согласно нашему взгляду, есть вещь в себе, опора всякого явления. Последнее же, как мы знаем, всецело подчинено закону основания в его четырех формах; и так как мы знаем, что необходимость вполне тождественна со следствием из данного основания, что это — понятия равнозначные, то все, что относится к явлению, т. е. служит объектом для познающего в качестве индивида субъекта, есть, с одной стороны, основание, а с другой — следствие, и в этом последнем качестве оно всецело и необходимо определено и потому ни в каком отношении не может быть иным, чем оно есть. Таким образом, все содержание природы, вся совокупность ее явлений совершенно необходимы, и необходимость каждой части, каждого явления, каждого события можно всякий раз показать воочию, потому что всегда есть и может быть найдено основание, от которого они зависят в качестве следствия. Это не терпит никакого исключения: это следует из неограниченной власти закона основания. Но, с другой стороны, тот же самый мир во всех своих явлениях представляет для нас объектность воли, которая, будучи сама не явлением, представлением или объектом, но вещью в себе, не подчиняется и закону основания, форме всякого объекта, и, следовательно, не определяется как следствие основанием, не подвластна необходимости, т. е. свободна. Таким образом, понятие свободы, собственно говоря, отрицательно, потому что его содержание есть только отрицание необходимости, т. е. соответствующего закону основания отношения следствия к его основанию.
Здесь явственнее всего лежит перед нами та общая точка этой великой антитезы — совмещение свободы с необходимостью, о которой в последнее время говорили часто, но, насколько мне известно, никогда не говорили ясно и дельно. Всякая вещь как явление, как объект безусловно необходима; но в себе эта вещь есть воля, а воля совершенно и во веки веков свободна. Явление, объект необходимо и неизменно определены в цепи оснований и следствий, которая не может прерываться. Но бытие вообще этого объекта и род его бытия, т. е. идея, которая в нем раскрывается, или, другими словами, его характер, — это непосредственно есть явление воли. В силу свободы этой воли он, таким образом, мог бы вообще не существовать или же изначально и по существу быть совершенно иным, причем и вся цепь, звеном которой он служит, но которая сама есть явление той же воли, была бы тогда совершенно иной; но если этот объект дан налицо, он вступил уже в ряд оснований и следствий, необходимо определен в нем и не может поэтому ни стать иным, т. е. измениться, ни выйти из ряда, т. е. исчезнуть. Человек, как и всякая другая часть природы, есть объектность воли; поэтому все сказанное относится и к нему. Как всякая вещь в природе имеет свои силы и свойства, которые определенно реагируют на определенное воздействие и составляют ее характер, так и он имеет свой характер, из которого мотивы необходимо вызывают его поступки. В самом качестве этих поступков выражается его эмпирический характер,
246
а в последнем, в свою очередь, — его умопостигаемый характер, воля в себе, детерминированным проявлением которой он служит. Но человек — это совершеннейшее явление воли, которое, чтобы существовать (как это показано во второй книге), должно быть озарено такой высокой степенью познания, что для последнего стало возможно даже вполне адекватное воспроизведение сущности мира, под формой представления, чем и является восприятие идей, чистое зеркало мира, как мы это видели в третьей книге. В человеке, таким образом, воля может достигнуть своего полного самосознания, ясного и исчерпывающего знания своей собственной сущности, как она отражается в целом мире. Если такая степень познания дана в действительности, то, как мы видели в предыдущей книге, она порождает искусство. В конце всего нашего рассуждения окажется, однако, что с помощью этого же познания, направленного волей на самое себя, возможно уничтожение или самоотрицание воли в ее совершеннейшем проявлении, так что свобода, которая как свойственная только вещи в себе вообще никогда не может обнаруживаться в явлении, выступает в таком случае и в последнем. Она уничтожает лежащую в основе явления сущность (в то время как само это явление продолжает еще пребывать во времени), создает противоречие явления с самим собою и именно этим вызывает феномены святости и самоотрицания. Однако все сказанное может стать вполне ясным лишь в конце этой книги.
Пока же мы указываем здесь в общих чертах на то, что человек отличается от всех других явлений воли тем, что свобода, т. е. независимость от закона основания, которая свойственна только воле как вещи в себе и противоречит явлению, у человека может, однако, выступать и в явлении, но тогда она необходимо составляет противоречие явления с самим собою. В этом смысле, конечно, не только воля в себе, но даже и человек может быть назван свободным и потому выделен из ряда всех других существ. Но как это следует понимать, покажет только все дальнейшее изложение, пока же мы должны оставить данный вопрос в стороне. Ибо прежде всего необходимо предостеречь от заблуждения, будто поступки отдельного, определенного человека не подчинены необходимости, другими словами, будто сила мотива менее надежна, чем сила причины или вывод заключения из посылок. Свобода воли как вещи в себе (если только, повторяю, оставить в стороне указанный выше совершенно исключительный случай) никогда не распространяется непосредственно на явление воли, даже там, где оно достигает высшей ступени очевидности; следовательно, она не распространяется на разумное животное с индивидуальным характером, т. е. на личность. Последняя никогда не свободна, хотя и служит проявлением свободной воли, ибо она представляет собой уже детерминированное проявление свободного желания этой воли; и хотя это проявление, облекаясь в форму всякого объекта — закон основания, развивает единство этой воли во множество поступков, но это множество, ввиду вневременного единства желания в себе, обнаруживает закономерность силы природы. Но так как именно свободное желание есть то, что сказывается в личности и во всем ее жизненном складе, относясь к нему как понятие к определению, то и каждый отдельный поступок личности должен быть приписан
247
свободной воле, и в качестве такового он непосредственно заявляет себя сознанию. Поэтому, как я уже говорил во второй книге, всякий a priori (т. е. здесь — в силу естественного чувства) считает себя свободным также и в отдельных поступках, иными словами, мы думаем, будто в каждом данном случае возможен любой поступок, и лишь a posteriori, на опыте и из размышления над опытом мы узнаем, что наши поступки совершенно необходимо вытекают из сопоставления характера с мотивами. Этим и объясняется, почему самый необразованный человек, следуя своему чувству, страстно защищает полную свободу отдельных поступков, между тем как великие мыслители всех веков и даже более глубокие из вероучений отрицали ее. Но кто уяснил себе, что вся сущность человека есть воля и что сам он — только явление этой воли (а такое явление имеет закон основания своей необходимой, уже из одного субъекта познаваемой формой, которая в этом случае выступает в виде закона мотивации), для того сомнение в неизбежности поступка при данном характере и предлежащем мотиве будет равносильно сомнению в равенстве трех углов треугольника двум прямым.
Необходимость отдельного поступка удовлетворительно показал Пристли в своей «Doctrine of philosophical necessity»12; но существование этой необходимости наряду со свободой воли в себе, т. е. вне явления, впервые доказал Кант* (заслуга которого здесь особенно велика), установив различие между умопостигаемым и эмпирическим характером; это различие я вполне и безусловно принимаю, потому что умопостигаемый характер — это воля как вещь в себе, поскольку она проявляется в определенном индивиде, в определенной степени, эмпирический же характер — само это проявление, как оно выражается в поведении (если иметь в виду время) и даже в строении тела (если иметь в виду пространство). Чтобы уяснить взаимоотношение обоих характеров, лучше всего воспользоваться той формулировкой, которую я уже употребил в своем вступительном трактате, а именно — умопостигаемый характер каждого человека следует рассматривать как вневременный, а поэтому неделимый и неизменный акт воли, проявление которого, развитое и развернутое во времени, пространстве и всех формах закона основания, есть эмпирический характер, как он, согласно опыту, обнаруживается во всем поведении и жизненном складе данного человека. Как все дерево представляет собой только бесконечно повторенное проявление одного и того же стремления, которое проще всего выражается в волокне и, усложняясь, повторяется в виде листа, побега, ветви, ствола и может быть легко в них узнано, так все поступки человека представляют собой только бесконечно повторяемое, в своей форме несколько меняющееся выражение его умопостигаемого характера, и вытекающая из суммы этих поступков индукция составляет его эмпирический характер. Впрочем, я не стану здесь перерабатывать и повторять мастерское изложение Канта, а предполагаю его известным.
248
В 1840 г. я обстоятельно и подробно разработал важный вопрос о свободе воли в своем получившем премию сочинении о ней и раскрыл причину той иллюзии, в силу которой полагают, будто в самосознании, в качестве факта его, можно найти эмпирически данную абсолютную свободу воли, т. е. liberum arbitrium indifferentiae*13: как раз на этом пункте и была, вполне осмысленно, сосредоточена конкурсная тема. Отсылая читателя к этому произведению, а также к § 10 изданной вместе с ним, под общим заглавием «Две основные проблемы этики», конкурсной работы об основе морали, я опускаю теперь предложенное в первом издании еще не полное доказательство необходимости волевых актов, а вместо этого постараюсь объяснить названную иллюзию в кратком рассуждении, которое имеет своей предпосылкой 19-ю главу нашего II тома и поэтому не могло быть приведено в упомянутой конкурсной работе.
Помимо того, что воля как истинная вещь в себе есть нечто действительно изначальное и независимое и в самосознании ее акты (здесь хотя уже и детерминированные) должны сопровождаться чувством изначальности и самостоятельности, помимо этого иллюзия эмпирической свободы воли (вместо трансцендентальной, которую только и следует признавать за ней), т. е. свободы отдельных поступков, возникает из показанного в 19-й главе II тома, особенно под № 3, обособленного и подчиненного положения интеллекта по отношению к воле. Ведь интеллект узнает решения воли только a posteriori и эмпирически, поэтому, когда ему предстоит выбор, у него нет данных о том, какое решение примет воля. Ибо умопостигаемый характер, в силу которого при данных мотивах возможно только одно решение и потому решение необходимое, не познается интеллектом, а постепенно, своими отдельными актами, ему становится известен лишь эмпирический характер. Вот почему познающему сознанию (интеллекту) кажется, будто в каждом данном случае для воли одинаково возможны два противоположных решения. Но это то же самое, как если бы относительно шеста, стоящего отвесно, но потерявшего равновесие и зашатавшегося, сказать: «Он может упасть на правую сторону или на левую», — ведь это может иметь лишь субъективное значение и собственно выражает только: «по отношению к известным нам данным», потому что объективно сторона падения уже необходимо определилась, как только шест зашатался. Так и решение собственной воли остается индетерминированным лишь для ее зрителя, собственно интеллекта[175], т. е. только относительно и субъективно, а именно для субъекта познания; взятое же само по себе и объективно, решение при каждом выборе уже детерминировано и необходимо. Но только эта детерминация входит в сознание лишь через посредство совершающегося решения. Мы получаем даже эмпирическое подтверждение этого — когда нам предстоит какой-нибудь трудный и важный выбор, но только при условии, которое еще не явилось, а лишь ожидается, так что мы до тех пор ничего не можем делать и должны оставаться пассивными. Вот тогда мы и обдумываем, на что нам следует решиться при наступлении тех условий, которые позволят нам свободное действие
249
и выбор. Обыкновенно в пользу одного решения говорят дальновидные разумные соображения, а в пользу другого — непосредственная склонность.
Пока мы поневоле остаемся пассивными, кажется, что сторона разума берет перевес; но мы заранее предвидим, как сильно будет тянуть к себе другая сторона, когда представится случай к действию. До тех же пор мы усердно стараемся холодным осуждением pro и contra полностью высветить мотивы обеих сторон, чтобы каждый из них мог воздействовать на волю всей своей силой, когда придет решительный момент, и чтобы какая-нибудь ошибка интеллекта не склонила волю принять иное решение, нежели то, какое она выбрала бы, если бы все воздействовало на нее равномерно. Но это ясное расчленение мотивов обеих сторон — все, что может сделать интеллект при выборе. А действительного решения он выжидает столь же пассивно и с таким же напряженным любопытством, как и решения чужой воли. Поэтому с его точки зрения оба решения должны казаться ему одинаково возможными, и в этом и заключается иллюзия эмпирической свободы воли. В сферу интеллекта решение вступает совершенно эмпирически, как окончательный исход дела; но возникло оно все-таки из внутренних свойств, из умопостигаемого характера индивидуальной воли, в ее конфликте с данными мотивами[176] и возникло поэтому с полной необходимостью. Интеллект может при этом лишь ярко и всесторонне высветить особенности мотивов, но он не в силах определить самую волю, ибо она совершенно недоступна для него и даже, как мы видели, непостижима[177].
Если бы человек при одинаковых обстоятельствах однажды мог поступить так, а в другой раз — иначе, то сама его воля должна была бы между тем измениться и потому лежать во времени, ибо только в нем и возможно изменение; но в таком случае или воля должна была бы представлять собой только явление, или время должно было бы составлять определение вещи в себе. Поэтому спор о свободе отдельного поступка, о liberum arbitrium indifferentiae[178], вращается, собственно говоря, вокруг вопроса о том, лежит ли воля во времени или нет. Если она в качестве вещи в себе, как это неизбежно вытекает из учения Канта и из всего моего рассуждения, лежит вне времени и всех форм закона основания, то не только индивид должен в одинаковых условиях всегда поступать одинаково и не только всякое злое дело его является надежной порукой за множество других, которые он должен совершить и от которых не может уклониться, но и мы были бы в состоянии, как говорит Кант, при наличности эмпирического характера и мотивов вычислять будущее поведение человека, как солнечное и лунное затмение. Как последовательна природа, так последователен и характер: в соответствии с ним должен совершаться всякий отдельный поступок, подобно тому как всякий феномен соответствует закону природы; мотивы в первом случае и причина в последнем — это лишь случайные причины, как показано во второй книге. Воля, проявлением которой служит все бытие и жизнь человека, не может отрекаться от себя в отдельных случаях, и чего хочет человек вообще, того он всегда будет хотеть и в частности.
Утверждение эмпирической свободы воли, liberi arbitrii indifferentiae, находится в теснейшей связи с тем, что сущность человека полагали
250
в душе, которая будто бы изначально есть познающее, вернее, абстрактно мыслящее существо и лишь вследствие этого хотящее; таким образом, природу воли считали производной, между тем как на самом деле таким производным моментом является познание. Волю рассматривали даже как особый акт мышления и отождествляли с суждением, как это делали Декарт и Спиноза. С такой точки зрения всякий человек становится тем, что он есть, лишь вследствие своего познания: он является на свет как моральный нуль, познает вещи этого мира, затем решается быть тем или другим, поступать так или иначе и может даже, в результате нового познания, избрать новое поведение, т. е. стать другим. Далее, с этой точки зрения, человек сначала признает какую-нибудь вещь хорошей и вследствие этого хочет ее, — между тем как на самом деле он сначала хочет ее и вследствие этого называет ее хорошей. Согласно всей моей главной мысли, такая точка зрения извращает действительное отношение обоих моментов. Воля — это нечто первое и основное, познание же просто привходит к явлению воли и служит его орудием. Поэтому всякий человек есть то, что он есть в силу своей воли, и его характер — это нечто изначальное, потому что желание составляет основу его существа. Благодаря привходящему познанию он в течение опыта узнает, что он такое, т. е. узнает свой характер. Таким образом, он познает себя в силу качеств своей воли и в соответствии с ними, а не хочет вследствие своего познания и в соответствии с ним; согласно этому старому взгляду, человек должен только сообразить, каким ему больше всего хочется быть, и таким он и станет: в этом и состоит свобода воли. Она заключается, собственно, в том, что человек — это дело собственных рук при свете познания. Я же говорю: человек есть дело собственных рук до всякого познания, и последнее только привходит, чтобы высветить его. Поэтому он не может решиться быть таким или иным и не может стать другим; нет, он есть раз и навсегда и постепенно познает, что он такое. Согласно прежней теории, он хочет того, что познает; на мой взгляд, он познает то, чего хочет.
Греки называли характер ῆϑος, а его проявления, т. е. нравы — ἢϑη; но последнее слово происходит от ἒϑος, привычка: они выбрали его, чтобы метафорически обозначить постоянство характера постоянством привычки. Τὸ γὰρ ῆϑος ἀπὸ τουεϑους ἒχει τὴν ἐπωνυμίαν ὴϑικὴ γαρ καλεῖται διὰ τὸ ὲϑιξεσϑει*, — говорит Аристотель (Eth. magna, I, 6, 1186 Eth. Eud., 1220, и Eth. Nie, 1103, ed. Ber.). У Стобея читаем: «Stoici autem, Zenonis castra sequentes, metaphorice ethos difiniunt vitae fontem, aquo singulae manant actiones (II, cap. 7)»**. В христианском вероучении мы находим догмат о предопределении — вследствие избрания или неизбрания (Рим. 9, 11— 24), догмат, очевидно, вытекающий из той мысли, что человек не изменяется, что жизнь его и деяния, т. е. его эмпирический характер, являются лить раскрытием характера умопостигаемого, развитием заметных уже у ребенка определенных и неизмен-
251
ных задатков и что поэтому уже при самом рождении человека точно определена его нравственная деятельность, которая в существенном остается верна себе до самого конца. С этим согласны и мы, но, конечно, выводы, полученные из соединения этой совершенно правильной мысли с находящимися в еврейском вероучении догматами и создавшие великое затруднение, вовеки неразрешимый гордиев узел, вокруг которого вращается большинство церковных споров, — эти выводы я защищать не берусь, ибо такая зашита едва ли удалась самому апостолу Павлу с его примером горшечника14: ведь конечным результатом оказалось бы не что иное, как:
Пусть
люди боятся
Всесильных
богов.
Владычить
над миром
Они
не устанут
И
вечной десницей
Расправу
творят15.
Но такие соображения не касаются, собственно, нашей темы. Скорее, теперь окажутся целесообразными несколько замечаний о связи между характером и познанием, в котором заключены все его мотивы.
Так как мотивы, определяющие проявление характера, или поступки воздействуют на характер через посредство познания, а познание изменчиво, часто колеблется между заблуждением и истиной, хотя обыкновенно в течение жизни все более и более исправляется (конечно, в весьма различных степенях), то поведение известного человека может заметно измениться, но отсюда мы еще не имеем права заключать о перемене его характера. То, чего человек подлинно и вообще хочет, затаенное стремление его существа и соответственная цель, преследуемая им, никогда не поддается изменению путем внешнего воздействия на него, поучения: иначе мы были бы в состоянии его пересоздать. Сенека прекрасно говорит: velle non discitur*, предпочитая истину своим же стоикам, которые учили: doceri posse virtutem**. Извне на волю можно воздействовать только мотивами, но они никогда не могут изменить самой воли, потому что они сами имеют власть над ней только при условии, что она именно такова, какова она есть. Все, что они могут сделать, — это лишь изменить направление ее стремлений, т. е. устроить так, чтобы то, чего она неуклонно ищет, она искала на другом пути, нежели раньше. Поэтому всякие поучения и умственное развитие, т. е. внешние воздействия, могут убедить ее, что она заблуждается в своих средствах, могут сделать так, чтобы она стала искать на совершенно другом пути, даже в совершенно другом объекте, ту цель, к которой она по своему внутреннему существу раз и навсегда стремится, но никогда они не смогут сделать так, чтобы воля действительно захотела чего-нибудь другого, нежели то, чего она хотела до сих пор; ее желание остается неизменным, потому что воля и есть самое это желание, которое иначе было бы просто упразднено. Между тем изменчивость познания, а пото-
252
му и поведения заходит так далеко, что воля старается достигнуть своей неизменной цели, например Магометова рая16, однажды в действительном мире, другой раз — в воображаемом, соразмеряя с этим свои средства и в первом случае пользуясь умом, насилием и обманом, а во втором — воздержанием, справедливостью, милостыней, паломничеством в Мекку. Но от этого не изменились ни ее стремления, ни — в еще меньшей степени — она сама. Если, таким образом, ее поступки и оказываются весьма различными в разные периоды, то ее желание остается совершенно тем же самым. Velle non disatur.
Для действенности мотивов необходимо, чтобы они не только были налицо, но и чтобы они были познаны, ибо, согласно упомянутому уже однажды очень хорошему выражению схоластов, «конечная причина действует не в соответствии со своим реальным бытием, а в соответствии с бытием познанным». Для того, например, чтобы проявилось отношение, существующее в данном человеке между эгоизмом и состраданием, недостаточно, чтобы он, скажем, владел богатством и видел чужую нужду: нет, он должен знать также, что́ можно сделать с богатством как для себя, так и для других; и он должен чужое страдание не только представлять себе, но он должен знать также, что́ такое страдание, а также что́ такое наслаждение. Быть может, в одном каком-нибудь случае он не знал всего этого так хорошо, как в другом, и если он в одинаковых случаях поступал различно, то причина этого заключается лишь в том, что обстоятельства, собственно, были другие, именно в той части, которая зависит от того, как он их познает, хотя они и кажутся одинаковыми.
Как незнание действительных обстоятельств отнимает у них силу, так, с другой стороны, совершенно воображаемые обстоятельства могут действовать как реальные не только в отдельных случаях заблуждения, но и вообще и в течение долгого времени. Если, например, человек убежден, что за каждое благодеяние ему в будущей жизни воздастся сторицей, то такое убеждение имеет для него силу вполне надежного и долгосрочного векселя, и он из эгоизма может раздавать, тогда как при другом убеждении он из эгоизма брал бы. Он не изменился: velle non discitur. Благодаря этому великому влиянию познания на поступки при неизменности воли происходит то, что лишь постепенно развивается характер и выступают различные его черты. Поэтому в каждом возрасте жизни он является иным, и после бурной необузданной юности может наступить спокойная и умеренная зрелость. Особенно злые черты характера с течением времени проявляются все сильнее; иногда же страсти, которым мы отдавались в юности, позднее добровольно обуздываются — только потому, что противоположные мотивы лишь теперь проникают в сознание. Вот почему в начале своей жизни мы все невинны, что означает только, что ни мы, ни другие не знаем злой стороны нашей собственной природы: она вызывается лишь мотивами, и лишь со временем мотивы проникнут в сознание. Под конец мы узнаем самих себя совершенно другими, нежели считали себя a priori, и часто мы пугаемся тогда самих себя.
Раскаяние никогда не бывает следствием того, что изменилась воля (это невозможно): оно вытекает из того, что изменилось познание.
253
Существенного и подлинного из того, чего я некогда хотел, я должен хотеть еще и теперь, ибо я сам — эта воля, лежащая вне времени и изменения. Я всегда поэтому могу раскаиваться не в том, чего я хотел, а лишь в том, что я сделал, ибо, руководимый ложными понятиями, я сделал нечто иное сравнительно с тем, что соответствовало моей воле. Убедиться в этом на основе более правильного познания — вот что значит раскаяться[179]. Это относится не только к житейской мудрости, к выбору средств и обсуждению соответствия цели моей действительной воле, но и к собственно этическим моментам. Так, например, я мог поступить более эгоистично, чем это свойственно моему характеру, введенный в заблуждение преувеличенными представлениями о нужде, в которой я сам находился, или о коварстве, лживости, злобе других, или же тем, что я действовал поспешно, не подумав, под влиянием только наглядных мотивов, а не отчетливо познанных in abstracto, под впечатлением минуты и возбужденного им аффекта, столь сильного, что я, собственно, и не владел своим разумом; возвращение рассудительности и в таком случае является только исправленным познанием, из которого может возникнуть раскаяние, выражающееся тогда в исправлении содеянного, насколько это возможно. Надо, впрочем, заметить, что в целях самообмана люди заведомо прибегают к мнимой опрометчивости, которая на самом деле представляет собой втайне обдуманный план действия. Ибо мы никого не обманываем и никому не льстим такими тонкими уловками, кроме как самим себе. Бывают и противоположные случаи: излишняя доверчивость к другим, или незнание относительной ценности жизненных благ, или какой-нибудь абстрактный догмат, в который я ныне перестал уже верить, могут заставить меня поступить менее эгоистично, чем это свойственно моему характеру, и тем вызвать во мне раскаяние иного рода. Таким образом, раскаяние всегда есть исправленное познание отношения поступка к действительному намерению.
Подобно тому как воле, поскольку она раскрывает свои идеи только в пространстве, т. е. в одной высшей форме, противоборствует материя, уже подчиненная власти других людей (в данном случае — сил природы), и она редко позволяет той форме, которая стремилась здесь к обнаружению, выступить в совершенной чистоте и ясности, т. е. в красоте, так и воля, проявляющаяся только во времени, т. е. в действиях, встречает себе аналогичное препятствие в познании, которое редко сообщает ей вполне правильные данные, отчего поступок и оказывается не вполне соответствующим воле и тем вызывает раскаяние. Последнее, таким образом, всегда вытекает из усовершенствованного познания, а не из перемены в воле: перемена невозможна. Угрызения совести по поводу совершенного — это вовсе не раскаяние, а страдание, которое мы испытываем оттого, что познали себя в самих себе, т. е. как волю. Угрызения эти основаны как раз на уверенности, что мы все еще обладаем той же волей. Если бы последняя изменилась и угрызения совести были только раскаянием, то оно уничтожило бы само себя, ибо прошедшее не могло бы больше возбуждать тревоги, представляя собой обнаружение такой воли, которая уже не есть воля кающегося. Ниже мы подробно разберем смысл угрызений совести[180].
254
Влияние, которое познание как среда мотивов оказывает не на самую волю, правда, а на ее обнаружение в поступках, обосновывает также главное различие между действиями людей и животных — ведь способ познания у тех и у других различен. Животное имеет только наглядные представления, человек же благодаря разуму — еще и абстрактные понятия. Хотя животное и человек с одинаковой необходимостью определяются мотивами, последний имеет все-таки перед животным то преимущество, что перед ним открыта полная возможность выбора решений; ее часто принимали даже за свободу воли в отдельных поступках, хотя на самом деле она представляет собой только возможность полного завершения конфликта между несколькими мотивами, из которых самый сильный с необходимостью решает дело. Именно для этого мотивы должны были принять форму абстрактных мыслей, ибо только с их помощью возможно действительное обсуждение, т. е. взвешивание противоположных оснований для деятельности. У животного выбор может быть только между наглядно предлежащими мотивами, почему он и ограничен узкой сферой его наличного, наглядного восприятия. Поэтому необходимость определения воли мотивом, равная необходимости определения действия причиной, может быть наглядно и непосредственно представлена только у животных, ибо здесь и у зрителя мотивы находятся перед глазами так же непосредственно, как и их результаты; у человека же мотивы почти всегда — это абстрактные представления, невидимые для зрителя, и даже для самого деятеля необходимость их воздействия скрыта за их конфликтом. Ибо лишь in abstracto могут несколько представлений, в качестве суждений и цепей силлогизмов, находиться в сознании рядом друг с другом и затем воздействовать друг на друга независимо от всякого временного определения, пока наиболее сильное не одолеет остальных и не определит воли. В этом и заключается полная возможность выбора решений, или способность обсуждения, составляющая преимущество человека перед животным, — из-за нее ему приписали свободу воли, полагая, будто его желание — это просто результат операций интеллекта, не опирающегося на определенную склонность, между тем как на самом деле мотивация действует только на основе и при условии определенной склонности человека, которая у него индивидуальна, т. е. составляет характер. Более обстоятельный разбор этой способности обсуждения и вытекающего из нее различия между произволом человека и животных можно найти в «Двух основных проблемах этики» (I изд., с. 35 и сл., II изд., с. 34 и сл.); к ним я и отсылаю. Впрочем, эта способность человека к обсуждению относится к тем вещам, которые делают его существование гораздо более мучительным, чем существование животного, как и вообще самые великие наши страдания коренятся не в настоящем, не в наглядных представлениях или непосредственном чувстве, но в разуме в виде абстрактных понятий, мучительных мыслей, от которых вполне свободно животное, живущее только в настоящем и, следовательно, в завидной беззаботности[181].
Указанная зависимость человеческой способности обсуждения от умения абстрактно мыслить, а следовательно, судить и умозаключать, по-видимому, и была тем обстоятельством, которое побудило как Де-
255
карта, так и Спинозу отождествить решение воли со способностью утверждения и отрицания (способность суждения). Из этого Декарт вывел, что воля (у него индифферентно свободная) ответственна и за всякое теоретическое заблуждение; Спиноза, напротив, утверждал, что воля так же необходимо определяется мотивами, как суждение — основаниями*; последний взгляд, впрочем, правилен, но правилен как верное заключение из ложных посылок.
Установленное различие в способах того, как животное и
человек управляются мотивами, оказывает очень широкое влияние на существо обоих
и составляет основную часть того глубокого и очевидного различия, которое
существует между характерами их бытия. В то время как для животного мотивом
всегда служит только наглядное представление, человек стремится совершенно
исключить этот род мотивации и определять себя только абстрактными
представлениями, с наибольшей выгодой используя свое преимущество разума; вне
зависимости от настоящего он не избирает и не избегает мимолетного наслаждения
или преходящей боли, а обдумывает их последствия. В большинстве случаев, за
исключением только совершенно незначительных поступков, нас определяют абстрактные,
мысленные мотивы, а не впечатления настоящего. Вот почему каждое отдельное
лишение в данную минуту для нас довольно легко, а всякое отречение страшно тяжело:
ведь первое касается только мимолетного настоящего, второе же относится к
будущему и поэтому заключает в себе бесчисленные лишения, для которых оно служит
эквивалентом. Причина нашего страдания, как и нашей радости, заключена поэтому
большей частью не в реальных обстоятельствах, а просто в абстрактных мыслях:
именно они часто ложатся на нас невыносимым бременем, вызывают муки, в
сравнении с которыми ничтожны все страдания животного мира, так как эти муки
иногда заглушают даже физическую боль; мало того, при сильных душевных
страданиях мы причиняем себе физические мучения только для того, чтобы переключить
на них все внимание: вот почему при страшной душевной боли мы рвем на себе
волосы, бьем себя в грудь, терзаем лицо, мечемся по земле — все это является, в
сущности, только насильственными средствами для отвлечения от невыносимой
тягостной мысли. Именно потому, что душевное страдание, будучи гораздо сильнее,
делает нечувствительным к физической боли, для человека, пришедшего в отчаяние или
удрученного болезненной тоской, очень легко решиться на самоубийство, даже если
раньше, в спокойном состоянии, он содрогался при мысли об этом. Точно так же
забота и страсть, т. е., другими словами, игра мыслей, чаще и сильнее истощают
тело, чем физические тяготы. Справедливо поэтому говорит Эпиктет: «Perturbant h
256
гору, смеялся, а сходя с нее — плакал. Дети, причинив себе боль, часто плачут не от нее, а от мысли о ней, возбуждаемой чужим соболезнованием. Такая значительная разница в поступках и жизни людей и животных вытекает из различия в способе их познавания. Далее, проявление ясно очерченного индивидуального характера, который преимущественно отличает человека от животного, обладающего почти исключительно родовым характером, тоже обусловливается выбором между несколькими мотивами, возможным только при посредстве абстрактных понятий. Ибо только после предварительного выбора различно слагающиеся у разных индивидов решения являются признаком их индивидуального характера, который у каждого иной; между тем поступки животного зависят только от наличия или отсутствия впечатления и при условии, что такое впечатление вообще является мотивом для его породы. Поэтому, наконец, у человека только решение, а не простое желание служит действительным признаком его характера — как для него самого, так и для других. Решение же становится известным как для него самого, так и для других только через поступок. Желание — это лишь необходимое следствие из данного впечатления, независимо от того, вызвано ли последнее внешним раздражителем или внутренним мимолетным настроением, оно так же непосредственно необходимо и не требует рефлексии, как и поступки животных, и, как и они, выражает лишь родовой, а не индивидуальный характер, т. е. указывает только то, на что способен человек вообще, а не то, на что способен испытывающий данное желание индивид. Ввиду того, что поступок как человеческое деяние всегда требует известной обдуманности и так как человек обычно владеет своим разумом, т. е. действует сознательно, т. е. принимает решения в силу мысленных отвлеченных мотивов, ввиду этого только поступок служит выражением умопостигаемой максимы поведения человека, результатом его сокровенного желания и является как бы буквой слова, обозначающего его эмпирический характер, который сам есть лишь временное выражение его умопостигаемого характера. Поэтому в нормальном состоянии духа только поступки обременяют совесть, а не желания и помыслы. Ибо только наши поступки представляют собой зеркало нашей воли. Упомянутые ранее поступки, совершаемые необдуманно и в слепом аффекте, являются до известной степени чем-то средним между простым желанием и решением. Поэтому искреннее раскаяние, которое, однако, тоже проявляется в поступке, может стереть их как неудачный штрих на картине нашей воли, а такую картину представляет наш жизненный путь. Отметим здесь в виде необычного сравнения, что отношение между желанием и поступком имеет совершенно случайную, но точную аналогию с отношением между электрическим разряжением и заряжением[182].
В результате всего этого рассуждения о свободе воли и относящихся к ней предметах мы находим, что хотя воля сама по себе и вне явления должна быть названа свободной и даже всемогущей, тем не менее в своих отдельных освещенных познанием проявлениях, т. е. у людей и животных, она определяется мотивами, на которые каждый характер реагирует всегда одинаково, закономерно и необходимо. Мы видим, что человек, благодаря привходящему абстрактному, или разумному, позна-
257
нию, имеет перед животными то преимущество, что он может решать по выбору; но это только делает его ареной борьбы мотивов, не освобождая его от их господства, поэтому хотя решение по выбору и обусловливает возможность полного обнаружения индивидуального характера, но в нем никак нельзя видеть свободы отдельного желания, т. е. независимости от причинного закона, необходимость которого распространяется на человека, как и на всякое другое явление. Таким образом, только до указанной точки и не дальше доходит различие, которое разум, или познание с помощью понятий, устанавливает между человеческим и животным желанием. Но тот совершенно особый, невозможный в животном мире феномен человеческой воли, который может возникнуть, когда человек отрешается от всякого подвластного закону основания познания отдельных вещей как таковых и, постигая идеи, проницает principium individuationis; когда вследствие этого становится возможным действительное обнаружение истинной свободы воли как вещи в себе, отчего явление вступает в известное противоречие с самим собою, выражаемое словом самоотрицание, и даже в конце концов уничтожает в себе своего существа[183], — это подлинное и единственное непосредственное обнаружение в явлении свободы воли в себе не может быть еще здесь ясно описано, а послужит темой нашего рассмотрения в самом конце.
Но теперь, когда мы уяснили себе в этих рассуждениях неизменность эмпирического характера, представляющего собой только раскрытие вневременного умопостигаемого характера, когда мы поняли и необходимость возникновения поступков из встречи характера с мотивами, мы должны прежде всего устранить вывод, который очень легко сделать отсюда в пользу недостойных склонностей. А именно: так как наш характер следует рассматривать как временно́е раскрытие вневременного и, следовательно, неделимого и неизменного волевого акта, или умопостигаемого характера, которым неизменно определяется все существенное в нас, т. е. этическое содержание нашего жизненного склада, и согласно которому это содержание должно выражаться в проявлении умопостигаемого характера — эмпирическом характере, между тем как только несущественная сторона этого проявления, внешний облик нашей жизни, зависит от тех образов, в каких являются мотивы, — то отсюда могут заключить, что бесполезно работать над исправлением своего характера или бороться с властью дурных побуждений, что благоразумнее поэтому склоняться перед неотвратимым и беспрекословно идти навстречу всякому побуждению, хотя бы и дурному. Но такой взгляд совершенно походит на теорию неотвратимого рока и на выводимое из нее заключение, которое называют ἀργὸς λόγος*[184], а в новейшее время — «турецкой верой»; справедливое опровержение этого вывода, приписываемое Хрисиппу, находится у Цицерона в его книге «De fato»** (гл. 12, 13).
Хотя и можно считать, что все бесповоротно предопределено судьбой, но это совершается лишь посредством цепи причин. И никак не может быть определено, чтобы действие наступило помимо своей причины.
Следовательно, не событие само по себе предопределено, а собы-
258
тие как результат предшествующих причин, так что не только один результат, но и средства, результатом которых он должен быть, предопределены судьбою. Если поэтому не явятся средства, то уж наверное не будет и результата: то и другое определено судьбою, но мы узнаем это всегда лишь потом.
Подобно тому как события всегда соответствуют судьбе, т. е. бесконечному сцеплению причин, так наши поступки всегда отвечают нашему умопостигаемому характеру; но как мы заранее не знаем судьбы, так не дано нам и априорно постигнуть этот характер: только a posteriori, на опыте, научаемся узнавать мы и других, и самих себя. Если свойство нашего умопостигаемого характера таково, что мы в состоянии решаться на добрый поступок только после долгой борьбы со злым побуждением, то эта борьба должна предшествовать, и ее необходимо переждать. Мысль о неизменности характера, о единстве источника, из которого вытекают все наши поступки, не должна склонять нас к тому, чтобы в ту или другую сторону предварять решение характера: последующее решение покажет нам, кто мы такие, и мы отразимся в зеркале своих деяний. Этим и объясняются те чувства удовлетворенности или удрученности, с которыми мы оглядываемся на пройденный жизненный путь: оба эта чувства происходят не от того, что наши минувшие деяния сохраняют еще свое бытие, — они прошли, они были, и теперь уже ничего нет, но великая их важность для нас вытекает из их значения, из того, что эти деяния — отпечаток характера, зеркало воли, и, всматриваясь в него, мы познаем наше сокровенное я, ядро нашей воли. И так как мы узнаем это не заранее, а лишь впоследствии, то нам и надлежит стремиться и бороться во времени, дабы картина, которую мы создаем своими деяниями, вышла такой, чтобы вид ее по возможности успокаивал нас, а не удручал. Впрочем, значение такого покоя или такой удрученности будет, как я уже сказал, выяснено ниже. Здесь же необходимо рассмотреть еще следующее.
Наряду с умопостигаемым и эмпирическим характером надо упомянуть еще нечто третье, отличное от обоих, — приобретенный характер, который образуется только в течение жизни, в процессе земного опыта; именно о нем идет речь, когда хвалят человека за обладание характером или упрекают его за бесхарактерность[185]. Можно было бы, конечно, подумать, что так как эмпирический характер, в качестве проявления характера умопостигаемого, неизменен и подобно всякому явлению природы внутренне последователен, то и человек по этой же причине должен всегда быть равным и последовательным себе самому и оттого не нуждается в искусственном приобретении характера путем опыта и размышления. Но это не так, и хотя человек всегда остается одним и тем же, он тем не менее не во всякое время понимает самого себя: мы часто ошибаемся в себе, пока не достигнем в известной степени подлинного самопознания. Эмпирический характер как простое влечение природы сам по себе неразумен, и разум даже мешает его проявлениям — тем сильнее, чем большей рассудительностью и силой мысли человек обладает. Ибо последние всегда показывают ему, что подобает человеку вообще как родовому характеру, чего он может хотеть и что может осуществить.
9* 259
Это затрудняет отдельному человеку понимание того, чего же изо всего этого он, в силу своей индивидуальности, единственно хочет и что может. Он чувствует в себе задатки всех самых разнообразных человеческих устремлений и сил; но различная степень их, присущая его индивидуальности, уясняется для него без опыта и даже если он выбирает именно те стремления, которые только соответствуют его характеру, то он чувствует все-таки, особенно в отдельные моменты и в различном настроении, порыв к совершенно противоположным целям, которые не соединимы с первыми и должны быть совершенно подавлены, если он желает беспрепятственно следовать тому, что он первоначально избрал. Ибо подобно тому как наш физический путь на земле всегда образует только линию, а не поверхность, так и в жизни, желая схватить и приобрести одно, мы должны отказываться от бесчисленного другого и не трогать того, что лежит направо и налево. Если же мы не можем на это решиться, если, подобно детям на ярмарке, мы хватаемся за все, что привлекает нас по дороге, то это — нелепое желание превратить линию нашего пути в поверхность; мы двигаемся тогда зигзагами, блуждаем в разные стороны и не достигаем ничего. Или, употребляя другое сравнение: подобно тому как, согласно правовому учению Гоббса, каждый первоначально имеет право на каждую вещь, но ни на одну не имеет исключительного права, которого по отношению к отдельным вещам он может достигнуть лишь путем отказа от своего права на все остальные, причем другие делают то же самое по отношению к избранной им вещи, — так же точно бывает и в жизни, где мы только в том случае можем серьезно и успешно осуществлять какое-нибудь определенное стремление, будь то стремление к наслаждению, почету, богатству, науке, искусству или добродетели, если мы отрекаемся от всех чуждых ему притязаний, отказываемся от всего другого. Поэтому одного только желания и умения самих по себе еще недостаточно, и человек должен также знать, чего он хочет, и знать, что он может[186]: только таким образом он проявит характер и только тогда он сможет совершить нечто настоящее. Пока же он не достиг этого, он, несмотря на естественную последовательность эмпирического характера, бесхарактерен, и хотя в целом, влекомый своим демоном, должен оставаться верным себе и пройти свой путь, он опишет все-таки не прямую, а волнистую, неровную линию, будет колебаться, отступать, возвращаться, обрекать себя раскаянию и муке, и все это потому, что он видит перед собою в большом и малом столь много доступного и возможного для человека и все же не знает, что именно во всем этом единственно подходит к нему, может быть исполнено им и даже будет ему по душе. Поэтому он будет завидовать другим людям в их положении и обстоятельствах, которые между тем соответствуют только их характеру, а не его, и в которых он чувствовал бы себя несчастным и даже, быть может, не вынес бы их. Ибо как рыбе хорошо только в воде, птице — только в воздухе, кроту — только под землей, так и всякий человек чувствует себя хорошо только в подходящей ему атмосфере; так, например, не всякому дышится легко в придворном воздухе. Недостаточно понимая это, иной будет делать неудачные попытки, будет подчас насиловать свой характер, в целом же все-таки будет вынужден ему уступить; и то, чего он с трудом
260
достигнет вопреки своей природе, не доставит ему никакого удовольствия; то, чему он на этом пути научится, останется мертво; и даже в этическом отношении поступок, рожденный у него не из чистого, непосредственного порыва, а из понятия, из догмата, для его характера слишком благородный, вызовет потом эгоистическое раскаяние и оттого потеряет всякую цену даже в его собственных глазах. Velle non disdtur. Подобно тому как в непреклонности чужих характеров мы убеждаемся лишь на опыте, а до тех пор по-детски верим, будто разумные убеждения, просьбы и мольбы, пример и великодушие могут довести кого-нибудь до того, что он откажется от своей природы, изменит свое поведение, отойдет от своего образа мыслей или даже расширит свои способности, — точно так же бывает и с нами самими. Только из опыта мы узнаем, чего мы хотим и что можем, а до тех пор мы не знаем этого, мы бесхарактерны, и часто тяжелые внешние удары должны возвращать нас на наш собственный путь. Но если мы, наконец, это познали, мы достигли того, что обычно зовется характером, достигли приобретенного характера.
Последний, таким образом, есть не что иное, как возможно совершенное познание собственной индивидуальности — абстрактное, следовательно, отчетливое знание неизменных свойств нашего собственного эмпирического характера, знание степени и направления духовных и телесных сил, т. е. всех достоинств и слабостей собственной индивидуальности. Оно дает нам возможность исполнять, уже сознательно и методически, ту раз и навсегда неизменную роль собственной личности, которую мы прежде осуществляли бессистемно, и под руководством незыблемых понятий восполнять в ней пробелы, созданные прихотью и слабостями. Свое поведение, и без того необходимое в силу нашей индивидуальной природы, мы сознательно сводим теперь к ясным и всегда имеющимся у нас принципам, под руководством которых мы осуществляем его так обдуманно, как если бы оно было заученным, и при этом нас ни разу не сбивает с пути мимолетное настроение или преходящее впечатление, нас не задерживает горечь или отрада от какой-нибудь вещи, встречаемой на дороге, и мы идем без трепета, без колебаний, без уклонений. Мы не станем уже теперь, как новички, выжидать, пробовать, бродить вокруг да около, чтобы увидеть, чего мы, собственно, хотим и что можем: нет, мы знаем это раз и навсегда и при каждом выборе нам следует только применить общие положения к отдельным случаям, чтобы сейчас же прийти к решению. Мы знаем свою волю в целом и потому не допустим, чтобы какое-нибудь настроение или внешнее воздействие склоняло нас в отдельных случаях к таким решениям, которые противоречат ей вообще. Мы знаем точно так же характер и степень наших сил и наших слабостей, и это предохранит нас от многих страданий. Ибо нет, в сущности, другого наслаждения, как употреблять и чувствовать собственные силы, и величайшее страдание — это сознавать недостаток сил там, где в них есть нужда. Распознав, в чем наша сила и наша слабость, мы будем стремиться к всестороннему использованию и развитию своих очевидных природных задатков и будем всегда направляться туда, где они пригодны и ценны, но решительно и, преодолевая себя, будем избегать таких стремлений, для которых
261
у нас от природы мало задатков, и поостережемся пробовать то, что не удается нам. Только тот, кто этого достиг, будет всегда и с полным сознанием оставаться всецело самим собою и никогда не попадет впросак из-за самого себя, так как он всегда знает, чего может ждать от себя. На его долю часто будет выпадать радость чувствовать свои силы, и редко он испытает боль от напоминания о собственной слабости, т. е. унижение, которое, вероятно, причиняет величайшие душевные страдания; поэтому гораздо легче вынести сознание своей неудачливости, чем своей неумелости.
Если мы, таким образом, вполне познаем свои силы и слабости, то мы не станем и пытаться обнаруживать способности, которых у нас нет, мы не будем играть фальшивой монетой, потому что такой обман в конце концов не достигает своей цели. Ибо если весь человек — это только проявление своей воли, то не может быть ничего нелепее, кроме как, исходя из рефлексии, желать быть другим, нежели то, что мы представляем собой в действительности, — ведь этим воля прямо противоречит самой себе. Подражание чужим свойствам и особенностям гораздо позорнее, чем ношение чужого платья, ибо это значит расписаться в собственном ничтожестве. Познать собственные наклонности и всевозможные задатки и их неизменные границы — вот самый верный в этом отношении путь, чтобы достигнуть наибольшей удовлетворенности собою. Ибо к внутреннему миру приложимо то же, что и ко внешним явлениям: нет для нас более действенного утешения, чем полное убеждение в безусловной необходимости. Нас не так угнетает разразившееся несчастье, как мысль о тех средствах, которыми оно могло бы быть предотвращено, вот почему самое действенное средство для нашего успокоения — это взгляд на происшедшее с точки зрения необходимости: все случайное предстает тогда орудием миродержавной судьбы, и мы считаем, что разразившееся горе неминуемо вызвано столкновением внутренних и внешних обстоятельств, т. е. мы исповедуем фатализм. Мы ропщем и неистовствуем, собственно, только до тех пор, пока у нас есть надежда оказать этим влияние на других или побудить самих себя к неслыханному напряжению. Но и дети, и взрослые очень быстро успокаиваются, как только они поймут, что уже ничего нельзя поделать:
Animo in pcctoribus nostro d
Мы похожи на пойманных слонов, которые несколько дней страшно борются и бушуют, пока не увидят, что это бесплодно, тогда, навсегда укрощенные, они сразу и спокойно подставляют под ярмо свой затылок. Мы — как царь Давид, который, пока его сын был еще жив, неотступно осаждал Иегову своими мольбами и выражал свое отчаяние, но как только сын умер, он больше уже не думал о нем18. Вот почему бесчисленные хронические горести, например увечье, нищета, низкое положение в обществе, безобразие, отвратительное жилище, переносятся очень многими вполне равнодушно и даже перестают ощущаться, как зажив-
262
шие раны, просто потому, что эти люди сознают всю внутреннюю или внешнюю неизбежность своей доли, тогда как более счастливые не понимают, как можно это переносить. Ничто не примиряет столь прочно и с внешней, и с внутренней необходимостью, как ясное понимание ее.
Если мы раз и навсегда ясно поняли как свои хорошие качества и силы, так и свои недостатки и слабости, если мы поставили перед собой соответственную им цель и отказались от недостижимого, то это вернее всего (поскольку это допускает наша индивидуальность) предохранит нас от самого горького из всех страданий — недовольства самим собой, которое бывает неизбежным результатом непонимания собственной индивидуальности, ложного самомнения и вытекающей из него заносчивости.
К горькой теме предлагаемого самопознания отлично применимы стихи Овидия:
Optimus
ille
animi vindex laedentia pectus
Vincula
qui rupit, dedoluitque semel*.
Вот что я хотел сказать о приобретенном характере. Он, правда, важен не столько для этики в собственном смысле, сколько для практической жизни, но анализ его как третьей разновидности необходимо поставить рядом с анализом умопостигаемого и эмпирического характера, а несколько дольше остановиться на их выяснении мы должны были для того, чтобы показать, как воля во всех своих проявлениях подчинена необходимости, между тем как сама по себе она может быть названа свободной и даже всемогущей.
§ 56
Эта свобода, то всемогущество, обнаружением и отпечатком которых служит весь видимый мир, их проявление, последовательно развивающееся согласно тем законам, какие влечет за собой форма познания, — эта свобода может обнаруживаться еще и иначе, притом там, где перед ней в ее совершеннейшем проявлении раскрывается вполне адекватное познание ее собственной сущности. Это происходит двояким образом. Или здесь, на вершине мысли и самосознания, она хочет того же, чего хотела слепо и не зная себя, — и в таком случае познание как в отдельных случаях, так и в целом навсегда остается для нее мотивом; или же, наоборот, это познание становится для нее квиетивом20, который укрощает и упраздняет всякое желание. В этом и заключается уже описанное выше в общих чертах утверждение или отрицание воли к жизни: будучи по отношению к деятельности индивида общим, а не отдельным проявлением воли, оно не мешает развитию характера и тем не модифицирует его, не находит оно себе выражения и в отдельных поступках; но, выявляя с возрастающей силой все предыдущее поведение человека или же, наоборот, упраздняя его, оно жизненно выражает тот принцип, который теперь при свете познания свободно избрала воля.
263
Более ясное развитие всех этих мыслей, составляющее главную тему этой последней книги, уже несколько облегчено и подготовлено для нас нашими эпизодическими размышлениями о свободе, необходимости и характере. Но оно сделается для нас еще легче, когда, отложив в сторону последние рассуждения, мы обратим свое внимание прежде всего на самую жизнь, желание или нежелание которой составляет великий вопрос, — и притом сделаем это так, что постараемся узнать вообще, что, собственно, дает самой воле (которая ведь повсюду составляет сокровенную сущность этой жизни) ее утверждение, как и насколько оно ее удовлетворяет, да и может ли вообще ее удовлетворять. Короче говоря, мы выясним себе, что́ в общих и существенных чертах следует рассматривать как состояние воли в этом собственном ее мире, который во всех отношениях ей принадлежит.
Прежде всего я хотел бы напомнить здесь рассуждение, которым я закончил вторую книгу,— по поводу поставленного там вопроса о цели воли; вместо ответа на него мы увидели воочию, как воля на всех ступенях своего проявления, от низшей и до самой высокой, совершенно чужда конечной цели и находится в постоянном стремлении, каковое и есть ее единственная сущность, ибо оно не завершается никакой достигнутой целью, не знает окончательного удовлетворения и может быть задержано только внешним препятствием, само же по себе уходит в бесконечность. Мы видели это на самом простом из всех явлений природы — тяжести: она не перестает стремиться и влечется к непротяженному центру, достижение которого было бы гибелью для нее и для материи, не перестает, хотя бы вся вселенная сжалась в один ком. Мы видим это на других простых явлениях природы: твердое стремится, расплавляясь или растворяясь, к жидкому состоянию, в котором только и освобождаются его химические силы: оцепенелость — это плен, в котором их держит холод. Жидкое стремится к состоянию пара, в которое оно тотчас же и переходит, как только освобождается от всякого давления. Нет ни одного тела без сродства, т. е. без стремления, или без страсти и жажды, как сказал бы Якоб Бёме. Электричество распространяет свое внутреннее самораздвоение на бесконечность, хотя масса земного шара и поглощает его действие. Гальванизм, пока существует столб, также представляет собою бесцельно и непрерывно возобновляемый акт самораздвоения и примирения. Такое же непрестанное, никогда не удовлетворяемое стремление представляет жизнь растения, это беспрерывное движение через восходящий ряд форм, пока конечный пункт, семя, не станет опять начальным пунктом, и так повторяется до бесконечности: нигде нет цели, нигде нет конечного удовлетворения, нигде нет отдыха. Вспомним в то же время из второй книги, что разнообразные силы природы и органические формы оспаривают одна у другой ту материю, в которой они хотят проявиться, ибо все в мире обладает лишь тем, что отторгнуто у другого; и так поддерживается вечная борьба на жизнь и смерть, и именно из нее главным образом проистекает то противодействие, вследствие которого общее стремление, эта сокровенная сущность каждой вещи, наталкивается на препятствие, тщетно пытается потеснить его, но не может изменить своей природы и томится, пока данное явление не гибнет, и тогда другие жадно захватывают его место и его материю.
264
Это стремление, составляющее ядро и в себе каждой вещи, мы давно уже признали в качестве того, что в нас, где оно раскрывается яснее всего, при свете полного сознания, носит имя воли. Задержку от препятствия, возникающего между ней и ее временной целью, мы называем страданием, а достижение цели — удовлетворением, благополучием, счастьем. Эти имена мы можем перенести и на упомянутые раньше явления бессознательного мира, более слабые по степени, но тождественные по существу. Мы видим их тогда постоянно страдающими и лишенными прочного счастья. Ибо всякое стремление вытекает из нужды, из неудовлетворенности своим состоянием, и, следовательно, пока его не удовлетворят, оно есть страдание; но ни одно удовлетворение непродолжительно, напротив, оно всегда служит только исходной точкой для нового стремления. Мы видим, как стремление повсюду окружено многообразными преградами, видим его в постоянной борьбе, т. е. оно всегда является нам как страдание: нет конечной цели стремления — нет, следовательно, меры и цели страдания.
Но то, что мы в бессознательной природе открываем только обостренным вниманием и напряжением, отчетливо выступает перед нами в познающей природе, в жизни животного мира, чье постоянное страдание легко показать. Не останавливаясь на этой промежуточной ступени, обратимся туда, где при полном свете познания все принимает самый отчетливый вид, — обратимся к жизни человека. Ибо по мере того как совершенствуется проявление воли, становится все более очевидным и страдание. В растении еще нет чувствительности, следовательно, нет и боли; известная, очень слабая степень страдания присуща низшим животным, инфузориям и лучеобразным; даже у насекомых способность ощущения и страдания еще ограничена, и только с совершенной нервной системой позвоночных она достигает высокой степени и все возрастает по мере развития интеллигенции.
Таким образом, в той степени, в какой усиливается отчетливость познания и возвышается сознание, возрастает и мука, и своей высшей степени она достигает в человеке, и здесь опять-таки она тем сильнее, чем яснее познает человек, чем он интеллигентнее: тот, в ком живет гений, страдает больше всех. Именно в этом смысле, т. е. в смысле силы познания вообще, а не просто абстрактного знания, я понимаю и привожу здесь знаменитое изречение Когелета «Qui auget se\ientiam, auget et dolorem»*[187].
Это точное соответствие между степенью сознания и степенью страдания прекрасно показал в наглядном и ясном образе Тишбейн, этот философский живописец, или живописующий философ. Верхняя половина его рисунка изображает женщин, у которых уводят детей: в разных группах и позах они по-разному выражают глубокую материнскую скорбь, ужас, отчаяние; а нижняя половина в такой же точно группировке и расположении представляет овец, у которых отнимают ягнят, так что у каждой человеческой головы и человеческой позы на верхней половине листа есть полная аналогия внизу среди животных, и сразу видно, как боль, возможная в глухом животном сознании, соотносится с великой мукой, ставшей возможной лишь в силу ясности сознания и отчетливости познания.
265
Поэтому внутреннюю и сущностную судьбу воли мы будем рассматривать в человеческом бытии. Каждый сумеет легко распознать то же самое в жизни животных, только выраженное слабее и в различных степенях, и ему достаточно будет примера страдающего животного царства, чтобы убедиться, насколько всякая жизнь по существу есть страдание.
§ 57
На каждой ступени, освещенной познанием, воля является как индивид. В бесконечном пространстве и времени человеческий индивид находит себя конечной и, следовательно, в сравнении с ними ничтожной величиной, заброшенной в них; вследствие их неограниченности он всегда обладает только относительным, никогда не абсолютным когда и где бытия, ибо его место и век — конечные части бесконечного и безграничного. Его подлинное бытие — только в настоящем, неудержимый бег которого в прошедшее есть постоянный переход к смерти, постоянное умирание; ибо прошедшая жизнь человека, за исключением некоторых ее последствий для настоящего и помимо запечатлевшихся в ней следов его воли, уже совсем отошла, умерла, и больше ее нет. Вот почему с точки зрения разума человеку должно быть безразлично, из чего состояло это прошлое — из радости или горя. Настоящее же постоянно превращается под его руками в прошедшее, а будущее совершенно неизвестно и всегда кратковременно. Таким образом, его существование, рассматриваемое даже только с формальной стороны, представляет собой постоянное низвержение настоящего в мертвое прошедшее, постоянное умирание. Если же взглянуть на него и с физической стороны, то очевидно, что подобно тому как наша ходьба есть только постоянно задерживаемое падение, так и жизнь нашего тела — это лишь хронически задерживаемое умирание, новая и новая отсрочка смерти; наконец, и деятельность нашего духа — это хронически отодвигаемая скука. Каждое дыхание отражает беспрерывно нападающую смерть, с которой мы таким образом ежесекундно боремся, а через более значительные промежутки времени мы боремся с ней каждым глотком пищи, каждым сном, каждым согреванием и т. д. В конце концов смерть должна победить, ибо мы — ее достояние уже с самого своего рождения, и она только временно играет со своей добычей, пока не поглотит ее. А до тех пор мы с большим рвением и усердной заботой продолжаем свою жизнь, насколько это возможно, подобно тому как раздувают мыльный пузырь как можно дольше и больше, хотя и знают наверняка, что он лопнет.
Если уже в бессознательной природе мы видели, что ее внутренняя сущность состоит в беспрерывном стремлении, без цели и отдыха, то при рассмотрении животных и людей это становится для нас гораздо яснее. Хотеть и стремиться — вот вся их сущность, подобная неутолимой жажде. Основа же всякого желания — это потребность, нужда, т. е. страдание, так что человек подвластен ему уже изначально и по самой своей природе. Если же у человека не оказывается объектов желания, потому что слишком легкое удовлетворение тотчас же отнимает их
266
у него, то его одолевает страшная пустота и скука, т. е. его существо и сама жизнь становятся для него невыносимым бременем. Таким образом, его жизнь качается, подобно маятнику, взад и вперед между страданием и скукой, на которые действительно распадается в своих последних элементах вся жизнь. Это нашло себе замечательное выражение и в том, что, когда человек отнес все страдания и муки в ад, для неба не осталось ничего, кроме скуки.
Однако вечное стремление, которое составляет сущность всякого проявления воли, на высших ступенях объективации находит свою первую и самую общую основу в том, что воля является здесь самой себе в качестве живого тела и получает строжайшее повеление — питать его; и силу такому повелению дает именно то, что это тело есть сама объективированная воля к жизни. Человек как самая совершенная объективация этой воли является соответственно этому и самым нуждающимся из всех существ, он — это сплошное конкретное желание, сплошная нужда, сплетение тысячи потребностей. С ними живет он на земле, предоставленный самому себе, в неведении обо всем, но только не о своей нужде и о своем горе; вот почему забота о поддержании этой жизни при столь тяжелых требованиях, ежедневно возникающих вновь, наполняет обыкновенно всю человеческую жизнь. К этой заботе непосредственно примыкает затем второе требование — продолжения рода. В то же время со всех сторон ему грозят самые разнообразные опасности, для устранения которых необходима постоянная бдительность. Осторожными шагами, боязливо оглядываясь, проходит он свой путь, ибо тысячи случайностей и тысячи врагов подстерегают его. Так жил он в эпоху дикости, так протекает его цивилизованная жизнь, и нет для него нигде безопасности:
Qualibus
in tenebris vitae, quantisque periclis
Degitur
hoc aevi, quodcunque est!
Lucr. II, 15*
Жизнь большинства людей — это лить постоянная борьба за самое это существование, и они заранее уверены, что выйдут из нее побежденными. И то, что заставляет их упорствовать в этой трудной битве, есть не столько любовь к жизни, сколько страх смерти, которая, однако, неотвратимо стоит за кулисами и каждое мгновение может войти. Сама жизнь — это море, полное водоворотов и подводных камней, которых человек избегает с величайшей осторожностью и усердием, хотя он и знает, что если ему даже удается, при всем напряжении и искусстве, пробиваться через них, то это с каждым шагом приближает его к величайшему, полному, неизбежному и непоправимому кораблекрушению — смерти; он знает, что прямо к ней держит он свой путь, что она и есть конечная цель томительного плавания и страшнее для него, чем все утесы, которые он миновал.
267
Но в то же время замечательно следующее: с одной стороны, жизненные невзгоды и мучения легко могут возрасти до того, что самая смерть, в уклонении от которой состоит вся жизнь, становится желанной и человек добровольно устремляется к ней, а с другой стороны, как только нужда и страдания дают человеку отдых, тотчас же приближается скука, так что он непременно должен как-то «проводить время». То, что занимает всех живущих и поддерживает их в движении, — это стремление к бытию. Но с бытием, когда оно обеспечено им, они не знают, что делать: вот почему второе, что приводит их в движение, это стремление освободиться от бремени бытия, сделать его нечувствительным, «убить время», т. е. избегнуть скуки. Оттого мы и видим, что почти все люди, застрахованные от нужды и забот, сбросив с себя другие тяготы, становятся после этого в тягость самим себе и считают выигрышем каждый проведенный час, т. е. каждый вычет из той самой жизни, которую они до сих пор всеми силами пытались продлить как можно больше. Скука же далеко не маловажное зло: в конце концов она налагает на лицо печать настоящего отчаяния. Это она делает то, что существа, мало любящие друг друга, каковы, например, люди, все-таки настойчиво ищут друг друга, и она становится тем самым источником общественности. Против нее, как и против других всеобщих бедствий, всюду принимаются публичные меры, уже в силу одной государственной мудрости, потому что это зло, как и его противоположная крайность — голод, может довести людей до величайшего исступления: panis et circcnses[188]*[189] нужны народу. Строгая филадельфийская пенитенциарная система обращает в наказание просто скуку посредством одиночества и бездействия, и это наказание до того страшно, что оно уже доводило узников до самоубийства. Как нужда — постоянный бич народа, так скука — бич знатных. В обыденной жизни скука представлена воскресеньем, а нужда — шестью днями недели.
Так между желанием и удовлетворением протекает всякая человеческая жизнь. Желание по своей природе — страдание; удовлетворение скоро насыщает, цель оказывается призрачной, обладание лишает прелести, в новой форме появляются опять желание и потребность, а если нет — наступают пустота и скука, борьба с которыми так же мучительна, как и с нуждой. Если желание и удовлетворение чередуются не слишком скоро и не слишком медленно, то это предельно уменьшает причиняемое ими страдание и делает жизнь счастливой. Ибо все другое, что следовало бы назвать прекраснейшей стороною, чистейшими радостями жизни (но именно потому, что они изымают нас из реального бытия и превращают в бескорыстных его зрителей), т. е. чистое познание, чуждое всякому желанию, наслаждение красотою, истинная радость, доставляемая искусством, — все это, требуя редких способностей, дается в удел лишь очень немногим, да и то как мимолетное сновидение; и затем именно у этих немногих более высокая интеллектуальная сила порождает восприимчивость к таким страданиям, которых никогда не могут испытать более тупые люди, кроме того, она делает их одинокими среди заметно отличающихся от них существ, так что и здесь восстанав-
268
ливается равновесие. Но для преобладающего большинства людей чисто интеллектуальные наслаждения недоступны, к радости чистого познания они почти совсем неспособны, — они всецело погружены в желание. Поэтому вызвать их участие, сделаться для них интересным может (как это видно уже из самого значения слова) только то, что так или иначе возбуждает их волю, хотя бы только отдаленной и лишь потенциальной связью с ней; совсем же отсутствовать воля не смеет, потому что их жизнь несравненно больше заключается в желании, чем в познании: воздействие и реакция — вот их единственная стихия. Наивные проявления этого свойства можно видеть в мелочах повседневной жизни: так, например, они надписывают свои имена в посещаемых ими достопримечательных местах, чтобы реагировать этим, чтобы воздействовать на место, благо оно не воздействовало на них; точно так же они с трудом могут спокойно рассматривать чужеземное, редкое животное, — нет, они непременно должны его дразнить, задирать, играть с ним, лишь бы только испытать воздействие и реакцию. Но где особенно проявилась эта потребность возбуждения воли, так это в изобретении и распространении карточной игры, которая поистине служит выражением плачевной стороны человечества.
Но что бы ни дала нам природа, что бы ни дало счастье, кто бы мы ни были и чем бы мы ни владели, — нельзя избыть присущего жизни страдания:
Pelides
autem ehilavit, intuitus in coelum latum*.
Или:
Iovis
quidem Alius eram Saturnii: verum aerumnam
Habebam
infmitam**.
Беспрестанные усилия освободиться от страдания приводят лишь к тому, что оно меняет свой облик. Сначала оно представляет собою лишения, нужду, заботу о существовании. Если посчастливится (что очень трудно) изгнать страдание в этом облике, оно тотчас же возникнет в тысяче других форм, меняясь сообразно возрасту и обстоятельствам: оно придет как половое чувство, страстная любовь, ревность, зависть, ненависть, гнев, страх, честолюбие, сребролюбие, болезнь — и т. д. и т. п. Если, наконец, оно не может найти себе доступа ни в какой другой форме, оно явится в траурной, серой одежде пресыщения и скуки, против которой изыскиваются тогда всякие средства. Если и удастся в конце концов ее отпугнуть, то это едва ли можно сделать, не допустив обратно страдания в одной из прежних его форм, и таким образом сказка начинается сначала, ибо между страданием и скукой мечется каждая человеческая жизнь. Как ни печальна эта истина, я все-таки обращу внимание на одну ее сторону, из которой можно почерпнуть утешение и даже, может быть, стоическое равнодушие к собственному горю. Мы
269
ропщем на каждое свое несчастье главным образом потому, что считаем его случайностью, вызванной сцеплением причин, которое легко могло бы сложиться иначе. Ведь обыкновенно мы сетуем на непосредственно необходимое и совершенно всеобщее зло, какова необходимость старости и смерти и множества повседневных неудобств. То, что придает страданию его жало, — это, скорее, мысль о случайности тех обстоятельств, которые навлекли его именно на нас. Если же мы поймем, что страдание как таковое существенно и неизбежно для жизни, а от случая зависит только его форма, только вид, какой оно принимает, что, следовательно, каждое наше горе заполняет место, которое без него тотчас заняла бы другая горесть, им в данный момент вытесняемая, так что судьба имеет над нами по существу мало власти, — если мы поймем это, то такая мысль, обратившись в живое убеждение, может вызвать значительную степень стоического равнодушия и весьма уменьшить тягостную заботу о собственном благополучии[190]. Однако в действительности такое господство разума над непосредственным чувством страдания встречается редко или не встречается никогда.
Впрочем, приведенное размышление о неизбежности страданий и о том, что одно из них вытесняется другим, что конец одного влечет за собою начало другого, может привести даже к парадоксальной, но не бессмысленной гипотезе, что для каждого индивида мера присущего ему страдания определена его природой раз и навсегда и эта мера не может ни оставаться пустой, ни переполняться, как бы ни менялись формы страдания. С такой точки зрения страдание и благополучие человека определяются вовсе не извне, а только этой мерой, этим индивидуальным складом, который может, правда, в разные периоды подвергаться некоторому усилению и ослаблению, сообразно физическому состоянию лица, но в целом остается неизменным и представляет собой так называемый темперамент, или, точнее, степень, в какой данный человек, по выражению Платона в первой книге «Государства», является εὓχολος или δὓδχολος, т. е. жизнерадостным или мрачным. В пользу этой гипотезы говорит не только известное наблюдение, что большие страдания совсем подавляют малые и, наоборот, при отсутствии больших страданий даже ничтожнейшие неприятности мучат и расстраивают нас, — но опыт учит также, что, когда действительно наступает великое несчастье, одна мысль о котором приводила нас в содрогание, наше настроение по прошествии первого момента боли остается в общем почти без перемены; и наоборот, когда наступает давно желанное счастье, мы не чувствуем себя надолго заметно лучше и довольнее, чем прежде. Только самый момент наступления горя или счастья потрясает нас необычайно сильно — глубокой печалью или бурной радостью, но и та и другая быстро исчезают, потому что они основаны на иллюзии. Ведь они возникают не в силу непосредственно данной боли или данного наслаждения, а лишь в связи с открывающейся перспективой нового будущего, которое мы антиципируем[191] в них. Только потому, что горе или радость заняли кое-что у будущего, они могли усилиться так непомерно и, следовательно, ненадолго.
Выдвинутая гипотеза, согласно которой как в познании, так и в чувстве страдания или благополучия весьма значительная часть определяет-
270
ся субъективно и априорно, находит себе подтверждение в том факте, что человеческая веселость или уныние не вызываются внешними обстоятельствами, богатством или положением; ведь мы встречаем, по крайней мере, столько же веселых физиономий среди бедняков, как и среди богатых; укажем и на то, что мотивы, ведущие к самоубийству, крайне разнообразны, и мы не можем назвать ни одного несчастья, которое было бы достаточно велико, чтобы с большой вероятностью при любом характере вести к самоубийству, с другой же стороны, немного найдется несчастий, настолько мелких, чтобы не послужить поводом для него, как это уже случалось. Если степень нашей веселости или грусти не всегда одинакова, то, согласно нашему взгляду, это зависит от изменения не внешних обстоятельств, а внутреннего настроения, физического состояния. Ибо действительный, хотя всегда только временный подъем духа вплоть до высшей радости обыкновенно наступает без всякого внешнего повода. Правда, мы часто видим, что наше страдание проистекает только из определенного внешнего обстоятельства, и нам кажется, что только оно удручает и печалит нас; мы думаем тогда, что если его устранить, то для нас наступит полное удовлетворение. Но это иллюзия. Мера нашего страдания и благополучия, согласно нашей гипотезе, в целом субъективно определена для каждого момента времени, и по отношению к ней внешний мотив огорчения представляет собой то же, что для тела нарывной пластырь, к которому приливают все рассеянные по организму дурные соки. Укорененное, для данного периода времени, в нашем существе и потому неотвратимое страдание без такой определенной внешней причины для скорби раздробилось бы на сотни точек и приняло бы форму сотни мелких огорчений и неприятностей по поводу вещей, которых мы теперь не замечаем, потому что наша мера боли уже наполнена главным злом, сосредоточившим все рассеянное страдание. Этому соответствует и то наблюдение, что, когда с нашей груди спадает, благодаря счастливому исходу дела, большая гнетущая нас забота, тотчас же ее место занимает другая, все содержание которой имелось уже и раньше, но оно не могло проникнуть в сознание в качестве заботы, так как там не оставалось для нее места, и оттого предмет этой заботы оставался на крайнем горизонте сознания как неясный и туманный призрак. Теперь же, когда освободилось место, это готовое содержание тотчас же приближается и занимает престол господствующей (πρυτανεύουσα) злобы дня, хотя бы оно по своей материи и было гораздо легковеснее, чем содержание исчезнувшей заботы: новая тревога умеет так раздуться, что по своей мнимой величине не уступает первой и потому как главная злоба дня всецело заполняет собой престол.
Безмерная радость и очень сильное страдание всегда встречаются только в одном и том же лице, так как они взаимно обусловливают друг друга и сами обусловлены великой живостью духа. Как мы только что видели, такая радость и такое страдание вызываются не одними лишь впечатлениями настоящего, а предвосхищением будущего. Но так как страдание свойственно жизни и степень его определена природой субъекта (почему внезапные перемены, будучи всегда внешними, не могут, собственно, изменять этой его степени), то в основе чрезмерного ликова-
271
ния или страдания всегда лежит заблуждение и призрачное мечтание, и,
следовательно, силой мысли можно избегнуть этих обоих чрезмерных
напряжений духа. Всякий неумеренный восторг (exultatio, insolens laetitia[192]) непременно основывается на иллюзии, будто мы нашли в жизни нечто такое, чего в ней встретить нельзя, например прочное удовлетворение мучительных, постоянно возрождающихся желаний и забот. Каждая подобная мечта впоследствии неизбежно заканчивается разочарованием, и когда она исчезает, за все необходимо платить ценою столь же горьких страданий, сколь отрадным было ее возникновение. В этом отношении она совершенно похожа на высоту, с которой можно сойти только упав, и поэтому ее надо избегать; и всякое неожиданное чрезмерное страдание — это лишь падение с такой высоты, исчезновение подобной мечты, которой оно и обусловлено. Можно было бы поэтому избегнуть и обольщения, и страдания, если бы мы всегда заставляли себя ясным взглядом оценивать вещи в их совокупности и связи и твердо остерегались придавать им в действительности такой цвет, в каком нам хотелось бы их видеть[193].
Стоическая этика стремилась главным образом освободить дух от всяких таких обольщений и их последствий и дать ему вместо этого непоколебимое спокойствие. Этой мыслью проникнут Гораций в известной оде:
Aequam
memento rebus in arduis
Servare
mentem, non secus in bonis
Ab
insolenti temperatam
Но мы по большей части прячемся от этой, подобной горькому лекарству, истины, что страдание свойственно самой жизни и потому не вторгается к нам извне, а каждый носит в себе самом его неиссякаемый источник. Мы постоянно отыскиваем дня нашего вечного спутника — страдания какую-нибудь отдельную внешнюю причину, как бы некий предлог, подобно тому как свободный творит себе кумира, чтобы иметь над собой господина. Ибо мы неутомимо переходим от желания к желанию, и хотя всякое достигнутое удовлетворение, как бы много ни обещало оно, нас все же не удовлетворяет, а, напротив, обыкновенно встает перед укоризной и заблуждением, мы все-таки не видим, что черпаем решетом Данаид и спешим все к новым и новым желаниям.
Sed,
dum abest, quod avemus, id exsuperare videtur
Caetera;
post aliud, quum contigit illud, avemus;
Et
sitis aequa tenet vitai semper niantes.
Lucr.
Ш, 1080— 1083**
272
Так либо продолжается до бесконечности, либо (что бывает реже и предполагает уже известную силу характера) продолжается до тех пор, пока мы не придем к такому желанию, которое не может быть удовлетворено и которым, однако, нельзя поступиться. Тогда мы как бы обретаем то, чего искали, а именно нечто такое, на что мы, вместо собственного существа, каждую минуту можем сетовать как на источник своих страданий и что ссорит нас с нашей судьбой, но зато примиряет с нашей жизнью, так как опять исчезает сознание, что страдание присуще самой этой жизни и что истинное удовлетворение невозможно. Такой ход развития приводит к несколько меланхолическому настроению: человек постоянно несет с собою одно-единственное великое страдание и оттого презрительно относится ко всем малым горестям или радостям; следовательно, это уже более достойное явление, чем вечная погоня за все новыми призраками, что гораздо обычнее.
§ 58
Всякое удовлетворение или то, что обычно называют счастьем, по существу всегда имеет лишь отрицательный, а не положительный характер[195].
Это не изначальное и по собственному почину посещающее нас счастье, но всегда удовлетворение какого-нибудь желания. Ибо желание, т. е. нужда, — это предварительное условие всякого наслаждения. Однако удовлетворение кладет конец желанию и, следовательно, наслаждению. Поэтому удовлетворение, или счастье, никогда не может быть чем-нибудь иным, кроме освобождения от горести, от нужды: ибо к последней относится не только всякое действительное, очевидное страдание, но и всякое желание, настойчивость которого нарушает наш покой, — сюда относится даже убийственная скука, от которой жизнь делается нам в тягость. Но как трудно чего-нибудь достигнуть и добиться: каждому замыслу противостоят бесконечные трудности и усилия, и с каждым шагом возрастают препоны. Когда же, наконец, все преодолено и достигнуто, то в результате получается только то, что мы свободны от какого-нибудь страдания или желания и, следовательно, чувствуем себя как прежде, до его наступления. Непосредственно нам всегда дана только потребность, т. е. страдание. Удовлетворение же или наслаждение мы можем испытывать только косвенно, вспоминая об устраненном им страдании и лишении. Вот почему мы не в состоянии ни оценить, ни даже по-настоящему осознать те блага и преимущества, которые у нас есть в действительности, и мы думаем, что иначе это и быть не может: ведь они дают нам лишь отрицательное счастье, не допуская страданий. Только лишившись их, мы начинаем понимать их цену, ибо потребность, лишение, страдание — вот что положительно и что непосредственно заявляет о себе. Оттого нам и приятно воспоминание о перенесенной горести, болезни, нужде и т. п.: только оно дает нам возможность наслаждаться нынешними благами. Нельзя также отрицать, что в этом смысле и с этой точки зрения — с точки зрения эгоизма, составляющего форму желания жизни, — вид или описание
273
чужого несчастья доставляет нам удовольствие и удовлетворение, как это прекрасно и откровенно выразил Лукреций в начале второй книги:
Suave,
mari magno, turbantibus aequora ventis,
E terra magnum alterius spectare laborem;
Non,
quia vexari quemquam est jucunda voluptas;
Sed,
quibus ipse malis careas, quia ceroere suave est*.
Однако мы увидим ниже, что подобная радость, внушаемая столь косвенным сознанием собственного благополучия, очень близко лежит к источнику настоящей, положительной злобы.
То, что всякое счастье имеет лишь отрицательный, а не положительный характер, что поэтому оно не может быть прочным удовлетворением и удовольствием, а всегда освобождает только от какого-нибудь страдания и лишения, за которым неизбежно следует или новое страдание, или languor, беспредметная тоска и скука[196], — это находит себе подтверждение и в верном зеркале сущности мира и жизни — в искусстве, особенно в поэзии. Всякое эпическое или драматическое произведение может изображать только борьбу, стремление, битву за счастье, но никогда не самое счастье, постоянное и окончательное. Оно ведет своего героя к цели через тысячи затруднений и опасностей, но как только она достигнута, занавес быстро опускается. Ибо теперь оставалось бы лишь показать, что блистательная цель, в которой герой мечтал найти свое счастье, только насмеялась над ним, и по достижении ее ему не стало лучше прежнего. Так как истинное, постоянное счастье невозможно, то оно и не может быть объектом искусства. Правда, идиллия ставит себе целью изображение именно такого счастья, но мы знаем, что идиллия как таковая не может быть выдержана до конца. Под руками поэта она всегда становится либо эпической, и тогда она являет собою лишь очень незначительный эпос, составленный из маленьких страданий, маленьких радостей и маленьких стремлений, — так бывает чаще всего; либо же она становится просто описательной поэзией, изображает красоту природы, т. е., собственно, чистое безвольное познание, которое и в самом деле есть единственное чистое счастье: ему не предшествуют страдания и заботы, за ним не следуют раскаяние, страдание, пустота, пресыщение; но подобное счастье не может наполнять всю жизнь, а выпадает лишь в отдельные ее мгновения[197].
То, что мы видим в поэзии, находит себе подтверждение и в музыке: в ее мелодии мы ведь уже распознали общее выражение сокровенной истории самосознательной воли, тайную жизнь, тоску, горе и радость, приливы и отливы человеческого сердца. Мелодия всегда представляет собой отклонение от основного тона, тысячу странных блужданий вплоть до самого болезненного диссонанса, после чего она возвращается, наконец, к тонике, которая выражает удовлетворение и успокоение воли, но с которой больше нечего делать, и если продолжить ее дальше,
274
то возникнет только тягостная и невыразительная монотонность, соответствующая скуке.
Все то, что должно уяснить эти размышления, — недостижимость длительного удовлетворения и отрицательность всякого счастья, все это находит свое объяснение в том, что показано в заключении второй книги, а именно, что воля, объективацией которой служит, подобно всякому явлению, человеческая жизнь, есть стремление без цели и конца. Отпечаток этой бесконечности мы находим во всех сторонах ее совокупного проявления, начиная с самой общей его формы — бесконечного времени и пространства и кончая самым совершенным из всех явлений — жизнью и стремлением человека. Можно теоретически принять три грани человеческой жизни и рассматривать их как элементы действительной жизни человека. Во-первых, это могучее желание, великие страсти (раджа-гуна26). Они проявляются в великих исторических характерах, их изображают эпос и драма; но они могут обнаруживаться и в малой сфере, потому что значительность объектов измеряется здесь только той степенью, в какой они потрясают волю, а не их внешними отношениями. Затем, во-вторых, и это чистое познание, восприятие идей, обусловленное освобождением познания от служения воле: жизнь гения (сатва-гуна). В-третьих, наконец, это величайшая летаргия воли и связанного с ней познания, беспредметная тоска, скука, от которой мертвеет жизнь (тама-гуна). Жизнь индивида, далекая от постоянного пребывания в одной из этих крайностей, касается их лишь изредка и большей частью представляет собой лишь слабое и нерешительное приближение к той или другой стороне, жалкое желание ничтожных объектов, которое постоянно возвращается и оттого избегает скуки. И в самом деле, невероятно, как пусто и бессодержательно протекает жизнь большинства людей, если рассматривать ее извне, и сколь тупой и бессмысленной она ощущается изнутри. Это — мучительная тоска, сопровождаемая рядом тривиальных помыслов, сонное блуждание шаткой поступью через четыре возраста жизни вплоть до смерти. Люди подобны заведенным часовым механизмам, которые идут, сами не зная для чего; всякий раз, когда зачат и рожден новый человек, опять заводятся часы человеческой жизни, чтобы нота в ноту и такт за тактом, с незначительными вариациями, повторить шарманочную пьесу, уже игравшуюся бесчисленное число раз[198]. Каждый индивид, каждый человеческий лик и жизненный путь — лишь еще одно быстротечное сновидение бесконечного духа природы, вечной воли к жизни, лишь еще один мимолетный образ, который дух, играя, рисует на своем бесконечном свитке — пространстве и времени, сохраняя его нетронутым на исчезающе малый миг, а затем стирая, чтобы дать место новым образам. Тем не менее — и в этом заключается страшная сторона жизни — за каждый из этих мимолетных образов, за каждую из этих нелепых причуд вся воля к жизни, во всей своей напряженности, должна платить многочисленными, глубокими страданиями и напоследок горькой смертью, долго грозившей и наконец пришедшей. Вот почему вид трупа внезапно делает нас серьезными.
Жизнь каждого отдельного лица, взятая в общем и целом, в ее самых существенных очертаниях, всегда представляет собой трагедию; но в своих деталях она имеет характер комедии. Ибо заботы и муки дня,
275
беспрестанное подразнивание момента, желания и страхи каждой недели, невзгоды каждого часа — все это, благодаря постоянным проделкам случая, сплошь сцены из комедии. Но вечно не удовлетворенные желания, бесплодные стремления, безжалостно растоптанные судьбою надежды, роковые ошибки всей жизни с возрастающим страданием и смертью в конце — все это, несомненно, трагедия. Таким образом, судьба, словно желая к горести нашего бытия присоединить еще и насмешку, сделала так, что наша жизнь должна заключать в себе все ужасы трагедии, но мы при этом лишены даже возможности хранить достоинство трагических персонажей, а обречены быть нелепыми комедийными характерами в обилии мелочей жизни.
Но как ни наполняют каждую человеческую жизнь большие и малые скорби, как ни держат они ее в постоянном беспокойстве и движении, они все-таки не могут прикрыть недостаточности жизни для наполнения духа, не могут прикрыть всей пустоты и пошлости бытия, не могут изгнать скуку, которая всегда готова заполнить каждую паузу, оставляемую заботой. Этим объясняется, что дух человека, не довольствуясь заботами, занятиями и треволнениями, которые налагает на него действительный мир, создает себе еще мир воображаемый в виде бесчисленных и разнообразных суеверий, и этому миру он отдается на все лады и расточает на него свое время и силы, как только действительность предлагает ему отдых, которого он даже не умеет ценить. Вот почему это явление и встречается первоначально у тех народов, которым благосклонность климата и почвы делает легким существование, — прежде всего у индийцев, затем у греков, римлян, позднее у итальянцев, испанцев и т. д. Демонов, богов и святых человек создает себе по своему подобию, а затем им возносятся беспрестанные жертвы и моления, во имя их украшаются храмы, даются и разрешаются обеты, совершаются паломничества, поклонения, украшения икон и т. е. Служение им сплетается повсюду с действительностью и даже ее заменяет: каждое событие жизни принимается за действие этих существ, общение с ними наполняет половину жизни, постоянно питает надежду и в силу самообольщения часто бывает интереснее, чем общество реальных существ. Оно есть выражение и симптом двойной потребности человека: с одной стороны, в помощи и поддержке, а с другой — в занятии и развлечении, и хотя первой потребности оно часто прямо мешает, когда в случаях невзгод и опасностей драгоценное время и силы тратятся не на борьбу с ними, а на бесплодные моления и жертвы, но зато оно тем лучше служит второй потребности благодаря фантастической беседе с вымышленным миром духов, и в этом заключается немаловажная польза всех суеверий.
§ 59
Теперь, когда самые общие размышления и исследования первых, основных и элементарных черт человеческой жизни убедили нас, что она уже по самому своему характеру неспособна к истинному блаженству, а является по существу многообразным страданием и состоянием вполне несчастным, — теперь мы могли бы гораздо живее проникнуться этим убеждением, если бы, придерживаясь апостериорного подхода, обрати-
276
лись к более определенным случаям, вызвали перед фантазией известные картины и на примерах изобразили то несказанное горе, которое представляют опыт и история, куда бы мы ни взглянули и в каком бы отношении их ни изучали. Но такая глава не имела бы конца и отвлекла бы нас от всеобщей точки зрения, свойственной философии. Кроме того, подобное изображение можно было бы принять только за одну из тех декламаций о человеческом несчастье, какие уже звучали не раз, и обвинить его в односторонности — в том, что оно исходит из отдельных фактов. От такого упрека и подозрения свободно наше холодное и философское, исходящее из всеобщего и априорно построенное доказательство неизбежности страданий, укорененных в самом существе жизни. Апостериорное же подтверждение этой истины легко найти повсюду. Всякий, кто пробудился от первых юношеских грез, вникнул в собственный и чужой опыт, всмотрелся в жизнь, оглянулся на историю минувших времен и своего столетия, наконец, изучил произведения великих поэтов, тот, если только его суждения не исказил какой-нибудь неизгладимый предрассудок, несомненно должен признать, что наш человеческий мир — это царство случайности и заблуждения, беспощадно распоряжающихся в нем — в великом и в малом, а рядом с ними размахивают кнутом еще глупость и злоба. В результате все лучшее с трудом пролагает себе путь, благородное и мудрое очень редко проявляет себя и воздействует, ему редко внемлют, все же абсурдное и превратное в сфере мысли, плоское и безвкусное в сфере искусства, злое и коварное в сфере поступков действительно утверждают свое господство, прерываемое лишь изредка и ненадолго. Наоборот, все выдающееся любого рода представляет собой лишь исключение, один случай из миллиона, и потому если оно выразилось в долговечном творении, то последнее, пережив ненависть своих современников, стоит одиноко и хранится, как некий метеор, явившийся из иного миропорядка, чем здесь царящий.
Что же касается жизни отдельной личности, то история каждой жизни — это история страданий, ибо жизненный путь каждого обыкновенно представляет собой сплошной ряд крупных и мелких невзгод. Правда, всякий из нас, по возможности, скрывает их, зная, что другие редко отнесутся к нему с участием и состраданием, а, напротив, почти всегда испытывают удовольствие при мысли о бедствиях, которые их самих в данный момент обошли; но, вероятно, ни один человек в конце своей жизни никогда не пожелает еще раз пережить ее, если только он разумен и искренен; гораздо охотнее изберет он полное небытие. Содержание всемирно знаменитого монолога в «Гамлете» в сущности сводится к следующему: наше положение так горестно, что решительно следовало бы предпочесть ему полное небытие; и если бы самоубийство действительно нам его сулило, так что перед нами в полном смысле слова стояла бы альтернатива «быть или не быть», то его следовало бы избрать безусловно, как в высшей степени желательное завершение (a consummation devoutly to be wish’d27); но какой-то голос говорит нам, что это не так, что это еще не конец, что смерть не есть абсолютное уничтожение. Нечто подобное сказал еще отец истории* (и в этом он
277
с тех пор едва ли был опровергнут): не было ни одного такого человека, который не желал бы — и притом неоднократно — не дожить до следующего дня. Поэтому столь часто оплакиваемая скоротечность жизни, быть может, есть самое лучшее в ней.
Наконец, если каждому из нас воочию показать те ужасные страдания и муки, которым всегда подвержена вся наша жизнь, то нас объял бы трепет, и если самого закоренелого оптимиста провести по больницам, лазаретам и камерам хирургических истязаний, по тюрьмам, застенкам, логовищам невольников, через поля битв и места казни, если открыть перед ним все темные обители нищеты, в которых она прячется от взоров холодного любопытства, и если напоследок дать ему заглянуть в башню голода Уголино29, то в конце концов и он, наверное, понял бы, что это за meilleur des mondes possibles[199]*[200]. Да и откуда взял Данте материал для своего «Ада», как не из нашего действительного мира? И тем не менее получился весьма отменный ад. Когда же, наоборот, перед ним возникла задача изобразить небеса и их блаженство, то он оказался в неодолимом затруднении именно потому, что наш мир не дает материала ни для чего подобного. Вот почему Данте не оставалось ничего другого, как воспроизвести перед нами вместо наслаждений рая те поучения, которые достались ему там в удел от его прародителя31, от Беатриче и разных святых. Это достаточно показывает, каков наш мир. Конечно, в человеческой жизни, как и во всяком скверном товаре, лицевая сторона покрыта фальшивым блеском: изъяны всегда скрываются, а все блестящее и пышное, чего каждый из нас может добиться, мы носим напоказ. И чем меньше у каждого внутренней удовлетворенности, тем больше он желает казаться счастливым во мнении других: так далеко идет глупость, и мнение других является дня каждого главной целью стремлений, хотя полная ее ничтожность видна уже из того, что почти на всех языках суетность, vanitas[201], первоначально означает пустоту и ничтожность[202]. Но несмотря на весь этот блеск, жизненные невзгоды могут легко возрасти до такой степени (и это бывает ежедневно), что люди жадно хватаются за смерть, которой вообще-то боятся больше всего. Но когда судьба хочет показать все свое коварство, то она может закрыть перед страдальцем даже и это убежище, и он остается в руках озлобленных врагов, которые предают его жестоким и медленным пыткам, и нет для него спасения. Тщетно взывает страдалец к своим богам о помощи: он безжалостно принесен в жертву своей судьбе. Но эта безжалостность является только отражением его неодолимой воли, объективацией которой служит его личность. И как внешняя сила не может изменить или уничтожить этой воли, так не может какая бы то ни было чуждая власть освободить его от мучений, вытекающих из жизни, которая есть проявление этой воли. Человек всегда предоставлен самому себе, как во всяком деле, так и в самом главном. Напрасно творит он себе богов, чтобы молитвами и лестью выпросить у них то, что может сделать только сила его собственной воли. Если Ветхий Завет признал мир и человека творением Бога, то Новый Завет, чтобы учить о том, что
278
спасение и искупление от бедствий этого мира могут исходить только из самого мира, должен был позволить этому Богу стать человеком. Воля человека есть и будет то, от чего все для него зависит. Саньясины32, мученики, святые всех вероисповеданий и деноминаций добровольно и охотно переносили всякие муки, ибо в этих людях упразднила себя воля к жизни, и потому даже медленное разрушение ее проявления было для них отрадно. Но я не буду забегать вперед в своем изложении. Впрочем, не могу здесь удержаться от заявления, что оптимизм, если только он не бездумная болтовня тех, у кого за плоскими лбами нет ничего, кроме слов, представляется мне не просто абсурдным, но и поистине бессовестным воззрением, горькой насмешкой над невыразимыми страданиями человечества. И пусть не думают, будто христианское вероучение благоприятствует оптимизму: наоборот, в Евангелии мир и зло употребляются почти как синонимы*.
§ 60
Теперь, покончив с неизбежным для нашей цели эпизодическим рассмотрением двух вопросов: о свободе воли в себе и необходимости ее проявления, о ее судьбе в отражающем ее сущность мире, познание которого должно служить основой для ее самоутверждения или самоотрицания, — теперь мы можем полнее разъяснить само это утверждение и отрицание. Выше мы упомянули о них только в общих чертах, теперь же рассмотрим внутренний смысл тех действий, в которых только и выражаются утверждение и отрицание воли.
Утверждение воли — это само желание, постоянное, не нарушаемое никаким познанием, такое, как оно вообще наполняет жизнь людей. Ввиду того что уже тело человека есть объектность воли, как она проявляется на данной ступени и в данном индивиде, то его развивающееся во времени желание служит как бы парафразой тела, уяснением смысла целого и его частей, служит иным способом выражения той самой вещи в себе, проявление которой уже и есть само тело. Поэтому вместо «утверждение воли» мы могли бы говорить «утверждение тела». Основное содержание всех разнообразных волевых актов — это удовлетворение потребностей, не отделимых от существования тела в его здоровом состоянии, выражающихся уже в нем и сводимых к сохранению индивида и продолжению рода. Но через это самые различные мотивы приобретают косвенным путем власть над волей и вызывают разнообразнейшие волевые акты. Каждый из этих актов служит лишь пробой, образчиком являющейся здесь воли вообще: какого рода эта проба, какую форму имеет и сообщает ей мотив, это несущественно, дело заключается здесь только в наличии самого желания и в степени его силы. Воля может проявляться только в мотивах, подобно тому как глаз обнаруживает свою зрительную силу только при свете. Мотив вообще стоит перед волей как многообразный Протей: он всегда сулит полное удовлетворение, утоление волевой жажды, но как только он осуществля-
279
ется, он тотчас же принимает другую форму и в ней опять побуждает волю — всегда сообразно степени ее силы и ее отношению к познанию, причем эта степень и это отношение обнаруживаются как эмпирический характер именно посредством таких проб и образцов.
С наступлением сознания человек находит себя водящим, и обычно его познание постоянно соотносится с его волей. Он старается в совершенстве познать сперва объекты своего желания, а потом средства их достижения. После этого он уже знает, что ему надо делать, и обычно не стремится к другому знанию. Он действует и подвизается: сознание, что он постоянно трудится для целей своего желания, поддерживает его; мысли его обращены на выбор средств. Такова жизнь почти всех людей: они хотят, знают чего хотят, стремятся к этому настолько удачно, чтобы не впасть в отчаяние, и настолько неудачно, чтобы спастись от скуки и ее последствий. Это порождает в них известную бодрость или, по крайней мере, некоторое спокойствие, где богатство или бедность, собственно, ничего не меняют: ведь и богач, и бедняк наслаждаются не тем, что у них есть (как я показал, это действует лишь отрицательно), а тем, чего они надеются достигнуть в итоге своих стараний. Они стремятся вперед с великой серьезностью и даже с торжественным выражением лица: так и дети ведут свои игры. Только в виде исключения такая жизнь нарушается тем, что познание, не зависящее от служения воле и направленное на сущность мира вообще, предъявляет или эстетическое требование созерцательности, или этический призыв к воздержанию. Большинство людей всю жизнь гонит нужда, не давая им опомниться. С другой стороны, воля часто разгорается до такой степени, которая далеко превышает утверждение тела и обнаруживается в бурных аффектах и могучих страстях: индивид не только утверждает тогда свое бытие, но и отрицает бытие других, стремясь устранить его там, где оно стоит на его пути.
Поддержание тела его собственными силами — это весьма ничтожная степень утверждения воли, и если бы люди этим добровольно ограничивались, то мы могли бы допустить, что со смертью этого тела гаснет и проявляющаяся в нем воля. Однако уже удовлетворение полового влечения выходит за пределы утверждения собственного существования, наполняющего столь краткий промежуток времени, и утверждает жизнь и после смерти индивида на неопределенное будущее. Природа, всегда правдивая и последовательная, а здесь даже наивная, совершенно открыто показывает нам внутренний смысл полового акта. Наше собственное сознание и мощь полового влечения учат нас, что в этом акте совершенно чисто и без какой-либо примеси (например, без отрицания чужих индивидов) выражается самое решительное утверждение воли к жизни; и вот во времени и в причинном ряду, т. е. в природе, появляется как следствие этого акта новая жизнь: перед родившим встает рожденный, в явлении от него отличный, но в себе, в идее, тождественный с ним. Вот почему через этот акт поколения живущих связываются в одно целое и как таковое живут вечно. Рождение по отношению к рождающему есть лишь выражение, симптом его решительного утверждения воли к жизни; по отношению же к рожденному это вовсе не есть основание воли, в нем проявляющейся (так как воля
280
в себе не знает ни основания, ни следствия), а, подобно всякой причине, оно есть только случайная причина проявления воли в это время, на этом месте. Как вещь в себе воля рождающего и воля рожденного не различаются между собою, ибо только явление, а не вещь в себе подвластно principio individuationis. Вместе с утверждением жизни за пределами собственного тела и вплоть до возникновения нового тела вновь утверждаются также страдание и смерть как сопричастные явлению жизни, и возможность искупления, создаваемая совершеннейшей способностью познания, на этот раз оказывается бесплодной. В этом имеет свое глубокое основание стыд полового акта.
Этот взгляд мифически представлен в том догмате христианского вероучения, согласно которому мы все причастны грехопадению Адама (очевидно, представляющему собой лишь удовлетворение полового инстинкта) и через него заслужили страдание и смерть. Названное вероучение выходит здесь за пределы мышления по закону основания и познает идею человека, единство которой восстанавливается связующими узами деторождения из ее распада на бесчисленных индивидов. Вследствие этого каждый индивид, с одной стороны, признается тождественным с Адамом, представителем утверждения жизни и в этом отношении подпавшим греху (первородному греху), страданию и смерти; с другой же стороны, познание идеи открывает каждого индивида как тождественного со Спасителем, представителем отрицания воли к жизни, и в этом отношении как причастного его самопожертвованию, искупленного его подвигом и спасенного из оков греха и смерти, т. е. мира (Рим. 5, 12— 21).
Другое мифическое выражение нашей мысли о половом удовлетворении как об утверждении воли к жизни за пределами индивидуального существования, как о моменте, в котором только и завершается порабощение человека жизни, или как о возобновляемой подписке на жизнь, представляет собой греческий миф о Прозерпине: она еще могла возвратиться из подземного царства, пока не вкусила его плодов, но, отведав граната, она была обречена. В несравненной передаче этого мифа у Гёте смысл его выступает очень ясно, особенно когда тотчас же после вкушения граната внезапно раздается незримый хор Парок33:
О,
ты наша!
Ты
возвратилась, если бы не ела,
Но,
плод вкусив, ты стала нашей!34
Замечательно, что Климент Александрийский (Str
В качестве решительного и самого могучего утверждения жизни половое влечение проявляется и в том, что для человека, близкого к природе, как и для животного, оно служит последней целью, высшим
281
пределом жизни. Самосохранение — вот первое стремление человека, но как только эта забота удовлетворена, он стремится лишь к продолжению рода: большего он как чисто природное существо домогаться не может. Да и природа, внутренней сущностью которой является сама воля к жизни, всей своей мощью побуждает человека, как и животное, к размножению. Исполнив это, она по отношению к индивиду уже достигла своей цели и совершенно равнодушна к его гибели, потому что как воля к жизни она заинтересована только в сохранении рода, индивид же для нее — ничто. Так как в половом влечении внутренняя сущность природы, воля к жизни проявляются сильнее всего, то древние поэты и философы — Гесиод и Парменид — говорили очень глубокомысленно, что Эрос35 — это творящее первоначало, из которого проистекают все вещи (см. Aristot. Metaph., 1, 4). Ферекид сказал: «Jovem, cum mundum fabricare vdlet, in cupidinem sese transformasse» (Proclus ad Plat. Tim., I, III)*[203]. Обстоятельное рассуждение об этом предмете нам недавно дал Г. Ф. Шеманн: «De cupidinc cosmogonico»** (1852). И Майя индийцев, чьим созданием и тканью является весь призрачный мир, может быть перефразирована: amor36.
Половые органы гораздо больше, чем какой-либо другой внешний член тела, подчинены только воле, а вовсе не познанию: воля выступает здесь почти столь же независимо от познания, как и в тех органах, которые, побуждаемые просто раздражителями, служат только растительной жизни, воспроизведению и в которых воля действует слепо, как в бессознательной природе. Ибо рождение — это лишь воспроизведение, распространяющееся на новый индивид, как бы воспроизведение во второй потенции, подобно тому как смерть — это лишь выделение во второй потенции. Ввиду всего этого половые органы являются настоящим фокусом воли и, следовательно, противоположным полюсом мозга, представителя познания, т. е. другой стороны мира — мира как представления. Они — животворящее начало, обеспечивающее времени бесконечную жизнь; в этом качестве они и почитались у греков в фаллосе37, у индусов — в лингаме, которые таким образом служат символом утверждения воли. Познание, напротив, дает возможность устранить желание, обрести спасение в свободе, преодолеть и уничтожить мир. Уже в начале этой четвертой книги мы обстоятельно показали, как воля к жизни в своем утверждении должна рассматривать свое отношение к смерти, которая ведь не оспаривает ее, ибо сама уже содержится в жизни и принадлежит ей, так что противоположность смерти — рождение составляет полный противовес ей, обеспечивая воле к жизни, несмотря на смерть индивида, жизнь на все времена; индийцы выразили это тем, что сделали атрибутом бога смерти, Шивы, лингам. Мы показали там же, как человек, с полной сознательностью стоящий на точке зрения решительного утверждения воли к жизни, бесстрашно смотрит в глаза смерти. Поэтому здесь мы уже не будем этого касаться. Не вполне сознавая это, большинство людей стоят именно на такой точке
282
зрения и упорно утверждают жизнь. Как зеркало такого утверждения возвышается мир, с бесчисленными индивидами в бесконечном времени и бесконечном пространстве и с бесконечными страданиями, между рождением и смертью без конца. Но роптать на это нельзя ни в каком отношении, ибо воля ставит великую трагедию или комедию за собственный счет и является притом своим собственным зрителем. Мир именно таков потому, что такова воля, что так хочет воля, проявлением которой он выступает. Оправданием страданий служит то, что воля и в этом явлении утверждает себя самое, и это утверждение оправдывается и уравновешивается тем, что она же переносит страдания. Уже здесь открывается нам образ вечной справедливости в целом; дальше мы познакомимся с нею и в частностях подробнее и яснее. Но прежде надо сказать о ее временной, или человеческой, справедливости*.
§ 61
Мы помним из второй книги, что во всей природе, на всех ступенях объективации воли необходимо царит постоянная борьба между индивидами всех родов и что именно в этом обнаруживается внутренний разлад воли к жизни с самой собою. На высшей ступени объективации этот феномен, как и все другое, предстанет с большей отчетливостью и будет доступен поэтому дальнейшей расшифровке. Для этой цели исследуем прежде всего источник эгоизма как начального пункта всякой борьбы.
Мы назвали время и пространство principium individuationis, потому что только в них и через них возможна множественность однородного. Они представляют собой существенные формы естественного познания, т. е. возникшего из воли. Поэтому воля будет повсюду являться себе во множестве индивидов. Но эта множественность относится не к воле как вещи в себе, а только к ее проявлениям: воля присутствует в каждом из них сполна и нераздельно и видит вокруг себя бесчисленно повторенный образ своего собственного существа. Но самое это существо, т. е. подлинную реальность, она непосредственно находит только внутри себя. Поэтому каждый хочет всего для себя, хочет всем обладать или, по крайней мере, господствовать над всем, а то, что ему противится, он хотел бы уничтожить. У существ познающих к этому присоединяется то, что индивид есть носитель познающего субъекта, а последний — носитель мира, так что вся природа вне него, в том числе и все остальные индивиды, существуют только в его представлении: он всегда сознает их только как свое представление, т. е. косвенно и как нечто, зависящее от его собственного существа и существования, ибо вместе с его сознанием для него необходимо исчезает и мир, другими словами, бытие и небытие мира становятся для него равнозначащими и неразличимыми. Таким образом, каждый познающий индивид является на самом деле и сознает себя всей волей к жизни, т. е. непосредственным в себе мира, а также восполняющим условием мира как представления, т. е. микрокосмом,
283
который следует считать равным макрокосму. Сама природа, всегда и всюду правдивая, уже изначально и независимо от всякой рефлексии дает ему это познание с непосредственной достоверностью и простотой. Оба эти необходимые самоопределения человека объясняют, почему каждый индивид, ничтожно малый и совершенно исчезающий в безграничном мире, все-таки делает себя средоточием мира, относится к собственному существованию и благополучию ревностнее, чем ко всему другому, и даже, следуя естественному порыву, готов уничтожить мир, лишь бы только сохранить собственное я, эту каплю в море. Такое помышление есть эгоизм, свойственный всякой вещи в природе. Но именно в нем внутренний разлад воли с самой собою раскрывается с ужасающей силой. Ибо содержание и сущность этого эгоизма заключается в указанной противоположности микрокосма и макрокосма или в том, что формой объективации воли служит principium individuationis, и потому воля одинаково является самой себе в бесчисленных индивидах, и притом в каждом из них сполна и всецело с обеих сторон (воли и представления). И в то время как каждый непосредственно дан самому себе как целая воля и целый представляющий, остальные даны ему прежде всего лишь как его представления, вот почему собственное существо и его сохранение важнее ему всех остальных. Собственная смерть видится каждому как конец мира, между тем как известие о смерти своих знакомых он выслушивает довольно равнодушно, если только она не задевает его личные интересы.
В сознании, поднявшемся на высшую ступень, в человеческом
сознании эгоизм, как и познание, боль и радость, также должен был достигнуть высшей
степени, и обусловленное им противоборство индивидов проявляется самым ужасным
образом. Мы видим его повсюду, как в мелочах, так и в крупном, в истории мира и
в собственной жизни; видим его то в страшных событиях — в жизни великих тиранов
и злодеев и в опустошительных войнах, то в смешной форме, когда оно служит сюжетом
комедии и своеобразно отражается в самомнении и тщеславии, которые столь
превосходно постиг и описал in abstracto Ларошфуко38,
как никто другой. Но явственнее всего это противоборство тогда, когда толпа
людей освобождается от всякого закона и порядка: тотчас же наглядно выступает
та bellum
Главный источник страдания, которое мы выше признали существенным и неизбежным для всякой жизни, — это (как только оно проявляет-
284
ся в действительности и в определенной форме) указанная Эрида39, борьба всех индивидов, выражение того разлада, которым проникнута внутри себя воля к жизни и который через principium individuationis обнаруживается вовне: бой зверей — это жестокое средство непосредственно и ярко изобразить его. В этом изначальном разладе таится неиссякаемый источник страдания, несмотря на принимавшиеся против него меры, которые мы подробнее и рассмотрим сейчас.
§ 62
Мы показали, что первое и простое утверждение воли к жизни — это утверждение собственного тела, т. е. осуществление воли во временных актах, поскольку уже тело в своей форме и целесообразности представляет эту волю пространственно — и больше ничего. Это утверждение выражается в сохранении тела с помощью его собственных сил. К нему непосредственно примыкает и, собственно, даже принадлежит удовлетворение полового влечения, поскольку половые органы относятся к телу. Поэтому добровольный и не основанный на каком-либо мотиве отказ от удовлетворения этого влечения есть уже отрицание воли к жизни, добровольное самоуничтожение этой воли, возникшее в результате познания, действующего в качестве квиетива[204]; в соответствии с этим такое отрицание собственного тела представляет собой уже противоречие воли со своим собственным явлением. Ибо хотя тело и здесь объективирует в половых органах волю к размножению, последнего все-таки не хотят. Вот почему такой отказ, будучи отрицанием или уничтожением воли к жизни, является тяжелой и мучительной победой над собой, но об этом ниже.
Но в то время как воля представляет такое самоутверждение собственного тела в бесчисленных рядах индивидов, она в силу присущего всем эгоизма легко выходит в каком-либо индивиде за пределы этого утверждения, вплоть до отрицания той же самой воли, проявляющейся в другом индивиде. Воля первого вторгается в область чужого утверждения воли в том случае, если индивид губит или калечит самое тело другого или же заставляет силы этого чужого тела служить его воле, а не воле, являющейся в этом чужом теле, — другими словами, если он отнимает у воли, являющейся в виде чужого тела, силы этого тела и таким образом увеличивает силу, служащую его воле, больше, чем это дает ему на это право сила собственного тела, следовательно, утверждает собственную волю за пределами собственного тела, отрицая волю, являющуюся в чужом теле.
Это вторжение в сферу чужого утверждения воли отчетливо сознавалось испокон веков, и его понятие было названо словом несправедливость. Ибо обе стороны мгновенно схватывают, в чем тут дело, правда, постигая это не в отчетливой абстракции, как мы здесь, а своим чувством. Терпящий несправедливость чувствует вторжение в сферу утверждения своего собственного тела через отрицание его чужим индивидом; он чувствует это как непосредственное и духовное страдание, которое совершенно отличается и отделено от сопровождающей его
285
физической боли, причиняемой самим деянием, или от огорчения по поводу утраты. С другой стороны, в совершающем несправедливость возникает сознание, что он в себе есть та самая воля, которая является и в чужом теле и которая в одном ее явлении утверждает себя так насильственно, что он, переходя границы собственного тела и его сил, становится отрицателем той же самой воли в другом ее явлении и, следовательно, в качестве воли в себе своим насилием он идет против самого себя, терзает самого себя; в нем также, говорю я, мгновенно возникает это сознание не in abstracto, а в виде темного чувства, и это называют угрызениями совести, или, ближе к данному случаю, чувством содеянной несправедливости (Unrecht).
Несправедливость, понятие которой мы только что разобрали в самой общей абстракции, находит себе in concreto наиболее полное, прямое и наглядное выражение в каннибализме: это самая отчетливая и ясная ее форма, ужасный образ величайшего раздора воли с самой собою на высшей ступени ее объективации, какой является человек. Непосредственно за этим идет убийство, и потому, как только оно совершится, угрызения совести, смысл которых мы только что изложили отвлеченно и сухо, мгновенно следуют с ужасающей явственностью и наносят душевному покою неисцелимую рану на всю оставшуюся жизнь; ибо наш ужас перед совершенным убийством, как и наш трепет до его совершения, соответствует той безграничной привязанности к жизни, которой проникнуто все живое как проявление воли к жизни. (В дальнейшем изложении мы более обстоятельно расчленим и возвысим на степень отчетливого понятия это чувство, сопровождающее несправедливый и злой поступок, — угрызения совести.)[205] По существу однородны с убийством и отличаются от него только степенью преднамеренное изуродование или простое калечение чужого тела, даже всякий удар. Далее, несправедливость проявляется в порабощении другого индивида, в принуждении его к рабству, наконец, в покушении на чужую собственность, которое, поскольку она служит плодом чужого труда, по существу однородно с предыдущей несправедливостью и относится к ней как простое калечение к убийству.
Ибо такой собственностью, которой без несправедливости нельзя отнять у человека, может быть, согласно нашему пониманию несправедливого, только то, что обработано собственными силами этого человека, так что захват этого отнимает силы его тела у объективированной в нем воли, чтобы заставить их служить воле, объективированной в другом теле. Лишь в таком случае совершающий несправедливость вторгается в сферу чужого утверждения воли, хотя и покушается не на чужое тело, а на неодушевленную, совершенно отличающуюся от него вещь: ведь с этой вещью как бы срослись и отождествились труд и сила чужого тела. Отсюда следует, что всякое истинное, т. е. моральное, право собственности первоначально основывается исключительно на обработке, как это почти всюду признавали до Канта и как это отчетливо и прекрасно выражает древнейшее из всех законодательств: «Мудрецы, сведущие в старине, объясняют, что возделанная нива составляет собственность того, кто выкорчевал лес, очистил и вспахал ее, — как и антилопа принадлежит первому охотнику, который ее смертельно
286
ранил» (Законы Ману, IX, 44)40. Только старческой слабостью Канта объясняю я себе все его учение о праве, это странное сплетение ошибок, идущих одна за другой; так объясняю я себе и то, что право собственности он хочет основать на первом завладении. В самом деле, каким образом простое изъявление моей воли — устранить других от пользования вещью — может тотчас же создать и самое право на нее?[206] Очевидно, само это изъявление предварительно нуждается в правомерном обосновании, а вовсе не оно служит таким основанием, как это думает Кант. Да и поступает ли по существу, т. е. в моральном смысле, несправедливо тот, кто не признает этих притязаний на исключительное обладание вещью, не основанных ни на чем, кроме собственного заявления? Разве может его за это тревожить совесть? Ведь совершенно ясно, что не может быть никакого правомерного завладения, а существует только правомерное освоение, приобретение вещи путем приложения к ней первоначально собственных сил. Там, где вещь посредством какого-нибудь чужого труда, как бы ни был он незначителен, обрабатывается, улучшается, ограждается от повреждений, хотя бы этот труд заключался только в том, чтобы срыть или выполоть из почвы дико растущий плод, — там посягающий на эту вещь очевидно лишает другого результатов его сил, потраченных на нее, т. е. заставляет тело этого человека служить не собственной, а его воле, утверждает собственную волю за пределами ее проявления, вплоть до отрицания чужой воли, т. е. совершает несправедливость*[207].
Напротив, одно только пользование вещью без всякой ее обработки или охраны от повреждения так же мало дает права на нее, как и изъявление своей воли на исключительное владение ею. Поэтому если какой-нибудь род в течение хотя бы целого столетия один охотился в известной местности, не сделав, однако, ничего для ее улучшения, то он не может без моральной несправедливости запретить охоту в ней чужому пришельцу, который вдруг пожелал бы этого. Вот отчего так называемое право преоккупации, согласно которому за простое давнишнее пользование вещью требуют еще сверх того вознаграждения, т. е. присваивают себе исключительное право на дальнейшее пользование ею, в моральном отношении совершенно неосновательно. Тому, кто опирается только на это право, вновь прибывший мог бы с гораздо большим правом возразить: «Именно потому, что ты уже так долго пользовался этой вещью, справедливо, чтобы теперь воспользовались ею и другие»[208].
Для всякой вещи, которая не поддается никакой обработке посредством улучшения или предохранения от несчастных случаев, не существует морально обоснованного права на исключительное владение ею, кроме разве добровольной уступки со стороны всех остальных, например в виде вознаграждения за другие услуги; но это уже предполагает построенное на договоре общежитие, государство. Морально обоснованное право собственности, как это показано выше, дает, по своей
287
природе, владельцу такую же неограниченную власть над вещью, какую он имеет над собственным телом; из этого следует, что он путем обмена или дара может переносить свою собственность на других, которые затем владеют данной вещью с тем же моральным правом, что и он.
Что касается совершения несправедливости вообще, то оно осуществляется либо насилием[209], либо хитростью[210]: по своему нравственному значению это одно и то же. В особенности при убийстве безразлично, пользуюсь ли я кинжалом или ядом; так же обстоит дело и при всяком физическом оскорблении. Все разнообразные случаи несправедливости могут быть сведены к тому, что я, совершая несправедливое, заставляю другого индивида служить не своей, а моей воле, действовать не по своей, а по моей воле. На пути насилия я достигаю этого с помощью физической причинности; на пути же хитрости — посредством мотивации, т. е. причинности, прошедшей через познание; иначе говоря, я достигаю этого тем, что подставляю воле другого человека обманные мотивы, в силу которых он, думая следовать своей воле, следует моей. Так как среда, в которой находятся мотивы, есть познание, то я могу исполнить это, только совершив подлог в его познании, а это и есть обман. Своей целью он всегда имеет воздействие на волю другого, не просто на его познание как таковое и само по себе, но и на познание лишь как средство, поскольку оно определяет его волю. Ибо самый обман мой, исходя из моей воли, нуждается в мотиве, а таким может быть только чужая воля, а не чужое познание само по себе, потому что оно как таковое никогда не может иметь влияния на мою волю, не может ее волновать и быть мотивом ее целей: только чужое желание и действие могут быть таким мотивом, а через них (следовательно, косвенно) и чужое познание. Это относится не только ко всякому обману, вытекающему из явного своекорыстия, но и к такому обману, который имеет своим источником чистую злобу, жаждущую насладиться мучительными последствиями чужой ошибки, ею же вызванной. Даже обыкновенный хвастун стремится к тому, чтобы, усилив этим хвастовством уважение к себе или изменив к лучшему мнение других людей, оказать или облегчить себе большее влияние на их желания и поступки. Простой отказ в истине, т. е. изъявлении вообще, сам по себе не есть нечто неправое, но таковым является, несомненно, всякое навязывание лжи. Кто не хочет указать заблудившемуся путнику настоящую дорогу, тот не совершает по отношению к нему никакого правонарушения, но его совершает тот, кто указывает ему неверный путь.
Из сказанного следует, что всякий обман, как и всякое насилие, есть несправедливость, ибо он уже как таковой стремится распространить власть моей воли на других индивидов, т. е. утвердить мою волю путем отрицания их воли, так же как и насилие. Но самый настоящий обман — это нарушение договора[211], потому что здесь все приведенные определения присутствуют отчетливо в полном составе. Ибо когда я заключаю договор, то чужое обещанное деяние является непосредственным и признанным мотивом моего деяния, которое, в свою очередь, должно наступить. Обмен обязательств совершается обдуманно и формально.
Правдивость сделанного каждой из сторон заявления предполагается зависящей от воли участника. Если же другой нарушил договор, то он
288
меня обманул и, подлогом указав моему познанию неверные мотивы, склонил мою волю на сторону своего умысла, распространил господство своей воли на другого индивида, т. е. совершил полную несправедливость. Вот на чем основывается нравственная законность и обязательность договоров.
Несправедливость, совершенная путем насилия, не так постыдна для ее виновника, как несправедливость, совершенная путем хитрости, потому что первая свидетельствует о физической силе, которая при всех обстоятельствах импонирует человечеству; между тем как хитрость, прибегая к лазейкам, изобличает свою слабость и унижает виновника одновременно и как физическое, и как нравственное существо; кроме того, ложь и обман могут удаться только потому, что лицо, пользующееся ими, должно в то же время само выражать к ним отвращение и презрение, чтобы заслужить доверие, и победа этого лица обусловлена тем, что в нем предполагают честность, которой у него нет. Глубокое отвращение, какое повсюду вызывают коварство, вероломство и измена, основывается на том, что верность и честность являются теми узами, которые восстанавливают внешнее единство воли, раздробленной на множество индивидов, и тем полагают границы эгоизму, вызванному этим раздроблением. Вероломство и измена разрывают эти последние внешние узы и тем дают безграничный простор результатам эгоизма.
В общей связи нашего изложения мы признали, что содержанием понятия несправедливость служат те особенности деяния индивида, в силу которых он так далеко расширяет утверждение воли, являющейся в его теле, что оно становится отрицанием воли, являющейся в других телах. Мы показали также на совершенно общих примерах ту границу, где начинается эта область неправого, и с помощью немногих основных понятий определили ее градацию от высших до более низких степеней. Согласно этому, понятие неправого первично и положительно, а противоположное ему понятие права производно и отрицательно. Ведь надо придерживаться не слов, а понятий[212]. На самом деле никогда нельзя было бы говорить о праве, если бы не существовало неправого. Ибо понятие права заключает в себе только отрицание неправого, и под него подводится всякое деяние, которое не переходит за указанную границу, т. е. не отрицает чужой воли ради сильнейшего утверждения своей. Эта граница разделяет, таким образом, в чисто моральном отношении всю область возможных поступков на правые или неправые. Если только поступок не вторгается описанным выше путем в сферу чужого утверждения воли, не отрицает ее, то он не нарушает права. Поэтому, например, отказ в помощи при крайней чужой нужде, спокойное созерцание чужой голодной смерти при собственном избытке хотя и являются дьявольской жестокостью, но не есть нарушение права; можно только с полной достоверностью сказать, что, кто способен зайти так далеко в бессердечии и черствости, тот, несомненно, совершит любую несправедливость, как только этого потребуют его желания и этому ничто не будет мешать.
Но свое главное применение и, несомненно, свой первоисточник понятие права как отрицание неправого находит себе в тех случаях, где неправым поползновениям оказывается сопротивление силой; такое со-
289
противление не может быть, в свою очередь, неправым, и, следовательно, оно есть право, хотя совершаемое при этом насилие, рассматриваемое само по себе, было бы неправым и оправдывается здесь, т. е. обращается в право только своим мотивом. Если какой-нибудь индивид заходит в утверждении своей воли так далеко, что вторгается в сферу утверждения воли, присущего моей личности как таковой и этим отрицает ее, то мое сопротивление такому вторжению является только отрицанием этого отрицания и постольку с моей стороны это лишь утверждение искони присутствующей и являющейся в моем теле воли, implicite[213] выраженной уже в одном явлении этого тела, следовательно, с моей стороны нет нарушения права. Это значит: я имею тогда право отрицать чужое отрицание всеми силами, какие необходимы для его устранения, что, как легко понять, может дойти до убийства другого индивида, покушение которого как вторгающееся извне насилие может быть отражено превосходящим его отпором без всякой несправедливости, т. е. по праву, ибо все, что я со своей стороны делаю, находится, конечно, только в сфере присущего моей личности как таковой и уже выраженного ею утверждения воли (представляющего собой арену борьбы), а не вторгается в чужую область; следовательно, мое противодействие есть только отрицание отрицания, т. е. нечто положительное, а не новое отрицание. Я могу, таким образом, не совершая несправедливости, принудить чужую волю, отрицающую мою волю, насколько последняя проявляется в моем теле в пользовании его силами для его поддержания и поскольку она не отрицает чьей-нибудь другой воли, остающейся в таких же рамках, — я могу эту чужую отрицающую волю принудить отказаться от этого отрицания, т. е. я имею в данных границах право принуждения.
Во всех случаях, где я имею право принуждения, я имею полное право употреблять против других насилие, я могу также, сообразно с обстоятельствами, противопоставить чужому насилию и хитрость, не совершая этим несправедливости; я имею, следовательно, реальное право на ложь — именно в тех же границах, в каких имею право на принуждение. Поэтому тот, кто уверяет обыскивающего его разбойника, что он не имеет больше ничего при себе, поступает совершенно справедливо, как и тот, кто обманом завлекает вторгшегося ночью разбойника в погреб и там его запирает. Кого поймали и уводят в плен разбойники, например, из варварских стран, тот имеет право для своего освобождения убить их не только открытой силой, но и хитростью. По той же причине и обещание, исторгнутое прямым физическим насилием, совершенно необязательно, ибо жертва такого принуждения имеет полное право освободиться от насильников убийством, не говоря уже о хитрости. Кто не может вернуть силой своего похищенного имущества, тот не совершает несправедливости, если добывает его хитростью. Мало того: если кто-нибудь проигрывает мне мои же похищенные деньги, то я имею право употребить в игре с ним фальшивые кости, так как все, что я отыграю у него, уже и без того принадлежит мне. Кто не согласен с этим, тот должен тем более отрицать законность военной хитрости, ибо последняя является даже фактическим обманом и подтверждает изречение шведской королевы Кристины: «Слова людей ничего не стоят, и даже поступкам их можно верить с трудом».
290
Так близко находятся между собой границы неправого и права. Впрочем, я считаю излишним доказывать, что все это вполне согласуется с тем, что я говорил ранее о незаконности обмана и насилия; мысли, высказанные мною, могут способствовать также уяснению странных теорий о вынужденном обмане*.
Согласно всему предыдущему, неправое и право — это только моральные определения, т. е. имеющие силу при рассмотрении человеческого поведения как такового и по отношению к внутреннему смыслу сущности этого поведения. Последний непосредственно выражается в сознании тем, что, с одной стороны, неправедные деяния сопровождаются внутренней болью, которая представляет собой испытываемое правонарушителем чувство чрезмерности утверждения воли в нем самом, доходящего до отрицания проявления чужой воли; боль эта есть такое смутное сознание того, что хотя он, правонарушитель, как явление и отличается от терпящего несправедливость, но по существу тождествен с ним. Дальнейшее разъяснение этого внутреннего смысла всех угрызений совести может последовать только ниже. С другой стороны, терпящий несправедливость болезненно сознает отрицание своей воли, насколько она выражается уже в его теле и его естественных потребностях, для удовлетворения которых природа отсылает его к силам этого же тела; одновременно сознает он и то, что мог бы, не совершая несправедливости, дать всяческий отпор этому отрицанию, если бы только у него хватило сил. Этот чисто моральный смысл есть единственный, который право и несправедливость имеют для человека как для человека, а не как для гражданина; этот смысл сохранился бы и в естественном состоянии без всякого положительного закона, и он составляет основу и содержание всего того, что было названо естественным правом41, но что лучше было бы назвать моральным правом, так как значимость его распространяется не на пассивное претерпевание, не на внешнюю действительность, а только на поступки и на возникающее из них самопознание индивидуальной воли человека, именуемое совестью; но только в естественном состоянии оно не может в каждом случае распространяться и вовне, на другие индивиды, и не может воспрепятствовать власти насилия вместо права. В естественном состоянии от каждого зависит только то, чтобы в каждом данном случае не совершать несправедливости; но совсем не в его власти не терпеть в каждом данном случае несправедливости: последнее зависит от его случайной внешней силы. Поэтому хотя и в естественном состоянии человечества понятия права и несправедливости имеют значение и вовсе не условны, тем не менее они значимы тогда только в качестве моральных понятий для самопознания собственной воли в каждом. На шкале крайне различных степеней силы, с которой воля к жизни утверждает себя в человеческих индивидах, эти понятия являются постоянной точкой, подобно точке замерзания в термометре, — той именно точкой, где утверждение собственной воли становится отрицанием чужой, т. е. несправедливостью
291
деяний показывает степень своей
напряженности вместе со степенью подчиненности познания principio
individuationis (последнее является формой такого познания, которое всецело
служит воле). Кто же хочет устранить или отвергнуть чисто моральный взгляд на
человеческое поведение и рассматривать поступки только с точки зрения их
внешнего влияния и последствий, тот может, конечно, вместе с Гоббсом считать право
и несправедливость условными, произвольно принятыми и потому вне положительного
закона даже и не существующими определениями, и мы никогда не могли бы
примерами внешнего опыта убедить его в том, что не относится к внешнему опыту —
подобно тому как Гоббсу, безусловно эмпирическое мышление которого
знаменательно характеризуется тем, что он в своей книге «De principiis Ge
Чистое учение о праве представляет, таким образом, главу этики и непосредственно относится только к действию, а не к претерпеванию, страданию. Ибо только первое есть обнаружение воли, и лишь ее рассматривает этика. Страдание — это просто факт, этика лишь косвенно может принимать во внимание и страдание, а именно только чтобы доказать, что совершаемое ради того, чтобы не пострадать от несправедливости, не является неправедным деянием. Содержание этой главы этики должно было бы состоять из точного определения той границы, до которой может доходить индивид в утверждении уже объективированной в его теле воли, не переходя в отрицание той же самой воли, поскольку она является в другом индивиде, а затем из определения тех поступков, которые преступают эту границу, следовательно, несправедливы и потому могут быть отражены без нарушения справедливости. Таким образом, предметом рассмотрения всегда остаются собственные действия личности.
Во внешнем же опыте существует как факт страдание, перенесение несправедливости, в котором, как уже сказано, яснее, чем где бы то ни было, проявляется противоборство воли к жизни с самой собою, вытекающее из множественности индивидов и эгоизма; а множественность и эгоизм обусловлены principio individuationis, составляющим форму мира как представления — для познания индивида. Мы видели также, что значительная доля присущего человеческой жизни страдания имеет неиссякаемый источник в этом противоборстве индивидов.
Но общий для всех этих индивидов разум, который позволяет им, в противоположность животным, познавать не только отдельные случаи, но и абстрактно постигать целое в его связи, скоро раскрыл перед ними источник этого страдания и заставил их подумать о средствах уменьшить его или, если возможно, устранить совсем некой общей жертвой, которую, однако, превышала бы вытекающая из нее общая польза. В самом деле: как ни приятно эгоизму отдельного лица при
292
удобном случае совершать несправедливость, но это имеет необходимый коррелат в перенесении несправедливости другим индивидом, испытывающим от этого большое страдание. И когда разум, продумывающий целое, отрешился от одностороннего понимания индивида, которому он принадлежит, и на мгновение освободился из-под его власти, то он увидел, что удовольствие, которое один индивид получает от совершения несправедливости, всякий раз перевешивается сравнительно большим страданием другого индивида; и он нашел далее, что так как все здесь предоставлено случаю, то каждый имеет основание бояться, что на его долю будет гораздо реже выпадать удовольствие случайного причинения несправедливости, чем страдание от перенесения ее. Разум понял, что как для уменьшения тяготеющего над всеми страдания, так и для возможно равномерного его распределения лучшее и единственное средство — это оградить всех от боли перенесения несправедливости тем, чтобы все отказались и от удовольствия причинять несправедливость.
И вот это средство, с легкостью найденное эгоизмом, который благодаря разуму действует методически и покидает свою одностороннюю точку зрения, — это средство, постепенно усовершенствованное, и есть государственный договор, или закон. Так, как я объясняю здесь его происхождение, объяснял его еще Платон в «Государстве»42. Действительно, такое происхождение по самому существу своему единственное и соответствующее природе вещей; и ни в одной стране государство не могло иметь другого источника, ибо только этот способ возникновения, только эта цель делает его государством, и при этом безразлично, было ли предшествующее ему в каждом данном народе состояние сбродом не зависящих друг от друга дикарей (анархия) или сбродом рабов, над которыми произвольно властвует сильнейший деспотия). В обоих случаях государства еще не было: оно возникает только в силу такого общего соглашения и в зависимости от того, в большей или меньшей степени это соглашение свободно от анархии или деспотии, и государство, соответственно, совершеннее или несовершеннее. Республики тяготеют к анархии, монархические государства — к деспотии; придуманный вследствие этого средний путь конституционной монархии — к господству партий. Чтобы основать совершенное государство, надо прежде создать такие существа, природа которых позволяла бы им всецело жертвовать своим благом ради блага общественного. До тех же пор возможно в этом отношении достигнуть кое-чего тем, что есть одна семья, благо которой совершенно неотделимо от блага государства, так что, по крайней мере в главном, она никогда не может способствовать одному помимо другого. На этом основывается сила и преимущество наследственной монархии.
Если, таким образом, мораль имеет своим исключительным предметом справедливые или несправедливые деяния и если она в состоянии точно определять границы поведения для того, кто решится не совершать неправды, то, наоборот, государственное право, учение о законодательстве, касается только перенесения несправедливости и никогда не стало бы интересоваться несправедливыми деяниями, если бы не их необходимый коррелат — перенесение несправедливости, на которое направлено внимание права, ибо это его враг, с которым оно борется.
293
И если бы можно было себе представить такой несправедливый поступок, с которым не связано нарушение чужого права, то государство, оставаясь последовательным, вовсе не стало бы его запрещать. Затем, так как предметом морали и единственно реальным ее содержанием является воля, помыслы, то для нее твердая решимость на несправедливый поступок, которую задерживает и парализует только внешняя сила, вполне равна действительно совершенной неправде, и перед судом морали оказывается тот, у кого есть подобное желание. Наоборот, государство совсем не интересуется волей и помыслом как таковыми: для него важно только деяние (как покушение или как факт), вследствие его коррелата — страдания другой стороны; для него, следовательно, единственно реальным является факт, событие, тогда как намерение и помыслы рассматриваются им лишь постольку, поскольку они уясняют характер деяния. Поэтому государство никому не запретит носить против другого в мыслях убийство и яд, если только оно уверено, что страх секиры и колеса будет постоянно сдерживать осуществление таких помыслов. Точно так же государство вовсе не задается безумной целью истребить склонность к неправедным деяниям, злые помыслы: нет, просто всякому возможному мотиву к совершению неправды оно всегда стремится противопоставить, в виде неминуемого наказания, другой, более сильный мотив к отказу от нее; сообразно с этим уголовный кодекс представляет собой по возможности наиболее полный список противомотивов ко всем преступным деяниям, предусмотренным как возможные, — конечно, и мотивы, и деяния намечены в нем in abstracto для применения в соответственных случаях in concreto. Для этой цели государственное право, или законодательство, заимствует из этики ту главу, которая является учением о праве и которая вместе с внутренним смыслом правды и неправды определяет также и точную границу между обеими, — но законодательство заимствует эту главу исключительно для того, чтобы воспользоваться ее оборотной стороной, и все те границы, какие мораль запрещает преступать, если не желаешь причинять неправды, оно рассматривает с иной стороны — как границы, нарушение которых другими не может быть позволено, если не желаешь терпеть неправды, и от которых, следовательно, мы имеем право отгонять других; вот почему эти границы, с их, возможно, и пассивной стороны, укрепляются законами.
Отсюда видно, что, подобно тому как историка очень остроумно прозвали перевернутым пророком, так правовед — это перевернутый моралист, и оттого правоведение в собственном смысле, т. е. учение о правах, которых мы можем требовать, является перевернутой этикой — в той главе ее, где она учит о ненарушимых правах. Понятие неправого и его отрицания, права, сначала моральное, становится юридическим, благодаря перенесению исходной точки с активной стороны на пассивную, т. е. благодаря перестановке. Это обстоятельство, наряду с правовым учением Канта, который совершенно неправильно выводит из своего категорического императива создание государства как моральную обязанность, не раз служило и в новейшее время поводом к весьма странной и ошибочной теории, будто государство — учреждение для содействия морали, будто оно вытекает из стремления к ней и, таким
294
образом, направлено против эгоизма. Как будто внутреннее настроение, которое только и может быть моральным или иммоморальным, как будто вечно свободная воля поддается модификации извне и меняется от разных влияний. Еще нелепее взгляд, будто государство служит условием свободы в нравственном смысле, а потому и моральности: ведь на самом деле свобода находится по ту сторону явления, а не только по ту сторону человеческих учреждений. Государство, как я сказал, вовсе не направлено против эгоизма вообще и как такового: наоборот, оно возникло именно из сознательного и методического эгоизма, покинувшего одностороннюю точку зрения ради общей, — эгоизма всех, этой суммы частных эгоизмов; и существует оно только для того, чтобы служить ему, основанное на той верной предпосылке, что чистой морали, т. е. праведной жизни в силу моральных побуждений, ожидать нельзя, иначе оно само было бы излишним. Таким образом, вовсе не против эгоизма, а только против вредных его последствий, которые вытекают из множественности эгоистических индивидов для каждого из них и нарушают их благосостояние, — только против них направлено государство, в целях этого благосостояния. Вот почему уже Аристотель говорит (De rep. III): «Finis civitatis est bene vivere, hoc autem est beate et pulchre vivere»*. Точно так же и Гоббс совершенно правильно и превосходно доказал, что таковы происхождение и цель государства43; то же подтверждает и старинный основной принцип всякого государственного порядка: salus publica prima lex esto**. Если бы государство вполне достигло своей цели, то это выглядело бы так же, как если бы во всех помыслах царила совершенная правда. Но оба явления по своей внутренней сущности и происхождению были бы противоположны. А именно, в последнем случае никто не хотел бы совершать неправды, в первом никто не хотел бы терпеть неправды, и средства достижения этой цели были бы вполне соответственные. Так одна и та же линия может быть проведена с разных сторон, и хищный зверь в наморднике столь же безвреден, как и травоядное животное.
Но дальше этого предела государство идти не может: оно не в силах создать такого положения вещей, какое возникло бы из общего взаимного благоволения и любви. Ибо (мы только что видели это) как государство, согласно своей природе, не стало бы запрещать несправедливых деяний, если бы они не причиняли другой стороне страдания, и только потому, что это невозможно, оно запрещает всякий несправедливый поступок, — так и наоборот, согласно своей тенденции, направленной ко всеобщему благу, оно весьма охотно заботилось бы о том, чтобы каждый испытывал на себе благоволение и дела человеколюбия, если бы и последние не имели в качестве своего неизбежного коррелата совершение акций благотворительности и любви; при этом каждый гражданин хотел бы взять на себя пассивную роль и никто не соглашался бы на активную, да и не было бы основания навязывать ее одному преимущественно перед другим. Поэтому принуждать можно только к от-
295
рицательному, которое и составляет право, а не к положительному, которое понимали под именем обязанностей любви, или небезусловных обязанностей.
Как я сказал, законодательство заимствует свое чистое учение о праве, или учение о сущности и границах права и неправого, из этики, чтобы воспользоваться ее оборотной стороной для своих целей, этике чуждых, и в соответствии с этим установить положительные законы и средства их поддержания, т. е. государство. Положительное законодательство представляет собой, таким образом, чисто моральное учение о праве, примененное с оборотной стороны. Применение это может происходить с учетом специфических отношений и условий известного народа. Но только в том случае, если положительное законодательство в существенном всецело определяется указаниями чистого учения о праве и для каждой из его норм можно найти основание в чистом учении о праве, — только тогда установленное законодательство является собственно положительным правом, а государство — правомерным союзом, государством в подлинном смысле слова, морально допустимым, не аморальным учреждением. В противном же случае положительное законодательство является организацией положительной неправды и само представляет собой официально признанную насильственную неправду. Такой характер имеет всякая деспотия, государственный строй большинства мусульманских стран; сюда же относятся иные стороны многих законодательств, например крепостное право, барщина и т. п.
Чистое учение о праве, или естественное право, лучше сказать — моральное право лежит в основе всякого правомерного законодательства (хотя всегда своей оборотной стороной), так же как чистая математика лежит в основе каждой из своих прикладных отраслей. Важнейшие пункты чистого учения о праве, как их философия должна передать законодательству ради указанной цели, следующие: 1) объяснение подлинного внутреннего смысла и происхождения понятий неправого и права и их применения и места в морали; 2) выведение права собственности; 3) выведение моральной силы договоров, так как она является моральной основой государственного договора; 4) объяснение возникновения и цели государства, отношения этой цели к морали и объяснение результата такого отношения — целесообразного перенесения морального учения о праве (с его оборотной стороны) на законодательство; 5) выведение права наказания. Остальное содержание учения о праве — это лишь приложение названных принципов, ближайшее определение границ права и неправого для всех возможных житейских отношений, которые поэтому соединяются и распределяются под известными точками зрения и рубриками. В этих частных теориях все учебники чистого права в общем сходятся между собою, они весьма отличаются только в принципах, потому что принципы всегда связаны с какой-нибудь философской системой. Разъяснив с точки зрения нашей системы, в немногих и общих, но определенных и ясных чертах первые четыре из указанных главных пунктов, мы должны теперь высказаться таким же образом и о праве наказания.
Кант выставляет безусловно ложное положение, будто вне государства не может быть совершенного права собственности. Согласно моему
296
предыдущему выводу, собственность существует и в естественном состоянии, в силу вполне естественного, т. е. морального, права, которое нельзя нарушить, не совершая тем несправедливости, но которое можно законно защищать до последнего предела. Наоборот, несомненно, что вне государства не существует права наказания. Всякое право наказывать основывается единственно на положительном законе, который до совершения проступка установил за него известную кару, так что страх ее в качестве противомотива должен перевешивать все возможные мотивы к совершению такого проступка[214]. Этот положительный закон надо рассматривать как санкционированный и признанный всеми гражданами страны. Он основан, таким образом, на общем договоре, исполнять который, т. е. осуществлять наказание, с одной стороны, и переносить его — с другой, обязаны все члены государства при всех обстоятельствах, поэтому справедливо принуждение к тому, чтобы нести наказание. Следовательно, непосредственная цель наказания в отдельном случае — это исполнение закона как договора. Единственная же цель закона — это устрашение перед нарушением чужих прав, ибо, для того чтобы каждый был защищен от несправедливости, люди соединились в государство, отказались от совершения несправедливости и взяли на себя бремя поддержания государства. Следовательно, закон и его исполнение — наказание — по существу своему имеют в виду будущее, а не прошедшее[215]. В этом отличие наказания от мести, мотивированной исключительно свершившимся, т. е. прошлым как таковым. Воздавая мучениями за неправые деяния, но не имея при этом цели в будущем, мы осуществляем месть, цель которой может состоять лишь в том, чтобы в зрелище причиненного нами чужого страдания найти себе утешение в страдании, которое вынесли мы сами. Это — злоба и жестокость, которые этически не могут быть оправданы. Несправедливость, причиненная мне другим, вовсе не дает мне права поступать несправедливо по отношению к нему[216]. Воздаяние злом за зло без дальнейшей цели не может быть оправдано ни морально, ни каким-нибудь иным разумным основанием, и justalionis* в качестве самостоятельного, конечного принципа уголовного права не имеет смысла. Поэтому кантовская теория наказания как простого воздаяния ради воздаяния совершенно неосновательна и ложна[217]. И, однако, она все еще находит себе приют в сочинениях многих юристов, прикрытая высокопарными фразами, представляющими собой пустые словеса; говорят, например: наказанием преступление искупается или нейтрализуется и снимается, и т. п. Но ни один человек не имеет права выступать в роли чисто морального судьи и воздающего и наказывать преступления другого страданием, т. е. подвергать его каре. Это было бы крайне высокомерным притязанием, и отсюда библейское: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь»[218]45. Но зато человек имеет полное право заботиться о безопасности общества, а это возможно только путем запрещения всех тех деяний, которые обозначаются словом «криминальные», — такое запрещение предотвращает их противомотивами, т. е. угрозой наказания; эта угроза может быть действенна, если только она исполняется в каждом случае, происходящем вопреки
297
ей[219].
Целью наказания или, точнее, уголовного закона служит устрашение перед преступлением:
это столь общепризнанная, самоочевидная истина, что в Англии она выражена даже
в старинной обвинительной формуле (indictment), которую и теперь еще употребляет в уголовных делах судебный
следователь; она кончается словами: if this be proved, you, this said NN., ought to be punished with pains
of law, to deter others fr
Цель в будущем отличает наказание от мести, а такую цель наказание имеет в виду лишь тогда, когда оно налагается во исполнение закона и, показывая этим свою неминуемость и для каждого будущего случая, поддерживает устрашающую силу закона, в чем и заключается его цель. На это кантианец непременно возразит, что с такой точки зрения наказываемый преступник используется «просто как средство»[221]. Однако, хотя это столь неутомимо повторяемое всеми кантианцами положение, что «человека дозволяется трактовать всегда лишь как цель, а не как средство»46[222], звучит весьма внушительно и потому является очень удобным принципом для всех тех, кто ищет формулу, освободившую бы их от всякого дальнейшего размышления, но при ближайшем разборе оно оказывается в высшей степени шатким и неопределенным изречением, истинный смысл которого лежит очень далеко: для каждого случая своего применения оно нуждается в предварительном и особом истолковании, определении и модификации, взятое же в своем общем виде, оно недостаточно, малосодержательно и к тому же еще и проблематично. Убийца, подлежащий, согласно закону, смертной казни, должен непременно и с полным правом рассматриваться как простое средство. Ибо он нарушил публичную безопасность, главную цель государства, мало того, она низвергнута, если закон останется неисполненным: преступник, его жизнь, его личность должны теперь послужить средством для исполнения закона и тем самым для восстановления общественной безопасности; и он делается таким средством вполне справедливо, ради исполнения государственного договора, в который вступал и он в качестве гражданина и в силу которого он обеспечивал себе безопасное пользование своей жизнью, свободой и собственностью, внеся в качестве залога всеобщей безопасности и свою жизнь, свободу и собственность, и теперь этот залог отбирается[223].
Предложенная здесь теория наказания, для здравого ума
непосредственно ясная[224],
в главном, конечно, мысль не новая, а только почти вытесненная новыми
заблуждениями, отчего и необходимо было ее отчетливо изложить. В своих основных
чертах она содержится уже в том, что говорит об этом Пуфендорф — «De officio h
298
находим ее уже в изречениях древних философов; так, Платон ясно излагает ее в «Протагоре» (с. 114, edit. Bip.), в «Горгии» (с. 168), наконец, в одиннадцатой книге «Законов» (с. 165). Сенека отлично выражает мнение Платона и теорию любого наказания в следующих немногих словах: «Nemo prudens punit, quia peccatum est; sed ne peccetur» (De Ira, I, 16)*.
Таким образом, мы признали в государстве средство, с помощью которого эгоизм, вооруженный разумом, старается избегнуть собственных дурных последствий, направляющихся против него самого; при этом каждый способствует благу всех, так как видит, что в общем благе заключается и его собственное. Если бы государство вполне достигло своей цели, то оно, все более покоряя себе и остальную природу посредством объединенных в нем человеческих сил, в конце концов уничтожило бы всякого рода беды и могло бы в известной мере превратиться в нечто похожее на страну Шлараффию47. Но, во-первых, оно все еще очень далеко от этой цели; во-вторых, другие, все еще бесчисленные беды, присущие жизни, по-прежнему держали бы ее во власти страдания; и если бы даже все они и были устранены, то каждое освободившееся место тотчас же занимала бы скука; в-третьих, государство никогда не может совершенно устранить распри индивидов, ибо она[226] в мелочах досаждает там, где ее изгоняют в крупном; и, наконец, Эрида[227], благополучно вытесненная изнутри, устремляется вовне: изгнанная государственным укладом как соперничество индивидов, она возвращается извне как война народов и, подобно возросшему долгу, требует сразу и в большой сумме тех кровавых жертв, которые в мелочах были отняты у нее разумной предусмотрительностью. И если даже предположить, что умудренное опытом тысячелетий человечество наконец все это одолеет и устранит, то последним результатом оказался бы действительный избыток населения всей планеты, а весь ужас этого может себе представить теперь только смелое воображение**.
§ 63
Мы признали, что временное правосудие, пребывающее в государстве, носит воздающий или карательный характер; мы видели, что оно становится правосудием только благодаря своему отношению к будущему, ибо без такого отношения всякое наказание и возмездие за преступление оставалось бы неоправданным и было бы только прибавлением другого зла к уже совершенному, без смысла и значения. Но совершенно иначе обстоит дело с вечным правосудием, о котором мы уже упомянули ранее и которое правит не государством, а вселенной, не зависит от человеческих учреждений, не доступно случайности и заблуждению, не знает слабости, колебаний и ошибок, является непогрешимым, незыблемым, непорочным. В понятии воздаяния уже заключается время, поэтому
299
вечное правосудие не может быть воздающим и оттого не может, подобно временному, допускать отсрочку и промедление и не нуждается для своего существования во времени, так как не уравновешивает посредством его дурное дело дурным последствием. Наказание должно быть здесь так связано с преступлением, чтобы оба они составляли одно.
Volare
pennis scelera ad ætherias d
Putatis,
illic
in Jovis tabularia
Scripto
referri: tum Jovem lectis super
Sententiam
prof erre? — Sed mortalium
Facinora
coeli,
quantaquanta est, regia
Nequit
teuere: nee legendis Juppiter
Et
puniendis par est. Est tarnen ultio,
Et,
si intuemur, illa nos habitat prope.
Eurip.,
… Stob. Eel., I, cap. 4*.
Что такое вечное правосудие действительно коренится в сущности мира — в этом из всего развития нашей мысли скоро убедится каждый, кто усвоил ее себе.
Явление, объектность единой воли к жизни есть мир, во всей множественности своих частей и форм. Самое бытие и характер бытия, как в целом, так и в каждой части, вытекает только из воли. Она свободна, она всемогуща. И каждой вещи воля является именно так, как она определяет себя в самой себе и вне времени. Мир есть только зеркало этой воли, и вся конечность, все страдания, все муки, которые он содержит в себе, выражают то, чего она хочет, они таковы потому, что она этого хочет. С полной справедливостью поэтому каждое существо несет бытие вообще, затем бытие своего рода и своей особой индивидуальности, какова она есть, и при условиях, каковы они есть, в мире, каков он есть, — подвластный случайности и заблуждению, бренный, преходящий, вечно страдающий; и все, что с каждым существом происходит и даже может с ним произойти, всегда справедливо. Ибо воля — его, а какова воля, таков и мир. Ответственность за бытие и свойства этого мира может нести только он сам и никто другой, ибо разве пожелает другой взять ее на себя? Кто хочет знать, чего в моральном отношении стоят люди в общем и целом, пусть взглянет на их участь в общем и целом. Это нужда, несчастье, скорбь, муки и смерть. Царит вечное правосудие: если бы люди в целом не были так недостойны, то их участь в целом не была бы столь печальной. В этом смысле мы можем сказать: мир сам есть Страшный суд. Если бы все горе мира можно было положить на одну чашку весов, а всю вину мира на другую, то весы, наверное, остановились бы неподвижно.
300
Но, конечно, для познания в том виде, как оно, выросшее из служения воле, предстает индивиду как таковому, мир видится иначе, чем он в конце концов раскрывается перед исследователем, узнающим в нем объектность той всеединой воли к жизни, которой является он сам: нет, взоры несведущего индивида застилает, по выражению индийцев, пелена Майи, и вместо вещи в себе ему предстает одно лишь явление, во времени и пространстве, этом principio individuationis, и в остальных видах закона основания; и в этой форме своего ограниченного познания он открывает не единую сущность вещей, а ее явления — обособленные, разделенные, неисчислимые, многоразличные и даже противоположные. И кажется ему тогда, что наслаждение — это одно, а страдание нечто совсем другое, что этот человек — мучитель и убийца, а тот — страстотерпец и жертва, что злоба — это одно, а зло — другое. Он видит, что один живет в довольстве, изобилии и роскоши, в то время как у его порога умирает другой в муках лишений и холода. И он спрашивает себя: где же возмездие? И сам он в страстном порыве воли, составляющем его источник и его сущность, набрасывается на утехи и радости жизни, держит их в тесных объятиях и не подозревает, что именно этим актом своей воли он ловит и крепко прижимает к себе все те муки и горести жизни, зрелище которых приводит его в содрогание. Он видит беду, видит зло в мире, но далекий от сознания, что это только различные стороны проявления единой воли к жизни, он считает их совершенно различными и даже противоположными, и часто охваченный principio individuationis, обманутый пеленой Майи, он пытается с помощью зла, т. е. причинения чужого страдания, избегнуть зла, страдания собственной индивидуальности.
Ибо подобно тому как среди бушующего беспредельного моря, с воем вздымающего и опускающего водяные громады, сидит пловец в челноке, доверяясь утлому судну, так среди мира страданий спокойно живет отдельный человек, доверчиво опираясь на principium individuationis, или тот способ, каким индивид познает вещи в качестве явления. Беспредельный мир, всюду полный страдания, в своем бесконечном прошлом, в бесконечном будущем чужд ему и даже представляется ему сказкой: его исчезающая личность, его непротяженное настоящее, его мимолетное довольство — только это имеет для него реальность, и, чтобы сохранить это, он делает все, пока более глубокое познание не откроет ему глаза. А до тех пор только в сокровенной глубине его сознания таится смутное предчувствие того, что, быть может, весь этот мир не так уж чужд ему, что он имеет с ним связь, от которой не в силах его оградить principium individuationis. Из этого предчувствия вытекает тот неодолимый трепет, общий всем людям (а может быть, и более умным из животных), который внезапно овладевает ими, когда они случайно сбиваются с пути principii individuationis, т. е. когда закон основания в одной из своих форм, по-видимому, терпит исключение, — когда, например, кажется, будто какое-либо действие произошло без причины, или явился умерший, или как-либо еще, прошлое или будущее стало настоящим, либо далекое — близким. Невероятный ужас перед такими феноменами объясняется тем, что внезапно утрачиваются познавательные формы явления, которые только и держат
301
индивида в обособленности от остального мира. Но это обособление заключено только в явлении, а не в вещи в себе: именно на этом и основывается вечное правосудие.
В действительности всякое временное счастье, всякое благоразумие стоят на зыбкой почве. Они охраняют личность от невзгод и доставляют ей наслаждения; но личность — это только явление, и ее отличие от других индивидов, ее свобода от страданий, которые терпят другие, основывается на форме явления, на principio individuationis. Согласно истинной сущности вещей, каждый должен считать все страдания мира своими, и даже только возможные страдания он должен считать для себя действительными, пока он представляет твердую волю к жизни, т. е. пока он всеми силами утверждает жизнь. Для познания, прозревающего в principium individuationis, счастливая жизнь во времени как подаренная случаем или добытая умным расчетом, среди страданий бесчисленных других индивидов, есть не что иное, как сон нищего, в котором он видит себя королем, но от которого он должен пробудиться, чтобы удостовериться в том, что только мимолетная греза разлучила его со страданием его жизни.
Вечное правосудие скрыто от взора, погруженного в principium individuationis, в познание, которое следует закону основания: он нигде его не находит, этого правосудия, если только не спасает его какими-нибудь фикциями. Он видит, как злой, совершив всевозможные преступления и жестокости, живет в довольстве и безнаказанно уходит из мира. Он видит, как угнетенный до конца влачит жизнь, полную страданий, и нет для него мстителя, нет воздающего. Но вечное правосудие постигнет лишь тот, кто возвысится над этим познанием, следующим за законом основания и привязанным к отдельным вещам, кто познает идеи, проникнет в principium individuationis и поймет, что к вещи в себе неприложимы формы явления. Только такой человек, силой этого же познания, может понять и истинную сущность добродетели, как она вскоре раскроется перед нами в связи с настоящим рассуждением, хотя для практической добродетели это познание in abstracto совершенно не нужно. И вот, кто достигнет такого познания, тому станет ясно, что так как воля есть «в себе» каждого явления, то причиняемые другим и лично испытываемые невзгоды, мучения и зло всегда поражают одно и то же единое существо, хотя явления, в которых обнаруживаются то и другое, выступают как совершенно различные индивиды и даже разделены между собою дистанцией времен и пространств. Он увидит, что различие между тем, кто причиняет страдание, и тем, кто должен его переносить, только феноменально и не распространяется на вещь в себе — живущую в обоих волю: обманутая познанием, находящимся у нее в услужении, воля не узнает здесь самой себя и, домогаясь в одном из своих явлений повышенного благополучия, причиняет другому великое страдание и таким образом в страстном порыве вонзает зубы в собственную плоть, не ведая, что она всегда терзает только самое себя, и обнаруживая этим через посредство индивидуации то самопротивоборство с самим собою, которое она заключает внутри себя. Мучитель и мученик — это одно и то же. Первый заблуждается, думая, что он не причастен мучениям; второй заблуждается, думая, что он не причастен вине. Если бы у них
302
обоих открылись глаза, то причиняющий мучения понял бы, что он живет во всем, что страдает на свете и тщетно спрашивает себя (если одарено разумом), почему оно призвано к бытию для такого большого страдания и за какую неведомую вину; а мученик понял бы, что все злое, совершаемое или когда-нибудь совершавшееся в мире, вытекает из той воли, которая составляет и его сущность, является и в нем, и что вместе с этим явлением и его утверждением он принял на себя все те муки, какие возникают из подобной воли, и по справедливости терпит их, пока он есть эта воля. Эту мысль высказывает чуткий поэт Кальдерой в своей трагедии «Жизнь — это сон»:
Pues
el delito mayor
Del
h
В самом деле, разве это не вина, когда, согласно вечному закону, на ней стоит смерть? Кальдерой в этих стихах выразил только христианский догмат о первородном грехе.
Живое познание вечного правосудия, этого коромысла весов, нераздельно связующего malum culpae** и malum poenae***, требует полного возвышения над индивидуальностью и принципом ее возможности; поэтому, как и родственное ему чистое и ясное познание сущности всякой добродетели, оно всегда будет оставаться недоступным для большинства людей. Оттого мудрые праотцы индийского народа в эзотерическом учении мудрости, или Ведах, позволенных только трем возрожденным кастам48, выразили это познание прямо, насколько оно поддается слову и понятию и насколько это допускает их образная и рапсодическая манера изложения, — но в народной религии, или экзотерическом учении, они передали его лишь с помощью мифа. Непосредственное выражение этой мысли о вечном правосудии мы находим в Ведах — плоде высшего человеческого познания и мудрости, ядро которого дошло до нас, наконец, в Упанишадах, этом величайшем даре нашего столетия[228]; мысль эта выражается разнообразно, особенно часто в такой форме: перед взором ученика проводятся одно за другим все существа мира, одушевленные и неодушевленные, и о каждом из них произносится ставшее формулой и потому названное Mahava Куа, слово Tatoumes, правильнее tat twan asi, что означает: «Это — ты»49. Но для народа эта великая истина, насколько он в своей ограниченности мог постигнуть ее, была переведена на язык того способа познания, который следует закону основания, хотя по своей сущности никак не может вместить ее во всей ее чистоте и даже находится в прямом противоречии с нею, но в форме мифа воспринял, однако, ее суррогат, достаточный как норма поведения50, ибо при способе познания, следующем закону основания и вечно далеком от нравственного смысла этого поведения, этот смысл делается все же понятным благодаря образности изложения, в чем и состоит цель всех вероучений, ибо все они представляют собой мифическое облачение
303
истины, недоступной грубому пониманию человека. В таком смысле этот миф можно было бы на языке Канта назвать постулатом практического разума; рассматриваемый с этой точки зрения, он имеет то великое преимущество, что не содержит в себе никаких элементов, кроме тех, которые находятся у нас перед глазами в царстве действительности, и поэтому все свои понятия он может облекать в созерцания. Я имею здесь в виду миф о переселении душ. Он учит, что все страдания, которые мы причиняем в жизни другим существам, неминуемо будут искуплены в последующей жизни на этом же свете такими же точно страданиями; и это идет так далеко, что кто убивает хотя бы животное, тот когда-нибудь в бесконечности времен родится таким же самым животным и испытает ту же смерть. Он учит, что злая жизнь влечет за собой будущую жизнь на этом свете в страждущих и презренных существах, что мы возродимся тогда в низших кастах, либо в виде женщины или животного, либо в виде парии или чандала, прокаженного, крокодила и т. д. Все муки, какими грозит этот миф, он подтверждает наглядными примерами из действительного мира, показывает страждущие существа, которые даже не знают, чем они заслужили свое страдание, и другого ада ему не нужно создавать. Зато как награду он сулит возрождение в лучших, благороднейших формах — в лице брахмана, мудреца, святого. Высшая награда составит удел самых благородных деяний и полного отречения, она выпадет и на долю женщины, в семи жизнях подряд добровольно умиравшей на костре супруга, и на долю человека, чистые уста которого никогда не изрекли ни единого слова лжи. Эту высшую награду миф в состоянии выразить на языке нашего мира только отрицательно, посредством обетования, столь часто повторяющегося: ты уже больше не возродишься, non adsumes iterum existentiam apparentem*, или, как говорят буддисты, не признающие ни Вед, ни каст52: «Ты обретешь нирвану, т. е. состояние, в котором нет четырех вещей: рождения, старости, болезни и смерти».
Никогда не было и не будет другого мифа, который теснее сливался бы с философской истиной, доступной немногим, чем это древнее учение благороднейшего и старейшего народа; и как ни выродился теперь этот народ во многих отношениях, все же оно царит еще у него в качестве всеобщего народного верования и оказывает могучее влияние на жизнь — ныне так же, как и четыре тысячи лет назад. Вот почему эту non plus ultra** мифического изображения изумленно приняли еще Пифагор и Платон, заимствовали его из Индии или Египта53, чтили его, пользовались им и — кто знает, насколько? — сами верили в него. Мы же посылаем теперь к брахманам английских clergymen*** и ткачей-гернгутеров54, чтобы из сострадания научить их уму-разуму и объяснить им, что они созданы из ничего55 и должны этому благодарно радоваться. Но с нами случается то же, что со стреляющим в скалу. В Индии наши религии никогда не найдут себе почвы: древняя мудрость человечества
304
не будет вытеснена событиями в Галилее. Напротив, индийская мудрость устремляется обратно в Европу и совершит коренной переворот в нашем знании и мышлении.
§ 64
Но от нашего не мифологического, а философского описания вечного правосудия перейдем теперь к родственному ему размышлению об этическом смысле поведения и о совести, представляющей собой просто чувство, познающее этот смысл. Но сперва я хочу обратить здесь внимание еще на две особенности человеческой природы, которые могут способствовать уяснению того, до какой степени всякий сознает — по крайней мере, в виде смутного чувства — сущность этого вечного правосудия и его основу — единство и тождество воли во всех ее проявлениях.
Совершенно независимо от указанной цели, к которой стремится государство при наказании и которая служит основанием уголовного права, но после совершения злого деяния не только потерпевшему, которого большей частью одушевляет жажда мести[229], но и совсем беспристрастному зрителю доставляет удовлетворение тот факт, что лицо, причинившее другому страдание, само испытывает ту же меру страдания.
Мне кажется, что здесь сказывается не что иное, как именно сознание вечного правосудия, тотчас же, однако, искажаемое непросветленным умом, ибо, погруженный в principium individuationis, он совершает амфиболию понятий56 и от явления требует того, что свойственно только вещи в себе: он не видит, насколько оскорбитель и оскорбленный сами в себе суть одно и то же существо, не узнающее себя в своем собственном проявлении, несущее как муку, так и вину; он не видит этого и требует, чтобы тот же самый индивид, который совершил вину, потерпел и муку. Поэтому большинство людей и потребует, чтобы человек, который обладает высокой степенью злобы (какую, однако, можно было бы найти у многих, но только не в таком сочетании свойств, как у него) и который значительно превосходит остальных необыкновенной силой духа и вследствие этого приносит несказанные страдания миллионам других, например в качестве всемирного завоевателя, — большинство людей, говорю я, потребует, чтобы подобный человек когда-нибудь и где-нибудь искупил все эти страдания такой же мерой собственного горя; ибо они не понимают, что мучитель и мученики суть в себе одно и что та воля, благодаря которой существуют и живут мученики, есть та же самая воля, которая проявляется и в мучителе, именно в нем достигая самого явственного обнаружения своей сущности, и которая одинаково страдает как в угнетенных, так и в угнетателе, — в последнем даже больше в той мере, в какой его сознание яснее и глубже, а воля сильнее. А то, что более глубокое, освобожденное от principii individuationis познание, из которого проистекают всякая добродетель и благородство, не питает помыслов, требующих возмездия, это показывает уже христианская этика, которая решительно запрещает всякое воздаяние злом за зло и отводит царство вечного правосудия
305
в область вещи в себе, отличную от мира явленна («Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь». Рим. 12:19[230]).
Есть в человеческой природе гораздо более поразительная, но зато и более редкая черта: она характеризует собой стремление перенести вечное правосудие в область опыта, т. е. индивидуации, и в то же время указывает на предчувствие того, что, как я выразился выше, воля к жизни разыгрывает свою великую трагедию и комедию за собственный счет и что одна и та же воля живет во всех явлениях; эта черта состоит в следующем. Мы видим иногда, как великая несправедливость, которую испытал человек лично или даже пережил в качестве свидетеля, столь глубоко возмущает его, что он сознательно отдает свою жизнь на верную гибель, для того чтобы отомстить виновнику этой неправды. Мы видим, например, что он в течение целого ряда лет разыскивает какого-нибудь могущественного тирана, наконец, убивает его и сам умирает на эшафоте, предвидя его заранее и часто даже не пытаясь избегнуть его, потому что жизнь сохраняла для него ценность лишь как средство мести. Такие случаи особенно часто встречаются у испанцев*. Если вникнуть в дух этой жажды возмездия, то она оказывается очень непохожей на обычную месть, которая зрелищем причиненного страдания облегчает то, что уже пришлось претерпеть; здесь же мы видим, что целью может быть названа не столько месть, сколько кара, потому что в намерение входит здесь воздействие на будущее силой примера, и притом здесь отсутствует какой-либо своекорыстный расчет как для отомщающего индивида (ибо он при этом погибает), так и для общества, обеспечивающего свою безопасность законами: эта кара налагается отдельным лицом, а не государством, и не во имя какого-нибудь закона, напротив, она всегда поражает такое деяние, которое государство не хотело или не могло покарать или наказания которого оно не одобряет. Мне кажется, что негодование, увлекающее подобного человека далеко за пределы всякого себялюбия, вытекает из глубочайшего сознания того, что он сам представляет всю ту волю к жизни, которая проявляется во всех существах, во все времена и которой поэтому принадлежит и не может быть безразлично как отдаленное будущее, так и настоящее; утверждая эту волю, он требует, однако, чтобы зрелище, представляющее ее сущность, никогда больше не являло такой чудовищной несправедливости, и он хочет примером неотвратимой мести (ибо страх смерти не удерживает мстителя) устрашить всякого будущего злодея. Воля к жизни, продолжая утверждать себя, уже не связана здесь с отдельным явлением, с индивидом, а охватывает идею человека и стремится сохранить ее проявление чистым от чудовищной и возмутительной несправедливости. Это — редкая, знаменательная и возвышенная черта; в силу ее отдельная личность приносит себя в жертву, желая стать десницей вечного правосудия, подлинной сущности которого она еще не понимает.
306
§ 65
Все предшествующее рассмотрение человеческого поведения проложило нам дорогу к последнему выводу и весьма облегчило нам задачу — уяснить то этическое значение поведения, которое мы, вполне понимая друг друга, характеризуем в жизни словами доброе и злое, уяснить это значение в абстрактной и философской форме и показать его как звено нашей главной мысли.
Но сначала я восстановлю подлинный смысл понятий доброго и злого, которые философскими писателями наших дней странным образом рассматриваются как понятия простые и, следовательно, недоступные анализу; я сделаю это для того, чтобы разрушить смутную иллюзию, будто они содержат больше, чем это есть на деле, и уже сами по себе означают все, что здесь требуется. Я могу сделать это потому, что я сам так же мало расположен прикрываться в этике словом добро, как раньше не прикрывался словами красота и истина, которым в наши дни приписывают особое δεμνοτης* и которые поэтому нередко призываются на выручку; нет, я не буду строить торжественной физиономии, которая заставляла бы других верить, будто, произнося эти три существительные, я делаю нечто серьезное, а не обозначаю только три очень широкие и абстрактные, следовательно, не очень содержательные понятия, имеющие весьма различное происхождение и смысл. В самом деле, кому из познакомившихся с современными сочинениями не опротивели в конце концов эти три слова, хотя первоначально они и указывали на такие прекрасные вещи? Ведь тысячу раз приходится наблюдать, как всякий, совершенно не способный к мышлению, думает. Что ему сто́ит только во весь голос и с физиономией вдохновенного барана произнести эти три слова, чтобы изречь великую мудрость!
Объяснение понятия истинного дано уже в трактате о законе основания, гл. 5, § 29 и сп. Содержание понятия прекрасного впервые получило подлинное объяснение во всей нашей третьей книге. Установим же теперь действительное значение понятия доброго, или хорошего57, что может быть сделано очень просто. По существу своему это понятие относительно и означает соответствие известного объекта какому-нибудь определенному стремлению воли. Таким образом, все то, что нравится воле в каком-либо из ее проявлений, что удовлетворяет ее цели, все это, как бы различно оно ни было в других отношениях, мыслится в понятии хорошего. Оттого мы и говорим: хорошая еда, хорошие дороги, хорошая погода, хорошее оружие, хорошее предзнаменование и т. д., словом, мы называем хорошим все, что именно таково, как мы его желаем; поэтому для одного может быть хорошо то, что для другого будет полной противоположностью. Понятие хорошего распадается на два вида: непосредственное удовлетворение воли в настоящем и опосредствованное удовлетворение, направленное в будущее, т. е. приятное и полезное.
Противоположное понятие, пока речь идет о непознающих существах, выражается словом дурное, реже и в более абстрактном смысле употребляется слово зло; оно, таким образом, означает все то, что не удовлетворяет известному стремлению воли. Как и все другие существа,
307
которые могут иметь отношение к воле, так и людей, содействующих известным, определенным желаниям, относящимся к ним благосклонно и дружественно, назвали хорошими, — в том же смысле и всегда с тем же элементом относительности, что и, например, в выражении: «Он ко мне хорошо относится, а к тебе — нет». Те же, кто в силу своего характера вообще не препятствовал стремлениям чужой воли как таковым, а скорее способствовал им, кто постоянно был услужлив, благожелателен, дружелюбен, благотворителен, те за такое отношение их поведения к воле других вообще были названы добрыми людьми. Противоположное понятие для познающих существ (животных и людей) выражают по-немецки (а в течение примерно ста лет и по-французски) другим словом, чем для существ бессознательных, а именно не словом schlecht (mauvais), a böse (mechant), между тем как почти во всех других языках этого различия не существует, и χαχος, malus, cattivo, bad говорят как о людях, так и о неодушевленных вещах, противостоящих целям определенной индивидуальной воли. Таким образом, всецело исходя из пассивной стороны хорошего, человеческая мысль только позднее могла перейти к активной его стороне и исследовать поведение человека, названного добрым, по отношению уже не к другим людям, а к нему самому; при этом она в особенности задалась целью объяснить, во-первых, то чисто объективное уважение, которое такое поведение вызывает в других; во-вторых, то своеобразное довольство собою, которое оно несомненно вызывает в самом деятеле, ибо он покупает его даже ценою жертв другого рода; и наконец, в-третьих, то внутреннее страдание, которое сопровождает злые помыслы, какую бы внешнюю выгоду ни приносили они тому, кто их питал. Отсюда и произошли этические системы, как философские, так и опирающиеся на вероучения. И те и другие всегда стараются как-нибудь соединить блаженство с добродетелью: первые отождествляют для этого, посредством закона противоречия или же закона основания, блаженство с добродетелью либо выводят его как ее следствие — и то и другое всегда софистически; последние утверждают существование других миров, кроме того, который известен возможному опыту*. Напротив, с нашей точки
308
зрения, внутренняя сущность добродетели окажется стремлением в направлении, совершенно противоположном блаженству, т. е. счастью и жизни.
Согласно сказанному, добро по своему понятию является των πρὸῶς τί, т. е. всякое добро по своему существу относительно, ибо существо его состоит только в его отношении к желающей воле. Поэтому абсолютное добро есть противоречие; высшее благо, summum bonum, означает то же самое, т. е. означает, собственно, конечное удовлетворение воли, после которого уже не появится новое желание — последний мотив, достижение которого удовлетворит волю навеки. Наши размышления в этой четвертой книге показали, что подобное и помыслить нельзя. Воля так же не может после какого-нибудь удовлетворения перестать постоянно желать вновь, как время не может кончиться или начаться: длительного, полностью и навсегда удовлетворяющего ее осуществления для нее не бывает. Она похожа на бочку Данаид: нет для нее высшего блага, нет абсолютного добра, а всегда есть только временное благо. Если же нам все-таки хочется отвести почетное место, как заслуженному воину, старому выражению, с которым по привычке мы не желаем совсем расстаться, то можно, выражаясь фигурально и образно, назвать абсолютным благом, summum bonum58, полное самоустранение и отрицание воли, истинное безволие, которое только и утоляет порывы желания и укрощает их навеки, которое только и сообщает вечное удовлетворение и освобождает от мира; о нем мы скоро будем говорить в самом конце наших размышлений. Только его можно рассматривать как единственное радикальное средство от болезни, по отношению к которой все другие блага — только паллиативы, только успокоительные. В этом смысле греческое τέλος*, как и finis bonorum**, подходят даже еще лучше. Вот что я считал нужным сказать о словах доброе и злое, а теперь перейдем к делу.
Если человек по всякому поводу, когда ему не мешает
какая-нибудь внешняя сила, склонен
совершать несправедливость, то мы называем его злым. Согласно нашему объяснению несправедливости, это значит, что такой человек не только утверждает волю к
жизни, как она проявляется в его
теле, но и заходит в этом утверждении так далеко, что отрицает волю, проявляющуюся в других индивидах;
это сказывается в том, что он требует
их сил на служение своей воле и старается подавить их бытие, если они препятствуют ее устремлениям.
Конечным источником этого служит
высокая степень эгоизма, сущность которого объяснена выше. Здесь можно сразу заметить две вещи: во-первых,
то, что в подобном человеке
проявляется необычайно сильная, выходящая далеко за пределы утверждения его собственного тела воля к
жизни; и, во-вторых, то, что
его познание, всецело отдавшееся закону основания и охваченное principio individuationis, твердо
сохраняет обусловленное этим принципом различие
между его собственной личностью и всеми другими, поэтому он и ищет только собственного благополучия, совершенно равнодушный ко благу всех других, которые
совершенно чужды для него
309
и отделены от его собственного существа глубокой пропастью; он видит в них только бесплотные тени, лишенные всякой реальности. И эти два свойства являются основными элементами злого характера.
Такая острота желания уже непосредственно и сама по себе служит постоянным источником страдания, во-первых, потому, что всякое желание как таковое вытекает из нужды, т. е. страдания (оттого, как мы припоминаем из третьей книги, то безмолвие всякого желания, которое мгновенно наступает, как только мы в качестве чистого безвольного субъекта познания (коррелата идеи) отдаемся эстетическому созерцанию, уже является главным элементом наслаждения прекрасным); во-вторых, потому, что в силу каузальной связи вещей большая часть желаний непременно остается неисполненной и воля гораздо чаще находит себе препятствие, чем удовлетворение, — следовательно, и по этой причине острое и частое желание всегда влечет за собою острое и частое страдание. Ведь всякое страдание есть не что иное, как неудовлетворенное и пресеченное желание, и даже боль, которую испытывает тело от увечья и разрушения, возможна как таковая лишь оттого, что тело — это сама воля, ставшая объектом.
Острое и частое страдание неотделимо от острого и частого желания, оттого уже само выражение лица очень злых людей носит отпечаток внутреннего страдания; даже и достигнув всякого внешнего счастья, они все-таки имеют несчастный вид, если только не охвачены мимолетным ликованием или не притворяются. Из этой непосредственно присущей им внутренней муки проистекает в конце концов даже не просто эгоистическая, а бескорыстная радость от чужого горя, которая и есть настоящая злоба, доходящая до жестокости. Для последней чужое страдание уже не средство для достижения целей собственной воли, а самоцель. Более точное объяснение этого феномена состоит в следующем. Так как человек — явление воли, озаренное ясным познанием, то действительное и ощущаемое удовлетворение своей воли он всегда соизмеряет просто с возможным, на которое указывает ему познание.
Отсюда проистекает зависть: каждое лишение бесконечно возрастает от чужого наслаждения и, наоборот, ослабляется сознанием, что и другие переносят то же самое. Невзгоды, общие всем и неотделимые от человеческой жизни, мало печалят нас, как не печалит то другое, что присуще климату, всей стране. Мысль о страданиях, которые сильнее наших, успокаивает боль; зрелище чужих страданий смягчает собственные. Когда человек охвачен необыкновенно сильным порывом воли и в жгучем вожделении хотел бы овладеть всем, чтобы утолить жажду своего эгоизма, и когда он неизбежно должен убедиться, что всякое удовлетворение только призрачно и достигнутое никогда не дает того, что сулило вожделенное, не дает окончательного успокоения неукротимой воли; когда он сознает, что от удовлетворения меняется только форма желания, а само оно продолжает терзать в другом виде, и после того как все эти формы исчерпаны, остается самый порыв воли без сознательного мотива, сказывающийся с ужасающей мукой в чувстве страшного одиночества и пустоты; все это при обычной силе желания ощущается слабо и вызывает лишь обычную грусть, но у того, кто являет собой волю, достигнувшую необычайной злобы, это неизбежно возрастает до бес-
310
предельной внутренней пытки, вечной тревоги, неисцелимого мучения, и тогда он окольным путем ищет такого облегчения, на которое неспособен прямо: собственное страдание он стремится облегчить зрелищем чужого, в котором он вместе с тем видит проявление своей власти. Чужое страдание делается для него теперь самоцелью, доставляет ему упоительное зрелище: так возникает то явление настоящей жестокости, кровожадности, которое столь часто показывает нам история в неронах и домицианах, в африканских деях[231], в Робеспьере и т. д.
Злобе родственна уже и мстительность, которая воздает злом за зло не из соображений о будущем (в чем — характерный признак наказания), а только ради совершившегося, прошлого как такового, т. е. воздает бескорыстно, видя в этом не средство, а цель и желая насладиться мучениями обидчика, причиняемыми самим мстителем[232]. То, что отличает месть от простой злобы и несколько извиняет ее, это — видимость права, поскольку тот же самый акт, который теперь является местью, был бы наказанием, т. е. правом, если бы он совершился законно, по заранее определенному и известному уставу и в санкционировавшем его обществе.
Описанное страдание неотделимо от злобы, ибо имеет с ней общий корень — очень сильную волю, но помимо этого со злобой связано еще и совсем другое, особое мучение, которое чувствуется при всяком злом поступке (будет ли это просто эгоистическая неправота или чистая злоба) и, в зависимости от своей продолжительности, называется укором или угрызениями совести. Кто хорошо помнит предыдущее содержание этой четвертой книги, в особенности же установленную в начале ее истину, что воле к жизни всегда обеспечена сама жизнь как простое ее отображение или зеркало, кто помнит, далее, нашу характеристику вечного правосудия, тот поймет, что, согласно приведенным выше соображениям, укоры совести могут иметь только нижеследующий смысл, т. е. их содержание, выраженное абстрактно, состоит в нижеследующем, распадаясь при этом на две части, которые, однако, вновь сливаются между собою и должны мыслиться как нечто совершенно единое.
Как бы плотно ни облекала пелена Майи сознание злого, т. е. как бы ни был он объят principio individuationis, считая свою личность абсолютно отличной и отделенной глубокой пропастью от всякой другой и всеми силами поддерживая в себе это убеждение, потому что только оно соответствует его эгоизму и служит его опорой (ведь познание почти всегда подкуплено волей), тем не менее в сокровенной глубине его духа таится предчувствие того, что такой порядок вещей — только явление, а сущность совсем иная; что как ни отделяют его время и пространство от других индивидов и их бесчисленных мук, которые они терпят, и терпят даже от него, как ни представляют их время и пространство совершенно чуждыми для него, все же во всех них проявляется единая воля к жизни, сама по себе и независимо от представления и его форм; не узнавая себя, она обращает здесь свое оружие против самой себя и домогаясь в одном из своих проявлений усиленного благополучия, тем самым обрекает другое на величайшее страдание. В злом, говорю я, таится предчувствие того, что он есть вся эта воля, что он, следовательно, не только мучитель, но также и мученик, от чьих страданий его
311
отделяет и освобождает только обманчивый призрак, формой которого служат пространство и время, но который рассеивается, и он, злой, по справедливости должен платить эа наслаждение мучениями, и всякое страдание, которое представляется ему только возможным, постигает его действительно как волю к жизни, ибо только для индивидуального познания, только посредством principii individuationis различаются между собой возможность и действительность, временная и пространственная близость и отдаленность, но не сами по себе. Именно эту истину выражает переселение душ мифически, т. е. приспосабливая ее к закону основания и переводя тем в форму явления, но самое чистое выражение, без всякой примеси, она находит именно в той смутно ощущаемой, но безутешной муке, которую называют угрызениями совести. Но они вытекают, кроме того, и из другого непосредственного сознания, тесно связанного с упомянутым первым, а именно из сознания силы, с которой в злом индивиде утверждает себя воля к жизни, силы, которая выходит далеко за пределы его индивидуального явления вплоть до совершенного отрицания той же самой воли, являющейся в чужих индивидах. Таким образом, тот внутренний ужас злодея от содеянного им, который он старается скрыть от самого себя, содержит в себе наряду с предчувствием ничтожества и призрачности principii individuationis и обусловленного различия между ним, злодеем, и другими, — содержит в себе и сознание напряженности собственной воли, силы, с какой он ухватился за жизнь, впился в нее, в ту самую жизнь, ужасную сторону которой он видит пред собою в страдании угнетенных им людей, и тем не менее он так тесно сросся с этой жизнью, что именно в силу этого самое ужасное исходит от него самого как средство для более полного утверждения его собственной воли. Он сознает себя сосредоточенным проявлением воли к жизни, чувствует, до какой степени он во власти жизни, а вместе с ней и бесчисленных страданий, ей присущих, ибо она имеет бесконечное время и бесконечное пространство, чтобы уничтожить различие между возможностью и действительностью и превратить все только познаваемые им теперь муки в муки ощущаемые. Правда, миллионы лет постоянного возрождения существуют при этом только в понятии, как и все прошедшее и будущее находятся только в понятии: наполненное время, форма явления воли — это только настоящее, и для индивида время всегда ново, он постоянно чувствует себя вновь родившимся. Ибо жизнь неотделима от воли к жизни, а форма жизни — исключительно теперь. Смерть (да извинят мне повторение образа) подобна закату солнца, которое только кажется поглощаемым ночью, в действительности же, будучи источником всякого света, горит непрерывно, приносит новым мирам новые дни в своем вечном восходе и вечном закате. Начало и конец затрагивает только индивида, через посредство времени — формы этого явления для представления. Вне времени находится только воля, кантовская вещь в себе, и ее адекватная объектность — платоновская идея. Вот почему самоубийство не приносит спасения: каждый должен быть тем, чего он хочет в глубине души, и каждый есть то, чего он именно хочет.
Таким образом, наряду с постигаемой чувством иллюзорностью и ничтожностью форм представления, разобщающих индивиды между собою, самопознание собственной воли и степени ее напряжения — вот
312
что не дает совести покоя. Жизнь воспроизводит образ эмпирического характера, оригиналом которого является характер умопостигаемый, и злодей содрогается от этого образа — все равно, начертан ли он крупными штрихами, так что мир разделяет это содрогание, или же черты его так мелки, что только он и видит его, ибо только его одного он касается непосредственно. Прошлое было бы безразлично как простое явление и не могло бы угнетать совесть, если бы характер не чувствовал себя свободным от всякого времени и не изменяемым им, пока он не отрицает себя самого. Поэтому давно совершенные деяния все еще тяготеют на совести. Молитва: «Не введи меня в искушение» означает: «Не дай мне видеть, кто я».
Сила, с которой злой утверждает жизнь и которая предстает ему в виде им же вызванного страдания других, служит мерилом того, как далеко от него прекращение и отрицание все той же воли — это единственно возможное спасение от мира и его мучений. Он видит, насколько он принадлежит миру и как тесно привязан к нему: познанное страдание других не могло его тронуть, но он попадает во власть жизни и ощущаемого страдания. Еще неизвестно, сломит ли когда-нибудь это страдание и одолеет ли силу его воли.
Это раскрытие смысла и внутренней сущности зла, составляющее в качестве простого чувства (т. е. не как отчетливое, абстрактное познание) содержание угрызений совести, получит еще большую ясность и законченность, если мы таким же образом рассмотрим и добро как свойство человеческой воли и, наконец, полное отречение и святость, вытекающую из отречения, когда оно достигает высшей степени. Ибо противоположности всегда взаимно проясняют друг друга, и день одновременно открывает и себя самого, и ночь, как это прекрасно сказал Спиноза.
§ 66
Мораль без обоснования, т. е. простое морализование, не может иметь силы, так как она не мотивирует. Но мораль мотивирующая достигает силы, только воздействуя на себялюбие. Между тем то, что вытекает из себялюбия, лишено моральной ценности. Отсюда следует, что мораль и абстрактное познание вообще не в силах создать истинной добродетели: она должна вытекать из интуитивного познания, видящего в чужом индивиде то же существо, что и в собственном.
Ибо добродетель хотя и вытекает из познания, но не из абстрактного, выражаемого словами. Если бы она проистекала из абстрактного познания, то ей можно было бы научить, и мы, излагая здесь абстрактно ее сущность и лежащее в ее основе познание, вместе с тем морально улучшали бы каждого, понимающего нас. Но это совсем не так. Напротив, лекциями по этике или моральными проповедями так же нельзя создать добродетельного человека, как все эстетики, начиная с аристотелевской, никогда не могли породить поэта. Ибо для подлинной внутренней сущности добродетели понятие бесплодно, как оно бесплодно и для искусства, и оно может быть полезно только в совершенно подчиненной роли, в качестве орудия для осуществления и сохранения того, что
313
познано и решено другим путем. Velle non disdtur*. На самом деле абстрактные догматы не имеют влияния на добродетель, т. е. на благие намерения: ложные догматы ей не мешают, а истинные едва ли помогают. И поистине было бы очень плохо, если бы главное в человеческой жизни — ее этическая, вечная ценность — зависело от чего-нибудь такого, что сильно подвержено случайности, каковы догматы, вероучения, философемы.
Догматы имеют для нравственности только то значение, что человек, уже добродетельный благодаря познанию иного рода (мы вскоре его выясним), получает в них схему, формуляр, согласно которому он дает своему разуму большей частью только фиктивный отчет о своих неэгоистических поступках, но сущности их этот разум, т. е. он сам, не понимает: он приучил свой разум удовлетворяться эти отчетом.
Правда, догматы могут иметь сильное влияние на поведение, на внешнюю деятельность так же, как и привычка и пример (последний — оттого, что обыкновенный человек не доверяет своему суждению, слабость которого он сознает, а следует только собственному или чужому опыту); но самые помыслы от этого не меняются**. Всякое абстрактное знание дает только мотивы, а мотивы, как показано выше, могут изменять только направление воли, а не ее самое. Всякое же сообщаемое знание может действовать на волю только в качестве мотива, и как бы ни склоняли догматы волю, все-таки то, чего человек хочет истинно и вообще, всегда остается тем же самым, новые мысли появляются у него лишь о путях, как этого достигнуть, и воображаемые мотивы руководят им наравне с действительными. Поэтому, например, по отношению к этическому достоинству человека безразлично, делает ли он богатые дары неимущим в твердом убеждении, что будущая жизнь воздаст ему за это десятерицей, или употребляет ту же сумму на улучшение своего поместья, которое будет приносить ему хотя и поздний, но тем вернейший и выгоднейший доход; и убийцей, наравне с бандитом, убивающим за плату, является и тот, кто благочестиво возводит на костер еретика, и, в зависимости от внутренних побуждений, даже и тот, кто в Святой Земле умерщвляет турок, если он поступает так, собственно, потому, что надеется приобрести себе этим место в раю. Ибо эти люди заботятся только о себе, о своем эгоизме, так же как и бандит, от которого они отличаются только абсурдностью средств[233]. Как уже сказано, извне можно подойти к воле только с помощью мотивов, а они меняют лишь способ проявления воли, но никогда ее самое. Velle non disdtur[234].
В добрых делах, свершитель которых ссылается на догматы, надо всегда различать, действительно ли они служат здесь мотивом, или же, как я сказал выше, они представляют собой лишь фиктивный отчет, каким этот человек хочет удовлетворить свой собственный разум, — отчет о добром деле, которое проистекает совсем из другого источника, которое он совершает потому, что он добр, но не может объяснить его надлежащим образом, не будучи философом, и все-таки хотел бы как-то осмыслить его. Однако найти это различие очень трудно, потому что
314
оно сокрыто в глубине души. Поэтому мы почти никогда не можем сделать правильной моральной оценки поведения других и очень редко можем оценить свое собственное[235].
Поступки и нравы отдельной личности и народа могут весьма модифицироваться догматами, примером и привычками. Но сами по себе все поступки (opera operata[236]) — это лишь пустые образы, и только помыслы, ведущие к ним, сообщают им моральное значение. Последнее же может быть совершенно тождественным при весьма различных внешних проявлениях. При одинаковой степени злобы один может умереть на плахе, Другой — спокойно в лоне своей семьи. Одна и та же степень злобы может выражаться у одного народа в грубых чертах, в убийстве и каннибализме; у другого же, напротив, она сказывается en miniature, тонко и скрыто[237], — в придворных интригах, притеснениях и всякого рода коварствах: сущность остается та же. Представим себе, что совершенное государство или даже безусловно и твердо исповедуемый догмат о наградах и наказаниях в загробной жизни предотвратит любое преступление: в политическом отношении это дало бы много, в моральном — совершенно ничего; и только был бы задержан процесс, каким воля отображается в жизни.
Таким образом, подлинно благие помыслы, бескорыстная добродетель и чистое благородство проистекают не из абстрактного познания, но все-таки из познания — непосредственного и интуитивного, которого[238] нельзя ни приобрести, ни избыть никаким размышлением, которое именно потому, что оно не абстрактно, не может быть передано другим людям, но для каждого должно возникать самостоятельно, и поэтому оно находит свое подлинно адекватное выражение не в словах, а исключительно в делах, поступках, жизненном пути человека. Мы, ищущие здесь теорию для добродетели, должны поэтому абстрактно выразить сущность лежащего в ее основе познания, однако в таком выражении мы сможем представить не самое это познание, а лишь понятие его, причем мы всегда будем исходить из поступков, в которых это познание только и проявляется, и ссылаться на них как на единственно адекватное его выражение, каковое мы только уясняем и толкуем, т. е. мы выражаем в абстрактной форме, что собственно при этом происходит.
Но прежде чем, в противоположность описанной злобе, говорить об истинной доброте, нам необходимо в качестве промежуточной ступени коснуться простого отрицания злобы, т. е. справедливости[239]. Что такое право и неправое, об этом достаточно сказано выше, и потому мы можем ограничиться здесь немногими словами. Кто добровольно признает и соблюдает чисто моральную границу между неправдой и правом даже там, где ее не охраняет государство или какая-нибудь другая власть, следовательно, кто, согласно нашему объяснению, никогда не доходит в утверждении собственной воли до отрицания воли, являющейся в другом индивиде, тот справедлив. Он не будет, следовательно, ради умножения собственного благополучия причинять страдания другим, иначе говоря, не станет совершать преступлений, будет уважать чужие права, чужую собственность. Мы видим, таким образом, что для справедливого человека, в противоположность злому, principium individuationis уже не является абсолютной преградой, что он не утверждает, как злой, только свое собственное проявление воли[240], отрицая все
315
остальное, что другие не служат для него пустыми призраками, сущность которых совершенно отличалась бы от его собственной: нет, своим поведением он свидетельствует, что свою сущность, т. е. волю к жизни как вещь в себе, он узнает и в чужом проявлении, данном ему лишь в качестве представления, т. е. узнает в нем самого себя, по крайней мере до известной степени достаточной, чтобы не совершать неправды, т. е. не нарушать чужих прав. Именно в этой степени он прозревает principium individuationis, пелену Майи[241], и постольку он считает существа вне себя равными своему собственному и не обижает их[242].
В такой справедливости, если доходить до ее сути, уже содержится намерение не идти в утверждении собственной воли так далеко, чтобы отрицать чужие проявления воли, принуждая их служить себе. Отсюда возникает желание давать другому столько, сколько получаешь от него. Эта справедливость помыслов всегда соединяется с истинной добротой, имеющей уже не просто отрицательный характер, и высшая степень этой справедливости доходит до того, что человек отрицает свои права на унаследованное имущество, хочет поддерживать свое тело только собственными силами, духовными или физическими, испытывает укоры совести от всякой чужой услуги, от всякой роскоши и, наконец, добровольно обрекает себя на бедность. Так, мы видим, что Паскаль, встав на путь аскетизма, не захотел больше пользоваться ничьими услугами, хотя прислуги у него было достаточно: несмотря на свою постоянную болезненность, он сам готовил себе постель, сам приносил себе пищу из кухни и т. д. («Vie de Pascal par sa soeur», p. 19*). Этому вполне соответствует то, что, как рассказывают, некоторые индийцы, даже раджи, несмотря на крупное богатство, тратят его только на содержание своей семьи, своего дома и домочадцев и со строгой скрупулезностью соблюдают правило — есть только то, что собственноручно посеяно и сжато. Конечно, в основе этого лежит некоторое недоразумение: отдельная личность, именно в силу своего богатства и власти, в состоянии оказывать всему человеческому обществу такие значительные услуги, что они уравновешиваются унаследованным богатством, сохранением которого она[243] обязана обществу. Собственно говоря, эта чрезмерная справедливость индийцев представляет собой уже нечто большее, чем справедливость: это — истинное отречение, отрицание воли к жизни, аскеза — о ней мы скажем в конце книги. Напротив, полная праздность и жизнь за счет сил других при унаследованном имуществе, без какой-либо производительности, могут считаться уже моральной несправедливостью, хотя бы положительные законы и разрешали ее[244].
Мы видели, что добровольная справедливость имеет свой сокровенный источник в известной степени прозрения в principium individuationis, тогда как несправедливый всецело остается в его власти. Это прозрение может не ограничиваться одной только требуемой здесь мерой, а становиться глубже, и тогда оно ведет к положительному благоволению и благодеянию, к человеколюбию; и это возможно, как бы сильна и энергична ни была сама по себе воля, являющаяся в таком индивиде. Познание всегда может находиться в равновесии с нею, может учиться
316
противостоять искушению несправедливости и может осуществлять любую степень доброты и даже отречения. Таким образом, вовсе не следует думать, будто добрый человек изначально представляет собой более слабое проявление воли, чем злой: нет, только в добром познание обуздывает слепой порыв воли. Правда, есть индивиды, которые только кажутся добрыми благодаря слабости являющейся в них воли; но каковы они на самом деле, это видно из того, что они неспособны ни на какое серьезное самоограничение, чтобы совершить справедливое или доброе дело.
Если же, в виде редкого исключения, нам встречается человек, который обладает, например, значительным состоянием, но тратит на себя лишь малую долю его, а все остальное раздает неимущим, отказываясь от многих наслаждений и удобств, и если мы желаем уяснить себе поведение этого человека, то совершенно независимо от тех догматов, какими он сам старается объяснить своему разуму свои поступки, мы находим, что самое простое и общее выражение и самая характерная черта его поведения таковы: он меньше, чем это обыкновенно бывает, делает различие между собою и другими. Если это различие, в глазах многих других, так велико, что чужое страдание является для злого непосредственной радостью, а для несправедливого — желанным средством к собственному благополучию; если просто справедливый человек ограничивается тем, что не причиняет страдания; если вообще большинство людей знают и видят возле себя бесчисленные страдания других, но не решаются их облегчить, так как им самим пришлось бы потерпеть при этом некоторые лишения; если, таким образом, любому из подобных людей кажется огромным различие между собственным Я и Я чужим, то, наоборот, для благородного человека, которого мы себе представляем, это различие не так важно: principium individuationis, форма явления, уже не так сильно владеет им, а чужое страдание он принимает почти так же близко к сердцу, как и собственное, стараясь поэтому восстановить равновесие между ними, отказываясь от наслаждений, подвергаясь лишениям, чтобы облегчить чужие страдания. Он постигает, что различие между ним и другими, которое для злого представляется огромной бездной, существует только в преходящем и призрачном явлении; он познает непосредственно и без силлогизмов, что в себе его собственного явления есть в себе и чужого, а именно — та воля к жизни, которая составляет сущность каждой вещи и живет во всем; он познает, что это распространяется даже на животных и на всю природу, и поэтому он не станет мучить ни одного животного*.
317
Он не может безучастно видеть лишения других, в то время как его самого окружают избыток и излишества, подобно тому как никто не станет терпеть в течение целого дня голод, чтобы завтра иметь больше, чем нужно. Ибо для того, кто совершает подвиги любви, пелена Майи стала прозрачной, и мираж principii individuationis рассеялся перед ним. В каждом существе, а следовательно, и в страждущем он узнает себя, свою личность, свою волю. Для него исчезло то заблуждение, в силу которого воля к жизни, не узнавая сама себя, здесь, в одном индивиде, вкушает мимолетные и призрачные наслаждения, а зато там, в другом индивиде, терпит страдания и нужду и таким образом причиняет муки и претерпевает муки, не сознавая, что она, подобно Фиесту, жадно пожирает собственную плоть62, а затем здесь ропщет на незаслуженное страдание, а там бесчинствует, не боясь Немезиды; и все это лишь потому, что она не узнает себя в чужом явлении и не видит вечного правосудия, одержимая principio individuationis, т. е. тем способом познания, где царит закон основания. Исцелиться от этого призрака и ослепления Майи и творить дела любви — это одно и то же. Но последнее есть неизбежный симптом истинного познания.
Противоположностью угрызениям совести, источник и смысл которых я разъяснил выше, является чистая совесть, удовлетворение, испытываемое нами после каждого бескорыстного поступка. Происхождение ее таково: подобный поступок, вытекая из того, что мы непосредственно открываем наше собственное существо также и в чужом явлении, в свою очередь подтверждает это открытие, т. е. открытие того, что наше истинное Я заключается не просто в нашей собственной личности, этом частном явлении, но и во всем, что живет. Это расширяет сердце, подобно тому как эгоизм суживает его. Ибо в то время как эгоизм сосредоточивает наше участие на отдельном явлении собственного индивида, причем познание не перестает показывать нам неисчислимые беды, непрерывно грозящие этому явлению, отчего страх и забота становятся основным тоном нашего настроения, — сознание, что все живое по своей внутренней сущности есть то же самое, что и наша собственная личность, это сознание распространяет наше участие на все живое: сердце от этого расширяется. Ослабленное таким образом внимание к собственной личности в корне подтачивает и ограничивает тягостную заботу о ней: отсюда та спокойная, уверенная радость, какую дарят нам добрые помыслы и чистая совесть; отсюда более сильное проявление этой радости при каждом добром поступке, ибо он удостоверяет для нас самих источник такого настроения. Эгоист чувствует себя окруженным чуждыми и враждебными явлениями, и все свое упование он возлагает на собственное благополучие. Добрый живет в мире дружественных явлений: благо каждого из них — его собственное. Если поэтому знание человеческого жребия вообще не наполняет радостью его души, то постоянное убеждение, что его собственная сущность находится во всем живом, сообщает ему все-таки известное равновесие и даже светлое настроение. Ибо заботливость, распространенная на бесчисленные явления, не может так удручать, как сосредоточенная на одном явлении. Случайности, которые поражают совокупность индивидов, уравновеши-
318
ваются, тогда как случайности, выпадающие на долю отдельного индивида, приносят счастье или несчастье.
Итак, если другие устанавливали моральные принципы, выдавая их за предписания добродетели и обязательные законы, а я, как уже сказано, не могу этого делать, ибо не в состоянии предписывать вечно свободной воле какой бы то ни было обязанности или закона, то, с другой стороны, в общем строе моего рассуждения некоторым соответствием и аналогией такому замыслу является та чисто теоретическая истина, простым развитием которой можно считать все мое сочинение, — истина, что воля есть в себе каждого явления, но сама она как таковая свободна от форм явления, а потому и от множественности; эту истину по отношению к человеческой деятельности я не умею выразить более достойным образом, чем уже упомянутой формулой Веды: «Tat twam asi!» («Это — ты!») Кто может в ясном сознании и с твердым и глубоким убеждением сказать ее самому себе по поводу каждого существа, с которым он сталкивается, тот этим самым приобщается всякой добродетели и праведности и находится на верном пути к спасению.
Но прежде чем пойти дальше и показать в заключение, как любовь, источником и сущностью которой мы считаем постижение principii individuationis, ведет к освобождению, т. е. к полному отречению от воли к жизни, от всякого желания, и как другой путь, не так легко, но зато чаще приводит человека к тому же самому, — я должен сначала высказать и объяснить одно парадоксальное положение — не потому, что оно — парадокс, а потому, что оно истинно и необходимо для полноты всей моей мысли. Вот оно: «Всякая любовь (ἀγάπη[245], caritas)63 — это сострадание».
§ 67
Мы видели, как из постижения principii individuationis вытекает, в меньшей степени, справедливость, а в более высокой — подлинно благие помыслы, выражающиеся в чистой, бескорыстной любви к другим. Там, где она достигает высшего предела, чужая индивидуальность и ее судьба отождествляются с собственной; далее этого любовь не может идти, ибо нет основания предпочитать чужую индивидуальность собственной. Однако, если благу или жизни большого числа чужих индивидов грозит опасность, это может перевесить заботу о собственном благе отдельного лица. В таком случае человек, отмеченный высшей добротой и благородством, все свое счастье и всю свою жизнь принесет в жертву для блага многих других людей: так умер Кодр, так умерли Леонид, Регул, Деций Мус, Арнольд Винкельрид, так умирают все те, кто добровольно и сознательно идет на верную смерть за своих близких, за свое отечество. На этой же ступени находятся и те, кто добровольно принимает на себя страдания и смерть во имя того, что служит для блага человечества и составляет его право, — во имя всеобщих и важных истин и ради борьбы с великими заблуждениями: так умер Сократ, так умер Джордано Бруно, и немало героев истины нашли себе такую смерть на костре от рук духовенства.
319
По поводу высказанного раньше парадокса я должен напомнить теперь,
что мы признали страдание существенным признаком жизни в целом, неотъемлемым от
нее. Мы видели, как всякое желание вытекает из потребности, нужды, страдания,
мы видели поэтому, что всякое достигнутое удовлетворение — это только
устраненная мука, а не положительное счастье, и хотя радости обманывают
желание, представляя себя положительным благом, но на самом деле их природа
отрицательна и они означают лишь конец страдания. И все, что доброта, любовь и
благородство делают для других, сводится к смягчению их мук, и следовательно,
то, что может побуждать к добрым делам и подвигам любви, — это лишь познание
чужого страдания, непосредственно понятого из собственного страдания и
приравненного к нему. Но из этого видно, что чистая любовь[246]
(ἀγάπη,
caritas) по своей природе является состраданием, — все равно велико или мало то
страдание, которое она облегчает (к нему относится каждое неудовлетворенное
желание). Поэтому в полную противоположность Канту, который все истинно доброе и
всякую добродетель согласен признать таковыми лишь в том случае, если они имеют
своим источником абстрактную рефлексию, т. е. понятие долга и категорического
императива, и для которого чувство сострадания — слабость, а вовсе не добродетель,
— в полную противоположность Канту мы нисколько не поколеблемся сказать: голое понятие
для настоящей добродетели так же бесплодно, как и для настоящего искусства;
всякая истинная и чистая любовь — это сострадание, и всякая любовь, которая не
есть сострадание, — это себялюбие. Себялюбие — это έρως[247],
сострадание — это ἀγάπη[248]. Нередко они
соединяются между собою. Даже в истинной дружбе всегда соединяются себялюбие и
сострадание: первое состоит в наслаждении от присутствия друга, индивидуальность
которого соответствует нашей, и оно почти всегда составляет большую часть;
сострадание же проявляется в искреннем сочувствии радости и горю друга и в
бескорыстных жертвах, которые мы ему приносим. Даже[249]
Спиноза говорит: «Benevolentia nihil aliud est, quam cupiditas ex c
Здесь уместно также рассмотреть одну из поразительнейших особенностей человеческой природы — плач; как и смех, он относится к тем проявлениям, которые отличают человека от животного. Плач вовсе не есть прямое выражение страдания: ведь очень немногие страдания вызывают слезы. По моему мнению, никогда и не плачут непосредственно от ощущаемого страдания: плачут только от его воспроизведения в рефлексии. Даже от ощущаемого нами физического страдания мы переходим просто к представлению о нем, и собственное состояние кажется нам тогда столь жалостным, что если бы страждущим был другой, то мы, по
320
нашему твердому и искреннему убеждению, оказали бы ему помощь, исполненные любви и сострадания. Теперь же мы сами — предмет собственного искреннего сострадания: от души готовые помочь, мы сами и нуждаемся в помощи, чувствуя, что переносим большее страдание, чем могли бы видеть в другом; и это удивительно сложное настроение, где непосредственное чувство страдания лишь двойным окольным путем снова становится объектом восприятия, так что мы представляем его себе в виде чужого страдания, сочувствуем ему, а затем вновь неожиданно воспринимаем его как непосредственно собственное страдание, — это настроение природа облегчает себе странной физической судорогой. Плач, таким образом, это — сострадание к самому себе, или сострадание, возвращенное к своему исходному пункту[250]. Он поэтому обусловлен способностью к любви и состраданию, а также фантазией. Оттого как жестокосердные, так и лишенные воображения люди не очень скоры на плач и в нем обычно видят признак известной доброты характера: он обезоруживает гнев, ибо каждый чувствует, что тот, кто еще может плакать, непременно способен и на любовь, т. е. на сострадание к другим, ибо последнее описанным выше образом входит в настроение, ведущее к плачу.
Предложенному объяснению совершенно соответствует то, как Петрарка, наивно и верно выражая свое чувство, описывает возникновение своих слез:
I’ vo pensando: е nel pensar m’assale
Una pietà si farte di me
stesso,
Che mi conduce spesso,
Ad alto lagrimar, ch’i non soleva*.
Сказанное подтверждается и тем, что дети, испытав какую-нибудь боль, обыкновенно принимаются плакать только тогда, когда их начинают жалеть, и следовательно, они плачут не от боли, а от представления о ней.
Когда не собственное, а чужое страдание вызывает у нас слезы, то это происходит оттого, что мы в своем воображении живо ставим себя на место страждущего или в его судьбе узнаем жребий всего человечества и, следовательно, прежде всего — свой собственный жребий, таким образом, хотя и очень окольным путем, но мы плачем опять-таки над самими собою, испытывая сострадание к самим себе. В этом, по-видимому, заключается главная причина неизбежных, т. е. естественных, слез, вызываемых смертью. Не свою утрату оплакивает скорбящий: таких эгоистических слез он бы постыдился, тогда как иногда он стыдится оттого, что не плачет. Прежде всего он оплакивает, конечно, судьбу почившего, но ведь он плачет и в том случае, когда смерть была для него желанным освобождением от долгих, мучительных и неисцелимых страданий. Следовательно, нас охватывает главным образом жалость к судь-
321
бе всего человечества, обреченного конечности, в силу которой всякая жизнь, столь кипучая и часто столь плодотворная, должна погаснуть и обратиться в ничто: но в этой общей судьбе человечества каждый замечает прежде всего свой собственный удел и тем глубже, чем ближе стоял к нему почивший, поэтому глубже всего, когда это был его отец. Если даже старость и недуги превратили жизнь его в пытку и в своей беспомощности он был тяжкой обузой для сына, все же сын горячо оплакивает смерть отца — по объясненной здесь причине*.
§ 68
После этого отступления, доказывающего тождество чистой любви и сострадания, обращение которого на собственную индивидуальность имеет симптомом явление плача, я возвращаюсь к нашему рассмотрению этического смысла поведения, чтобы показать, как из того же источника, откуда вытекают всякая доброта, любовь, добродетель и великодушие, исходит, наконец, и то, что я называю отрицанием воли к жизни.
Мы видели ранее, что ненависть и злоба обусловлены эгоизмом, в основе которого лежит то, что познание сковано principio individuationis, теперь же мы убедились в том, что источником и сущностью справедливости, а затем, в ее дальнейшем развитии, источником высших ее степеней, любви и благородства, является то постижение principii individuationis, которое уничтожает различие между собственным и чужими индивидами и тем делает возможной и объясняет полноту благих помыслов вплоть до бескорыстнейшей любви и великодушного самопожертвования ради других.
Когда же это постижение principii individuationis, это непосредственное познание тождества воли во всех ее проявлениях достигает высокой степени ясности, оно немедленно оказывает еще более глубокое влияние на волю. А именно, если в глазах какого-нибудь человека пелена Майи, principium individuationis, стала так прозрачна, что он не проводит уже эгоистического различия между своей личностью и чужою, а страдание других индивидов принимает так же близко к сердцу, как и свое собственное, и потому не только с величайшей радостью предлагает свою помощь, но даже готов пожертвовать собственной индивидуальностью, лишь бы спасти этим несколько чужих, то уже естественно, что такой человек, узнающий во всех существах самого себя, свое сокровенное и истинное Я, должен и бесконечные страдания всего живущего рассматривать как свои собственные и разделить боль всего мира. Ни одно страдание более ему не чуждо. Все мучения других, которые он видит и так редко может облегчить, о которых он узнает окольными путями, которые он считает только возможными, все они воздействуют на его дух как его собственные мучения. Уже не об изменчивом своем счастье
322
и личных невзгодах думает он, как это делает человек, еще одержимый эгоизмом; нет, все одинаково близко ему, ибо он постиг principium individuationis. Он познает целое, постигает его сущность и находит его погруженным в непрестанное исчезновение, ничтожные устремления, внутреннее противоборство и постоянное страдание, и всюду, куда бы он ни обращал взор, он видит страждущее человечество, страждущих животных и преходящий мир. И все это ему теперь так же близко, как эгоисту — его собственная личность. И разве может он, увидев мир таким, продолжать утверждать эту жизнь постоянной деятельностью воли и все теснее привязываться к ней, все теснее прижимать ее к себе? Если тот, кто еще находится во власти principii individuationis, эгоизма, познает только отдельные вещи и их отношение к его личности и они поэтому служат источником все новых и новых мотивов для его желания, то, наоборот, описанное познание целого, сущности вещей в себе, становится квиетивом всякого желания. Воля отворачивается от жизни; теперь она содрогается перед ее радостями, в которых видит ее утверждение. Человек доходит до состояния добровольного отречения, резиньяции, истинной безмятежности и совершенного отсутствия желаний. Если и нас, иных людей, еще объятых пеленой Майи, временами, в минуты тяжких собственных страданий или живого сочувствия чужому горю, — если и нас тоже посещает сознание ничтожества и горечи жизни и мы испытываем желание всецело и навсегда отречься от вожделений, притупить их жало, преградить доступ всякому страданию, очистить и освятить себя, то скоро мираж явления снова обольщает нас, его мотивы вновь приводят в движение нашу волю, и мы не можем вырваться на свободу. Очарование надежды, приманки действительности, отрада наслаждений, блага, которые выпадают на долю нашей личности среди печалей страдающего мира, в царстве случая и заблуждений, влекут нас обратно к этому миру и снова закрепляют наши оковы. Поэтому и говорит Христос: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное»66.
Если уподобить жизнь арене, усыпанной пылающими угольями с немногочисленными прохладными местами, — арене, которую мы неуклонно должны пробежать, то окажется, что объятого призрачной мечтою утешает прохладное место, которое он занимает как раз в данную минуту или которое рисуется ему вблизи, и он продолжает свой бег по арене. Тот же, кто, постигая principium individuationis, познает сущность вещей в себе и вместе с ней познает целое, — тот уже не восприимчив к такому утешению: он видит себя одновременно во всех местах арены и сходит с нее. С его волей совершается переворот: она уже не утверждает своей сущности, отражающейся в явлении, она отрицает ее. Симптом этого заключается в переходе от добродетели к аскетизму. Человек уже не довольствуется тем, чтобы любить ближнего, как самого себя, и делать для него столько же, сколько для себя, — в нем возникает отвращение к той сущности, которая выражается в его собственном явлении, его отталкивает воля к жизни, ядро и сущность этого злосчастного мира. Он отвергает эту являющуюся в нем и выраженную уже в самом его теле сущность и своей жизнью показывает бессилие этого явления, вступая с ним в открытую вражду. Будучи по существу своему
323
явлением воли, он, однако, перестает чего бы то ни было хотеть, охраняет свою волю от какой-либо привязанности, стремится укрепить в себе величайшее равнодушие ко всем вещам. Тело его, здоровое и сильное, вызывает гениталиями половое влечение, но он отрицает волю и не слушается тела: ни под каким условием он не хочет полового удовлетворения. Добровольное, полное целомудрие — вот первый шаг в аскезе, или отрицание воли к жизни. Аскетизм отрицает этим утверждение воли, выходящее за пределы индивидуальной жизни, и тем показывает, что вместе с жизнью данного тела уничтожается и воля, проявлением которой оно служит. Всегда правдивая и наивная природа говорит нам, что если эта максима станет всеобщей, то человеческий род прекратится, а после того, что было сказано во второй книге о связи всех явлений воли, я думаю, можно было бы принять, что вместе с высшим явлением воли должно исчезнуть и более слабое ее отражение — мир животных: так полный свет изгоняет полутени. С полным уничтожением познания и остальной мир сам собою превратился бы в ничто, ибо без субъекта нет объекта. Я отнес бы сюда даже то место из Вед, где говорится: «Как в этом мире голодные дети теснятся вокруг матери, так все существа жаждут священной жертвы» (Asiatic researches, т. VIIL Colebrooke[251]. On the Vedas, извлечение из Самаведы; можно найти также в Miscellaneous Essays Colebrooke’а, т. I , с. 88). Жертва означает вообще резиньяцию, и остальная природа должна ожидать своего освобождения от человека, который одновременно является жрецом и жертвой. Следует упомянуть и о том крайне примечательном обстоятельстве, что эту же мысль выразил удивительный и непредставимо глубокий Ангелус Силезиус в двустишии, озаглавленном «К Богу все возносит человек»:
Тебя
все любит, человек; к тебе — дорога:
К
тебе стремятся все, чтобы достигнуть Бога67.
А еще более великий мистик, Майстер Экхарт, изумительные творения которого стали, наконец, доступны благодаря изданию Франца Пфейфера (1857) говорит (с. 459) совершенно в нашем смысле: «Я подтверждаю это Христом, ибо Он сказал: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32). Так и добрый человек должен все вещи возносить к Богу — их первоисточнику. Учители[252] подтверждают нам, что все твари созданы ради человека. Испытайте на всех тварях то, что одна тварь на потребу другой: скоту — трава, рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес. Так доброму человеку на потребу все твари: добрый человек возносит к Богу одну тварь в другой». Он хочет этим сказать: за то, что человек в себе и вместе с собою искупает и животных, он пользуется ими в этой жизни. Мне кажется даже, что трудное место в Писании (Рим. 8:21— 24) должно быть истолковано в этом смысле.
И в буддизме нет недостатка в выражении той же мысли: например, когда Будда еще в качестве бодхисатвы68 велит в последний раз оседлать коня, чтобы бежать из отцовской резиденции в пустыню, он обращается к коню со следующим стихом: «Уже давно ты со мною в жизни и смерти, теперь же ты перестанешь носить и влачить. Только еще раз
324
унеси меня отсюда, о Кантакана, и когда я исполню закон (стану Буддой), я не забуду тебя» (Foe Koue Ki, trad. p. Abel Remusát, p. 233).
Аскетизм выражается, далее, в добровольной и преднамеренной нищете, которая наступает не только per acddens[253]*[254], при раздаче имущества для облегчения чужих страданий, но служит здесь целью сама по себе и должна быть постоянным умерщвлением воли, чтобы удовлетворение желаний и сладость жизни вновь не возбудили воли, самопознание же прониклось отвращением к ней. Человек, достигший этого предела, как одушевленное тело и конкретное явление воли все еще продолжает чувствовать склонность ко всякого рода желаниям, но он сознательно подавляет их, принуждая себя не делать ничего того, чего ему бы хотелось, а, напротив, делать все то, чего не хочется ему, — пусть это и не имеет никакой дальнейшей цели, кроме умерщвления воли. Так как он сам отвергает являющуюся в его личности волю, то он не станет противиться, если другой сделает то же самое, т. е. причинит ему какую-нибудь несправедливость: поэтому он рад всякому страданию, которое приходит к нему извне, случайно или по чужой злобе, рад всякой утрате, всякому поношению, всякой обиде, — он радостно принимает их как повод удостовериться, что он уже больше не утверждает воли, а охотно берет сторону любого врага того явления ее, которое составляет его собственную личность. Поэтому он с беспредельным терпением и кротостью переносит муки и позор, без гордыни воздает добром за зло и не допускает, чтобы в нем когда-либо возгорелось пламя гнева или вожделения. Он умерщвляет как самую волю, так и ее внешность, ее объектность — тело: он скудно питает его, чтобы пышное и цветущее тело не оживляло и не укрепляло воли, выражением и зеркалом которой оно является. Так налагает он на себя пост, прибегает даже к самобичеванию и самоистязанию, чтобы постоянными лишениями и мучениями все сильнее сокрушать и умерщвлять волю, в которой он видит источник злосчастного своего бытия и страданий мира и отвергает ее за это. Когда же, наконец, приходит к нему смерть, разрешающая это явление воли, сущность которой в силу свободного самоотрицания умерла в нем уже давно, кроме слабого остатка ее — одушевленности тела, то он встречает смерть с великой радостью как желанное освобождение. С нею кончается здесь не просто явление как у других, но уничтожается самая сущность, которая еще влачила здесь существование только в явлении и посредством него**: теперь смерть разрывает и эту последнюю и хрупкую связь. Для того, кто кончает таким образом, одновременно кончается и мир.
И все то, что я высказал здесь слабым языком и только в общих выражениях, вовсе не есть сочиненная мною философская сказка и воз-
325
никло отнюдь не сегодня: нет, такова была завидная жизнь многих прекрасных душ и святых среди христиан и, еще более, среди индуистов и буддистов, а также среди последователей других вероучений. При всем различии тех догматов, какие запечатлелись в разуме этих людей, у всех них переменой их образа жизни совершенно одинаково выражалось то внутреннее, непосредственное, интуитивное познание, которое только и может быть источником всякой добродетели и святости. Ибо и здесь обнаруживается столь важное для всего нашего рассмотрения великое различие между интуитивным и абстрактным познанием, сказывающееся повсюду, но слишком мало учитывавшееся до сих пор. Глубокая пропасть разделяет оба вида познания и через нее ведет только философия в том, что касается познания сущности мира. Ведь интуитивно, или in concreto, каждый человек сознает, собственно говоря, все философские истины, претворить же их в абстрактное знание, в рефлексию — это дело философа, который не должен и не может заниматься ничем иным.
И здесь, вероятно, впервые, абстрактно и без какой-либо примеси мифа выражена внутренняя сущность святости, самоотречения, умерщвления воли, аскетизма, выражена как отрицание воли к жизни, наступающее после того, как совершенное познание собственной сущности становится для воли квиетивом всякого желания. Непосредственно же это познали и выразили своей жизнью все святые и подвижники, при одинаковом внутреннем убеждении говорившие на совершенно разных языках, в соответствии с теми догматами, которые они однажды восприняли своим разумом и в силу которых индийский святой, святой христианский или ламаистский должны давать себе совсем разные отчеты о своих собственных деяниях, что, однако, для существа дела вполне безразлично. Святой может быть исполнен нелепейших предрассудков, или, наоборот, он может быть философом: это безразлично. Только его деяния свидетельствуют о его святости, ибо в моральном отношении они проистекают не из абстрактного, а из интуитивно воспринятого, непосредственного познания мира и его сущности, и только для удовлетворения своего разума он объясняет их с помощью какого-нибудь догмата. Поэтому одинаково не нужно святому быть философом, а философу быть святым, как не нужно, чтобы очень красивый человек был великим скульптором или чтобы великий скульптор сам был красивым человеком. Вообще странно требовать от моралиста, чтобы он не проповедовал иных добродетелей, кроме тех, какие имеет он сам. Воспроизвести в понятиях в абстрактной, всеобщей и отчетливой форме всю сущность мира и как отраженный снимок предъявить ее разуму в устойчивых и всегда наличных понятиях — вот это и ничто иное есть философия. Напомню приведенную в первой книге цитату из Бэкона Веруламского.
Но именно только абстрактным и отвлеченным, а потому и холодным остается сделанное мною описание отрицания воли к жизни, преображения прекрасной души, резиньяции добровольного страстотерпца и святого. Так как познание, из которого вытекает отрицание воли, интуитивно, а не абстрактно, то и свое полное выражение оно находит не в абстрактных понятиях, а только в деяниях и образе жизни. Поэтому, чтобы лучше понять, что мы философски обозначаем как отрицание
326
воли к жизни, надо познакомиться с примерами из опыта и действительности.
Конечно, в повседневном опыте мы их не встретим: nam
Как восточная параллель к этой литературе о монашестве у нас есть в высшей степени интересная книга Spence Hardy «Eastern monachism, an account of the order of mendicants founded by Gotama Budha» (1850). Она показывает нам то же самое явление, но в другом облачении; здесь видно, насколько безразлично для него, исходит ли оно из теистической или атеистической религии. Но особенно я мог бы рекомендовать как характерный, в высшей степени обстоятельный пример и фактическую иллюстрацию изложенных мною мыслей — автобиографию мадам Гийон (Guion): познакомиться с этой прекрасной и великой душой, о которой я всегда вспоминаю с благоговением, отдать должное возвышенным чертам ее духа, снисходя в то же время к предрассудкам ее разума, — это должно быть для каждого достойного человека настолько же отрадно, насколько упомянутая книга всегда будет на дурном счету у людей пошлых, т. е. у большинства, ибо везде и непременно каждый может ценить только то, что ему до некоторой степени родственно и к чему он имеет хотя бы слабое предрасположение. Это относится как к интеллектуальной, так и к этической сфере. В некотором отношении подходящим примером является здесь даже известная французская биография Спинозы, если воспользоваться в виде ключа к ней прекрасным вступлением к весьма неудовлетворительному трактату «Об усовершен-
327
ствовании интеллекта» — это место я одновременно могу рекомендовать как самое действенное изо всех известных мне средств для укрощения бури страстей. Наконец, сам великий Гёте, каким бы ни был он эллином, не считал недостойным себя показать нам эту прекраснейшую сторону человечества в уясняющем зеркале поэзии: он изобразил в «Исповеди прекрасной души»[255] идеализованную жизнь девицы Клеттенберг, а позднее, в своей автобиографии, сообщил об этом и исторические сведения; кроме того, он даже два раза поведал нам историю святого Филиппа Нери.
Всемирная история, конечно, всегда будет и должна умалчивать о таких людях, жизнь которых является лучшей и единственно удовлетворительной иллюстрацией к этому важному пункту нашего исследования. Ибо материал всемирной истории совсем иной и даже противоположный, а именно, не отрицание и не уничтожение воли к жизни, а, напротив, ее утверждение и проявление в бесчисленных индивидах, то проявление, где с полной отчетливостью выступает самораздвоение воли на крайней вершине ее объективации, и перед нашими глазами проходят господство отдельной личности благодаря ее уму, власть толпы в силу ее массы, могущество случая, олицетворяемого в судьбе, вечная тщета и ничтожность всех устремлений. Не следуя здесь за нитью временных явлений, а в качестве философа стараясь понять этический смысл поступков и принимая его здесь как единственное мерило всего того, что значительно и важно для нас, мы не страшимся настоящего засилья пошлого и тривиального и признаем, что самое великое, самое важное и знаменательное явление, какое только может представить мир, — это не всемирный завоеватель, а победитель мира73, т. е. на самом деле не что иное, как тихая и незаметная жизнь человека, осененного таким познанием, в силу которого он подавляет и отвергает всеохватывающую волю к жизни, действующую и стремящуюся во всем, так что свобода воли проявляется только здесь, в нем одном, делая его поступки полной противоположностью обыкновенным. Таким образом, в этом отношении жизнеописания святых, отрекшихся от самих себя людей, как бы плохо по большей части ни были они написаны и как бы ни переплетались они с предрассудками и нелепостями, все же благодаря значительности содержания несравненно поучительнее и важнее для философа, чем даже Плутарх и Ливий.
Чтобы лучше и полнее уяснить то, что при абстрактной всеобщности нашего изложения мы назвали отрицанием воли к жизни, было бы очень полезно вникнуть в нравственные заповеди, которые даны были в этом смысле и даны людьми, этого духа исполненными; они обнаружат древнее происхождение наших воззрений при всей новизне их чисто философского выражения. Ближе всего находится к нам христианство; его этика всецело проникнута указанным духом и ведет не только к высшим степеням человеколюбия, но и к отречению; и хотя эта сторона в виде явного зародыша проступает уже в апостольских писаниях, однако она была вполне развита и explicite выражена лишь позднее. Апостолы завещали нам любовь к ближнему, равносильную любви к самому себе[256], благотворительность, воздаяние за ненависть любовью и добром, терпение, кротость, перенесение всевозможных обид без противления, умеренность в пище ради подавления похоти и — для того, кто может вместить, — совершенный отказ от половой любви. Уже
328
здесь мы видим первые ступени
аскетизма, или истинного отрицания воли, — последнее выражение означает то же
самое, что Евангелия называют «отвергнуться себя» и «взять крест свой» (Мф. 16:24, 25; Мк. 8:34, 35; Лк. 9:23, 24; 14:26, 27, 33[257]).
Это аскетическое направление стало все более развиваться и создало подвижников,
анахоретов и монашество, — явление, источник которого сам по себе был чист и
свят, но именно потому совершенно непосилен для большинства людей, и в дальнейшем
он мог породить только лицемерие и гнусность, ибо abusus optimi pessimus*. В последующем развитии христианства это
аскетическое зерно достигло полного расцвета в произведениях христианских
святых и мистиков. Наряду с чистой любовью они проповедуют также полную резиньяцию,
добровольную и безусловную нищету, истинную безмятежность, совершенное
равнодушие ко всему мирскому, отмирание собственной воли и возрождение в Боге,
полное забвение собственной личности и погружение в созерцание Бога. Полное
изложение этого можно найти у Фенелона, в его «Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure»[258].
Нигде, однако, дух христианства в этом своем развитии не выражен так полно и
мощно, как в произведениях немецких мистиков, — у Майстера Экхарта и в заслуженно
знаменитой книге «Немецкая теология», о которой Лютер в своем предисловии к ней
говорит, что ни одна книга, кроме Библии и Августина, не просветили его так
хорошо о Боге, Христе и человеке (несмотря на это, подлинный и неискаженный текст
ее мы получили лишь в 1851 г., в штутгартском издании Пфейфера). Преподанные в
ней заповеди и поучения составляют самое полное, проникнутое глубоким внутренним
убеждением описание того, что я охарактеризовал как отрицание воли к жизни.
Нам, следовательно, надо ознакомиться с ним, прежде чем отворачиваться от него
с иудейско-протестантской самоуверенностью74.
В том же прекрасном духе написано, хотя и не может считаться вполне равным
названному произведению, «Подражание бедной жизни Христа» Таулера вместе с его
«Medulla animae»**. На
мой взгляд, учения этих настоящих христианских мистиков так же относятся к
учениям Нового Завета, как спирт к вину. Или: то, что в Новом Завете видится
нам как бы в туманной дымке, в творениях мистиков выступает перед нами без
покрова, с полной ясностью и чистотой. Наконец, Новый Завет можно рассматривать
как первое посвящение, а мистиков — как второе, ομιχρὰ χαὶ
μεγάλα
μυδτήρια***[259].
То, что мы назвали отрицанием воли к жизни, предстает в древнейших памятниках санскритского языка еще более развитым, многосторонне выраженным и живее изложенным, чем это могло быть в христианской церкви и западном мире. То, что этот важный нравственный взгляд на жизнь мог достигнуть здесь более глубокого развития и более определенного выражения, вероятно, надо приписать главным образом тому, что здесь он не был ограничен совершенно чуждым ему элементом, каким в христианстве является иудейское вероучение, к которому по необходимости должен был приспособляться возвышенный Основа-
329
тель нашей религии, отчасти сознательно, а отчасти, может быть, и бессознательно для самого себя. В силу этого христианство и состоит из двух очень разнородных элементов: один из них, чисто этический, я назвал бы преимущественно и даже исключительно христианским и отделил бы его от иудейского догматизма, уже существовавшего прежде75. Если часто, особенно в наше время, высказываются опасения, как бы прекрасная и несущая спасение религия Христа не пришла когда-нибудь в совершенный упадок, то я объяснил бы это единственно тем, что она состоит не из одного простого, а из двух изначально разнородных элементов, соединившихся между собою лишь в силу исторических событий, и неодинаковое сродство этих элементов с духом наступившего времени, их неодинаковая реакция на него могут привести к разложению и распаду, но и после этого чисто этическая сторона христианства все-таки останется неповрежденной, ибо она неразрушима.
В этике индуистов, насколько она, при всей недостаточности нашего знакомства с их литературой, известна нам в своей многообразной и выразительной форме из Вед, пуран[260], поэтических творений, мифов, легенд о святых, изречений и правил жизни*, — в этике индуизма предписываются любовь к ближнему при полном отречении от всякого себялюбия, любовь вообще, не ограниченная одним только человечеством, но объемлющая все живое; благие деяния вплоть до раздачи ежедневного заработка, добытого тяжелым трудом; безграничная терпимость ко всем обижающим; воздаяние добром и любовью за всякое зло, как бы тяжко оно ни было; добровольное и радостное перенесение всяких поношений; воздержание от животной пищи; полное целомудрие и отречение от всякого сладострастия дня того, кто стремится к истинной святости; отказ от всякого имущества, от родного дома и домочадцев; глубокое и совершенное уединение в безмолвном созерцании, в добровольном подвижничестве и ужасном, медленном самоистязании ради полного умерщвления плоти, которое приводит, наконец, к добровольной смерти от голода, заставляет человека отдаться на съедение крокодилам, или низвергнуться со священной скалы Гималаев, или заживо похоронить себя, или броситься под колеса огромной колесницы, возящей изображения богов под ликующее пение и пляску баядер. И как ни выродился во многих отношениях индийский народ, этим предписаниям, возникшим более четырех тысячелетий назад, следуют еще и поныне, а некоторые даже доводят их до крайности**. То, что соблюдалось так
330
долго среди многомиллионного народа, несмотря на тяжесть приносимых жертв, не может быть произвольной выдумкой и прихотью, а должно корениться в самом существе человеческого рода. Однако нельзя достаточно надивиться тому сходству, какое встречаешь в жизнеописаниях христианского и индийского подвижника или святого. При коренном различии в догматах, нравах и среде устремления и внутренняя жизнь обоих совершенно те же самые. Так же обстоит дело и с предписаниями для тех и других[261]. Таулер, например, говорит о полной нищете, к которой следует стремиться и которая состоит в совершенном отречении от всего того, что могло бы доставить какое-нибудь утешение или мирское благо, — очевидно, потому, что все это дает новую пищу воле, между тем как целью является здесь полное отмирание ее. И вот, в индийской религии мы видим соответствие этому в предписаниях Бо: саньясин, который должен обходиться без жилища и без какой-либо собственности, получает еще, кроме того, повеление не ложиться часто под одно и то же дерево, чтобы у него не возникло предпочтения или склонности к этому дереву. Христианские мистики и учителя философии веданты сходятся между собою и в том, что для человека, который достиг совершенства, они считают излишними все внешние дела и религиозные обряды. Такое единодушие при таком различии эпох и народов служит фактическим доказательством того, что здесь перед нами выступает не душевная странность и безумие, как этого хотелось бы плоским оптимистам, а некая существенная сторона человеческой природы, которая редко проявляется лишь в силу своего совершенства.
Итак, я указал те источники, откуда можно непосредственно из жизни почерпнуть феномены, в которых проявляется отрицание воли к жизни. До известной степени это самый важный пункт всего нашего исследования; тем не менее я изложил его только в общих чертах, ибо лучше сослаться на тех, которые говорят по своему непосредственному опыту, чем без нужды увеличивать размер этой книги слабым повторением того, что уже было сказано ими.
Но я хотел бы прибавить еще несколько слов для общей характеристики состояния таких людей. Если, как мы видели раньше, злой в силу остроты своего желания терпит беспрестанную, снедающую его внутреннюю муку и в конце концов, когда все объекты желания исчерпаны, утоляет мучительную жажду своеволия зрелищем чужого страдания, то, наоборот, тот, в ком зародилось отрицание воли к жизни, как бы его положение ни казалось со стороны жалким, безотрадным и исполненным всяких лишений, проникнут внутренней радостью и истинно небесным покоем. Это не мятежный порыв жизни, не ликующий восторг, предшествующим или последующим условием которого является великое страдание (таков путь жизнерадостного человека); нет, это — невозмутимый покой, глубокий мир и душевная ясность, состояние, которого мы не можем видеть, о котором не можем думать без величайшей тоски, ибо оно представляется нам как единственно должное, бесконечно превосходящее все другие вещи мира, и все, что есть лучшего в нашей душе, зовет нас к нему великим призывом: Sapere aude!*. Мы глубоко чувству-
331
ем тогда, что каждое исполненное желание, отвоеванное у мира, все-таки подобно милостыне, сохраняющей нищему жизнь сегодня, чтобы завтра он голодал снова; отречение же подобно родовому поместью: оно освобождает владельца от всяких забот навсегда.
Как мы помним из третьей книги, эстетическое наслаждение красотой состоит в значительной мере в том, что, вступая в состояние чистого созерцания, мы на мгновение отрешаемся от всякого хотения, т. е. от всех желаний и забот, как бы освобождаемся от самих себя, и вот мы уже не познающий ради своих беспрестанных желаний индивид, не коррелат отдельной вещи, для которого объекты становятся мотивами, но безвольный вечный субъект познания, коррелат идеи; и мы знаем, что эти мгновения, когда, свободные от бурного порыва желаний, мы как бы возносимся над тяжелой атмосферой земли, мгновения эти — самые блаженные из всех нам известных. Отсюда легко понять, как блаженна должна быть жизнь того человека, воля которого укрощена не на миг, как при эстетическом наслаждении, а навсегда и даже угасла совсем, вплоть до той последней тлеющей искры, которая поддерживает тело и гаснет вместе с ним. Такой человек, одержавший, наконец, решительную победу после долгой и горькой борьбы с собственной природой, остается еще на земле лишь как чисто познающее существо, неомраченное зеркало мира. Ничто уже больше не может его удручать или волновать, ибо он обрезал все те тысячи нитей желания, которые связывают нас с миром и в виде алчности, страха, зависти, гнева влекут нас в беспрерывном страдании туда и сюда. Спокойно и улыбаясь, оглядывается он на призраки этого мира, которые некогда могли волновать и терзать его душу, но теперь столь же безразличны для него, как шахматные фигуры после игры, как сброшенные поутру маскарадные костюмы, тревожившие и манившие нас в ночь карнавала. Жизнь и ее образы витают еще перед ним как мимолетные видения, подобно легким утренним грезам наполовину проснувшегося человека, — грезам, сквозь которые уже просвечивает действительность, так что они больше не могут вводить в заблуждение; и подобно им исчезают, наконец, и эти видения, без насильственного перехода. Эти соображения помогают нам понять, в каком смысле мадам Гийон часто говорит в конце своей автобиографии: «Мне все безразлично, я не могу ничего больше желать, я часто не знаю, существую я или нет». Для того чтобы показать, как после отмирания воли смерть тела (которое ведь есть только проявление воли и оттого с уничтожением ее теряет всякий смысл) не может уже заключать в себе ничего горького, а, напротив, желанна, — да будет мне позволено привести собственные слова той святой подвижницы, хотя фраза ее и не очень изящна: «Midi de la gloire, jour où il n’y a plus de nuit; vie qui ne craint plus la mort, dans la mort même pareeque la mort a vaincu la mort, et que celui qui a souffert la première mort, ne goutera plus la seconde mort» (Vie de mad. de Guion, vol. 2, p. 13)*[262].
332
Впрочем, мы не должны думать, что когда в результате познания, ставшего квиетивом, возникнет отрицание воли к жизни, то оно уже не станет больше колебаться и на нем можно успокоиться как на приобретенном достоянии. Нет, его придется завоевывать вновь и вновь в постоянной борьбе. Ибо тело — это сама воля, только в форме объектности или в качестве явления в мире как представления; оттого до тех пор, пока живет тело, воля к жизни всецело присутствует как возможность, вечно стремясь претвориться в действительность и снова возгореться всем своим пламенем. Поэтому в жизни святых покой и блаженство составляют лишь цвет, вырастающий из постоянной победы над волей; а почвой, его питающей, является постоянная борьба с волей к жизни, ибо долговечного покоя никто не может иметь на земле. Поэтому история внутренней жизни святых исполнена душевной борьбы, искушений и исчезновения благодати, т. е. того способа познания, который, обессиливая все мотивы, в качестве всеобщего квиетива укрощает всякое желание, дает глубочайший мир и открывает врата свободы. Поэтому и те, кто однажды достиг отрицания воли, должны прилагать все усилия, чтобы удержаться на этом пути; прибегая ко всякого рода насильственным лишениям, они ведут суровый подвижнический образ жизни, ищут всяческих неудобств, и все это для того, чтобы укрощать постоянно воскресающую волю. Поэтому у таких людей, уже познавших ценность освобождения, возникает тягостная забота об удержании достигнутого блага; отсюда их угрызения совести при каждом невинном удовольствии или при малейшем возбуждении тщеславия, которое и здесь умирает последним, ибо это самая неистребимая, деятельная и нелепейшая из всех человеческих склонностей.
Термин аскетизм, часто мною употребляемый, я понимаю в узком смысле как преднамеренное сокрушение воли через отказ от приятного и поиски неприятного, добровольно избранную жизнь покаяния и самобичевания ради полного умерщвления воли.
Если мы видим теперь, что даже достигшие отрицания воли, чтобы удержаться в нем, предаются аскетизму, то и страдание вообще, как оно посылается судьбою, служит вторым путем (δεύτερος πλοῦς)* к этому отрицанию; мы можем принять даже, что большинство приходит к нему только этим вторым путем и что к полному отречению чаще всего ведет лично испытанное, а не просто познанное страдание, нередко лишь близость смерти. Ибо чтобы прийти к отрицанию воли, только для немногих достаточно просто познания, которое, постигая principium individuationis, сначала порождает исключительно благие помыслы и всеобщую любовь к человеку и, наконец, побуждает признать все страдания мира своими собственными. Даже и у того, кто приближается к этой точке, личное благополучие, очарование момента, манящая надежда и постоянно готовое вернуться угождение воле, т. е. утехе, почти всегда служат упорным препятствием к отрицанию воли и вечным соблазном к новому ее утверждению: вот почему все такие приманки и олицетворяются в этом отношении в дьяволе. Таким образом, воля по большей части должна быть сломлена величайшим личным страданием,
333
прежде чем наступит ее самоотрицание. И тогда мы видим, как человек, пройдя все ступени возрастающего притеснения, доведенный, несмотря на сильнейшее сопротивление, до крайнего отчаяния, внезапно сосредоточивается в самом себе, познает себя и мир, изменяет все свое существо, возвышается над самим собой и над всяким страданием и как бы очищенный и освященный им, в недосягаемом покое, блаженстве и высоте, добровольно отказывается от всего, чего он страстно желал прежде, и радостно встречает смерть. Это и есть внезапно выступающий из очистительного пламени страдания серебристый ореол отрицания воли к жизни, т. е. освобождения. Мы видим иногда, что даже те, которые были очень злы, глубокими скорбями очищаются именно до такой степени: они преображаются, становятся совершенно другими людьми и прежние злодейства уже не удручают их совести, но они охотно искупают их смертью и с радостью видят конец проявления той воли, которая стала теперь для них отвратительной и чужой. Ясный и наглядный образ такого отрицания воли, порожденного великим несчастьем и полным отчаянием в спасении, дал нам великий Гёте в своем бессмертном шедевре — «Фаусте», в скорбной истории Гретхен: я не знаю ничего подобного в поэзии. Судьба Гретхен — это прекрасный образец второго пути, ведущего к отрицанию воли; это не первый путь, который идет только через познание страданий всего мира, добровольно разделяемых: нет, второй путь ведет через собственное, лично пережитое безмерное страдание. Правда, очень многие трагедии приводят в конце концов своего обуреваемого страстями героя к этому моменту совершенного отречения, когда, как правило, одновременно прекращаются и воля к жизни, и ее проявление; но ни один известный мне образ не показывает сущности этого переворота так ясно и в такой чистоте, без всего постороннего, как именно Гретхен.
В действительной жизни мы видим, что такой переворот очень часто совершается с теми несчастными, которым суждено изведать величайшую меру страданий, — лишенные всякой надежды, в полноте духовных сил, идут они на позорную, насильственную, часто мучительную смерть на плахе. Мы не должны, однако, думать, что между их характером и характерами большинства людей действительно существует столь великое различие, как это можно заключить по их участи: последняя ведь обычно зависит от обстоятельств, хотя такие люди, конечно, виновны и в значительной степени злы. И вот мы видим, что со многими из них, испытавшими полную безнадежность, происходит коренной переворот. Они являют тогда действительно благие и чистые помыслы, искреннее отвращение к любому злому или бессердечному поступку; они прощают своим врагам — даже тем, из-за кого невинно пострадали, и прощают не только на словах и из лицемерной боязни перед судьями преисподней, а на самом деле, искренне, от души и совсем не жаждут мести. Страдание и смерть становятся для них в конце концов желанными, ибо наступило отрицание воли к жизни: они часто отвергают предлагаемое спасение, умирают охотно, спокойно, блаженно. В безмерности страдания открылась для них последняя тайна жизни — то, что зло и злоба, страдание и ненависть, мученик и мучитель, как ни различны они для познания, следующего закону основания, сами по себе суть
334
одно и то же, проявление той единой воли к жизни, которая объективирует в prinsipio individuationis свое внутреннее противоборство с самой собою; они в полной мере познали обе стороны — злобу и зло и, увидев, наконец, тождество обеих, отвергают одновременно их обе, отрицают волю к жизни. А в каких именно мифах и догматах они отдают своему разуму отчет об этом интуитивном и непосредственном познании и о своем обращении, — это, как я уже сказал, совершенно безразлично.
Свидетелем такого нравственного переворота несомненно был Маттиас Клаудиус, когда он писал свое замечательное произведение, опубликованное в «Wandsbecker Boten»* (ч. 1, с. 115) под заглавием «История обращения г.***[263]»; оно кончается следующими словами: «Образ мыслей человека может переходить с одной точки окружности на противоположную и затем возвращаться к прежней, если обстоятельства очертят ему такую дугу. И эти изменения не служат чем-то великим и интересным у человека. Но то поразительное, кафолическое, трансцендентальное изменение, когда вся окружность бесповоротно разрывается и все законы психологии оказываются пустыми и вздорными, когда с человека совлекается или, по крайней мере, выворачивается наизнанку кожа и у него как бы спадает пелена с глаз, — это такая вещь, что всякий чувствующий в себе хоть сколько-нибудь дыхание жизни оставляет отца и мать, если может услышать и узнать об этом что-нибудь достоверное».
Близость смерти и отчаяние не являются, впрочем, необходимым условием для такого очищения страданием. И без них великое несчастье и горе может насильно раскрыть глаза на разлад воли к жизни с самой собою и показать тщету всякого стремления. Поэтому и бывали часто примеры, что люди, которые вели очень бурную жизнь в вихре страстей — цари, герои, искатели приключений, — внезапно изменялись, впадали в резиньяцию и покаяние, становились отшельниками и монахами. Сюда относятся все правдивые истории обращений, например история Раймунда Луллия: красавица, которой он так долго домогался, открыла ему, наконец, двери своей комнаты и, в то время как он предвосхищал исполнение всех своих мечтаний, расстегнула корсаж и показала ему свою грудь, ужасно изъеденную раком; с этой минуты он, точно увидев ад, переменился, покинул двор короля Майорки и удалился в пустыню на покаяние**. С этим примером обращения очень сходна история аббата Раисе, которую я вкратце рассказал в 48-й главе второго тома. Если мы примем во внимание, что и там и здесь стимулом был переход от желания к ужасам жизни, то это объяснит нам удивительный факт, почему именно среди самой жизнерадостной, веселой, чувственной и легкомысленной нации в Европе, т. е. у французов, образовался самый строгий из всех монашеских орденов — орден траппистов, и почему он после своего упадка был восстановлен Ранее и, несмотря на революции, церковные реформации и распространившееся неверие, существует вплоть до нынешнего дня во всей своей чистоте и ужасающей строгости.
335
Однако такое прозрение в сущность нашего бытия может вновь покинуть человека вместе со своим поводом, и воля к жизни, а вместе с нею и прежний характер возвратятся. Например, мы видим, что страстный Бенвенуто Челлини пережил такой переворот однажды в тюрьме, а другой раз на одре тяжкой болезни, но когда исчезали страдания, он снова возвращался к прежнему состоянию. Вообще из страдания вовсе не вытекает отрицание воли с неизбежностью действия из причины, — нет, воля остается свободной. Ибо здесь тот единственный пункт, где ее свобода непосредственно вступает в явление; отсюда столь сильно выраженное изумление Асмуса перед «трансцендентальным изменением». При каждом страдании можно представить себе волю, которая превосходит его напряженностью и оттого непобедима. Вот отчего Платон и сообщает в «Федоне» о людях, которые до момента своей казни пировали, пили, наслаждались любовью, вплоть до самой смерти утверждая жизнь. Шекспир рисует нам в лице кардинала Бофора ужасный конец нечестивца, который умирает в отчаянии, ибо ни страдания, ни смерть не могут сокрушить воли, дошедшей в своей напряженности до крайней злобы*.
Чем напряженнее воля, тем ярче явление ее разлада и, следовательно, тем сильнее страдание. Мир, который был бы явлением несравненно более напряженной воли к жизни, чем настоящий, являл бы тем больше страдания: он был бы, следовательно, адом.
Так как всякое страдание, будучи умерщвлением и призывом к отречению, имеет в потенции освящающую силу, то этим и объясняется, почему великое несчастье и глубокая скорбь уже сами по себе внушают известное уважение. Но вполне достойным уважения делается в наших глазах страждущий только тогда, когда, рассматривая всю свою жизнь как цепь страданий или оплакивая какое-нибудь великое и неутешное горе, он, однако, не обращает внимания на стечение собственно тех обстоятельств, которые именно его жизнь повергли в печаль, и не задерживается на этом отдельном великом несчастье, его постигшем (ведь пока он думает и скорбит исключительно о себе, его познание следует еще закону основания и цепляется за отдельные явления, и он все еще хочет жизни, но только при иных условиях): действительно, он вызывает уважение только тогда, когда взор его от частностей восходит ко всеобщему, когда в собственном страдании он видит только образ целого и, становясь в этическом отношении гениальным, считает один случай представителем целых тысяч, и потому вся совокупность жизни, постигнутая им в своем существе как страдание, приводит его к отречению. Вот почему достойно уважения, когда в гетевском «Торквато Тассо» принцесса говорит о том, как ее личная жизнь и жизнь ее родных всегда была печальна и безрадостна, и во всем этом она видит нечто всеобщее.
Человека с благородным характером мы всегда представляем себе проникнутым тихой грустью, которая меньше всего является постоянной досадой на ежедневные неприятности (такая досада была бы неблагородной чертой и заставляла бы подозревать злые помыслы); нет,
336
в этой грусти выражается сознание ничтожества всех благ и страданий всякой жизни, а не только собственной. Однако такое сознание может быть впервые пробуждено личными горестями, в особенности каким-нибудь одним великим несчастьем, например, одно неисполнимое желание на всю жизнь привело Петрарку к той грусти смирения, которая так пленяет и трогает нас в его произведениях: Дафне, которую он преследовал, суждено было ускользнуть от его объятий, чтобы оставить ему вместо себя лавры бессмертия76. Если такой великий и бесповоротный отказ судьбы однажды сокрушит волю, то затем почти уже не возникает никаких других желаний, и характер являет кроткие, грустные, благородные черты смирения. Если, наконец, скорбь не имеет уже определенного объекта, а распространяется на жизнь вообще, то она представляет собой до некоторой степени сосредоточение, отступление, постепенное исчезновение воли; скорбь тихо подтачивает в сокровенной глубине зримое проявление воли — тело, и при этом человек чувствует некоторое ослабление своих уз — легкое предчувствие смерти, сулящей разрешение и тела, и воли одновременно; вот почему такой скорби сопутствует тайная радость, и я думаю, что именно ее самый меланхолический из всех народов назвал the joy of grief*. Но зато именно здесь лежит и подводный камень чувствительности как в самой жизни, так и в ее поэтическом изображении: он состоит в том, что вечно грустят и вечно сетуют, не возвышаясь до мужественной резиньяции; в таком случае мы теряем сразу и землю, и небо, и остается водянистая сентиментальность. Лишь тогда, когда страдание принимает форму чистого познания и последнее в качестве квиетива воли влечет за собой истинную резиньяцию, — лишь тогда страдание является путем к освобождению и оттого достойно уважения. Впрочем, в этом смысле мы и вообще при виде каждого несчастного человека испытываем известное уважение, родственное тому чувству, какое возбуждают в нас добродетель и благородство, и в то же время наше собственное счастье является нам как бы укором. Всякое страдание — и личное, и чужое — невольно кажется нам, по крайней мере, потенциальным приближением к добродетели и святости; напротив, мирские блага и наслаждения мы считаем отклонением от них. Это доходит до такой степени, что всякий человек, переносящий большое телесное страдание или тяжкую душевную муку, даже всякий, кто только в поте лица своего и с явным изнеможением выполняет физическую работу, требующую величайшего напряжения, и все это терпеливо и безропотно, — всякий такой человек, говорю я, если отнестись к нему с душевным вниманием, уподобляется в наших глазах больному, который подвергает себя мучительному лечению, но охотно и даже с удовольствием терпит вызываемые этим лечением боли, сознавая, что чем больше он страдает, тем сильнее разрушается материя недуга, и потому испытываемая боль служит мерилом его исцеления.
Согласно всему предыдущему, отрицание воли к жизни, иначе говоря, то, что называют полной резиньяцией или святостью, всегда вытекает из квиетива воли, представляющего собой познание ее внутреннего разлада и ничтожества, обнаруживающихся в страдании всего живуще-
337
го. Различие, которое мы представили в виде двух путей, обусловлено тем, является ли это лишь результатом чисто теоретически познанного страдания, результатом свободного усвоения его и постижения principii individuationis, или же оно вызвано страданием, пережитым непосредственно и лично. Истинное спасение, освобождение от жизни и страдания немыслимо без полного отрицания воли. До тех пор каждый есть не что иное, как сама эта воля, явлением которой и служит мимолетное существование, всегда напрасное и вечно обманутое стремление, исполненный страданий мир, которому все мы принадлежим неотвратимо и в равной мере. Ибо мы видели выше, что воле к жизни всегда обеспечена жизнь и ее единственно реальной формой оказывается настоящее, от которого никто из людей никогда не может уйти, как бы ни властвовали в явлении рождение и смерть. Индийский миф выражает это словами: «Они возродятся». Великое этическое различие характеров имеет то значение, что злой бесконечно далек от познания, из которого вытекает отрицание воли, и потому он по справедливости действительно обречен на все те мучения, которые в жизни являются возможными, так что счастливое состояние его личности в настоящий момент есть лишь опосредствованное principio individuationis явление и наваждение Майи, счастливый сон нищего. Страдания, которые он в страстном и злобном порыве своей воли причиняет другим, служат мерою тех страданий, которые он лично может перенести, не сокрушив своей воли и не дойдя до конечного отрицания. Напротив, всякая истинная и чистая любовь, даже всякая свободная справедливость вытекает уже из постижения principii individuationis, и если оно выступает во всей своей силе, то влечет за собой полное освящение и освобождение, феноменом которого служат описанное выше состояние резиньяции, сопутствующий ей невозмутимый мир и высокая радость перед лицом смерти*.
§ 69
Мы достаточно охарактеризовали, в границах нашего исследования, отрицание воли к жизни, которое служит единственным обнаруживающимся в явлении актом свободы воли и потому, по выражению Асмуса, представляет собой трансцендентальное изменение. На него менее всего походит произвольное уничтожение отдельного явления воли — самоубийство[264]. Никак не будучи отрицанием воли, оно представляет собой феномен ее могучего утверждения. Ибо сущность отрицания состоит в том, что человек отвергает не страдания, а наслаждения жизни. Самоубийца хочет жизни и не доволен только условиями, при которых она ему дана. Поэтому он отказывается вовсе не от воли к жизни, а только от самой жизни, разрушая ее отдельное проявление. Он хочет жизни, хочет незатрудненного бытия и утверждения тела, но сплетение обстоятельств этого не допускает, и для него возникает великое страдание. Сама воля к жизни чувствует себя в этом отдельном явлении настолько затрудненной, что не может развить своего стремле-
338
ния. Поэтому она избирает решение в соответствии со своей внутренней сущностью, которая лежит вне форм закона основания и для которой вследствие этого безразлично всякое отдельное явление, так как сущность эта остается неприкосновенной для всякого возникновения и уничтожения и составляет сердцевину жизни всех вещей. Ибо та твердая внутренняя уверенность, в силу которой мы все живем без постоянного страха смерти, — уверенность, что воля никогда не может остаться без своего проявления, служит опорой и для акта самоубийства. Таким образом, воля к жизни одинаково проявляется как в этом самоумерщвлении (Шива), так и в радости самосохранения (Вишну), и в сладострастии рождения (Брахма). Таков внутренний смысл единства Тримурти, каковым всецело является каждый человек, хотя во времени оно поднимает то одну, то другую из трех своих голов.
Самоубийство относится к отрицанию воли, как отдельная вещь к идее, самоубийца отрекается только от индивида, а не от вида. Мы уже видели выше, что так как воле к жизни всегда обеспечена жизнь, а существенным признаком жизни выступает страдание, то самоубийство, добровольное разрушение одного частного явления, не затрагивающее вещи в себе, которая остается незыблемой, как незыблема радуга, несмотря на быструю смену своих мимолетных носителей-капель, — самоубийство представляет собой совершенно бесплодный и безумный поступок. Но помимо этого оно представляет собой шедевр Майи как самое вопиющее выражение противоречия воли к жизни самой себе. Подобно тому как мы уже встречали это противоречие среди низших проявлений воли, где оно выражалось . беспрестанной борьбе всех обнаружений природных сил всех органических индивидов — борьбе из-за материи, времени и пространства, подобно тому как оно с ужасающей ясностью все более и более выступало на восходящих ступенях объективации воли, так, наконец, оно достигает особой энергии на высшей ступени, воплощающей идею человека. И здесь не только истребляют друг друга индивиды, представляющие собой одну и ту же идею, но даже один и тот же индивид объявляет войну самому себе, и сила, с которой он хочет жизни и выступает против мешающего ей страдания, доводит его до самоуничтожения, так что индивидуальная воля скорее разрушит своим актом тело, т. е. свою же собственную видимость, чем страдание сломит волю. Именно потому, что самоубийца не может перестать хотеть, он перестает жить, и воля утверждает здесь себя именно путем разрушения своего явления, ибо иначе она уже не в силах себя утвердить. А так как то, что в качестве умерщвления воли могло бы привести самоубийцу к отрицанию своей личности и освобождению, и есть именно страдание, от которого он уклоняется своим поступком, то самоубийца в этом отношении похож на больного, не позволяющего завершить начатую уже болезненную операцию, которая окончательно исцелила бы его, и предпочитает сохранить болезнь. Страдание идет ему навстречу и, как таковое, открывает ему возможность отринуть волю, но он устраняет его от себя, разрушая проявление воли, тело, чтобы сама она осталась несломленной. Вот причина того, почему почти все этические системы, как философские, так и религиозные, осуждают самоубийство, хотя сами они приводят дня этого только странные софистические основания. Но
339
если человек когда-либо воздержался от самоубийства из чисто моральных побуждений, то сокровенный смысл этого самопреодоления (в какие бы понятия он ни облекался его разумом) был следующий: «Я не хочу уклоняться от страдания, чтобы оно помогло мне уничтожить волю к жизни, проявление которой так бедственно, чтобы оно укрепило и теперь уже открывающееся мне познание истинной сущности мира до такой степени, дабы это познание стало последним квиетивом моей воли и освободило меня навсегда»[265].
Время от времени, как известно, повторяются случаи, когда самоубийство распространяется на детей: отец убивает любимых детей, а затем самого себя. Если мы обратим внимание на то, что совесть, религия и все традиционные понятия заставляют такого человека видеть в убийстве самое тяжкое преступление, а между тем он все-таки совершает его в час собственной смерти, причем не может руководиться здесь каким бы то ни было эгоистическим мотивом, то этот феномен можно объяснить только тем, что в данном случае воля индивида непосредственно узнает себя в детях, но, объятая заблуждением, будто явление — это сама сущность, и глубоко удрученная сознанием бедственности всякой жизни, ошибочно полагает, что вместе с явлением она разрушает и саму сущность, и потому индивид хочет спасти от бытия с его бедствиями и себя, и детей, в которых видит свое непосредственное возрождение.
Совершенно аналогичным заблуждением было бы думать, будто, подавляя цели природы во время оплодотворения, можно достигнуть того же, что бывает в результате добровольного целомудрия; так же нелепо ввиду неизбежных страданий жизни содействовать смерти новорожденного, вместо того чтобы прилагать всевозможные усилия для обеспечения жизни всему, что стремится к жизни. Ибо коль скоро воля к жизни существует, то ее как единственно метафизическое начало, или вещь в себе, не может сломить никакая сила, а может быть уничтожено только ее явление на этом месте и в это время. Сама воля ничем, кроме познания, не может быть упразднена. Вот почему единственный путь спасения заключается в том, чтобы воля проявлялась беспрепятственно, дабы в этом проявлении мы могли познать свое собственное существо. Только в результате этого познания воля может отвергнуть самое себя и тем самым положить конец страданию, нераздельно связанному с ее проявлением, но этого нельзя осуществить физическим насилием, каковы вытравление плода, умерщвление новорожденного или самоубийство.
Поэтому надо всячески содействовать целям природы, раз уж определилась воля к жизни, составляющая внутреннюю сущность природы. По-видимому, от обыкновенного самоубийства совершенно отличается особый род его, который, вероятно, еще недостаточно удостоверен. Это добровольно избираемая на высшей ступени аскезы голодная смерть; появление ее, однако, всегда сопровождалось религиозными фантазиями и даже суевериями, что сообщает ему не вполне отчетливый вид. Представляется, однако, что полное отрицание воли может достигнуть такой силы, когда отпадает даже та воля, которая необходима для поддержания телесной жизни принятием пищи. Этот род самоубийства вовсе не вытекает из воли к жизни: аскет, достигший такой абсолютной резиньяции, перестает жить только потому, что он совершенно перестал
340
хотеть. Другой род смерти, помимо голодной, здесь даже и немыслим (разве придуманный каким-нибудь особым изуверством), ибо желание сократить мучения было бы уже, в сущности, некоторой степенью утверждения воли. Догматы, которые наполняют разум такого подвижника, внушают ему при этом иллюзию, будто существо высшей природы предписало ему тот пост, к которому его зовет внутреннее влечение. Давнишние примеры этого можно найти в «Бреславском сборнике историй, происшедших в природе и медицине» (сентябрь 1799 г., с. 363 и ел.); у Бейля в «Nouvelles de la république des letters»* (февраль 1685, с. 189 и сл.); у Циммермана «Об отшельничестве» (т. I, с. 182); в «Histoire de l’academie des sciences» 1764 г. — рассказ Хауттюйна (Houttuyn), воспроизведенный в «Сборнике для практических врачей» (т. 1, с. 69). Новейшие сведения можно найти у Гуфеланда в «Журнале практической медицины» (т. X, с. 181 и т. XLVIII, с. 95), а также у Нассе в «Журнале для психиатров» (1819, вып. 3, с. 460); в «Edinburgh medical and surgical Journal»** (1809, т. V, с. 319). В 1833 г. все газеты сообщили, что английский историк д-р Лингард в январе в Дувре нарочно уморил себя голодом; по дальнейшим сведениям, это оказался не он сам, а его родственник. Однако подобные известия по большей части рисуют таких людей безумными, и нельзя удостовериться, в какой степени это справедливо. Но одно новейшее известие такого рода мне хочется здесь привести — хотя бы только в целях более надежного сохранения одного из редких примеров затронутого здесь поразительного и необычайного феномена человеческой природы, который, по крайней мере по видимости, относится туда, куда я хотел бы причислить его, и иначе едва ли может быть объяснен. Упомянутое новейшее известие находится в «Нюрнбергском корреспонденте» от 29 июля 1813 г. и гласит:
«Из Берна сообщают, что близ Турнена в густой чаще нашли хижину и в ней уже около месяца разложившийся труп мужчины в одежде, которая мало разъясняла состояние ее владельца. Около трупа лежали две очень тонкие сорочки. Самым важным предметом оказалась Библия с вшитыми чистыми листами, которые отчасти были исписаны покойным. Он сообщает в них день своего отъезда из дома (родина, однако, не названа), а затем говорит про себя: Дух Божий внушил ему удалиться в пустыню для молитвы и поста; на пути туда он уже семь дней постился, а потом снова принимал пищу; затем, водворившись на месте, он опять начал поститься и делал это в течение стольких-то дней, — тут каждый день отмечен чертой, и таких дней обозначено пять, по истечении которых отшельник, видимо, умер. Кроме того, найдено еще письмо к священнику по поводу проповеди, которую покойный слышал от него, но и здесь адреса не указано».
Между этой добровольной смертью, вызванной крайним пределом аскетизма, и обычным самоубийством от отчаяния, конечно, существуют различные промежуточные ступени, и объяснить их нелегко; но в человеческой душе есть такие глубины, темные бездны и хитросплетения, которые необычайно трудно осветить и распутать.
341
§ 70
Могут, пожалуй, признать всю нашу теперь законченную характеристику отрицания воли несовместимой с прежним доказательством того, что необходимость столь же присуща мотивации, как и всякому другому виду закона основания, и что в силу нее мотивы, как и все причины, являются только случайными причинами, в связи с которыми характер раскрывает свою сущность и проявляет ее с необходимостью закона природы, отчего мы выше и отвергли совершенно свободу воли как liberum arbitrium indifferentiae*. Нисколько не отказываясь от этого взгляда, я здесь даже напоминаю о нем. В действительности подлинная свобода, т. е. независимость от закона основания, свойственна только воле как вещи в себе, а не ее проявлению, формой которого, по существу, везде выступает закон основания, стихия необходимости. Однако единственный случай, где эта свобода может непосредственно обнаружиться и в явлении, — это когда она полагает конец тому, что является; и так как при этом явление, живое тело, будучи звеном в цепи причин, продолжает все-таки существовать во времени, которое содержит в себе только явления, то воля, раскрывающаяся в этом явлении, вступает с ним тогда в противоречие, отрицая то, что это явление выражает. При таком положении вещей гениталии, например, как возможность полового инстинкта существуют и совершенно здоровы, и тем не менее даже в глубине души нет желания полового удовлетворения, и все тело составляет только видимое выражение воли к жизни, между тем как соответствующие этой воле мотивы уже не действуют; мало того, даже распадение тела, конец индивида и тем самым величайшее торможение естественной воли оказываются желанными. Противоречие между нашими утверждениями о необходимости определения воли мотивами, в соответствии с характером, с одной стороны, и о возможности полного упразднения воли, отнимающего у мотивов всякую силу, с другой стороны, — это противоречие является лишь воспроизведением в философской рефлексии того описанного только что реального противоречия, которое вытекает из непосредственного вторжения чуждой всякой необходимости свободы воли в себе — необходимость ее проявления. Ключ к примирению этих противоречий лежит в том, что состояние, при котором характер освобождается от власти мотивов, вытекает не непосредственно из воли, а из изменения в способе познания. А именно, пока это познание заключено в principio individuationis и безусловно следует закону основания, до тех пор власть мотивов неодолима; когда же мы постигаем prinapium individuationis и непосредственно познаем идеи, даже сущность вещей в себе как одну и ту же волю во всем, и из этого познания возникает для нас общий квиетив желания, тогда отдельные мотивы становятся бессильными, потому что соответствующий им способ познания оттесняется совершенно другим способом. Поэтому хотя характер и не может никогда изменяться по частям, а должен с последовательностью закона природы осуществлять в отдельных моментах ту волю, проявление которой он есть в целом, — но именно это целое,
342
самый характер могут быть совершенно упразднены в силу упомянутого выше изменения в познании. Это упразднение Асмус, как я уже сказал, и называет с изумлением «кафолическим, трансцендентальным изменением», христианская же церковь очень метко именует его возрождением, а познание, из которого он исходит, — благодатью77. Именно потому, что здесь речь идет не об изменении, а о полном упразднении характера, именно поэтому, как бы ни были различны характеры до постигшего их упразднения, после этого они все же обнаруживают большое сходство в своих действиях, хотя каждый и говорит еще очень различно.
Таким образом, в этом смысле старая, вечно оспариваемая и вечно утверждаемая философема о свободе воли небезосновательна, и церковный догмат о благодати и возрождении не лишен значения и смысла. Но мы неожиданно видим, что эта философема и этот догмат сливаются воедино, и мы теперь можем понять, в каком смысле замечательный философ Мальбранш сказал: «La liberté est un mysterè»*, и почему он был прав. Ибо именно то, что христианские мистики называют благодатью и возрождением, служит для нас единственным непосредственным проявлением свободы воли. Оно наступает лишь тогда, когда воля, достигнув познания своей сущности, обретает для себя в результате этого познания квиетив и тем освобождается от действия мотивов, лежащего в сфере другого способа познания, объектами которого служат только явления. Возможность такого проявления свободы составляет величайшее преимущество человека, навеки чуждое животному, так как условием этой возможности является обдуманность разума, которая позволяет обозревать жизнь в целом независимо от впечатлений настоящего. Животное лишено всякой возможности свободы, как лишено даже возможности подлинного, т. е. обдуманного выбора решений, предваряемого законченным конфликтом мотивов, которые для этого должны были бы выступить в виде абстрактных представлений. Поэтому с такой же необходимостью, с какой камень падает на землю, голодный волк вонзает свои зубы в мясо дичи, не имея возможности познать, что он есть одновременно и терзаемый, и терзающий. Необходимость — это царство природы, свобода — это царство благодати.
Поскольку, как мы это видели, самоупразднение воли исходит из познания, а всякое познание и понимание, как таковые, не зависят от произвола, то и описанное отрицание желания, приобщение к свободе не может быть вызвано преднамеренно, а вытекает из сокровенного отношения познания к желанию в человеке и потому наступает внезапно, как бы по наитию. Поэтому-то церковь и назвала его действием благодати, но так как последнее обусловлено еще, с ее точки зрения, восприятием благодати, то и действие квиетива, в конце концов, есть свободный акт воли. И так как в результате подобного действия благодати в корне изменяется и преобразуется все существо человека, так что он ничего уже не желает из всего того, чего до сих пор так страстно хотел, и действительно ветхий человек как бы совлекается в нем для нового, то церковь и назвала этот результат действия благодати возрождением. Ибо то, что она именует естественным человеком, отказывая ему в ка-
343
кой-либо способности к добру, — это и есть воля к жизни, которая должна быть отринута, если мы хотим достигнуть освобождения от бытия, подобного нашему. За нашим бытием скрывается нечто иное, что становится для нас доступным только в силу того, что мы совлекаем с себя мир.
Имея в виду не индивидов согласно закону основания, но идею человека в ее единстве, христианское вероучение символизирует природу, утверждение воли к жизни в лице Адама, чей грех, унаследованный нами, т. е. наше единство с ним в идее, выражаемое во времени узами рождения, делает нас всех сопричастными страданию и вечной смерти, между тем как благодать, отрицание воли, спасение оно символизирует в лице вочеловечившегося Бога, который, будучи свободен от всякой греховности, т. е. от всякой воли к жизни, не мог поэтому и произойти, подобно нам, из решительного утверждения воли и не может, подобно нам, иметь тело, всецело представляющее собой конкретную волю, явление воли: нет, рожденный от непорочной Девы, он имеет лишь призрачное тело. Так гласит учение докетов78 — очень последовательных в этом отношении отцов церкви. В особенности учил этому Апеллес; против него и его последователей восстал Тертуллиан79. Но даже и Августин комментирует место «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной» (Рим. 8:3) следующим образом: «Non enim caro peccati erat, quae non de carnali delectatione nata erat: sed tarnen inerat ei similitudo carnis peccati, quia mortalis саго erat» (Liber 83, quaestion. qu. 66)*. Он же в своем произведении, названном «Opus imperfectum»** (l, 47), учит, что первородный грех — это одновременно и грех, и кара. Грех этот таится уже в новорожденных младенцах, но обнаруживается лишь тогда, когда они вырастут. Однако, согласно Августину, источник этого греха надо выводить из воли согрешающего. Таким грешником и был Адам, но в нем существовали мы все; Адам стал несчастным, и в нем мы все стали несчастными.
Действительно, учение о первородном грехе (утверждение воли) и о спасении (отрицание воли) — это великая истина, составляющая ядро христианства, тогда как все остальное по большей части только оболочка и покров либо деталь. Поэтому Иисуса Христа надо всегда понимать в общем смысле как символ, или олицетворение отрицания воли к жизни, а не индивидуально — все равно, опираться ли на его мифическую историю в Евангелиях, или на ту вероятную и истинную, что лежит в основе первой. Ибо ни та ни другая не могут дать полного удовлетворения. Они представляют собой только внешнюю форму правильного взгляда на него, форму, подходящую для народа, который всегда требует чего-нибудь фактического. То, что в новейшее время христианство забыло свое истинное значение и выродилось в плоский оптимизм, это нас здесь не касается.
Далее, изначальным и евангельским учением христианства является то, которое Августин в согласии с главами церкви защищал от пелагианских тривиальностей80; очистить его от ошибок и восстановить в преж-
344
нем виде Лютер считал главной целью своих стремлений, как он это прямо высказывает в своей книге «De servo arbitrio»*. Это учение о том, что воля не свободна, а имеет изначальную склонность ко злу, и поэтому дела ее всегда греховны, недостаточны и никогда не могут удовлетворить справедливости; что, следовательно, спасает только вера, а вовсе не эти дела, сама же эта вера вытекает не из намерений и не из свободной воли, а дается нам благодатью и без нашего содействия как бы сходит на нас извне81. Не только упомянутые ранее, но и этот последний истинно евангельский догмат принадлежат к числу тех, которые в наши дни грубое и плоское миросозерцание отвергает как абсурдные или скрывает, потому что, вопреки Августину и Лютеру, оно склоняется к тривиальному пелагианству (таков характер современного рационализма), считает чем-то устарелым именно эти глубокомысленные догматы, присущие христианству в собственном смысле и существенные для него, и, наоборот, удерживает в качестве главного догмат, ведущий свое происхождение от иудейства и только на историческом пути соединившийся с христианством**. Мы же признаем в упомянутом учении ис-
345
тину, совершенно совпадающую с результатами наших размышлений. В самом деле мы видим, что истинная добродетель и святость помыслов имеют свой первоисточник не в обдуманном произволе (делах), а в познании (вере) — именно к этому и привела нас наша главная мысль. Если бы к блаженству вели дела, вытекающие из мотивов и обдуманных намерений, то добродетель была бы всегда только умным, методическим, дальновидным эгоизмом, и с этим ничего нельзя было бы поделать.
Вера же, которой христианская церковь обещает спасение, состоит в следующем: подобно тому как все мы грехопадением первого человека стали сопричастными греху и подпали погибели и смерти, так мы все обретаем спасение только по благодати и вследствие того, что нашу огромную вину взял на себя божественный посредник, и притом без всякой заслуги с нашей стороны (со стороны личности), ибо все то, что проистекает из преднамеренных (мотивированных) поступков личности, наши дела никогда не могут нас оправдать просто уже по своей природе, именно потому, что это дела преднамеренные, что они вызваны мотивами и составляют opus operatum*. Таким образом, вера эта прежде всего предполагает, что наше состояние изначально, по существу, лежит во зле и мы нуждаемся в спасении, что, далее, мы сами в своем существе причастны злу и тесно связаны с ним, так что наши дела, совершаемые согласно закону и предписаниям, т. е. по мотивам, никогда не могут удовлетворить справедливости, не могут спасти нас; поэтому спасение дается только верою, т. е. измененным способом познания, а сама вера может исходить только от благодати, т. е. как бы извне: это значит, что спасение есть нечто совершенно чуждое нашей личности и для спасения необходимо отрицание и прекращение именно этой личности. Дела, соблюдение закона, как такового, никогда не могут оправдать, потому что они всегда представляют собой действие по мотивам. Лютер требует (в книге «De libertate Christiana»)**, чтобы, когда зародилась вера, добрые дела вытекали из нее сами собою как ее симптомы, как ее плоды, но чтобы сами по себе они никогда не служили притязанием на заслугу, оправдание или награду, а совершались вполне добровольно и бескорыстно. Так и мы выводили из постепенно уясняющегося постижения principii individuationis сначала только свободную справедливость, затем любовь до полного отречения от эгоизма и, наконец, резиньяцию, или отрицание воли.
Я привел здесь эти догматы христианского вероучения, сами по себе чуждые философии, только для того, чтобы показать, что вытекающая из всего нашего рассуждения и находящаяся в полном соответствии со всеми его частями этика, хотя по форме еще нова и неслыханна, по существу же вовсе не такова, а вполне согласуется с подлинно христианскими догматами и, по существу, даже содержится и присутствует в них, подобно тому как она столь же точно соответствует учениям и этическим предписаниям священных книг Индии, изложенным опять-таки в совершенно иной форме. В то же время напоминание о догматах христианской церкви помогло мне уяснить и осветить мнимое проти-
346
воречие между необходимостью всех обнаружений характера при данных мотивах (царство природы), с одной стороны, и свободой, с которой воля в себе может отречься от самой себя и упразднить характер со всей основывающейся на нем необходимостью мотивов (царство благодати), с другой стороны.
§ 71
Завершая здесь характеристику основных черт этики, а с ней и все развитие той единой мысли, изложение которой было моей целью, я вовсе не желаю скрывать упрека, относящегося к этой последней части моего труда: напротив, я покажу, что он коренится в самом существе предмета и избежать его решительно невозможно. Он заключается в следующем: после того как мы усмотрели в совершенной святости отрицание и прекращение всякого желания и именно потому освобождение от мира, все бытие которого предстало перед нами как страдание, — теперь именно это состояние оказывается для нас переходом в пустое ничто.
По этому поводу ж прежде всего должен заметить, что понятие ничто по своему существу относится и всегда простирается на нечто определенное, которое оно отрицает. Это свойство было приписано (а именно Кантом) только nihilo privativo*; оно, в противоположность знаку +, отмечается знаком –, который при обратной точке зрения может превратиться в +; и в противоположность этому nihilo privativo установили nihil negativum**, которое будто бы есть во всех отношениях ничто; в качестве примера последнего приводили логическое, само себя уничтожающее противоречие. Но при ближайшем рассмотрении мы убеждаемся, что абсолютное ничто, действительное nihil negativum, просто немыслимо, а каждое nihil этого рода, рассматриваемое с более высокой точки зрения или подведенное под более общее понятие, всегда оказывается опять-таки лишь nihil privativum. Каждое ничто есть ничто лишь постольку, поскольку оно мыслимо по отношению к чему-нибудь другому и поскольку уже предполагает это отношение, а следовательно, и это другое. Даже логическое противоречие есть лишь относительное ничто. Оно не есть нечто разумно мыслимое, но это еще не значит, что оно есть абсолютное ничто. Ибо оно есть сопоставление слов, пример немыслимого, необходимый в логике для установления законов мышления; оттого если для этой цели прибегают к такому примеру, то сохраняют бессмыслицу как нечто положительное и искомое, а через смысл как нечто отрицательное перескакивают. Таким образом, всякое nihil negativum, или абсолютное ничто, если его подчинить высшему понятию, является простым nihil privativum, или относительным ничто, которое всегда может поменяться знаками с тем, что оно отрицает, так что последнее может мыслиться как отрицание, само же оно — как нечто положительное. С этим согласуется и результат трудного диалектичес-
347
кого исследования ничто,
которое Платон проводит в «Софисте» (с. 277— 287, Bip.): «Cum enim
ostenderemus, alterius ipsius naturam esse, perque
To, что всеми принимается как положительное, что мы называем сущим и отрицание чего выражается понятием ничто в самом общем его значении, — это и есть мир представления, который, как я показал, выступает объективностью воли, ее зеркалом. Эта воля и этот мир есть и мы сами, и к нему относится представление вообще как одна из его сторон; формой этого представления являются пространство и время, и потому все сущее для этой точки зрения должно существовать где-нибудь и когда-нибудь. К представлению относится затем и понятие, материал философии, и, наконец, слово, знак понятия. Отрицание, упразднение, переворот воли есть в то же время и упразднение, исчезновение мира, ее зеркала. Если мы не видим ее больше в этом зеркале, то мы тщетно спрашиваем, куда она удалилась, и сетуем, потому что у нее нет уже больше где и когда — она обратилась в ничто.
Противоположная точка зрения, если бы она была для нас возможна, поменяла бы знаки, и сущее для нас оказалось бы ничем, а ничто — сущим. Но пока мы сами представляем собой волю к жизни, это последнее может познаваться и обозначаться нами только отрицательно, ибо старое положение Эмпедокла, что подобное познается только подобным84, именно в данном случае лишает нас всякого познания, как и, с другой стороны, именно на нем основывается в конечном счете возможность всякого нашего действительного познания, т. е. мир как представление, или объектность воли. Ибо мир — это самопознание воли.
Но если бы надо было во что бы то ни стало достигнуть какого-нибудь положительного знания о том, что философия может выразить только негативно, как отрицание воли, то нам не оставалось бы ничего другого, кроме как указать на состояние, которое испытали все те, кто возвысился до совершенного отрицания воли, и которое обозначают словами «экстаз», «восхищение», «озарение», «единение с Богом» и т. п.; однако это состояние, собственно, нельзя назвать познанием, ибо оно уже не имеет формы субъекта и объекта и доступно только личному непередаваемому опыту каждого.
Мы же, всецело оставаясь на точке зрения философии, должны здесь удовлетвориться отрицательным знанием, довольные тем, что достигли крайних пределов знания положительного. Если мы, таким образом, познали внутреннюю сущность мира как волю и во всех его проявлениях увидели только ее объектность, которую проследили от бессознательного порыва темных сил природы до сознательной деятельности человека, то мы никак не можем избежать вывода, что вместе со свободным отрицанием, прекращением воли, упраздняются и все те явления, то беспрестанное и бесцельное стремление на всех ступенях объектности,
348
в котором и через которое существует мир, упраздняется многообразие преемственных форм, вместе с волей упраздняются и все ее явления и, наконец, всеобщие его формы — пространство и время, а также последняя его основная форма — субъект и объект. Нет воли — нет представления, нет мира.
Перед нами остается, конечно, только ничто. Но ведь то, что противится этому растворению в ничто, наша природа есть, собственно, только воля к жизни, и волей этой предстаем мы сами, как и она является нашим миром. То, что нас так ужасает ничто, есть лишь иное выражение того, что мы так сильно желаем жизни и сами суть не что иное, как эта воля, и не знаем ничего, кроме нее.
Но если мы от нашей личной нужды и зависимости обратим свой взор на тех, кто преодолел мир, в ком воля, достигнув полного самопознания, вновь нашла себя во всем и затем свободно сама себя отринула, и кто только ожидает момента, когда исчезнет ее последняя искра и с нею тело, которое она животворит, — то вместо непрестанного стремления, вместо постоянного перехода от желания к страху и от радости к страданию, вместо никогда не удовлетворяемой и никогда не замирающей надежды, в чем и проходит сон жизни волящего человека, — вместо всего этого нам предстанет глубокий покой и мир, который выше всякого разума, та полная умиротворенность души, то несокрушимое упование и та ясность, одно только отражение которых на лице, как его воспроизвели Рафаэль и Корреджо, есть целое и несомненное Евангелие: осталось только познание, воля исчезла. Мы же с мучительной и глубокой тоской взираем тогда на это состояние, рядом с которым наше положение, горестное и безотрадное, является по контрасту во всем своем свете. Тем не менее зрелище это — единственное, что может нас надолго успокоить, если мы, с одной стороны, познаем, что неисцелимое страдание и бесконечное горе присущи явлению воли, миру, а с другой стороны, увидим, как с уничтожением воли исчезает и мир и перед нами остается только пустое ничто. И рассеивать мрачное впечатление этого «ничто», которое в качестве последней цели стоит за всякой добродетелью и святостью и которого мы боимся, как дети боятся темноты, — рассеивать это впечатление мы должны путем созерцания жизни и подвижничества святых, которых, конечно, редко удается встретить в личном опыте, но их ставит перед нашими глазами записанное их житие и запечатленное внутренней правдой искусство. И не следует обходить это «ничто», как это делают индийцы с помощью своих мифов и бессодержательных слов, вроде погружения в Брахму85 или нирвану буддистов. Мы же, напротив, открыто исповедуем: то, что остается после окончательного упразднения воли для всех тех, кто еще исполнен воли, есть, конечно, ничто. Но и наоборот: для того, в ком воля обратилась и отринула себя, этот наш столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями — ничто*.
Критика кантовской
философии
C’est le privilège du vrai génie,
et surtout du génie qui ouvre
une carrière,
de faire impunément de
grandes fautes.
Voltaire*
Указать на ошибки и заблуждения великого ума несравненно легче, чем дать ясный и обстоятельный отчет о его достоинствах. Ведь ошибки — это нечто частное и конечное, то, что сразу же бросается в глаза. Наоборот, печать, налагаемая гением на свои создания, состоит в том именно, что богатство их содержания никогда не может быть до конца постигнуто и исчерпано, поэтому-то они и становятся неустаревающими учителями[266] целого ряда столетий. Совершенное творение истинно великого духа вечно будет производить глубокое и проникновенное действие на все человечество, настолько мощное, что нельзя предсказать, сколь отдаленные времена и страны будут подвластны его просветляющему влиянию. И так будет каждый раз, потому что, какой бы просвещенной и богатой ни была эпоха, в которую возникло это создание, гений, подобно кроне пальмы, всегда будет возвышаться над почвой, его произрастившей.
Однако это глубоко проникающее и отдаленно проявляющееся влияние не может обнаружиться сразу, так как слишком велико расстояние между гением и обыкновенными людьми. Истина, которую одинокий гений добыл в течение одного человеческого века непосредственно из жизни и мира, которую он приобрел и готовой передал другим, не может сделаться тотчас же достоянием человечества, ибо последнее не имеет такой же силы для того, чтобы принимать, какую имеет он для того, чтобы давать. Мало того, даже выдержав борьбу с недостойными противниками, посягающими на жизнь бессмертной истины при самом ее рождении и готовыми задушить дело спасения человечества еще в зародыше — подобно змеям у колыбели Геркулеса, — она, эта истина, должна сперва блуждать окольными путями бесчисленных кривотолков
350
и нелепых применений, вытерпеть попытки слияния с отжившими заблуждениями и так жить в борьбе, пока ее не подхватит новое, беспристрастное поколение, которое всевозможными путями, из тысячи отводных каналов, еще в молодости, воспримет содержание этого спасительного источника, постепенно усвоит его себе и сделается, таким образом, причастным тому благодеянию, которое должно было излиться на человечество от великого ума. Так медленно идет воспитание человеческого рода, слабого, но упрямого питомца гения.
Точно так же вся сила и значимость учения Канта откроется лишь со временем, когда самый дух времени, постепенно сложившись под влиянием этого учения и изменившись в наисущественнейшем и глубочайшем своем содержании, даст живое свидетельство мощи этого гигантского ума. Впрочем, не буду брать на себя неблагодарной роли Калхаса[267] и Кассандры, дерзко упреждая полет времени. Да будет мне только позволено рассматривать учение Канта как все еще весьма актуальное в своей новизне, несмотря на то что в наши дни иные считают его уже устаревшим и откладывают в сторону как вещь конченную, или, по их выражению, оставшуюся позади, а другие, набравшись из подобных рассуждений наглости, совсем игнорируют его и с упорством медных лбов продолжают философствовать о Боге и душе, опираясь на предпосылки старого реалистического догматизма с его схоластикой, что похоже на то, как если бы в новой химии стали придавать значение бредням алхимиков. Впрочем, творения Канта не нуждаются в моем мало что значащем похвальном слове: они сами будут во веки веков прославлять своего творца и постоянно жить на земле, если не по своей букве, то по своему духу. Разумеется, если мы бросим взгляд на ближайшие результаты учения Канта, а именно на развитие событий в послекантовской философии, то увидим грустное подтверждение слов Гёте: «Как воды, вытесняемые кораблем, сейчас же опять сходятся за его кормой, так и заблуждения, рассеянные выдающимися умами, очень скоро, в силу закона природы, снова заполняют собой очищенное место» («Поэзия и правда». Ч. 3. С. 521). Но этот период был только обычным эпизодом в упомянутой выше судьбе всякой новой и великой истины — эпизодом, который теперь, без сомнения, близится к концу, причем так долго надувавшийся мыльный пузырь собирается наконец лопнуть. Все начинают осознавать, что истинная и серьезная философия все еще стоит на том самом месте, где ее оставил Кант. Во всяком случае, я не признаю, чтобы между ним и мною было что-либо сделано в области философии; поэтому я примыкаю непосредственно к Канту.
Цель, достижению которой служит данное приложение, состоит, собственно, лишь в том, чтобы оправдать мое учение, поскольку оно во многих пунктах не только расходится с кантовским, но и прямо ему противоречит. Но разобраться в этом необходимо, потому что мое собственное движение мысли, при всем его отличии от кантовского, всецело находится под его влиянием, непременно им обусловливается и из него вытекает, и я признаю, что лучшим в моем собственном развитии я обязан, после впечатлений наглядного мира, творениям Канта, равно как священному писанию индусов и Платону. Если, несмотря на это, я во многом не согласен с Кантом, то оправдать свое
351
несогласие я могу не иначе как изобличив его заблуждения и вскрыв сделанные им ошибки. Вот почему я буду здесь вполне энергично и серьезно полемизировать с Кантом, ибо только таким путем можно отделить зерна от плевел в его учении, и тогда истина последнего выступит с тем большей ясностью и силой. Поэтому не следует ожидать, чтобы мое искреннее благоговение перед Кантом распространялось и на его слабости и ошибки и чтобы я стал относиться к ним осторожно и снисходительно, в результате чего, из-за умолчаний, моя собственная манера сделалась бы слабой и вялой. Нет, такого рода снисходительность позволительна по отношению к живому лицу, ибо человеческая слабость с трудом выносит и самое справедливое возражение, хотя бы оно и было прикрыто любезностью и лестью, а учитель веков и благодетель человечества заслуживает по крайней мере того, чтобы щадили и его человеческую слабость и не причиняли ему лишней боли. От этой слабости, однако, избавился тот, кто уже окончил свой жизненный путь: его заслуги установлены прочно, ибо со временем их оценка все меньше зависит от любых попыток их преувеличения и умаления. Его ошибки должны быть отделены от сто достоинств, обезврежены и преданы забвению. Поэтому в своей полемике против Канта я имею в виду исключительно его слабости и ошибки, враждебно противостою им и веду с ними беспощадную войну, нисколько не прикрывая их, а, наоборот, намеренно выставляя их в самом ярком свете, чтобы тем вернее их уничтожить. Я не вижу в этом со своей стороны какой-либо несправедливости и неблагодарности по отношению к Канту. Но чтобы все-таки отвести от себя всякое подозрение в злонамеренности, я тотчас же во всеуслышание поведаю о своем глубочайшем благоговении перед Кантом, высказав вкратце то, что я считаю его величайшей заслугой, и я сделаю это обобщенно, что позволит мне не затрагивать тех пунктов, которые я буду затем оспаривать.
Величайшей заслугой Канта является различение явления и вещи в себе посредством указания на то, что между вещами и нами лежит еще интеллект, вследствие чего вещи не могут познаваться так, как они существуют сами по себе. К этой точке зрения Кант пришел под влиянием Локка (см. «Пролегомены ко всякой метафизике», § 13, прим. 2). Последний доказал, что «вторичные» качества вещей — звук, запах, цвет, твердость, мягкость, гладкость и т. п., — будучи результатом аффицирования чувств, не могут принадлежать объективному телу, вещи в себе; ей же он приписал лишь «первичные» качества, т. е. такие, которые обусловлены только пространством и непроницаемостью, — протяженность, фигуру, плотность, количество и подвижность. Но это столь легко замечаемое и лежащее, так сказать, на поверхности вещей различение было только юношеской прелюдией по сравнению с кантовским различением. Исходя из несравненно более высокой точки зрения, Кант показал, что и то, в чем Локк видел gualitates primarias[268]*[269], т. е. свойства вещи в себе, на самом деле принадлежит только ее проявлению в нашей познавательной способности, и именно потому, что условия этих свойств — пространство, время и причинность — познаются нами a priori[270]. Локк, таким образом, отделил от вещи в себе элемент,
352
привносимый в ее проявление органами чувств; Кант же отделил и элемент, привносимый функциями мозга (хотя он и не употребляет данный термин), вследствие чего различение вещи в себе и явления получило гораздо более значимый и глубокий смысл. Но для этого Кант должен был предпринять громадный труд отделения априорных элементов нашего познания от апостериорных, что до него никем еще не было сделано с надлежащей строгостью и полнотой, отчетливо и сознательно; вот почему это отделение и явилось главным предметом его глубокомысленных изысканий.
Замечу прежде всего, что философия Канта находится в трояком[271] отношении к его предшественникам: во-первых, она подтверждает и расширяет философию Локка (как это мы сейчас видели); во-вторых, она утилизирует и в то же время исправляет философию Юма (что яснее всего сказывается в предисловии к «Пролегоменам», этому наиболее изящному и доступному произведению среди основных трудов Канта; к сожалению, его слишком мало читают, хотя оно необыкновенно облегчает изучение кантонской философии); и, в-третьих, она решительно опровергает лейбнице-вольфианскую философию. Вот почему необходимо знать все эти три системы, прежде чем приступать к изучению Канта. Но если, как сказано выше, различение явления и вещи в себе, т. е. учение о совершенной противоположности идеального и реального, является основной чертой кантонской философии, то воцарившееся вскоре после Канта утверждение абсолютного их тождества служит грустной иллюстрацией приведенного выше изречения Гёте, тем более что это утверждение не имело под собой никакой другой основы, кроме измышлений «интеллектуального созерцания»2, и было, в сущности, возвращением к плоским вульгарным взглядам, замаскированным подкупающе благостной миной и высокопарной галиматьей. Подобного рода утверждение стало достойной исходной точкой для еще более грубой бессмыслицы у пошлого и бездарного Гегеля3.
Насколько кантовское различение явления и вещи в себе превзошло по своей глубине все сделанное раньше в этой области, настолько же было оно плодотворно по своим результатам. В самом деле, совершенно новым путем, освещая предмет с совершенно новой точки зрения, Кант вполне самостоятельно пришел к той истине, которую неутомимо повторял Платон, выражая ее чаще всего следующим образом: «Этот чувствам являющийся мир не имеет истинного бытия, а есть лишь вечное становление; он одновременно и существует, и не существует, и познание его есть не столько познание, сколько призрачная мечта». То же самое высказывает Платон в форме мифа в начале седьмой книги «Государства»; в этом важнейшем месте его сочинений, о котором я упоминал в третьей книге моего основного произведения, он уподобляет людей узникам, прикованным к стене темной пещеры, не видящим ни изначального света, ни действительных вещей, которые проносят позади них перед входом в пещеру; узники видят только тени действительных вещей, которые скользят по стене, и тусклый свет огня в пещере; и они думают, что эти-то тени и есть настоящая действительность, а определение их чередования — настоящая мудрость. Ту же истину, хотя опять-таки в иной форме, содержит основное учение Вед и Пуран, а именно, учение о Майе4: под ним подразумевается то же самое, что Кант
353
называет явлением в отличие от вещи в себе, ибо создание Майи и есть этот видимый мир, в котором мы живем, это колдовство, этот неустойчивый и внутренне пустой призрак, который можно сравнить с оптическим обманом или сновидением, эта пелена, окутывающая человеческое сознание, — нечто такое, о чем одинаково верно и неверно сказать, что оно существует и что оно не существует. У Канта это учение не только изложено совершенно новым и оригинальным способом, но и приобрело статус доказанной и неоспоримой истины в результате спокойного и трезвого исследования проблемы; между тем как и у Платона, и у индусов оно было характеристикой общего взгляда на мир, и они выражали его как непосредственное свидетельство своего сознания, используя скорее язык мифа и поэзии, нежели ясную речь философии. Поэтому они стоят в таком же отношении к Канту, в каком пифагорейцы Гикет, Филолай и Аристарх, учившие о движении Земли вокруг неподвижного Солнца, — к Копернику. Такое ясное сознание и спокойное, строгое доказательство призрачности мира — основа кантовской философии, ее душа и вместе с тем ее величайшее достоинство. Кант достиг этого тем, что разобрал с удивительным искусством и обстоятельностью механизм нашего познания, создающий фантасмагорию объективного мира. Вся предшествующая западная философия, будучи несравненно более грубой, нежели кантовская, не знала этой истины и потому всегда говорила как бы во сне. Кант впервые пробудил ее, и оттого последние сони (Мендельсон) назвали его «всераздробляющим». Кант показал, что законы, с несокрушимой необходимостью царящие в бытии, т. е. в опыте вообще, неприложимы к объяснению самого бытия, что сила их чисто относительна, т. е. выступает в действие лишь с того момента, как уже дано бытие, мир опыта вообще, и что, следовательно, они не могли бы служить нам путеводной нитью, если бы мы захотели объяснить бытие мира и наше собственное бытие. Предшествовавшие Канту западные философы думали, что законы, по которым связаны явления (и которые все — пространство, время, причинность и логическое следование — я свожу к формуле закона основания), что эти законы абсолютны и ничем не обусловлены, aeternae veritates[272]*[273], что сам мир существует лишь благодаря им и сообразно с ними и что поэтому их путеводная нить должна вести к решению мировой загадки. Созданные для этой цели допущения (критикуемые Кантом под именем «идей разума») служили на самом деле лишь тому, что с их помощью возводили простое явление, создание Майи, мир теней Платона, в ранг единственной и высшей реальности, ставили ее на место глубочайшего и истинного существа вещей и вследствие этого делали невозможным истинное уразумение последнего, — одним словом, еще больше усыпляли спящих. Кант показал, что эти законы, а следовательно, и самый мир, обусловлены способом познания субъекта и что, следовательно, сколько бы мы ни исследовали и ни умозаключали под их руководством, в главном, т. е. в познании существа мира в себе и независимо от представления, мы не продвинемся ни на шаг вперед, а будем только вертеться как белка в колесе. Догматических философов уместно сравнить с теми людьми,
354
которые думали, что, продвигаясь все дальше вперед, можно дойти до конца мира; Кант же совершил своего рода кругосветное плавание и показал, что так как Земля кругла, то при одном горизонтальном движении никак нельзя выйти за ее пределы, хотя это, пожалуй, и не невозможно для движения перпендикулярного. Равным образом можно сказать, что учение Канта показывает, что начала и конца[274] мира следует искать не вне нас, а в нас самих.
А все это основывается на фундаментальном различии философии догматической от критической, или трансцендентальной философии5. Тому, кто пожелает уяснить себе это различие при помощи примера, не тратя много времени, я могу рекомендовать, как образчик догматической философии, одно рассуждение Лейбница, носящее заглавие «De rerum originatione radicali»* и впервые напечатанное в эрдманновском издании философских сочинений Лейбница (т. 1, с. 147). В этом рассуждении, на чисто догматический лад, при помощи онтологического и космологического доказательства6 и на основании veritatum aeternarum, весьма исправно a priori выведены происхождение и совершенство мира. Правда, мимоходом автор вынужден сознаться, что опыт показывает как раз противоположное продемонстрированному здесь совершенству, — ну, так опыту втолковывается, что он ничего не смыслит в этих вещах и должен держать язык за зубами, когда философия вещает a priori. Вот против такого-то метода и выступает в лице Канта критическая философия, она ставит под вопрос ventates aetemas, с помощью которых воздвигались подобные догматические постройки, ищет их источник и находит его в человеческой голове, где они вырастают из специально присущих ей и служащих дня восприятия объективного мира форм. Итак, в мозгу — вот где находится каменоломня, доставляющая материал для величественных догматических построек. Но чтобы дойти до этого результата, критическая философия должна была выйти за пределы veritates aeternas, на которые опирался предшествовавший догматизм; она должна была сделать их самих предметом своего исследования, т. е. стать трансцендентальной. В качестве таковой она учит, далее, что объективный мир, как мы его познаем, не относится к сущности вещей в себе, а есть лишь явление последней[275], обусловленное формами, лежащими a priori в человеческом интеллекте (т. е. в мозгу), и что поэтому в нем не может содержаться ничего, кроме явлений.
Кант не сделал вывод, что вещь в себе — воля, а мир как представление — явление. Но он показал, что являющийся мир столько же обусловлен субъектом, как и объектом; выделив общие формы его явления, т. е. представления, он показал, что их можно обозреть во всей закономерности и познать, исходя как из объекта, так и из субъекта, ибо они представляют, в сущности, смежную границу обоих; отсюда он заключил, что при помощи этих форм никогда нельзя проникнуть в глубь объекта, как и в глубь субъекта, т. е. невозможно познать истинное существо мира, вещь в себе.
Кант неправильно вывел вещь в себе (как я это покажу ниже), он допустил непоследовательность, за которую ему пришлось поплатиться
355
многочисленными и неотразимыми нападками на эту главную часть его учения. Он не признал в вещи в себе прямо волю, тем не менее он сделал в этом направлении великий шаг пионера, изобразив неоспоримое нравственное значение человеческих поступков как нечто совершенно отличное от законов явления, из них необъяснимое и стоящее в непосредственной близости к вещи в себе. В этом вторая заслуга Канта.
Третьей заслугой Канта является совершенное ниспровержение схоластической философии, под которой я подразумеваю период, начинающийся отцом церкви Августином и заканчивающийся непосредственно перед Кантом[276]. Сущность схоластики, по верному замечанию Теннемана, состоит в опеке государственной религии над философией, так что второй остается только доказывать и изукрашивать предписываемые первой догматы. Схоласты в собственном смысле, вплоть до Суареса7, сознательно приписывали философии эту роль; последующие философы делали то же самое бессознательно или, по крайней мере, не признавались в этом открыто. Обыкновенно считают, что схоластическая философия просуществовала приблизительно до Картезия, а с него начинается-де совершенно новая эпоха свободного и независимого от положительной догмы исследования; однако на деле у Декарта и его преемников* этой свободы исследования мы не находим, встречается
356
разве лишь ее видимость и, пожалуй, стремление к ней. Декарт обладал, конечно, выдающимся умом и сделал весьма многое, если принять во внимание его время. Но если оставить последнее в стороне и оценивать его с той точки зрения, освободил ли он, как это ему приписывают, мысль от всяких оков и открывает ли он новый период независимого, самостоятельного исследования, то окажется, что хотя он и придает себе вид скептика, сбрасывающего путы мнений, изначально привитых средой и временем, однако делает он это еще несерьезно, лишь напоказ и на одно мгновение, для того чтобы сейчас же снова и тем сильнее связать себя ими. Так же поступают и его преемники — вплоть до Канта. К свободному мыслителю такого рода отлично подходят стихи Гёте:
Прошу
простить, но по своим приемам
Он
кажется каким-то насекомым,
Полулетя,
полускача,
Он свиристит, как саранча8.
Кант имел основания делать вид, будто и он думает так же точно. Однако из обманчивого прыжка, который был ему дозволен, так как уже знали, что он приводил назад в траву, на сей раз вышел полет, и стоящим внизу остается только провожать его глазами, без надежды на его возвращение.
Итак, Кант отважился вывести из своего учения недоказуемость всех этих столь долго и столь мнимо доказывавшихся догматов. Спекулятивная теология и связанная с ней рациональная психология получили от него смертельный удар9. С тех пор они исчезли из немецкой философии, и после их крушения не следует заблуждаться на этот счет, даже если здесь или там сохранились сами термины, или если какой-нибудь жалкий профессор философии, имея в душе страх Господень, позволяет все же истине оставаться истиной. Оценить вполне всю значимость этой заслуги Канта может лишь тот, кто знает, какое влияние оказывали эти догматы на естествознание, равно как и на философию даже у лучших писателей XVII и XVIII столетий. Происшедшая после Канта перемена тона и метафизической подоплеки в немецких естественно-научных сочинениях поразительна: до него они имели тот же характер, какой имеют и до сих пор в Англии. Эта заслуга Канта находится в связи с тем, что неосмысленное следование законам явления, возведение их в ранг вечных истин, т. е. возвышение преходящего явления до уровня самого существа мира, — говоря коротко, не знавший удержу в своем безумии реализм безраздельно царил во всей философии — древней, средневековой и новой. Беркли, как и до него Мальбранш, понял односторонность и ложность этого реализма, но не мог оказать ему достаточного противодействия, так как ограничился критикой лишь одного его пункта. Только Канту суждено было утвердить в Европе, по крайней мере в философии, идеалистическое понимание мира, господствующее во всей мусульманской Азии и представляющее даже предмет религиозных верований. До Канта, следовательно, мы были во времени, а теперь время в нас и т. д.
Равным образом и этика рассматривалась реалистической философией на основе законов мира явлений, которые считались абсолютными
357
и приложимыми к вещи в себе, поэтому нравственное учение основывалось то на эвдемонизме10, то на воле Творца, то, наконец, на понятии «совершенства» — понятии, собственно, пустом и бессодержательном, так как с его помощью обозначается просто некоторое отношение, получающее свой смысл только от вещей, к которым его прилагают: ведь «быть совершенным» значит не более, как «соответствовать какому-нибудь предполагаемому и данному при этом понятию», которое, следовательно, должно уже быть наперед установлено и без которого «совершенство» можно уподобить понятию числа, как такового, не дающего самостоятельно никакого конкретного представления о предметах. Если же при этом молчаливо предполагают понятие «человечества» и таким образом полагают в качестве морального принципа стремление к «совершенному человечеству», то это означает только то, что «люди должны быть такими, какими они должны быть», а от этого мудрости не прибавится. Собственно говоря, «совершенный» — это почти что синоним понятия «совокупный», которое означает, что к данному случаю или индивидуальному явлению применимы все предикаты, входящие в состав понятия данного рода <явлений>. Поэтому понятие «совершенство», употребляемое абсолютно и in abstracto, не имеет никакого смысла, как и болтовня о «всесовершеннейшем существе» и т. п. Все это — пустое словоизвержение. Тем не менее в прошлом столетии это понятие совершенства было расхожей монетой, осью, вокруг которой вращалось почти все морализирование и даже теологизирование. У всякого оно было на устах, так что под конец дело дошло прямо до неприличия. Даже лучшие писатели того времени, как, например, Лессинг, вязли самым плачевным образом в этих совершенствах и несовершенствах. При этом каждая сколько-нибудь мыслящая голова не могла не чувствовать, что это понятие лишено всякого положительного содержания, так как, подобно алгебраическому символу, означает просто отношение in abstracto. Кант, как я уже сказал, отделив несомненный и великий этический смысл поступков от области явления и его законов, признал в нем нечто, относящееся к вещи в себе, подлинной реальности мира, тогда как явление, т. е. пространство, время и все, что их наполняет и связывается в них по закону причинности, он изобразил хрупким и пустым сновидением.
Да послужит это краткое и вовсе не исчерпывающее своего предмета введение свидетельством моего уважения к великим заслугам Канта. Я написал эти строки как ради собственного удовлетворения, так и для того, чтобы воскресить заслуги Канта в памяти тех, кто захочет следовать за мной в беспристрастном раскрытии его ошибок, к которому я теперь и перехожу.
То, что великие достижения Канта должны были сопровождаться и великими ошибками, явствует уже с исторической точки зрения. В самом деле, хотя он произвел величайшую революцию в философии, положив конец господствовавшей в течение четырнадцати столетий схоластике (в широком смысле этого слова), и открыл новую, третью эпоху в мировой философии, однако непосредственный результат его выступления был почти отрицателен: так как он не оставил законченной
358
новой системы, за которую его последователям можно было бы хоть на известное время ухватиться, то все чувствовали, что произошло нечто великое, но никто не знал, что именно. Все прекрасно видели, что вся предшествовавшая философия была только бесплодной грезой, от которой теперь очнулось новое время, но никто не знал, что поставить на ее место. Образовалась страшная пустота, возникла неодолимая потребность чем-нибудь ее заполнить, пробудился всеобщий интерес, даже среди широкой публики. И вот, побуждаемые этой потребностью, а не внутренним порывом и ощущением силы (проявляющейся даже и в самые неблагоприятные моменты, как, например, у Спинозы), и лишенные всякого выдающегося таланта, некоторые господа принялись стряпать слабые, нескладные, подчас прямо нелепые теории, которым однажды взволнованное общество дарило свое внимание, долгое время внимая им с истинно немецким терпением.
Нечто подобное, вероятно, свершилось однажды в природе, когда великая катастрофа изменила земную поверхность, море и суша сдвинулись со своих мест и начертан был замысел нового мироздания. Но должно было пройти много времени, прежде чем природа могла создать новый ряд устойчивых форм, из которых каждая гармонировала бы с собой и другими: сперва выступили странные, чудовищные организмы, которые, не гармонируя друг с другом и сами с собой, не могли долго устоять, но остатки которых, существующие еще и теперь, хранят в себе память об этих потугах и колебаниях созидавшейся заново природы. И из того, что Кант вызвал в философии подобный же кризис и период чудовищных выродков, из этого можно заключить, что его дело было не закончено, было отрицательным и односторонним и сопровождалось крупными ошибками. К исследованию этих ошибок мы теперь и перейдем.
Прежде всего уясним себе и разберем основную мысль, которая выражает сверхзадачу всей «Критики чистого разума». Становясь на точку зрения своих предшественников, догматических философов, Кант исходит вместе с ними из следующих предположений: 1) метафизика есть наука о том, что находится за пределами всякого возможного опыта; 2) последнее никогда не может быть найдено на основании принципов, которые сами извлечены из опыта («Пролегомены», § 1); выходить за рамки возможного опыта может лишь то, что мы знаем до всякого опыта и, следовательно, независимо от него; 3) в нашем разуме действительно существуют некоторые принципы такого рода: это так называемые результаты познания на основе чистого разума. До этого пункта Кант идет вместе со своими предшественниками, но далее расходится с ними. Они говорят: «Эти принципы, или результаты познания на основе чистого разума, выражают абсолютную возможность вещей, aeternae veritates, и представляют собой основоположения онтологии, они господствуют над миропорядком, как фатум над богами древних». Кант же говорит: это просто формы нашего интеллекта, а не законы бытия вещей, это только законы наших представлений о них, и распространяются они поэтому лишь на наше восприятие вещей, но не могут идти далее возможного опыта, на что указывает первый тезис. Именно
359
априорность этих познавательных форм, которая основывается лишь на субъективном их происхождении, перекрывает для нас навсегда возможность познания сущности вещей и ограничивает миром простых явленна, так что мы никогда не можем познать вещи не только a posteriori, но тем более и a priori, — то, каковы они сами по себе. Поэтому метафизика невозможна, и ее место занимает критика чистого разума. Здесь Кант выступает победоносным противником старого догматизма, поэтому новейшие догматические попытки должны были избрать совершенно иной путь сравнительно со старыми, и согласно с целью настоящей «Критики» я должен теперь оправдать свой собственный догматизм. При более точном разборе приведенной выше аргументации Канта оказывается, что самое основное ее допущение содержит в себе petitionem principii*, она обнаруживается в следующем суждении (высказанном особенно ясно в «Пролегоменах», § 1): «Источник метафизики должен быть отнюдь не эмпирическим, ее основные принципы и понятия никоим образом не должны извлекаться из опыта, равно как внешнего, так и внутреннего». Однако для доказательства этого кардинального утверждения не приводится ничего, кроме этимологической ссылки на слово «метафизика». В действительности же дело обстоит следующим образом: мир и наше собственное бытие необходимо представляются нам загадкой; и вот без дальнейших рассуждений принимается, что решение этой загадки не может исходить из основательного уразумения самого мира, но что его следует искать в чем-то, совершенно от мира отличном (ибо именно это означает «за пределами возможного опыта»); далее, что из этого решения должно быть исключено все, о чем мы можем иметь какое-нибудь непосредственное знание (ибо таков смысл «возможного опыта, внутреннего и внешнего»); наконец, что эту разгадку нужно искать скорее в том, чего мы можем достигнуть лишь косвенно, а именно — путем заключения из всеобщих априорных положений. И вот, коль скоро был исключен таким образом главный источник познания и перекрыт прямой путь к истине, нечего удивляться, что догматические попытки не имели успеха, и Кант мог доказывать необходимость такой неудачи: ведь заранее предполагалось, что метафизика и познание a priori идентичны. Но для этого следовало бы сначала показать, что материал для решения мировой загадки не может содержаться в самом мире, а что его надо искать вне мира, в чем-то таком, куда можно проникнуть лишь с помощью названных a priori известных нам форм. Пока же это не доказано, мы не имеем никакого основания при решении важнейшей и труднейшей из всех задач перекрывать для себя доступ к наиболее содержательным источникам познания, внутреннему и внешнему опыту, с тем чтобы оперировать только лишенными всякого содержания формами. Я говорю поэтому, что решение мировой загадки должно вытекать из понимания мира; что, следовательно, задача метафизики состоит не в том, чтобы перепрыгнуть через опыт, в котором нам дан мир, а в том, чтобы понять опыт в его основании, так как опыт, внутренний и внешний, является, несомненно, главным источником познания; что поэтому лишь путем надлежащего и в соот-
360
ветственном пункте произведенного увязывания внешнего опыта с опытом внутренним и объединения, таким образом, этих двух столь разнородных источников познания, возможно решение мировой загадки, хотя тоже в известных только границах, неразлучных с нашей конечной природой, так что мы можем дойти до правильного понимания мира, не достигнув, однако, полного и исключающего всякие дальнейшие проблемы объяснения его бытия.
Таким образом, «est quadam prodire tenus»*, и мой путь лежит посередине между всезнайством старого догматизма и безнадежностью кантовской критики. Но открытые Кантом великие истины, сокрушившие старые метафизические системы, доставили данные и материал для моей системы. (Сравни со сказанным мною относительно моего метода в 17-й главе второго тома.) Вот что я хотел сказать об основной мысли Канта; рассмотрим теперь ее доказательство и частности.
Стиль Канта повсеместно отмечен печатью выдающегося ума, неподдельной, глубокой оригинальности и необычайной силы мышления; пожалуй, наиболее точная его характеристика — блестящая сухость: так умеет он безошибочно схватывать понятия, выделять их и затем с величайшей свободой распоряжаться ими, вызывая изумление у читателя. Такую же блестящую сухость я нахожу и в стиле Аристотеля, хотя последний гораздо проще. При всем том изложение Канта часто неясно, неопределенно, неудовлетворительно, подчас темно. Конечно, это объясняется отчасти сложностью предмета и глубиною мысли; однако тот, кто вполне ясен самому себе и отдает себе отчет в том, что думает и чего хочет, тот никогда не будет писать неясно, не будет употреблять шатких, неопределенных понятий и обозначать их набранными из чуждых языков переусложненными, тяжеловесными выражениями, продолжая и затем пользоваться ими, как поступает Кант, набирая термины и формулы из прежней, даже схоластической философии и делая из них нужные ему сочетания, например «трансцендентальное синтетическое единство апперцепции» или «единство синтеза», которое он всюду ставит там, где вполне достаточно было бы одного только слова «соединение». Тот не будет неоднократно объяснять однажды уже объясненное, как это делает Кант, например, с рассудком, категориями, опытом и другими главными понятиями. Тот не будет вообще без устали повторяться, оставляя при всяком новом изложении сто раз уже высказанной мысли те же темные места, но определит свое мнение раз и навсегда ясно, основательно и законченно и удовольствуется этим. «Quo enim melius rem aliquam concipimus, eo magis determinati sumus ad earn unico modo exprimendam»**, — говорит Декарт в своем пятом письме. Но величайший вред, какой принесла местами темная манера изложения Канта, заключается в том, что эта темнота подействовала, как «exemplar vitiis
361
imitabile»*, и получила значение пагубнейшего авторитета. Публика вынуждена была убедиться, что темное не всегда бывает бессмысленным, и вот бессмыслица скоро начала прятаться за темноту изложения. Фихте первым ухватился за эту новую привилегию и широко ею воспользовался; Шеллинг действовал по меньшей мере наравне с ним, а голодное стадо бездарных и бесчестных писак вскоре превзошло их обоих. Но величайшую наглость в фабрикации голой бессмыслицы и в нагромождении диких и пустых словосплетений, которые раньше можно было услышать только в домах для умалишенных, мы встречаем у Гегеля; в его руках она сделалась орудием самого грубого одурачивания публики и сопровождалась таким успехом, который покажется баснословным потомству и останется вечным памятником немецкой глупости[277]. Напрасно писал тем временем Жан Поль свои прекрасные параграфы о «Высшей оценке философского сумасбродства на кафедре и поэтического — на сцене» («Приготовительная школа эстетики»), ибо напрасно сказал еще Гёте:
И
мало ль вычурных систем
Возникло
на такой основе?
Глупцы
довольствуются тем,
Что
видят смысл во всяком слове13.
Но возвратимся к Канту. Нельзя не признать, что ему абсолютно чужды грандиозная античная простота, наивность, ingenuite, candeur**. Его философия не имеет ни малейшего сходства с греческой архитектурой, открывающей великие, простые, непосредственно доступные взгляду соотношения; она скорее очень сильно напоминает готические постройки. Индивидуальной особенностью кантовского ума является достойная удивления склонность к симметрии, которая выражается в любви к упорядочению пестрой множественности с последующим воспроизведением этого порядка в каждой отдельной части, совсем как в готических храмах. Занятие такого рода упорядочением Кант превращает подчас в своего рода забаву и в угоду ему иногда прямо-таки насилует истину, поступая с ней, как поступали с природой старые французские садовники — создатели симметричных аллей, растительных квадратов и треугольников, пирамидальных и шарообразных деревьев и математически правильно изгибающихся живых изгородей[278]. Я докажу это на фактах.
Рассмотрев отдельно пространство и время и отделавшись от всего этого наглядного мира, наполняющего время и пространство, в котором мы живем и существуем, отделавшись от него ничего не говорящими словами, что «эмпирическое содержание созерцания нам дано», Кант сразу, одним махом, перескакивает к логической основе всей своей философии, к таблице суждений14. Из этой таблицы он выводит ровно дюжину категорий, симметрично пришпиленных под четырьмя рубриками; впоследствии ей суждено превратиться под его руками в ужасное прокрустово ложе, на которое он уложит все происходящее в мире
362
и в человеке, не останавливаясь ни перед каким насилием и не стесняясь никакими софизмами, лишь бы только иметь возможность всюду повторить симметрию этой таблицы[279]. Первое, что из нее симметрично выводится, — это чистая физиологическая таблица всеобщих основоположений естествознания, а именно: аксиомы созерцания, антиципации восприятия, аналогии опыта и постулаты эмпирического мышления вообще. Из этих основоположений два первых просты; два же последних дают симметрично по три отростка. Просто категории — это у него то, что он называет понятиями; основоположения же естествознания — это суждения. Теперь, соответственно высшей путеводной нити всякой премудрости, т. е. симметрии, наступает черед явиться во всей своей плодотворности умозаключениям, что они и исполняют, опять-таки симметрично и в такт. Ибо, подобно тому как посредством применения категорий к чувственности вырастает для рассудка опыт с его априорными основоположениями, точно так же посредством применения умозаключений к категориям (каковую функцию выполняет разум с его мнимым принципом поиска безусловного) возникают идеи разума. Последнее совершается следующим образом. Три категории отношения дают три единственно возможных вида больших посылок умозаключений, соответственно чему и сами умозаключения распадаются тоже на три разновидности, из которых каждую можно рассматривать как яйцо, из коего разум высиживает по идее, а именно: из категорических умозаключений — идею души, из гипотетических — идею мира, из разделительных — идею Бога. В средней из них, в идее мира, повторяется еще раз симметрия таблицы категорий, так как четыре ее рубрики дают четыре тезиса, из которых каждому симметрично соответствует по антитезису.
Отдавая дань восхищения той действительно в высшей степени остроумной комбинации, которая породила это причудливое здание, перейдем, однако, к тщательному исследованию его фундамента и отдельных частей. Но предварительно необходимо сделать следующие замечания.
Удивительно, как Кант без оглядки идет своей дорогой, следуя правилу своей симметрии, все сообразно ей размещая, безо всякого внимания к самим размещаемым предметам. Выражусь яснее: принимая во внимание интуитивное познание в одной математике, он совершенно игнорирует остальное наглядное познание, в котором нам явлен конкретный мир, и держится исключительно отвлеченного мышления, вся значимость и ценность которого между тем приобретается только из наглядно познаваемого мира — бесконечно более важного, широкого и содержательного источника, нежели абстрактная часть нашего познания. Более того — и это главное — он даже не делает нигде различия между наглядным и отвлеченным познанием и вследствие этого, как увидим, запутывается в неразрешимых противоречиях. Покончив с целым чувственным миром ничего не значащими словами о его «данности», Кант, как я сказал выше, делает логическую таблицу суждений краеугольным камнем своего философского здания. При этом он ни на минуту не задумывается над тем, с чем он, собственно, имеет дело. Ведь эти формы суждения прежде всего слова и сочетания слов. Поэтому
363
прежде всего ему следовало бы спросить себя: что ими непосредственно обозначается? И тогда оказалось бы, что ими обозначаются известные понятия. Следующим вопросом был бы вопрос о сущности понятий. Из ответа на него выяснилось бы, в каком отношении находятся понятия к наглядным представлениям, в которых является мир, и тогда обнаружилась бы и разница между наглядным созерцанием и рефлексией. Нужно было бы, далее, исследовать, как возникает в сознании не только чистое и лишь формальное созерцание a priori, но и его содержание, эмпирическое созерцание. Тогда выяснилось бы, какое участие принимает в этом рассудок и, вообще, что такое рассудок и что такое разум, критика которого пишется. Весьма показательно, что Кант ни разу не дает настоящего и удовлетворительного определения последнего, а предлагает лишь случайные, всегда зависимые от контекста, неполные и неправильные пояснения — в полном противоречии с упомянутым правилом Декарта. Например, на с. 11 (V, 24) «Критики чистого разума»* разум есть способность априорных принципов; на с. 299 (V, 356) говорится еще раз, что разум есть способность формировать принципы, и он противополагается рассудку как способности формулировать правила. Можно подумать, что от принципов до правил далеко, как от неба до земли, коль скоро для тех и других принимается по особой способности познания. Между тем все это громадное различие сводится к тому, что познаваемое a priori в частном созерцании, или посредством форм рассудка, есть правило, и лишь то, что вытекает a priori из чистых понятий, есть принцип. К этому произвольному и несостоятельному различению мы еще вернемся при разборе диалектики. На с. 330 (V, 386) разум — способность умозаключения; простое же суждение Кант объявляет функцией рассудка (с. 69; V, 94). Этим он хочет, собственно, сказать следующее: суждение является функцией рассудка, поскольку основание суждения эмпирично или трансцендентально, т. е. металогично (см. трактат о законе основания, § 31, 32, 33)16; если же суждение имеет логическое основание, как в умозаключении, то здесь действует уже совершенно особая и более важная познавательная способность — разум. Или, что еще лучше, на с. 303 (V, 360) говорится, что непосредственные заключения из данного тезиса являются еще делом рассудка, и лишь те заключения, в которых употребляется опосредующее понятие, выполняются разумом; и в виде примера приводится, что заключение «некоторые люди смертны» из тезиса «все люди смертны» совершается еще рассудком; наоборот, заключение «все ученые смертны» требует уже совсем другой и гораздо более важной способности — разума. И до таких вещей мог договориться великий мыслитель. На с. 553 (V, 581) разум оказывается вдруг непременным условием самопроизвольных действий. Согласно с. 614 (V, 642) он заключается в способности отдавать себе отчет в наших утверждениях; на с. 643, 644 (V, 671, 672) он
364
объединяет рассудочные понятия в идеях, подобно тому как рассудок объединяет многообразие объектов в понятиях. На с. 646 (V, 647) он — не что иное, как способность выводить частное из общего.
Рассудок также толкуется всякий раз на новый лад — в семи местах «Критики чистого разума». На с. 51 (V, 75) он есть способность образовывать представления. На с. 69 (V, 94) — способность судить, т. е. мыслить, т. е. познавать посредством понятий. На с. 137 5-го изд. он есть вообще способность познания. На с. 132 (V, 171) — способность задавать правила. На с. же 158 (V, 197) говорится: «Он представляет собой не только способность задавать правила, но и источник основоположений, согласно которому все подчиняется правилам», — хотя несколькими строками выше он был противопоставлен разуму как единственному источнику принципов. На с. 160 (V, 199) он есть способность понятий, на с. же 302 (V, 359) — способность объединять явления посредством правил.
Мне нет надобности защищать предложенное мною твердое, ясное, определенное, простое и согласное со словоупотреблением всех времен и народов объяснение этих двух способностей познания — против таких поистине путаных и неосновательных высказываний (хотя бы они и принадлежали Канту). Я привел последние только в качестве иллюстраций к моему замечанию о том, что Кант следует логике своей симметричной системы, не обдумав как следует сам предмет, который он трактует таким образом.
Если бы Кант, как я заметил выше, серьезно исследовал, чем оказываются эти две столь различные способности познания (из которых одна составляет отличительный признак человека) и что, согласно обычному словоупотреблению, у всех народов и во все времена называется рассудком и разумом, то ему никогда не пришло бы в голову, не опираясь ни на какой исторически значимый прецедент, кроме употребления схоластами — в совершенно ином смысле — терминов intellectus theoreticus и practicus[280], разделять разум на теоретический и практический и превращать последний в источник нравственных поступков[281]. Равным образом, прежде чем отделять с такой заботливостью понятия рассудка (под которыми он подразумевает частью свои категории, частью все общие понятия) от понятий разума (так называемых «идей») и делать из того или другого материал своей философии, преимущественно рассматривающей значение, применимость и происхождение всех этих понятий, — прежде этого, говорю я, надо было ему исследовать, что такое понятие вообще. Между тем и задача осуществления этого столь необходимого исследования осталась у него, к сожалению, совершенно невыполненной, что немало способствовало тому злополучному смешению отвлеченного познания с наглядным, о котором я скоро буду говорить. Отсутствие же достаточной вдумчивости — из-за чего он ушел от вопросов: что такое созерцание? что такое рефлексия? что такое понятие? разум? рассудок? — это обстоятельство заставило его уйти от решения столь же безусловно насущных проблем, как, например, следующие: что такое предмет, отличаемый нами от представления! что такое существование? что такое объект? субъект? истина, иллюзия, заблуждение?
365
Между тем он, ничтоже сумняшеся, выстраивает без оглядки свою логическую схему и симметрию. Таблица суждений — вот ключ ко всякой премудрости!
Я признал выше главной заслугой Канта то, что он отличил явление от вещи в себе, объявил весь наш видимый мир явлением и потому отказал его законам в какой бы то ни было применимости за пределами явления. При всем том удивительно, как он не вывел этого чисто относительного существования мира явлений из простой, столь доступной и столь неопровержимой истины: «Нет объекта без субъекта», — чтобы таким образом уже изначально представить объект, поскольку он дан всегда только в отношении к субъекту: как то, что зависит от последнего и им обусловливается, как то, что представляет собой поэтому только явление, существующее не само по себе и не безусловно. Уже Беркли, достижениями которого Кант несправедливо пренебрегает, сделал это важное положение краеугольным камнем своей философии и снискал себе тем самым право на вечную признательность; но он не вывел из своего тезиса надлежащих следствий и частью остался непонятым, частью не вызвал к себе должного внимания. Отсутствие внимания со стороны Канта к этому положению у Беркли я объяснял в первом издании своего основного произведения его очевидной боязнью перед последовательным идеализмом; с другом стороны, я находил ясное выражение последнего во многих местах «Критики чистого разума» и потому упрекал Канта в противоречии с самим собою. И такой упрек вполне основателен, если знать «Критику чистого разума», как это было тогда со мной, только во втором или одном из пяти следующих, отпечатанных по второму, изданий. Когда же я позже прочитал главное сочинение Канта в ставшем уже редкостью первом издании, я к великой своей радости увидел, что все эти противоречия исчезают и что Кант хотя и не употребляет формулу «нет объекта без субъекта», однако с той же решительностью, как Беркли, объявляет лежащий в пространстве и времени мир лишь представлением познающего его субъекта; поэтому он без всяких околичностей и говорит там, например, на с. 383: «Если я устраню мыслящий субъект, то весь телесный мир должен исчезнуть, так как он представляет собой не что иное, как явление, обусловленное чувственным восприятием нашего субъекта, — известный род представлений последнего». Между тем все это место (с. 348— 392), где Кант столь явно и так прекрасно высказывает последовательно идеалистическую точку зрения, было им выброшено во втором издании и заменено множеством противоречащих ему положений. Вот почему циркулировавший с 1787 по 1838 г. текст «Критики чистого разума» был текстом искаженным и обезображенным, а сама «Критика» превратилась в противоречащую себе книгу, смысл которой ни для кого не мог быть вполне ясен и понятен. Подробности об этом, равно как и свои соображения насчет оснований, в силу которых Кант имел слабость так изуродовать свое бессмертное произведение, я изложил в письме к профессору Розенкранцу[282], который приводит главное место из него в своем предисловии ко второму тому изданного им Полного собрания сочинений Канта, куда я и отсылаю читателя. Дело в том, что в 1838 г. мои замечания
366
побудили профессора Розенкранца восстановить «Критику чистого разума» в ее первоначальном виде, и он напечатал ее в указанном втором томе по первому изданию 1781 г., чем оказал неоценимую услугу философии, более того, спас от гибели величайшее произведение немецкой литературы; эта его заслуга никогда не должна быть забыта. И пусть никто не воображает, будто он знает «Критику чистого разума» и имеет ясное представление об учении Канта, если он читал ее только во втором или в одном из следующих изданий: это просто невозможно, ибо он читал искаженный, испорченный, в известной мере неподлинный текст. И мой долг высказать здесь это прямо и предостеречь всякого.
Столь ясно выраженному в первом издании «Критики» последовательно идеалистическому взгляду явно противоречит способ, которым Кант вводит вещь в себе, и это противоречие несомненно было главным мотивом того, почему он выбросил из второго издания указанное идеалистическое место и высказался прямо против Беркли, чем, впрочем, внес только непоследовательность в свое собственное произведение и нисколько не способствовал устранению главного его недостатка. Я говорю о том способе введения понятия вещи в себе, несостоятельность которого была подробно указана в «Энезидеме» Г. Э. Шульце и признана затем слабым пунктом кантовской системы. Дело, коротко говоря, заключается в следующем. Кант основывает понятие вещи в себе (прикрываясь, правда, кое-какими оговорками) на заключении по закону причинности, а именно — на том, что эмпирическое созерцание, или, правильнее, ощущение в наших органах чувств, из которого оно исходит, должно иметь некоторую внешнюю причину. Между тем, согласно его же собственному и вполне верному открытию, закон причинности известен нам a priori, следовательно, он — функция интеллекта и, значит, по своему происхождению субъективен, далее, само чувственное ощущение, к которому мы применяем здесь закон причинности, несомненно тоже субъективно; и, наконец, даже пространство, в котором мы посредством этого применения помещаем причину ощущения как объект, дано a priori, следовательно, представляет собой субъективную форму нашего интеллекта. Таким образом, эмпирическое содержание остается всецело на субъективной почве, будучи лишь происходящим в нас процессом, и ничто от него совершенно отличное и независимое не может быть привнесено в качестве вещи в себе или не может быть допущено в качестве необходимого предположения. На самом деле эмпирическое созерцание есть и остается только нашим представлением: это — мир как представление. Сущность же его мы можем постигнуть, лишь следуя совершенно иным, проложенным мною путем, посредством обращения к самосознанию, в котором воля выступает как в себе нашего собственного явления; но тогда вещь в себе, как я это показал, представляет в качестве нечто toto genere* отличного от представления и его элементов.
В данном отношении этот, как было сказано, быстро выявленный недостаток кантовской системы можно определить при помощи прекрасной индийской поговорки «нет лотоса без стебля». Стебель здесь — оши-
367
бочный способ выведения понятия вещи в себе, но именно только способ выведения, а не признание того, что вещь в себе дана в явлении. Между тем как раз в последнем смысле понял дело Фихте — конечно, потому, что его интересовала не истина, а желание заставить говорить о себе для удовлетворения своих личных целей. Поэтому у него хватило дерзости и недомыслия совсем отбросить вещь в себе и построить систему, в которой не только формальная, как у Канта, но и материальная сторона представления (т. е. все его содержание) выводилась мнимо априорным путем из субъекта. Он рассчитывал при этом — и вполне правильно — на безрассудство и глупость публики, принимавшей плохие софизмы, фокус-покусы и бессмысленную пачкотню за доказательства: тем самым ему удалось отвлечь внимание публики от Канта, сосредоточить его на себе и дать немецкой философии то направление, в котором она была поведена далее Шеллингом и достигла наконец своего предела в бессмысленной зауми Гегеля.
Я возвращаюсь теперь к затронутой уже выше великой ошибке Канта, а именно — к недостаточному различению между наглядным и отвлеченным познанием, вследствие чего возникла ужасная путаница, которую мы теперь и рассмотрим ближе. Если бы Кант строго отделил наглядные представления от мыслимых лишь in abstracto понятий, то он учитывал бы разницу между ними и знал бы всякий раз, с каким из двух моментов он имеет дело. К сожалению, он этого не сделал, сколь бы неожиданным ни показался этот упрек, которого раньше ему не делали[283]. В самом деле, кантовский «объект опыта», о котором он постоянно говорит, истинный предмет категорий, не является ни наглядным представлением, ни отвлеченным понятием, а выступает как нечто отличное и от того и от другого и все же одновременно как то и другое вместе, как что-то совершенно невозможное. Ибо, сколь бы это ни казалось невероятным, Канту не хватило благоразумия или доброй воли для того, чтобы дать себе отчет в этом и определенно объяснить себе и другим, является ли его «предмет опыта, т. е. познания, осуществляемого путем применения категорий», — является ли он наглядным представлением во времени и пространстве (мой первый класс представлений), или он является только отвлеченным понятием. Как это ни странно, ему постоянно мерещится что-то среднее между обоими, и отсюда та несчастная путаница, которую я сейчас и выведу на свет; ради этой цели я прослежу в целом логику его учения.
Трансцендентальная эстетика — творение, исполненное таких необычайных достоинств, что его одного было бы достаточно для увековечения имени Канта[284]. Приведенные в ней доказательства столь убедительны, что я причисляю ее положения к неопровержимым истинам, равно как они принадлежат, несомненно, и к истинам самым плодотворным, и в них надо видеть, следовательно, крайне редкое в этом мире явление — истинное и великое открытие в области метафизики. Строго доказанный Кантом факт, согласно которому известная часть наших познаний осознается нами a priori, допускает лишь то объяснение, что эти познания представляют собою формы нашего интеллекта; и это даже не объяснение, а лишь отчетливое выражение данного факта. Ибо
368
априорное значит не что иное, как «полученное не из опыта, т. е. не привходящее в нас извне»[285]. То же, что есть в интеллекте кроме привходящего в него извне, — это нечто изначально ему присущее, его подлинная сущность. И если это изначально присущее самому интеллекту состоит в способе, каким вообще должны ему представляться все его предметы, то, значит, это — формы его познания, т. е. раз и навсегда установленный способ, каким он отправляет эту свою функцию. Поэтому выражения «познания a priori» и «присущие самому интеллекту формы» являются, по сути, двумя выражениями одной и той же вещи, т. е. они в известной степени синонимичны.
Содержание трансцендентальной эстетики я принимаю целиком и желаю лишь кое в чем его дополнить. В особенности в том, что касается непоследовательности Канта, не полностью отвергавшего евклидовский демонстративный метод, между тем как он же говорит ниже (с. 87; V, 120), что все геометрическое знание имеет непосредственную, интуитивную очевидность[286]. Весьма показательно, что даже один из противников Канта, и притом самый остроумный, Г. Э. Шульце («Критика теоретической философии», II, 241), делает вывод, что из учения Канта должно было бы вытекать совершенно иное понимание геометрии, нежели то, какое употребляется обычно, и видит в этом апагогический (косвенный) аргумент против Канта, — на деле же, сам не подозревая того, начинает войну против евклидовского метода. Отсылаю по этому поводу к § 15 первой книги моего основного произведения.
После данного в трансцендентальной эстетике подробного описания всеобщих форм всякого созерцания следовало бы ожидать и некоторых объяснений насчет ее содержания, насчет того, каким образом появляется в нашем сознании эмпирическое созерцание и каким образом возникает в нас познание всего этого столь реального и столь важного дня нас мира[287]. Между тем об этом в кантовском учении нет ни полслова, за исключением неоднократно повторяющегося и ничего не говорящего выражения: «Эмпирический элемент созерцания дается извне»[288]. Таким образом, от чистых форм созерцания Кант сразу перепрыгивает здесь к мышлению, к трансцендентальной логике. Уже в самом начале последней («Критика чистого разума», с. 50; V, 74), где ему нельзя уже обойти вопрос о материальном содержании и эмпирического созерцания[289], он делает первый ложный шаг, совершает πεῶτου ψεῦδός*. «Наше познание, — говорит он, — имеет два источника, а именно восприимчивость к впечатлениям и самодеятельность понятий: первый заключается в способности воспринимать представления, второй — в способности познавать через эти представления предмет; в силу первой способности предмет нам дается, в силу второй он мыслится». Это неверно, ибо в таком случае впечатление, к которому только и применима наша способность непосредственного восприятия и которое, следовательно, привходит извне и одно только «дано» в собственном смысле слова, было бы уже представлением, даже предметом. На самом же деле впечатление есть не что иное, как простое ощущение в органе чувств, и лишь посредством применения рассудка (т. е. закона причинности) и форм созерцания
369
(пространства и времени) наш интеллект превращает это простое ощущение в представление, которое и существует затем как предмет в пространстве и времени и ничем не может от него (предмета) отличаться — разве только если речь идет о вещи в себе, — но тождественно с ним. Этот процесс я описал подробно в трактате «О законе достаточного основания», § 21. На этом деятельность рассудка и наглядного познания заканчивается, и для нее не требуется никаких понятий и никакого мышления: вот почему такого рода представлениями обладают и животные. Как только наступает черед понятий, мышления, о самопроизвольности которого в самом деле можно говорить, мы тотчас же покидаем почву наглядного познания и в сознании выступает совершенно иной класс представлений, а именно внеинтуитивные, абстрактные понятия: здесь уже действует разум, извлекающий тем не менее все содержание своего мышления из предшествовавшего созерцания и сравнения его с другими созерцаниями и понятиями. Кант же привносит мышление уже в созерцание и создает тем самым источник ужасного смешения интуитивного и абстрактного познания, против чего я здесь и восстаю. По Канту, созерцание, взятое само по себе, не содержит никакого рассудочного элемента — лишь чувственно и, значит, совершенно пассивно, так что предмет сознается только благодаря мышлению (категория рассудка); этим он привносит мышление в созерцание. С другой стороны, предмет мышления является у него отдельным, реальным объектом, вследствие чего мышление теряет свойственный ему характер всеобщности и отвлеченности и вместо всеобщих понятий его предметом считаются отдельные вещи: этим он, наоборот, привносит созерцание в мышление. Отсюда и возникает упомянутая злополучная путаница, и последствия этого первого ложного шага распространяются на всю кантовскую теорию познания. Для нее характерно постоянное смешение наглядного представления с абстрактным, какое-то «ни то ни се», и это «ни то ни се» Кант превращает в предмет познания, возникающий благодаря рассудку и его категориям, и называет это познание опытом. Трудно поверить, чтобы сам Кант представлял себе что-либо вполне ясное и определенное, говоря об этом предмете рассудка, и я сейчас докажу это, вскрыв то ужасное противоречие, которое пронизывает всю трансцендентальную логику и которое является настоящим источником ее темноты. А именно, в «Критике чистого разума», с. 67— 69; V, 92— 94; 89, 90; V, 122,123; далее V, 135, 139,153, Кант многократно и настойчиво заявляет, что рассудок не есть способность созерцания, что его познание не интуитивно, а дискурсивно, что он есть способность суждения (с. 69; V, 94), а суждение есть опосредованное познание, представление представления (с. 68; V, 93); что рассудок есть способность мышления, а мыслить — значит познавать при помощи понятия (с. 69; V, 94); что категории рассудка никоим образом не служат условиям, при которых предметы даются в созерцании (с. 89; V, 122), и что для созерцания вовсе не требуется функций мышления (с. 91; V, 123); что рассудок может только мыслить, но не созерцать (V, 135, 139). Далее, в «Пролегоменах», § 20, он говорит, что созерцание, восприятие, perceptio[290] принадлежат только чувствам, суждение же свойственно только рассудку; и в § 22: дело чувств — созерцать, рассудка — мыслить, т. е. судить. Наконец,
370
в «Критике практического разума», четвертое изд., с. 247 (розенкранцевское издание, с. 281), сказано: рассудок дискурсивен, его представления — мысли, не созерцания. Все это — собственные слова Канта.
Отсюда следует, что наглядный мир существовал бы для нас и в том случае, если бы мы были лишены всякого рассудка, и что он возникает в нашей голове каким-то совершенно непонятным способом, или, как странно выражается Кант, «эмпирическое созерцание дано», — без всяких дальнейших пояснений этого образного и неопределенного выражения.
Между тем со всем вышеприведенным стоит в самом вопиющем противоречии все остальное кантовское учение о рассудке, его категориях и возможности опыта, как оно излагается в трансцендентальной логике. А именно, на с. 79; V, 105 «Критики чистого разума» — рассудок посредством своих категорий вносит единство в многообразие созерцания, и чистые понятия рассудка применятся a priori к предметам созерцания; на с. 94; V, 126 — «категории суть условия опыта, все равно — созерцания или привходящего в него мышления»; V, 127 — рассудок есть активный источник опыта; V, 128 — категории определяют созерцание предметов; V, 130 — все, что мы представляем себе связанным в объекте (который, конечно, есть нечто вполне наглядное, а не абстрактное), получает эту связь, лишь благодаря деятельности рассудка; V, 135 — рассудок объясняется на новый лад, как способность связывать a priori и подводить многообразие данных представлений под единство апперцепции: однако, согласно с общим словоупотреблением, апперцепция определяется не как мышление при помощи известного понятия, а как созерцание; V, 136 — мы находим даже высшее основоположение возможности всякого созерцания по отношению к рассудку; V, 143 — значится даже в виде заглавия, что всякое чувственное созерцание обусловлено категориями. Там же логическая функция суждений подводит многообразие данных созерцаний под апперцепцию вообще, и многообразие данного созерцания необходимо подчиняется категориям; V, 144 — единство привносится в созерцание при помощи категорий, через рассудок; V, 145 — рассудочное мышление весьма странно объясняется таким образом, что оно синтезирует, связывает и упорядочивает многообразие созерцания; V, 161 — опыт возможен лишь благодаря категориям и состоит в сочетании восприятий, которые конечно же суть те же созерцания; V, 159 — категории — это априорные познания о предметах созерцания вообще. Далее здесь же, а также V, 163, 165 излагается главное учение Канта, а именно, что только рассудок делает возможным природу, предписывая ей законы и упорядочивая ее согласно своей закономерности и т. п. Между тем природа есть конечно же нечто интуитивное, а не абстрактное, и, следовательно, рассудок должен быть способностью созерцания; V, 168 — говорится, что понятия рассудка — принципы возможности опыта, а последний есть определение явлений в пространстве и времени вообще, — и таковые явления даны все же в созерцании. Наконец, на с. 189— 211; V, 232— 256 идет длинное доказательство (несостоятельность которого я подробно показал в своем трактате «О законе основания», § 23) — доказательство того, что объективная преемственность, а также и сосуществование предметов опыта
371
воспринимаются не чувственно, но привносятся в природу только рассудком, сама же природа становится возможной лишь благодаря этому. Но природа, т. е. преемственность фактов и сосуществование состояний, очевидно, есть нечто ярко наглядное, а никак не одно только абстрактно мыслимое.
Я настойчиво прошу теперь всякого, кто разделяет со мной благоговение перед Кантом, сопоставить эти противоречия и попытаться доказать, что Кант в своем учении относительно объекта опыта и о способе, каким объект определяется деятельностью рассудка с его двенадцатью функциями, представлял себе нечто вполне ясное и определенное. Я убежден, что указанное противоречие, пронизывающее всю трансцендентальную логику, и есть настоящая причина крайней темноты ее изложения. Дело в том, что Кант смутно чувствовал это противоречие, в душе боролся с ним, но не хотел или не мог осознать его ясно и потому скрыл его от себя и от других и обошел его всевозможными окольными путями. Этим же, быть может, объясняется и то, что он сделал из познавательной способности такую странную, сложную машину, с такой массой колес, как все эти двенадцать категорий, трансцендентальные синтезы воображения и внутреннего чувства, трансцендентальное единство апперцепции, схематизм чистых рассудочных понятий и т. д. И несмотря на весь этот гигантский аппарат, не делается ни малейшей попытки объяснения созерцания, в котором нам дан внешний мир — этого конечно же главного содержания нашего познания, — но настойчиво возникающее требование такого объяснения становится все слабее и отклоняется при помощи все того же ничего не говорящего образного выражения: «Эмпирическое созерцание нам дано». А на с. 145 пятого издания мы узнаем сверх того, что эмпирическое созерцание дается через объект, т. е. объект оказывается чем-то отличным от созерцания.
Если мы приложим усилия к тому, чтобы добраться до сокровеннейшего мнения Канта, им самим отчетливо не высказанного, то мы обнаружим, что настоящим «предметом рассудка» для него и является такой отличный от созерцания и в то же время не представляющий из себя понятия объект и даже что этот диковинный непредставимый предмет и есть то условие, благодаря которому созерцание только и становится опытом. Полагаю, что допущение такого абсолютного объекта, объекта в себе, т. е. независимого от субъекта, объясняется у Канта влиянием старого, укоренившегося и не поддающегося исследованию предрассудка. Этот объект совершенно не имеет ничего общего с созерцаемым объектом, но примысливается к нему посредством понятия в качестве чего-то ему (созерцанию) соответствующего, и только тогда созерцание становится опытом с его силой и истиной, которые оно, следовательно, получает лишь из отношения к понятию (в диаметральной противоположности с моим учением, согласно которому понятие получает все свое значение и истину только из созерцания). Примысливание этого непосредственно непредставимого объекта к созерцанию и есть настоящая функция категорий: «Только через созерцание дается предмет, мыслимый затем сообразно с категорией» («Критика чистого разума», первое издание, с. 399). Особенно же ясно указывает на
372
это одно место на с. 125 пятого издания: «Спрашивается, не предшествуют ли и понятия a priori в качестве условия, благодаря которым нечто если и не созерцается, то все же мыслится как предмет», — на что дается утвердительный ответ. Здесь ясно открывается источник заблуждения и окутывающей его путаницы. Ибо предмет, как таковой, существует всегда лишь для созерцания и в нем; последнее же может быть вызвано лишь чувствами или, при их отсутствии, воображением. Наоборот, то, что мыслится, есть всегда общее, лишенное наглядности понятие, которое, разумеется, может быть и понятием о предмете вообще; но лишь косвенно, через посредство понятий, мышление может относиться к предметам, которые сами всегда и во веки веков наглядны[291]. Ибо наше мышление служит не для того, чтобы сообщать созерцаниям реальность: реальностью, поскольку они способны к ней, они обладают уже сами по себе (эмпирическая реальность), а служит оно (мышление) для того, чтобы суммировать общее и результаты созерцаний, хранить их и при случае легко распоряжаться ими. Кант же приписывает сами предметы мышлению, чтобы таким образом опыт и объективный мир поставить в зависимость от рассудка, не превращая, однако, последний в способность созерцания. Он различает, правда, способность созерцания и мышление, но делает отдельные вещи предметом частью созерцания, частью мышления. На самом же деле они — только первое: наше эмпирическое созерцание объективно с самого момента своего появления, именно потому, что оно исходит из причинной связи. Его предметом являются непосредственно вещи, а не отличные от них представления. Единичные вещи созерцаются, как таковые, рассудком и при помощи чувств; односторонность чувственного восприятия тотчас же восполняется способностью воображения. Наоборот, коль скоро мы переходим к мышлению, мы покидаем область единичных вещей и имеем дело с общими понятиями, в которых отсутствует элемент наглядности, хотя бы мы затем и прилагали результаты нашего мышления к отдельным вещам. Если только не упускать этого из виду, для нас будет ясна несостоятельность предположения, будто созерцание вещей получает свою реальность и становится опытом лишь благодаря применяющему двенадцать категорий мышлению об этих самых вещах. Скорее, уж в самом созерцании дана эмпирическая реальность, а следовательно, и опыт: но и самое созерцание может осуществляться лишь через применение к чувственному восприятию познания причинной связи, этой единственной функции рассудка. Поэтому созерцание в действительности интеллектуально, что именно и отрицает Кант.
Кроме приведенных мест, критически рассмотренных здесь, позиция Канта выражена с особенной ясностью в «Критике способности суждения», § 36, в самом начале, а также в «Метафизических началах естествознания», в примечании к первому объяснению «феноменологии». А с откровенностью, на которую Кант меньше всего отваживался в этом сомнительном пункте, данная позиция изложена в книге одного кантианца, а именно в «Очерке всеобщей логики» Кизеветтера (третье изд., ч. I, с. 434 примечаний и ч. II, с. 52 и 53 примечаний), равно как и в «Учении о мышлении в чисто немецком духе (in rein deutschem Gewande)» Тифтрунка (1825). Здесь мы имеем дело с прекрасными образчиками того, как
373
лишенные собственной оригинальности ученики любого мыслителя становятся увеличительным зеркалом его ошибок[292]. Кант, излагая свое учение о категориях, выступает с крайней осторожностью, как бы нащупывая всякий шаг, между тем как ученики идут смело и напролом, чем обнаруживают всю ложность теории.
Из сказанного следует, что предметом категорий у Канта является если и не вещь в себе, то ее ближайший родственник, а именно объект в себе, объект, не требующий никакого субъекта, — это единичная вещь, находящаяся, однако, вне времени и пространства, так как она не наглядна, это предмет мышления, не являющийся тем не менее отвлеченным понятием. Соответственно этому Кант различает собственно три вещи: 1) представление; 2) предмет представления; 3) вещь в себе. Первое есть продукт чувственности, которая у Канта, наряду с ощущением, заключает в себе также чистые формы созерцания, т. е. пространство и время. Второй есть результат деятельности рассудка, примысливающего его[293] посредством своих двенадцати категорий. Третье лежит по ту сторону всякой познаваемости (в качестве иллюстрации см. с. 108 и 109 первого издания «Критики чистого разума»). Между тем различение представления от предмета представления ни на чем не основано, как это доказал еще Беркли, и как это явствует из всей первой книги моего основного произведения, особенно из 1-й главы дополнений, равно как и из собственной, вполне идеалистической точки зрения самого Канта в первом издании «Критики чистого разума». Если же не угодно причислять предмет представления к представлению и отождествлять его с последним, то его надо относить к вещи в себе: это в конце концов зависит от смысла, в котором понимается слово «предмет». Но во всяком случае верно то, что при ясном понимании мы не найдем ничего другого, кроме представления и вещи в себе. Неправомерное введение этого гермафродита — предмета представления — является источником заблуждения Канта; с устранением же его разрушается и все учение о категориях как априорных понятиях, ибо к наглядному созерцанию они ничего не прибавляют, а к вещи в себе неприложимы, и, следовательно, вся их роль сводится к мышлению этих «предметов представлений» и превращению таким путем представлений в опыт. Ведь на самом деле всякое эмпирическое созерцание есть уже опыт; эмпирично же всякое созерцание, возникающее из чувственного ощущения: это ощущение рассудок соотносит посредством своей единственной функции (априорного познания закона причинности) с его причиной, которая таким образом и представляется в пространстве и времени (формах чистого созерцания) как предмет опыта, материальный объект, пребывающий во всякое время в пространстве, но и в качестве такового эта причина остается все же представлением, как и сами пространство и время. Если же мы хотим выйти за пределы этого представления, то перед нами возникает вопрос о вещи в себе, ответ на который представляет содержание всего моего произведения, равно как и всей метафизики вообще. С указанным здесь заблуждением Канта связана и другая, уже подвергнутая мною осуждению его ошибка, которая состоит в том, что он не дает никакой теории возникновения эмпирического представления, но считает его просто данным, отождествляя его с чувственным ощущением, к которому при-
374
бавляет только формы времени и пространства, объединяя то и другое под именем чувственности. Однако из этого материала не получится еще никакого объективного представления: последнее безусловно требует соотнесения ощущения с его причиной, т. е. применения закона причинности, т. е. рассудка, ибо без этого ощущение остается все еще субъективным и не переносит объект в пространство, хотя бы последнее и было ему (ощущению) придано. Но, согласно Канту, рассудок не может применяться к созерцанию: он должен только мыслить, чтобы остаться в пределах трансцендентальной логики. С этим связана еще одна ошибка Канта: то, что он предоставил мне дать единственно возможное доказательство правильно сознаваемого им априорного характера закона причинности, т. е. доказательство из самой возможности объективного эмпирического созерцания, — сам же приводит явно неверные аргументы, как я это показал в своем трактате «О законе достаточного основания», § 23.
Из всего вышесказанного ясно, что кантовский «предмет представления» (2) складывается из того, что похищено частью у представления (1), частью — у вещи в себе (3). Если бы наш опыт действительно осуществлялся лишь благодаря тому, что рассудок применял бы двенадцать различных функций, чтобы при помощи стольких же априорных понятий мыслить вещи, данные до этого лишь в созерцании, то в таком случае каждая реальная вещь, как таковая, должна была бы иметь множество определений, которые в качестве данных a priori (подобно времени и пространству) никоим образом не могли бы быть устранены из представления этой вещи, а должны были бы принадлежать сущностным образом самому ее бытию, не будучи в то же время выводимы из свойств пространства или времени. В действительности мы встречаем только одно такое определение — причинность. На нем основывается материальность, ибо сущность материи состоит в действии, и вся она — причинность (см. т. II, гл. 4). Материальность же — это единственное, что отличает реальную вещь от образа фантазии, который все-таки представляет собой лишь представление. Ибо материя как пребывающее дает вещи сообразно ее материальности постоянство в бесконечном времени, между тем как формы сменяются сообразно причинности. Все остальное, что есть в вещи, — это или определения пространства, или времени, или эмпирические свойства, сводящиеся к ее действенности, следовательно, являющиеся ближайшими определениями причинности. Но причинность как условие уже входит в состав эмпирического созерцания, которое оказывается, таким образом, функцией рассудка, делающего возможным само созерцание, но, помимо закона причинности, ничего не прибавляющего к опыту и его возможности. То же, что помимо этого заполняет старые онтологии, является в конце концов лишь отношениями вещей друг к другу или к нашей рефлексии и тому подобной farrago*.
Несостоятельность учения о категориях видна уже из самой манеры изложения Канта. Какая в этом отношении разница между трансцендентальной эстетикой и трансцендентальной аналитикой! Там — ясность,
375
определенность, уверенность, твердость убеждения, никаких недомолвок и недоразумений. Все полно света, не оставлено ни одного темного уголка или лазейки: Кант знает, чего он хочет, и знает, что он прав. Здесь, наоборот, все темно, смутно, неопределенно, шатко, отсутствует уверенность, изложение робко, полно оговорок, ссылок на дальнейшее и даже умолчаний. Точно так же весь второй и третий отделы дедукции чистых понятий рассудка совершенно изменены во втором издании, ибо они не удовлетворяли самого Канта, и имеют здесь иной вид, чем в первом издании, хотя и не сделались от этого яснее. Видишь, как Кант на самом деле борется с истиной, чтобы выдержать свое предвзятое мнение. В эстетике все его тезисы действительно доказаны из неопровержимых фактов сознания; наоборот, в аналитике, если вчитаться в нее, мы находим лишь голые утверждения, что это, мол, так и иначе быть не может. Таким образом, здесь, как и повсюду, изложение носит на себе печать мышления, которое его породило, ибо стиль — это физиономия духа. Замечу еще, что почти всюду, где Кант хочет привести пример для пояснения, он пользуется категорией причинности, и дальнейшее изложение бывает правильным — потому именно, что закон причинности есть действительная, но зато и единственная форма рассудка, все же прочие одиннадцать категорий — фальшивые окна. В первом издании дедукция категорий проще и бесхитростнее, чем во втором. Кант старается показать, как рассудок — посредством категориального мышления и на основании данного чувственностью созерцания — продуцирует опыт. При этом он изнуряет многократным употреблением выражений «повторное познание» (Recognition), «репродукция», «ассоциация», «аппрегензия», «трансцендентальное единство апперцепции» — и все-таки ясности нет. Но особенно замечательно, что при этом объяснении он ни разу не затрагивает того, что прежде всего кидается в глаза, а именно — соотнесения чувственного ощущения с его внешней причиной. Если бы Кант не признавал такого соотнесения, то должен был бы его прямо отрицать, однако и этого он не делает. Он лишь скользит вокруг да около, а вслед за ним и все кантианцы. Потаенный мотив этого заключается в том, что Кант приберегает причинную связь под именем «основания явления» для своего ложного выведения вещи в себе; а кроме того, через соотнесение с причиной созерцание сделалось бы интеллектуальным, чего он не может допустить. Сверх того он, по-видимому, опасается, что при допущении причинной связи между чувственным ощущением и объектом последний превратится в вещь в себе и нужно будет возвращаться к локковскому эмпиризму. Однако эта трудность устраняется тем соображением, что закон причинности — субъективного происхождения, как и само наше чувственное ощущение; да и наше собственное тело, поскольку оно явлено в пространстве, относится уже к представлениям. Но признать это мешал Канту его страх перед идеализмом Беркли.
Как на существенную операцию рассудка с его двенадцатью категориями, неоднократно указывается на «синтез данного в созерцании многообразия»; однако надлежащим образом это нигде не объяснено и нигде не указано, что представляет собою это «данное в созерцании многообразие» до синтеза рассудком. Между тем время и пространство
376
(последнее во всех трех измерениях) — continua*, т. е. их части уже с самого начала не разъединены, а связаны одна с другой. Но так как пространство и время — всеобщие формы нашего созерцания, то и все, что представляется (дано) в них, явлено уже с самого начала как continuum[294], т. е. его части выступают уже связанными одна с другой и не нуждаются ни в какой дальнейшей связи, в дополнительном синтезе многообразного. Если же под этим синтезом многообразия подразумевать нечто вроде того, что различные чувственные впечатления, получаемые нами от какого-либо объекта, относятся нами все же к этому объекту (например, смотря на колокол, мы знаем, что то, что для глаза является желтым, для рук — гладким и твердым, для уха — звучащим, есть на самом деле одно и то же тело), если так понимать синтез, то это скорее результат нашего априорного знания причинной связи (в этой настоящей и единственной функции рассудка), знания, благодаря которому мы соотносим все эти различные воздействия на различные наши органы с одной общей их причиной, а именно со свойствами стоящего перед нами тела, так что наш рассудок, несмотря на множество и различие действий, все-таки воспринимает единство причины как единичный и наглядный объект. В прекрасном резюме своего учения, данном на с. 719— 726 «Критики чистого разума» (V, 747— 754), Кант, пожалуй, лучше, чем где бы то ни было, объясняет категории как «чистые правила синтеза того, что дано a posteriori восприятием». Ему при этом, по-видимому, мерещится нечто вроде того, что при построении треугольника углы дают правила сочетания линий: по крайней мере, на этом примере лучше всего можно уяснить для себя то, что он говорит о функции категорий. В предисловии к «Метафизическим началам естествознания» есть длинное примечание, в котором также дается объяснение категорий и говорится, что «они ничем не отличаются от формальных операций рассудка в суждении», разве только тем, что в последнем субъект и предикат могут поменяться местами; поэтому и суждение определяется там как «операция, посредством которой данные представления прежде всего становятся познанием объекта». Если так, то животные, поскольку они не обладают способностью суждения, были бы вовсе лишены возможности познания объектов. Вообще же, по мнению Канта, относительно объектов существуют только понятия, а не созерцания. Я же, наоборот, говорю, что объекты первоначально даны только в созерцании, а понятия — это всякий раз абстракции, извлеченные из данного созерцания. Поэтому абстрактное мышление должно точно сообразовываться с данным в созерцании миром, ибо только отношение к последнему дает содержание понятиям, и нам не нужно принимать для понятий какой-либо другой, a priori определенной формы, кроме способности к рефлексии вообще, сущность которой есть образование понятий, т. е. абстрактных, неинтуитивных представлений, что и составляет единственную функцию разума, как я это показал в первой книге моего основного произведения. Поэтому я требую, чтобы из двенадцати категорий одиннадцать выбросили в окно и сохранили только категорию причинности, не забывая, однако, что ее работа уже служит условием
377
эмпирического созерцания, которое поэтому не просто чувственно, но и интеллектуально, и что созерцаемый таким образом предмет, объект опыта, тождествен с представлением, от которого должна быть отличаема только вещь в себе.
Из неоднократного изучения «Критики чистого разума» в различные периоды жизни я вынес — относительно источника трансцендентальной логики — следующее убеждение, которое вследствие его важности для ее понимания я и сообщаю здесь читателям. Открытием, основанным на объективном постижении и высшей степени человеческого глубокомыслия, является лишь то aperçu* Канта, что пространство и время познаются нами a priori. Обрадованный этой счастливой находкой, Кант решил вести найденную рудоносную жилу и дальше, причем излюбленная им архитектоническая симметрия дала ему путеводную нить. Подобно тому как в основе эмпирического созерцания он нашел обусловливающее его чистое созерцание a priori, точно так же, полагал он, и в основе эмпирически приобретенных понятий должны в нашей познавательной способности лежать, в качестве их условий, известные чистые понятия, а действительное, эмпирическое мышление становится возможным лишь благодаря чистому мышлению a priori, которое, однако, не обладает само по себе никакими предметами, но должно заимствовать их из созерцания, так что, подобно тому как трансцендентальная эстетика дает априорную основу для математики, должна существовать такая же основа и для логики; и тем самым трансцендентальная эстетика в свою очередь получает свое симметрическое pedant**[295] в трансцендентальной логике. С этого момента Кант перестает действовать непредвзято, он уже больше не способен быть чистым наблюдателем и исследователем происходящего в сознании, но руководствуется известным предположением и стремится к определенной цели, а именно, он хочет найти то, что заранее предположил, и таким образом над столь счастливо открытой им трансцендентальной эстетикой надстроить, в виде второго этажа, аналогичную ей и симметрично ей соответствующую трансцендентальную логику. Тут он нападает на таблицу суждений, из которой — плохо ли, хорошо ли — выводит таблицу категорий как учение о двенадцати чистых понятиях a priori, которые должны быть условием мышления нами тех самых вещей, созерцание коих обусловлено a priori обеими формами чувственности: таким образом, чистой чувственности теперь симметрично соответствует чистый рассудок. Затем он приходит к еще одному соображению, которое дает ему средство повысить надежность своей конструкции: он принимает положение о схематизме чистых рассудочных понятий, благодаря чему, однако, неосознаваемый им самим образ его действий выдает себя самым непосредственным образом. А именно, поскольку Кант старается найти для каждой эмпирической функции познавательной способности аналогичную ей априорную функцию, он замечает, что между нашим эмпирическим созерцанием и нашим эмпирическим, совершающимся в абстрактных, неинтуитивных понятиях мышлением существует, если не всегда, то очень часто, неко-
378
торая переходная ступень — это когда мы время от времени пробуем вернуться от абстрактного мышления к созерцанию; но именно только «пробуем», собственно, для того, чтобы убедиться, не ушло ли наше абстрактное мышление слишком далеко от надежной почвы созерцания, не занеслось ли оно чересчур высоко, или даже не превратилось ли в пустое словоизвержение — словом, это приблизительно то же самое, что мы делаем впотьмах, когда хватаемся время от времени за служащую нам путеводителем стену. Мы лишь постольку совершаем это пробное и мимолетное возвращение к наглядному миру, поскольку при помощи воображения вызываем некоторое соответствующее занимающему нас понятию созерцание, которое, однако, никогда не может быть вполне адекватным понятию, а служит только его временны́м представителем (все необходимое об этом сказано уже мною в трактате «О законе основания», § 28). Кант называет промелькивающий фантазм такого рода — в противоположность законченному образу фантазии — схемой, сравнивает ее с монограммой способности воображения и утверждает, что, подобно тому как между нашим абстрактным мышлением эмпирически приобретенных понятий и нашим ясным, совершающимся при посредстве чувств созерцанием стоят такого рода схемы, точно так же между априорной способностью созерцания чистой чувственности и априорной способностью мышления чистого рассудка (т. е. категориями) находятся априорные схемы чистых понятий рассудка, которые он поштучно описывает в качестве монограмм чистой способности воображения a priori, прикрепляет каждую из них к соответствующей ей категории в своей удивительной главе «О схематизме чистых понятий рассудка», прославленной своей темнотой, ибо еще ни один смертный не мог ее уразуметь; эта темнота, однако, рассеивается, если встать на указанную мною точку зрения, причем в данном случае, более чем когда бы то ни было, проявляется преднамеренность метода Канта и его предвзятое решение найти то, что отвечало бы интересам структурной аналогии и могло бы послужить принципу архитектонической симметрии: все это становится здесь прямо-таки комичным. Ибо, вводя по аналогии с эмпирическими схемами (т. е. представителями в фантазии наших действительных понятий) схемы чистых, т. е. лишенных содержания, априорных понятий рассудка (категорий), она упускает из виду, что в последнем случае схематизм совершенно не отвечает своему назначению. Ведь назначение схематизма в рамках эмпирического (действительного) мышления всецело обусловливается материальным содержанием этих понятий: так как последние далеки от эмпирического созерцания, то мы ориентируемся и поддерживаем себя в абстрактном мышлении тем, что нет-нет да и бросим мимолетный ретроспективный взгляд на созерцание, из которого извлечены понятия, дабы удостовериться, что наше мышление еще имеет реальный предмет. Но уже сама эта операция необходимо предполагает, что занимающие нас понятия возникли из созерцания и представляют собой не более как ретроспективный взгляд на их материальное содержание — простое вспомогательное средство в нашей слабости. При понятиях же a priori, как не имеющих еще никакого содержания, в этой операции, очевидно, нет нужды, ибо они возникают не из интуиции, присоединяются к ней изнутри, лишь из нее
379
получая свое наполнение, и, следовательно, не содержат еще ничего такого, на что могла бы обращаться ретроспекция. Я потому так распространяюсь об этом, что здесь перед нами раскрывается внутренний механизм кантовского философствования, состоящий в том, что после счастливого открытия обеих форм созерцания a priori Кант стремится отыскать аналогичный априорный элемент для всякого определения нашего эмпирического познания и, наконец, в главе о схематизме распространяет эту аналогию даже на простой психологический факт, причем кажущиеся глубокомыслие и затрудненность изложения служат дня того, чтобы скрыть от читателя совершенную бездоказательность и произвольность этой теории: ведь тот, кто проникнет наконец в «смысл» подобного изложения, легко примет добытое с таким трудом уразумение за знание истинного положения вещей. Если бы Кант, однако, действовал здесь так же непредвзято и объективно, как при открытии априорных форм созерцания, то он нашел бы, что то, что присоединяется к чистому созерцанию пространства и времени, когда оно превращается в эмпирическое, есть, с одной стороны, ощущение, а с другой — причинность, превращающая простое ощущение в объективное эмпирическое созерцание и потому именно не выводимая из одного только созерцания, но данная a priori и являющаяся формой и функцией чистого рассудка — и притом его единственной функцией, но зато столь плодотворной, что на ней держится все наше эмпирическое познание.
Если, как часто говорят, всякое заблуждение опровергнуто вполне лишь тогда, когда психологически объяснено его происхождение, то я, надеюсь, выполнил эту задачу применительно к кантовскому учению о категориях и их схематизме.
Совершив столь крупные ошибки на уровне начальных элементов учения теории о способности представления, Кант переходит затем к целому ряду в высшей степени сложных допущений. Сюда относится прежде всего «синтетическое единство апперцепции» — весьма диковинная и весьма странно объясненная вещь. «Я мыслю должно мочь[296] сопровождать все мои представления». «Должно мочь» — это проблематически-аподиктическое высказывание, или, говоря обычным языком, высказывание, отбирающее одной рукою то, что оно дает другой[297]. Но каков смысл этого балансирующего на острие иглы высказывания? Что всякое представление есть результат деятельности мышления? Это не так, поскольку такого рода допущение привело бы к ужасным последствиям: в таком случае <в распоряжении нашего мышления> не оказалось бы ничего, кроме отвлеченных понятий, и вовсе было бы невозможным безрефлексивное и безвольное созерцание — созерцание прекрасного[298] как глубочайшее постижение истинной сущности вещей, т. е., согласно Платону, постижение их идей. Кроме того, и животные в таком случае должны были бы или мыслить, или совсем уж не иметь никакого представления. Или данное высказывание должно значить: нет объекта без субъекта? Тогда оно было бы очень плохим и запоздавшим выражением правильной мысли. Если мы сопоставим различные высказывания Канта, то найдем, что под синтетическим единством апперцепции он
380
подразумевает нечто вроде непротяженного центра сферы всех наших представлений, радиусы которой сходятся в этой точке. Это то, что я называю субъектом познания, коррелятом всех представлений, и что я подробно описал и выяснил в 22-й главе второго тома как точку, в которой сфокусированы лучи деятельности мозга. Здесь ограничусь ссылкой, чтобы не повторять однажды сказанного.
То, что я отбрасываю все учение о категориях и причисляю его к тем бездоказательным допущениям, которыми Кант загромоздил свою теорию познания, — это вытекает из приведенной выше критики его учения; равным образом — из выяснения тех противоречий трансцендентальной логики, которые основываются на смешении интуитивного познания с абстрактным; далее — также из констатации того, что у Канта отсутствует ясное и определенное понятие о сущности рассудка и разума, вместо которого мы находим лишь отрывочные несогласованные между собой, скудные и неверные изречения по поводу этих духовных способностей, наконец — из тех объяснений, которые я сам дал последним в первой книге и в дополнениях к ней и подробнее в трактате «О законе достаточного основания», § 21, 26 и 34; эти объяснения вполне отчетливы, определенны, явно вытекают из рассмотрения сущности нашего познания и вполне согласны с пониманием данных двух способностей в словоупотреблении и литературе всех времен и народов, хотя здесь они и не выступают в форме строго определенных понятий. Защита моих объяснений перед лицом столь отличного от них учения Канта большей частью заключается уже в раскрытии ошибок последнего.
Что же касается таблицы суждений, на которой Кант основывает свою теорию мышления и даже всю свою философию, то, так как в целом сама по себе она правильна, мне остается только показать, каким образом возникают эти общие формы суждений в нашей способности познания, и привести их в согласие с моим учением о последней. В рамках выполнения данной задачи с понятиями рассудка и разума я буду связывать только тот смысл, который дало им мое объяснение, и потому я предполагаю, что последнее известно читателю.
Существенная разница между методом Канта и моим заключается в том, что Кант идет от опосредованного, рефлексивного познания, я же — от непосредственного, интуитивного. Канта можно сравнить с человеком, измеряющим высоту башни по ее тени, меня же — с прилагающим мерку прямо к башне. Поэтому для него философия есть наука из понятий, для меня — наука в понятиях, содержание которой добывается из наглядного познания, единственного источника всякой очевидности, и фиксируется в общих понятиях. Кант перескакивает через весь этот окружающий нас наглядный, столь разнообразный и полный значения мир и держится за формы абстрактного мышления: при этом он основывается на предположении (правда, ни разу открыто им не высказанном), будто рефлексия является рельефной копией всякой интуиции, и поэтому все существенное в интуиции должно находить свое выражение в рефлексии, и притом в очень сжатых и потому легкообозримых формах и чертах. Поэтому абстрактное познание существенного и закономерного открывает все нити, приводящие в движение пеструю игру
381
наглядного мира. Если бы Кант отчетливо высказал это высшее основоположение своего метода и последовательно провел его, если бы он по меньшей мере ясно отделил интуитивное от абстрактного, то нам не нужно было бы бороться с неразрешимыми противоречиями и путаницей. Между тем из способа, каким он решил свою задачу, явствует, что это основоположение жактовского метода представлялось ему лишь в весьма смутных очертаниях, так что о нем приходится всего лишь догадываться на основе тщательного изучения его философии.
Что же касается указанного метода Канта — его основоположения, — то многое говорит в его пользу, и оно представляет собой блестящую идею. Сама сущность всякой науки состоит в том, что мы охватываем бесконечное разнообразие наглядных явлений при помощи сравнительно немногих отвлеченных понятий, упорядочивая их в систему, которая дает нам возможность всецело овладеть этими явлениями, объяснять прошлое и предсказывать будущее. Отдельные же науки делят между собой громадную область явлений по различным специальным видам последних. И вот Канту явилась смелая и счастливая мысль — выделить существенное в понятиях, как таковых, взятых независимо от их содержания, чтобы на основе найденных таким образом форм всякого мышления определить и то, что существенно в наглядном познании и, следовательно, в мире явлений вообще; и так как это существенное было бы найдено a priori — в силу необходимости этих форм мышления, — то оно было бы субъективного происхождения и как раз отвечало бы целям Канта. Однако, прежде чем идти дальше, надо было разобрать, каково отношение рефлексии к наглядному познанию (что, разумеется, предполагает оставленное Кантом без внимания строгое различение той и другого): каким образом рефлексия передает и замещает материал наглядного познания — вполне ли чисто, или используя свойственные ей (рефлексии) формы, т. е. в измененном и отчасти неузнаваемом виде; определяется ли форма абстрактного, рефлексивного познания большей частью формой наглядного познания, или она определяется неизменно присущими самому рефлексивному познанию свойствами, так что весьма разнородное для интуитивного познания становится неразличимым для познания рефлексивного, и, наоборот, различия, определяемые при помощи рефлексивного познания, в нем же самом и возникают и никоим образом не указывают на аналогичные различия в интуитивном познании. В результате такого исследования выяснилось бы, что материал наглядного познания в процессе его рефлексивного усвоения испытывает почти такие же изменения, как и пища в процессе ее ассимиляции животным: формы и секреторные компоненты процесса ассимиляции полностью определены свойствами самого организма, так что в результате их совокупного действия первоначальные качества пиши становятся совершенно неузнаваемыми; или же рефлексия относится к наглядному познанию, по крайней мере (ибо это слишком сильно сказано), не как отражение в воде к отраженным в ней предметам, но почти так же, как относится к этим предметам их тень, дающая только контурное изображение вещей и скрывающая за общим очертанием всю пестроту конкретного разнообразия, так что по тени никоим образом невозможно составить себе полное и достоверное представление о реальном облике вещей.
382
Рефлексивное познание в целом, или разум, имеет лишь одну
главную форму, а именно форму отвлеченного понятия: она присуща самому разуму и
непосредственно необходимым образом не связана с наглядным миром, который
поэтому существует и для лишенных способности понятийного мышления животных и
мог бы быть совершенно иным, хотя сама эта рефлексивная форма по-прежнему была
бы приложена к нему и в данном случае. Соединение же понятий в суждения имеет несколько
определенных и закономерных форм, которые, будучи открыты при помощи индукции,
составляют таблицу суждений. Одни из этих форм выведены из самого рефлексивного
познания, следовательно, непосредственно из разума — именно потому, что они
возникают на основе четырех законов мышления (названных мною металогическими истинами)17 и на основе dictum de
1) Так называемое количество суждений вытекает из самой сущности понятий, следовательно, имеет свое основание только в разуме и не стоит ни в какой непосредственной связи с рассудком и наглядным познанием. Как разъяснено в первой книге, понятиям, как таковым, присущ известный объем, известная сфера, причем понятие более широкое и менее определенное понятие, которое поэтому может быть выделено из первого[303]; это выделение совершается или так, что узкое понятие обозначают лишь как неопределенную часть более широкого понятия, или же так, что его вполне и определенно отделяют от последнего, обозначая его специальным именем. Суждение, совершающее эту операцию, называется в первом случае частным, а во втором — общим; например, одна и та же часть сферы понятия «дерево» может быть изолирована посредством частного или общего суждения, а именно: «Некоторые деревья дают желуди» или так: «Все дубы дают желуди». Очевидно, что разница между обеими операциями весьма незначительна и сама возможность ее проявления зависит от богатства языка. Несмотря на это, Кант объясняет ее наличие проявлением двух в корне различных действий, функций, категорий чистого рассудка, определяющего a priori с их помощью опыт.
Можно, наконец, употребить известное понятие, дня того чтобы с его помощью прийти к определенному частному наглядному представлению, на основе которого, как и на основе многих других представлений,
383
оно само и было образовано, что совершается посредством единичного суждения. Такое суждение приводит нас к пункту, где абстрактное познание граничит уже с наглядным, к которому мы непосредственно и переходим: «Это дерево здесь дает желуди». Кант же и из этого сделал особую категорию.
Думаю, что после всего ранее сказанного дальнейшая полемика является излишней.
2) Точно так же и качество суждений имеет свой источник в пределах разума и не является отражением какого-либо закона рассудка, делающего возможным созерцание, т. е. не содержит в себе никаких указаний на это. Как показано в первой книге, с природой отвлеченных понятий (которая представляет собой объективно постигаемое существо самого разума) связана возможность соединять и разъединять сферы их значений; и на эту возможность как на свою предпосылку[304] опираются общие логические законы тождества и противоречия, которым, поскольку они возникают в чистом виде из разума и далее необъяснимы, я приписываю металогическую[305] истинность. Они определяют, что соединенное должно оставаться соединенным, а разъединенное — разъединенным, т. е. полагаемое не может быть одновременно устраняемо, и предполагают, следовательно, возможность соединения и разъединения сфер значений понятий, а также соответствующую модификацию суждений. Но этот процесс со стороны своей формы лежит исключительно в разуме, и эта форма не заимствуется, подобно содержанию суждений, из рассудочного наглядного познания, в котором для нее нет поэтому никакого коррелята или аналога. Наглядное представление, возникнув благодаря рассудку и для рассудка, появляется во всей своей законченности, будучи безошибочным и несомненным, и потому не дает ни возможности утверждения, ни возможности отрицания; ведь оно само свидетельствует о себе, а не заимствует, подобно отвлеченному рациональному познанию, своего значения и содержания только из отношения к чему-нибудь, находящемуся за его пределами, согласно закону основания. Оно исключительно реально, его существу чуждо какое бы то ни было отрицание: последнее может возникнуть только как рефлексивное примысливание и потому именно по своему значению никогда не выходит за пределы абстрактного мышления.
К утвердительным и отрицательным суждениям Кант прибавляет еще, утилизируя химеры старых схоластов, бесконечные суждения18 — хитроумную уловку, не заслуживающую рассмотрения, одно из тех фальшивых окон, которых он наделал такое множество ради соблюдения своего принципа архитектонической симметрии.
3) Под весьма широкое понятие отношения Кант подводит суждения трех совершенно различных разновидностей; поэтому, чтобы отыскать их источник, мы должны рассмотреть каждую такую разновидность в отдельности.
а) Гипотетическое суждение19 является вообще абстрактным выражением наиболее общей формы всего нашего познания — закона основания. То, что этот закон имеет четыре совершенно различных значения20 и в каждом из них определяется особой способностью познания, соотносясь также с особым классом представлений, это я показал еще в 1813
384
году в своей работе, посвященной закону достаточного основания. В ней ясно объяснено то, что источником гипотетического суждения (этой общей формы мышления) не может быть только рассудок и присущая ему категория причинности, как того хочет Кант, но что закон причинности, который, согласно моей теории, служит единственной формой познания чистого рассудка, есть всего лишь один из видов закона основания, объемлющего все чистое, или априорное, познание и для всех своих значений выражающегося в этой гипотетической форме суждения. Мы видим, таким образом, как совершенно различные по своему происхождению и значению виды познания выступают, однако, когда они мыслятся разумом in abstracto, в одной и той же форме соединения понятий и суждений и настолько в ней слиты, что для их различения мы должны возвращаться к наглядному познанию, совершенно покидая область абстрактного познания. Поэтому предложенный Кантом путь, состоящий в том, чтобы, отправляясь от абстрактного познания, найти элементы и внутренний механизм также и познания интуитивного, был совершенно неверен. Впрочем, все мое сочинение «О законе достаточного основания» можно до известной степени рассматривать как подробное раскрытие смысла гипотетической формы суждения, и поэтому я не буду здесь дольше останавливаться на этом.
b)
Форма категорического суждения21 есть
не что иное, как общая форма
суждения в подлинном смысле слова. Ибо, строго говоря, судить — значит мыслить соединимость или
несоединимость сфер значений понятий;
поэтому гипотетическая и разделительная формы не представляют, собственно, особых форм суждения: ведь
они прилагаются к уже готовым
суждениям, в которых соединение понятий остается неизменно категорическим, и служат для связи
самих суждений, причем гипотетическая форма
выражает их зависимость друг от друга, а разделительная — их несоединимость. Понятиям же, как таковым, свойствен лишь один вид отношения друг к другу, а именно
выражающийся в категорическом суждении.
Ближайшими определениями, или подвидами этого отношения, являются совпадение или полная разделенность сфер понятий, т. е. утверждение или отрицание, из чего Кант
делает особый класс категорий, под
названием категорий качества. Совпадение и разделенность имеют, в свою очередь, подвиды, смотря
по тому, входят ли сферы понятий
всецело друг в друга или только отчасти: это определяет суждение со стороны количества, из чего Кант снова сделал
совершенно особую категорию. Так,
он разъединил очень близкое и даже тождественное — легкообозримые модификации единственно возможных отношений между чистыми понятиями — и, наоборот,
объединил под этой рубрикой, «отношение»,
весьма различные вещи.
Категорические суждения имеют своим металогическим принципом законы мышления — законы тождества и
противоречия. Но самое основание
для соединения сфер понятий, которое придает истинность суждению (оно-то и есть это соединение), такое основание может
быть очень различно по своему
характеру, соответственно чему истинность
суждения бывает или логической, или эмпирической, или метафизической, или металогической; я показал это в §
30— 33 своего вводного трактата, и
теперь нет надобности повторять это. А отсюда явствует,
385
сколь различными могут быть непосредственные знания, представленные в целом in abstracto при помощи соединения сфер двух понятий в качестве субъекта и предиката, и насколько неосновательно говорить об одной-единственной функции рассудка, которая соответствовала бы этому соединению и осуществляла бы его. Например, суждения: «Вода кипит»; «Синус измеряет угол»; «Воля решает»; «Работа развлекает»; «Различение трудно» — выражают при помощи одной и той же логической формы самые различные отношения; из чего мы еще раз можем видеть, как нелепо становиться на точку зрения абстрактного познания для анализа познания непосредственного, наглядного. Впрочем, из собственно рассудочного познания, в том смысле, как я его понимаю, категорическое суждение возникает только там, где оно выражает причинность, а сюда относятся также и все суждения, обозначающие какое-либо физическое качество. Ибо когда я говорю: «Это тело тяжело, твердо, текуче, зелено, оно кислое, щелочное, органическое и т. д.», — то тем самым я характеризую известный способ его действия, и, следовательно, мы имеем здесь дело с познанием, возможным лишь благодаря чистому рассудку. Коль скоро же это знание выражается in abstracto, посредством субъекта и предиката — совершенно так же, как и многие другие, от него совершенно отличные знания (например, субординация в высшей степени отвлеченных понятий), — то сейчас же это чисто логическое отношение переносится обратно на область наглядного познания, и мы думаем, что субъект и предикат суждения должны иметь свой особый коррелят в созерцании, субстанцию и акциденцию. Однако ниже я покажу, что истинное содержание понятия субстанции совпадает с содержанием понятия материи. Акциденции же означают совершенно то же самое, что и отдельные способы действия, так что мнимое познание субстанции и акциденций есть на самом деле познание чистым рассудком причины и действия. Что же касается того, как, собственно, возникает представление материи, то это разъяснено частью в первой книге моего основного произведения, в § 4, и еще с большей обстоятельностью в трактате «О законе достаточного основания», в конце § 21, с. 77; частью же мы более подробно рассмотрим это при анализе основоположения о пребывании субстанции.
с) Дизъюнктивные суждения22 вытекают из закона исключенного третьего, который представляет собой металогическую истину: поэтому они всецело являются достоянием чистого разума, и их возникновение не связано с рассудком. Выведение из них категории общности или взаимодействия — яркий пример тех насильственных действий, которые Кант позволяет себе иногда совершать над истиной только ради удовлетворения своего стремления к архитектонической симметрии. Несостоятельность этого выведения уже неоднократно и справедливо подвергали осуждению и обосновывали с разных сторон, особенно же Готтлоб Эрнст Шульце в своей «Критике теоретической философии» и Берг в своей «Эпикритике философии». В самом деле, какая аналогия существует между допускаемым определением известного понятия через взаимно исключающие предикаты и мыслью о взаимодействии? Они прямо противоположны, ибо в дизъюнктивном суждении допущение одного из членов деления необходимо ведет за собою устранение другого; наобо-
386
рот, если мы мыслим две вещи в отношении взаимодействия, то допущение одной тем самым требует допущения другой и vice versa*. Поэтому действительная логическая аналогия взаимодействия — это, бесспорно, circulus vitiosus**, в котором, как и в мнимом взаимодействии, обусловленное является в то же время условием и наоборот. И подобно тому как логика отбрасывает circulus vitiosus, так и из метафизики должно быть изгнано понятие взаимодействия. Ибо я покажу сейчас вполне серьезно, что не существует никакого взаимодействия в собственном смысле слова и что это понятие, как ни любят употреблять его (именно вследствие неопределенности содержания), оказывается при ближайшем рассмотрении пустым, ложным и ничего не значащим. Прежде всего вспомним, что такое причинность и что сказано мною об этом в § 20 вводного трактата, равно как и в моем «Конкурсном сочинении о свободе воли», гл. 3, с. 27 cл., и, наконец, в четвертой главе второго тома основного произведения. Причинность есть закон, согласно которому актуализирующиеся состояния материи определяются во времени. Итак, когда говорится о причинности, речь идет только о состояниях, или, собственно, просто об изменениях, но никак не о материи как таковой[306] или о пребывании без изменений. Закон причинности распространяется не на материю как таковую[307] ибо она не возникает и не уничтожается, равным образом — не на целую вещь, как обыкновенно говорится, но лишь на состояние материи. Далее, закон причинности не имеет никакого отношения к пребыванию: ибо там, где ничто не изменяется, нет никакого действия и никакой причинности, а есть лишь вечное состояние покоя. Коль скоро это состояние изменяется, то вновь возникшее состояние есть или опять пребывающее, или же оно не таково, а влечет за собою третье, и необходимость, с которой это совершается, и есть закон причинности, являющийся одной из форм закона основания и потому далее необъяснимый, так как закон основания и есть принцип всякого объяснения и всякой необходимости. Из сказанного ясно, что причинность находится в теснейшей и необходимой связи с временно́й последовательностью. Лишь поскольку состояние А предшествует во времени состоянию В — причем последовательность эта необходима, а не случайна, т. е. является не просто следующим состоянием, но результатом А, — лишь постольку состояние А есть причина, а состояние В — действие. Понятие же взаимодействия подразумевает, что они оба являются и причиной, и действием друг друга; а это значит, что каждое из них есть одновременно и предшествующее, и последующее, что бессмысленно. Ибо принять, что оба состояния одновременны и притом необходимо одновременны, нельзя: поскольку, будучи необходимо связанными и одновременными, они составляли бы лишь одно состояние, для сохранения которого требуется, правда, наличность всех его определений, но при котором речь идет уже не об изменении и причинности, а о продолжительности и покое, и имеется в виду только то, что если изменяется одно определение целого состояния[308], то возникшее отсюда новое состояние не сохраняется, а становится причиной изменения
387
и всех остальных определений первого состояния, вследствие чего наступает опять новое, третье состояние; и все это совершается согласно обычному закону причинности и не требует нового закона, закона взаимодействия.
Я просто утверждаю также, что для понятия взаимодействия нельзя привести решительно ни одного примера. Все, что могло бы показаться таким примером, есть на самом деле или состояние покоя, к которому понятие причинности, имеющее силу лишь для изменений, неприложимо, или сменяющаяся последовательность одноименных состояний, для объяснения которой достаточно одной причинности. Пример первого рода представляют собой неподвижные чаши весов, нагруженные равновесными гирями: здесь нет никакого действия, ибо нет никакого изменения; это — состояние покоя: равномерно распределенная нагрузка действует, как и во всяком теле, с уравновешенным центром тяжести, но никак не может проявить своей силы. Если устранение одной гири производит второе состояние, становящееся тотчас же причиной третьего, опускания другой чаши, то это совершается просто по закону причинности и не требует не только никакой особой категории рассудка, но и особого наименования. Пример второго рода представляет собой процесс горения. Соединение кислорода с горючим телом является причиной тепла, а тепло в свою очередь — причиной нового обнаружения этого химического соединения. Однако на самом деле мы имеем здесь цепь причин и действий, только члены ее называются попеременно одним и тем же именем: горение А производит тепло В, тепло В — новое горение С (т. е. новое действие, одноименное с причиной А, но индивидуально с нею не тождественное), С — новое тепло D (не реально тождественное с В, но — в понятии и, следовательно, одноименную) и т. д. Доступный пример того, что в обыденной жизни зовется взаимодействием, дает гумбольдтовская теория пустынь («Картины природы», второе изд., т. 2, с. 79). В песчаных пустынях не бывает дождя, хотя он и выпадает на смежных с ними лесистых горах. Причина этого заключается не в притяжении горами облаков, а в том, что поднимающийся с песчаной равнины столб разогретого воздуха препятствует разложению пузырьков пара и гонит облака вверх. В горах перпендикулярно поднимающийся ток воздуха слабее, облака опускаются, и в более холодном воздухе выпадают осадки. Таким образом, отсутствие дождя в пустынях находится во взаимодействии с отсутствием растительной жизни: дождь не идет потому, что разогретый песок излучает больше тепла, а пустыня не превращается в цветущую степь потому, что не бывает дождя. Однако здесь, как и в предшествующем примере, мы, очевидно, имеем только преемственность одноименных причин и следствий, а не что-либо существенно отличное от обыкновенной причинности. Так же обстоит дело и при колебаниях маятника, и при самосохранении организма, где каждое состояние вызывает новое, тождественное по роду, но индивидуально отличное от того состояния, которым было вызвано первое; только здесь дело сложнее, ибо цепь состоит уже из звеньев не двух, а нескольких родов, так что одноименное звено снова возникает в ряду причин и действий лишь после того, как многие иные звенья сменили друг друга. Таким образом, мы постоянно имеем дело
388
лишь с применением одного и того же простого закона причинности, определяющего последовательность состояний, а не с чем-либо таким, что требовало бы для своего уразумения новой и особой функции рассудка.
Или, быть может, в качестве доказательств реального закона взаимодействия сошлются на то, что действие равно противодействию? Но ведь это обусловливается тем, на чем я так настаиваю и что я подробно изложил в трактате «О законе достаточного основания», а именно тем, что причина и действие — не два тела, а последовательные состояния тел, и, следовательно, каждое из обоих состояний присуще всем сопричастным телам; таким образом, действие, т. е. вновь наступающее состояние, например при толчке, равным образом распространяется на оба тела; насколько поэтому изменяется подвергшееся толчку тело, настолько же изменяется и толкающее — оба в отношении их массы и скорости. Если угодно называть это взаимодействием, то всякое действие есть взаимодействие, и поэтому здесь не получается никакого нового понятия, не говоря уже о новой функции рассудка, а мы имеем в результате только ненужный синоним причинности. Именно такую точку зрения, однако, высказывает (что весьма опрометчиво) Кант в «Метафизических началах естествознания», в начале доказательства четвертой теоремы механики, где он говорит: «Всякое внешнее действие в мире есть взаимодействие». Но к чему тогда отдельные априорные функции рассудка, соответствующие простой причинности и взаимодействию, так что даже реальная последовательность вещей возможна и познаваема будто бы только при помощи первой, а их сосуществование — только при помощи второй? Если всякое действие есть взаимодействие, то, значит, последовательность и сосуществование тождественны и все в мире одновременно. Если бы на самом деле существовало взаимодействие, то было бы возможно и даже a priori достоверно и perpetuum mobile; на самом же деле, однако, отрицание возможности вечного двигателя основывается на априорном убеждении, что не существует взаимодействия и соответствующей ему формы рассудка.
Равным образом и Аристотель не признает взаимодействия, как такового, замечая, что хотя две вещи и могут быть причинами друг друга, но лишь так, что причинность каждой из них понимается в ином смысле: например, если первая действует на вторую как мотив, а вторая на первую — как причина ее движения. В двух местах мы находим у него одни и те же слова: «Sunt praetera quae sibi sunt mutua causae, ut exercitium bonae habitudinis, et haec exerdtii: at eodem modo, sed haec ut finis, illud ut principium motus» (Physic. Lib. II, cap. 3; Metaph. Lib. V, cap. 2)*. Если бы он признавал сверх того еще взаимодействие в собственном смысле слова, то непременно упомянул бы здесь в нем, так как в обоих приведенных местах он ставит своей задачей перечисление всевозможных видов причин. Что же касается «Analyt. post.» Lib. II, cap. 11, то здесь он говорит о круговороте причин и действий, а не о взаимодействии.
389
4) Категориям модальности свойственно следующее преимущество: то, что выражается каждой из них, действительно отвечает формам суждений, из которых оно выведено, чего почти совсем нельзя сказать о других категориях, большинство которых дедуцируется из форм суждения с крайне произвольными натяжками.
Итак, то, что понятия возможного, действительного и необходимого вытекают из проблематической, ассерторической и аподиктической форм суждения, — это вполне верно. Но то, что эти понятия представляют особые, первоначальные и уже непроизводные[309] рассудочные формы познания, — это неправда. На самом деле они возникают из одной-единственной первоначальной и потому a priori известной нам формы всякого познания — закона основания[310], причем непосредственно из него вытекает познание необходимости; коль скоро же к последнему применяется рефлексия, возникают понятия случайности, возможности, невозможности, действительности. Поэтому данные понятия возникают не на основе одной только духовной способности, а именно рассудка, но вследствие конфликта абстрактного познания с познанием интуитивным, как мы это сейчас увидим.
Я утверждаю, что «необходимое бытие» и «следствие из данного основания» — взаимозаменимые и вполне тождественные понятия. В качестве необходимого мы можем познавать (а именно — только мыслить) что-либо лишь в том случае, если мы рассматриваем его как следствие из данного основания, и, кроме этой зависимости, этой определяемости посредством другого и непременного следования из другого, понятие необходимости не содержит в себе ровно ничего. Таким образом, оно возникает и существует единственно и исключительно в результате применения закона основания. Поэтому, соответственно различным формам этого закона, есть физическая необходимость (следствие из причины), есть логическая необходимость (проявляющаяся как основание познания — в аналитических суждениях, умозаключениях и т. п.), есть математическая необходимость (проявляющаяся как основание бытия в пространстве и времени) и, наконец, существует практическая необходимость, под которой я подразумеваю не какое-то определение воли мнимым категорическим императивом, а необходимость совершения определенного поступка при наличии данного эмпирического характера и соответствующих мотивов. Вместе с тем все необходимое является таковым лишь относительно, а именно — лишь при наличии основания, из которого оно следует. Поэтому мысль об абсолютной необходимости заключает в себе противоречие. По поводу остального я отсылаю к § 49 трактата «О законе достаточного основания».
Случайность представляет собой контрадикторную противоположность24 необходимости, т. е. ее отрицание. Оттого содержание понятия случайности негативно и означает лишь отсутствие связи по закону основания. Следовательно, и случайное всегда относительно; оно случайно по отношению к тому, что не является его основанием. Всякий объект, какого бы рода он ни был, например, всякий факт в действительном мире, одновременно и необходим, и случаен, необходим по отношению к одному тому, что есть его причина, случаен по отношению ко всему остальному. Ибо его соприкосновение со всем остальным в про-
390
странстве и времени является простым
совпадением, безо всякой необходимой связи: отсюда и слова случай, συμπτωμ,
contingens. И насколько немыслимо
абсолютно необходимое, настолько же немыслимо и абсолютно случайное. Ибо это последнее буквально
было бы объектом, никак не
соотнесенным ни с каким другим объектом в рамках отношения следствия к основанию. Невозможность же
представить себе такой объект есть
отрицательное выражение закона основания, который, следовательно, должен быть нарушен, для того чтобы можно
было помыслить абсолютно случайное;
но в таком случае и последнее потеряет всякий
смысл, так как понятие случайности имеет смысл лишь по отношению к закону основания и означает, что данные объекты не связаны друг с другом отношением основания
и следствия.
В природе, поскольку она есть наглядное представление, все происходящее необходимо, так как оно вытекает из своей причины. Рассматривая же отдельный факт по отношению ко всему остальному, которое не является его причиной, мы познаем данный факт как случайный, но это уже отвлеченная рефлексия. Если, далее, по поводу какого-либо объекта природы мы совершенно абстрагируемся от его причинно-следственного отношения ко всему остальному и, следовательно, от его необходимости и случайности, то этот вид познания будет заключаться в понятии действительного, и здесь мы обращаем внимание только на действие, не справляясь о причине, по отношению к которой оно было настолько же необходимо, насколько по отношению ко всему остальному было случайно. Все это основывается в конечном счете на том, что модальность суждения характеризует не столько объективное состояние вещей, сколько отношение к нему нашего познания. Но так как в природе все вытекает из какой-нибудь причины, то все действительное является также необходимым, но опять-таки лишь постольку, поскольку оно существует в это время и на этом месте: ибо лишь на это распространяется определяющая сила закона причинности. Если же мы покидаем сферу наглядного созерцания природы и переходим к отвлеченному мышлению, то мы получаем возможность рефлексивно представлять себе все естественные законы, известные нам частью a priori, частью a posteriori; и это абстрактное представление содержит все, что существует в природе в каком-либо месте и в какое-либо время, но с абстрагированием от любого определенного места и времени; тем самым, с помощью такой рефлексии, мы вступили в обширное царство возможного. А то, что и здесь не находит себе места, есть невозможное. Очевидно, что возможное и невозможное существуют только для рефлексии, для абстрактного рационального познания, а не для наглядного познания, хотя именно чистые формы последнего и позволяют разуму определять возможное и невозможное. С учетом же того, познаны ли законы природы, на которые мы опираемся в мышлении о возможном и невозможном, a priori или a posteriori, сама возможность или невозможность является метафизической или только физической.
Из этих соображений, не нуждающихся в доказательстве, так как они непосредственно опираются на закон основания и на определения содержания понятий необходимого, действительного и возможного, становится достаточно ясно, насколько легковесно предположение Канта о нали-
391
чии трех особых функций рассудка, соответствующих трем названным понятиям и насколько и здесь он не смущается никакими соображениями при осуществлении своего принципа архитектонической симметрии.
А к этому присовокупляется еще одна очень крупная ошибка — то, что Кант, следуя, правда, примеру предшествующей философии, смешивает понятия необходимого и случайного. Предшествующая философия следующим образом злоупотребляла абстракцией. Было очевидно, что то, основание чего установлено, следует неминуемо, т. е. не может не быть и, следовательно, необходимо. И вот философы хватались исключительно за последнее определение и говорили: необходимо то, что не может быть иным, или противоположность чего невозможна. Основание же и корень этой необходимости в соображение не принимали, упускали из виду вытекающую отсюда относительность всякой необходимости и создавали таким образом совершенно немыслимую фикцию абсолютно необходимого, подразумевая под этим нечто такое, существование чего столь же неизбежно как следствие из данного основания, но что, однако, не есть следствие из какого-либо основания и поэтому ни от чего не зависит; последнее уточнение совершенно абсурдно, так как оно противоречит закону основания. Так вот, исходя из этой фикции и в диаметральной противоположности с истиной, называли случайным как раз все то, что обусловлено известным основанием, ибо философы исходили из относительного характера необходимости того, что обусловлено, и сравнивали последнюю с совершенно надуманной и противоречащей самой себе абсолютной необходимостью*. Это глубоко нелепое определение случайного сохраняет и Кант и выдает его за объяснение: «Критика чистого разума», V, с. 289— 291, 243; V, с. 301,419, 458, 460; V, с. 447, 486, 488. При этом он впадает даже в явное противоречие с самим собою, говоря на с. 301: «Все случайное имеет причину», — и прибавляя: «Случайно то, небытие чего возможно». Но небытие того, что имеет причину, совершенно невозможно; следовательно, но необходимо. Впрочем, источник этого совершенно ложного объяснения необходимого и случайного можно обнаружить еще у Аристотеля в сочинении «De generatione et corruptione». Lib. II, cap. 9 и 11**, где необходимое объясняется, как то, небытие чего невозможно; ему противопоставляется то, бытие чего невозможно, а посередине между ними лежит то, что может быть и не быть, т. е. возникающее и преходящее, и это-то срединное и есть случайное. После сказанного выше для
392
нас очевидно, что данное объяснение, подобно многим другим объяснениям Аристотеля, представляет собой результат оперирования одними только отвлеченными понятиями, без обращения к наглядному и конкретному, в котором, однако, лежит источник всех абстрактных понятий и которым вследствие этого они постоянно должны контролироваться. «Нечто, небытие чего невозможно», — конечно, можно мыслить in abstracto; но если мы обратимся с этим к конкретному, реальному, наглядному, то не обнаружим ничего такого, что подтверждало бы (хотя бы только в качестве возможного) нашу мысль, кроме указанной возможности быть следствием из данного основания, необходимость которого (основания), однако, относительна и обусловлена. Прибавлю по этому поводу еще несколько замечаний относительно понятий модальности. Так как всякая необходимость опирается на закон основания и потому относительна, то все аподиктические суждения25 с самого начала и в своем окончательном значении гипотетичны. Они становятся категорическими лишь благодаря прибавлению ассерторической меньшей посылки26, то есть — в заключении. Если эта меньшая посылка остается под сомнением и ее сомнительность очевидна, то в результате получается проблематическое суждение.
То, что в общем (как правило) аподиктично (закон природы), является по отношению к индивидуальному случаю всегда лишь проблематичным, так как предварительно на самом деле должно вступить в силу то условие, которое подводит данный случай под правило. И наоборот, то, что в отдельном случае, как таковое, необходимо (аподиктично), например, всякое частное изменение, необходимое в силу своей причины, когда оно обобщено и выражено всеобщим суждением, опять-таки представлено лишь проблематично: ибо пришедшая в действие причина касалась только индивидуального случая, аподиктическое же суждение всегда гипотетично и выражает лишь общий закон, а не данный, частный случай. Все это основывается на том, что возможность существует лишь в области рефлексии и для разума, действительность — в области созерцания и для рассудка, необходимость же — и для того, и для другого. Различие между необходимым, действительным и возможным существует, собственно, лишь in abstracto и сообразно понятию, в реальном же мире все эти три момента совпадают. Ведь все, что совершается, совершается необходимо, ибо оно совершается по причинам, которые и сами в свою очередь вызываются причинами, так что все события в мире, от малых до великих, — строгое сцепление необходимо происходящих событий. Соответственно этому, все действительное одновременно необходимо, и в реальности не существует никакого различия между действительностью и необходимостью, равно как и между действительностью и возможностью: ведь то, что не совершилось, т. е. не стало действительным, не было также и возможным, потому что причины, без которых оно (несовершившееся) никогда не смогло бы произойти, сами не пришли и не могли прийти в действие в великом потоке причин и следствий; следовательно, оно было невозможным. Поэтому всякое событие или необходимо, или невозможно[311]. Все это, однако, относится лишь к реальному эмпирическому миру, т. е. к комплексу отдельных вещей, — стало быть, ко всему индивидуальному как таково-
393
му. Наоборот, если мы с помощью разума будем рассматривать вещи обобщенно, воспринимая их in abstracto, то необходимость, действительность и возможность снова выступят порознь: все соответствующее априорным законам нашего интеллекта мы признаем за возможное вообще; соответствующее эмпирическим законам природы — за возможное в этом мире (даже если в действительности его никогда не было), и мы, следовательно, четко отличим возможное от действительного, хотя само по себе действительное есть всегда также и необходимое, оно признается таковым лишь тем, кто знает его причину; взятое же независимо от последней, оно является и называется случайным. Этот взгляд дает нам ключ к тому περὶ συνάτων*, между мегариком Диодором и стоиком Хрисиппом, который приводится Цицероном в книге «De fato»**. Диодор говорит: «Только то, что становится действительным, было возможно, и все действительное также необходимо». Хрисипп возражает: «Возможно многое, что никогда не становится действительным, ибо действительно становится только необходимое. Мы можем объяснить себе это следующим образом. Действительность есть заключение в силлогизме, посылки которого даются возможностью. Для этого требуется не только большая, но и меньшая посылка: только обе вместе дают полную возможность. А именно, большая посылка дает чисто теоретическую, общую возможность in abstracto; но сама по себе она не делает еще чего-либо возможным, т. е. способным стать действительным. Для этого нужна еще меньшая посылка, распространяющая возможность на отдельный случай путем подведения его под общее правило, и тогда он становится действительным. Например:
Большая посылка. Все дома (следовательно, и мой) могут сгореть.
Меньшая. Мой дом охвачен огнем.
Заключение. Мой дом сгорает.
Ибо всякое общее правило, следовательно, всякая большая посылка, определяет вещи по отношению к действительности лишь при известном условии, т. е. гипотетически: например, возможность сгореть имеет в нашем примере своим условием появление огня. Это условие и дается меньшей посылкой. Большая посылка, так сказать, заряжает пушку, но лишь тогда, когда меньшая поднесет фитиль, последует выстрел, т. е. заключение. Это всецело распространяется на отношение возможности к действительности. Так как выражающее собою действительность заключение следует всегда с необходимостью, то отсюда вытекает, что все действительное одновременно необходимо; это можно видеть также из того, что быть необходимым — значит только «быть следствием из данного основания»: этим основанием для действительного является его причина; следовательно, все действительное необходимо. Таким образом, мы видим, что понятия возможного, действительного и необходимого здесь совпадают, и не только второе предполагает первое, но и наоборот. Если что их разделяет, так это ограниченность нашего интеллекта формой времени: ведь время делается посредником между возможностью и действительностью. Необходимость единичного собы-
394
тия всецело открывается из знания совокупности его причин; но совпадение всех этих различных и независимых друг от друга причин кажется нам случайным, — да, собственно, в независимости их друг от друга и состоит понятие случайности. Но так как каждая из причин была необходимым следствием своей причины и т. д. до бесконечности, то очевидно, что случайность есть чисто субъективное явление, обусловленное ограниченностью горизонта нашего рассудка, — столь же субъективное, как и видимая линия горизонта, которая образуется там, где небо сходится с землей.
Так как необходимость тождественна со следствием из данного основания, то в каждом из четырех видов закона основания она должна проявляться особым образом и иметь соответствующую противоположность в возможности и невозможности, которая возникает всегда только после применения к предмету способности разума к абстрагированию. Поэтому упомянутым выше четырем видам необходимости соответствует столько же видов невозможности, т. е. физическая, логическая, математическая, практическая. Замечу при этом, что если мы будем оставаться в области абстрактных понятий, то возможность будет всегда соответствовать более общему понятию, а необходимость — более узкому; например: «Животное может быть птицей, рыбой, амфибией и т. д.» или «Соловей должен быть птицей»; «Такая-то вещь должна быть животным»; «Такая-то — организмом»; 'Такая-то — телом». Ибо логическая необходимость, выражением которой служит силлогизм, идет всегда от общего к частному, но никогда не идет обратно. В противоположность этому в наглядном мире (т. е. в первом классе представлений) все, в сущности, необходимо в силу закона причинности, и лишь привходящая рефлексия может рассматривать наглядные факты как случайные (сравнивая их с тем, что не есть их причина), или только как действительные (вообще отвлекаясь от причинной связи): собственно, лишь к этому классу представлений применимо понятие действительного, как показывает самое происхождение этого слова из понятия каузальности. В третьем классе представлений, в чистом математическом созерцании, выступает (если держаться исключительно в его пределах) сплошная необходимость: возможность возникает и здесь лишь в результате применения рефлексивных понятий; например: «Треугольник может быть прямоугольным, тупоугольным, равносторонним», «…должен иметь три угла, равные в сумме двум прямым». Таким образом, возможного мы достигаем здесь лишь путем перехода от наглядного познания к абстрактному.
Надеюсь, что после вышеизложенного (с целью напоминания о том, что сказано в трактате «О законе достаточного основания», равно как и в первой книге основного произведения) не останется дальнейших сомнений относительно истинного и весьма разнообразного происхождения тех форм суждения, которые указаны в таблице, равно как и относительно невозможности и совершенной необоснованности того, что Кант вводит двенадцать особых функций рассудка для их объяснения. Эта необоснованность видна уже из кое-каких отдельных и весьма поверхностных наблюдений. Так, например, только исключительная любовь к симметрии и безусловное доверие к ее путеводной нити
395
заставит признать, будто утвердительное, категорическое и ассерторическое суждения — настолько различные вещи, что дают право принять для каждого из них совершенно особую функцию рассудка.
Сознание несостоятельности учения о категориях прорывается у
самого Канта, что видно из факта исключения им во втором издании многих длиннот
из текста третьего отдела анализа основоположений (phaen
Между тем эта таблица категорий должна была служить путеводной нитью дня всякого метафизического и даже научного исследования («Пролегомены», § 39). И действительно, она является не только фундаментом всей кантовской философии и шаблоном, на основе которого, как я уже показал это выше, всюду проводится принцип симметрии, но превращается прямо-таки в прокрустово ложе, в которое Кант втискивает все, что бы он ни рассматривал, применив насилие, логику которого я рассмотрю теперь несколько подробнее. И если так поступал Кант, то можно себе представить, до чего должно было дойти рабское стадо подражателей — imitatores, servum pecus***[312]. Мы видели — до чего. Итак, это насилие применяется следующим образом: совершенно оставляют в стороне и забывают смысл выражений, служащих рубриками, формами суждений и категорий, и держатся исключительно за сами выражения. Источником последних является отчасти аристотелевская «Analytica priora», I, 23 (de qualitate et quantitate terminirum syllogismi****) но применяются они как попало: ведь объем понятий можно было бы обозначить и другим словом, кроме количества, хотя последнее все же более удачно, чем названия остальных категорий. Уже качество выбрано, очевидно, лишь из-за привычки противополагать количеству, ибо для обозначения утверждения и отрицания оно взято довольно-таки произвольно. Между тем Кант, о чем бы у него ни шла речь, подводит каждую количественную характеристику в пространстве и времени и каждую, какая только возможна, качественную характеристику вещей — их физические, моральные и т. д. качества — под рубрики категорий количества и качества, хотя между этими вещами и этими рубриками форм суждения и мышления нет ничего общего, кроме случайного совпадения произвольных названий. Нужно призвать на
396
помощь все уважение, испытываемое по отношению к достижениям Канта в целом, чтобы не выразить своего протеста против подобных приемов в резких выражениях. Следующий пример дает нам чистая физиологическая таблица общих основоположений естествознания. Что общего, на самом деле, между количеством суждений и тем, что всякое созерцание имеет экстенсивную величину? Или между качеством суждений и тем, что всякое ощущение имеет свою степень интенсивности? Первое сопоставление основывается преимущественно на том, что пространство есть форма нашего внешнего созерцания, а второе есть не более как результат эмпирического и, сверх того, чисто субъективного восприятия, полученного непосредственно из наблюдения над свойствами наших органов чувств. Далее в таблице, дающей основу для рациональной психологии («Критика чистого разума», с. 344; V, 402), под рубрикой качества помещается простота души, между тем как это свойство — чисто количественное и к утверждению или отрицанию в суждении не имеет никакого отношения. Рубрика же количества заполняется единством души, которое, однако, заключается уже в ее простоте. Затем модальность вводится уже просто комичным образом, а именно: душа стоит-де в отношении к возможным предметам, — казалось бы, что отношение принадлежит к категории релятивного, но последняя занята уже субстанциальностью. Далее, четыре космологических идеи, дающие материал антиномиям, сводятся также к рубрикам категорий, о чем ниже, в критике антиномий. Несколько примеров того же рода, если не еще более ярких, можно обнаружить в таблице категорий свободы (!) в «Критике практического разума»; далее — в «Критике способности суждения», в первой книге, в которой суждение вкуса подводится под четыре категориальные рубрики, и, наконец, в «Метафизических началах естествознания», скроенных прямо по таблице категорий, что и является, вероятно, главным источником всего ложного, примешивающегося здесь и там к истинному и превосходному содержанию этого весьма значимого произведения; см., например, в конце первого отдела, где Кант говорит, что единство, множество и всеобщность направлений линий должны соответствовать категориям, названным так по количеству суждений.
Принцип постоянства субстанции выводится из категорий субсистенции и присущности. Их же мы познаем будто бы только из формы категорического суждения, т. е. из соединения двух понятий как субъекта и предиката. С какой же, следовательно, произвольной легкостью Кант устанавливает зависимость этого великого метафизического положения от простой логической формы! Впрочем, это проделывается тоже лишь pro forma*[313] и ради соблюдения принципа симметрии. На самом деле доказательство, приводимое для обоснования этого принципа, отбрасывает в сторону его мнимое происхождение из рассудка и категории, и опирается на чистое созерцание времени. Однако и в такой своей форме оно совершенно неправильно. Неправда, будто одновременность (сосуществование) и продолжительность возможны в одном только
397
времени — эти представления возникают лишь из сочетания времени с пространством, как я показал это в § 18 трактата «О законе достаточного основания» и затем подробнее в § 4 основного произведения; полагаю, знание этих мест необходимо для понимания дальнейшего. Неправда, будто при всяком изменении время продолжает пребывать: напротив, именно оно само и является текущим; пребывающее время — противоречие. Доказательство Канта останется несостоятельным, как бы он ни обставлял его софизмами, более того, он впадает здесь в явное противоречие. А именно, неверно охарактеризовав одновременность как модус времени (с. 177; V, 219), Кант замечает вполне правильно (с. 183; V, 219): «Одновременность не есть модус времени, так как во времени все его части существуют не одновременно, но одна после другой». На самом деле одновременность предполагает как пространство, так и время. Ибо если две вещи одновременны, но не едины, то они разграничены в пространстве; и если два состояния одной вещи одновременны (например, жар и свечение у раскаленного железа), то они являются двумя одновременными действиями одной и той же вещи и, следовательно, предполагают материю, а последняя — пространство. Строго говоря, одновременность есть чисто отрицательное определение, указывающее лишь на то, что две вещи или два состояния не разведены во времени и что, следовательно, их различия нужно искать в чем-то ином. Но во всяком случае наше знание о постоянстве пребывающей субстанции, т. е. материи, должно быть априорным в своей основе, так как оно несомненно и не может быть получено из опыта. Я вывожу это знание из того, что принцип всякого становления и исчезновения, осознаваемый нами a priori закон причинности, относится лишь к изменениям, т. е. к последовательным состояниям материи, — следовательно, ограничивается формой, не затрагивая самой материи, которая поэтому выступает в нашем сознании как не подверженная никакому становлению и исчезновению, т. е. как всегда существовавшая и неизменная основа всех вещей. Более глубокое, полученное в результате анализа нашего наглядного представления эмпирического мира обоснование знания о постоянстве пребывающей субстанции дано в § 4 первой книги, где показано, что сущность материи состоит в соединении пространства и времени, а это соединение возможно лишь на основе представления причинности, следовательно, лишь для рассудка, который есть не что иное, как субъективный коррелят причинности; поэтому и материю можно познавать не иначе как действующей, т. е. как сплошную причинность; бытие и действие в ней одно и то же, на что указывает само слово действительность. Итак, внутреннее соединение пространства и времени — причинность, материя, действительность — все это одно и то же, а субъективный коррелят этого одного и того же есть рассудок. Материя должна носить в себе взаимоисключающие свойства обоих факторов, из которых она слагается; представление же причинности устраняет их противоречивость и делает их совместное существование постижимым для рассудка, через который и для которого материя только и существует и вся функция которого сводится к познанию причин и действий; для него, следовательно, в материи соединяется непрестанный поток времени (выступающий как смена акциденций) с косной неподвижностью про-
398
странства (являющейся как постоянство преобразующей субстанции). Ибо если бы исчезли акциденции, равно как и субстанция, то явление оказалось бы совершенно оторванным от пространства и принадлежало бы лишь времени, мир опыта был бы упразднен, сведен к нулю уничтожением материи. Итак, из сопричастности пространства материи, т. е. всем явлениям действительности, — поскольку оно контрастирует со временем и дополняет его и потому, само по себе и вне соединения с ним, не знает никакого изменения — из этой сопричастности надо выводить и объяснять принцип постоянства субстанции, который всякий признает a priori достоверным, а не из одного только времени, как у Канта, сочинившего для этой цели совершенно бессмысленное понятие пребывания времени.
Неправильность следующего затем доказательства априорности и необходимости закона причинности, доказательства из одной только последовательности фактов во времени, я разобрал подробно в «Трактате о законе достаточного основания», § 23, и потому ограничиваюсь здесь ссылкой*. Совершенно так же обстоит дело и с доказательством взаимодействия, само понятие которого я выше признал ничего не значащим; равным образом все нужное уже сказано и насчет модальности, об основоположениях которой идет затем речь у Канта.
Мне следовало бы коснуться еще кое-каких пунктов в дальнейшем обзоре трансцендентальной аналитики, но я боюсь утомить терпение читателя и потому предоставляю их его собственному размышлению. Но есть один пункт, который постоянно возникает перед нами на всем протяжении «Критики чистого разума», — та основная и главная ошибка ее автора, которую я выше подверг обстоятельной критике и которая состоит в том, что Кант не делает никаких различий между абстрактным, дискурсивным познанием и познанием наглядным. Она-то и делает столь темной всю кантовскую теорию способности познания, никогда не позволяя читателю знать, о чем, собственно, идет речь, так что, вместо того чтобы понимать, он всегда лишь гадает, пытаясь относить сказанное то к мышлению, то к наглядному представлению, и вечно остается в нерешительности. Это почти невероятное отсутствие всякого внимания к сущности наглядного и абстрактного представления приводит Канта в главе «О разделении всех предметов на феномены и ноумены[314]» к чудовищному утверждению, будто без мышления, т. е. без абстрактных понятий, совершенно невозможно никакое познание предмета и что созерцание, не будучи мышлением, не является поэтому и познанием а представляет собой лишь состояние чувственности, простое ощущение, более того, что созерцание без понятия совершенно пусто, понятие же без интуиции все-таки еще представляет собой нечто (с. 253; V, 309). Между тем последнее диаметрально противоположно истине, ибо понятия получают все свое значение и содержание единственно из отношения к наглядным представлениям, от которых они абстрагируются, отвлекаются, т. е. образуются путем отбрасывания всего несущественного;
399
поэтому когда они лишены опоры на наглядное представление, они пусты и ничего не значат. Наоборот, созерцания имеют сами по себе непосредственное и чрезвычайно большое значение (ведь в них объективируется вещь в себе), они представляют самих себя, сами за себя говорят и обладают собственным, а не заимствованным, как понятия, содержанием. Ибо закон основания господствует над ними лишь как каузальность и, будучи таковой, определяет лишь их место в пространстве и времени, но не обусловливает самого их содержания и значения, как в понятиях, где он выступает в качестве основания познания. На первый взгляд кажется, однако, что Кант именно в этой главе вроде бы подходит к различению наглядного и абстрактного представления: он упрекает Лейбница и Локка в том, что первый превратил все в абстрактные, а последний — в наглядные представления. Но из этого не следует никакого различения, и если Локк и Лейбниц действительно сделали указанные ошибки, то на Канта падает вина третьей, включающей в себя обе первые: а именно, он виноват в таком глубоком смешении наглядного и абстрактного, что у него получается какой-то чудовищный гермафродит, какая-то небылица, о которой невозможно составить себе ясного представления и которая должна была лишь ошеломить, запутать его учеников и заставить их спорить между собой.
Пожалуй, в указанной главе «О разделении всех предметов на феномены и ноумены» мышление и созерцание разграничены более резко, чем где бы то ни было; однако способ их различения в данном случае в корне неверен. А именно, на с. 253, V, 309 говорится: «Если я устраню из эмпирического познания всякое мышление (посредством категорий), то больше не будет возможно никакое познание предмета: ведь посредством одного только созерцания ничего не мыслится, и наличие этого состояния чувственности во мне не дает никакого права заключать от подобных представлений к какому-либо объекту». Это утверждение содержит все заблуждения Канта, вместе взятые, ибо делает ясным как день, что он ложно понял отношение между ощущением, созерцанием и мышлением и вследствие этого отождествил созерцание — формой которого все-таки должно быть пространство, и притом взятое во всех трех измерениях — с простым, субъективным ощущением, возникающим в чувственных органах; познание же известного предмета он объясняет лишь из подключения мышления, отличного от созерцания. Я, наоборот, заявляю: объекты — это прежде всего предметы созерцания, а не мышления, и все наше знание о предметах изначально и само по себе — созерцание; однако последнее — вовсе не простое ощущение, но в нем проявляется уже деятельность рассудка. Появляющееся только у человека, а не у животных мышление представляет лишь абстрагирование от интуиции и не дает никакого абсолютно нового познания, не создает сызнова никаких не существовавших прежде предметов, но лишь изменяет форму приобретенного уже при помощи созерцания знания, а именно, делает его абстрактным и понятийным, благодаря чему теряется наглядность, но зато становится возможным комбинирование понятий, неизмеримо расширяющее среду их применения. Материалом же нашего мышления являются всегда только сами наши созерцания, а не нечто такое, чего в них не содержалось бы и привносилось бы только
400
мышлением; поэтому для всего происходящего в нашем мышлении всегда должна быть возможной отсылка к материалу созерцания; в противном случае мышление было бы совершенно бессодержательным. И как ни обрабатывается и ни преобразуется этот материал мышлением в различных отношениях, однако всегда должна быть открыта возможность восстановления его в первоначальном виде и сведения к нему мышления, подобно тому как кусок золота, после всевозможных растворений, окислений, выпариваний и соединений, восстанавливается в своем первородном и неуменьшенном виде. Но это, конечно, было бы невозможно, если бы мышление само от себя привносило какой-либо элемент, и притом главный, в построение предмета.
Вся следующая затем глава об амфиболии — это всего лишь критика лейбницевской философии, и как таковая она в целом верна, хотя вся эта часть вырастает из страсти к симметрии, продолжающей и здесь служить путеводной нитью. Так, по аналогии с аристотелевским «Органоном» строится трансцендентальная топика, гласящая, что каждое понятие должно быть обсуждено с четырех точек зрения для выяснения того, к какой способности познания оно относится. А точки зрения эти взяты совершенно произвольно, и с одинаковым основанием можно было бы прибавить к ним еще десяток других, но их число, четыре, должно соответствовать числу категориальных рубрик, и поэтому главные философемы Лейбница распределяются по ним во что бы то ни стало. Далее, эта критика отчасти превращает в естественные заблуждения разума то, что на самом деле было ложными абстракциями Лейбница, который, вместо того чтобы учиться у своих великих современников, Спинозы и Локка, предпочитал угощать публику своими собственными диковинными выдумками. В главе «Об амфиболии рефлексии» под конец говорится, что может существовать иной, совершенно отличный от нашего, вид созерцания, к которому, однако, все же были бы применимы наши категории; поэтому объекты такого созерцания были бы ноуменами, т. е. вещами, которые могут нами только мыслиться, но так как созерцание, которое могло бы дать значение этому мышлению, у нас отсутствует и вообще существование его проблематично, то и предмет такого мышления был бы совершенно неопределенной возможностью. Я показал выше при помощи цитат, что Кант, в величайшем противоречии с самим собой, делает из категорий то условия наглядного представления, то функции отвлеченного мышления. Здесь же они выступают исключительно в последнем значении, и, по всей видимости, Кант склонен относить их только к дискурсивному мышлению. Но если действительно таково его мнение, то ему следовало бы уже в самом начале трансцендентальной логики, прежде чем делать столько видов из функций мышления, дать характеристику мышления вообще, отличить его, следовательно, от созерцания и показать, какое познание дает сам по себе процесс созерцания и что нового добавляет к нему мышление. Тогда можно было бы понять, о чем он, собственно, говорит, или, что еще лучше, тогда и он сам стал бы говорить совершенно иначе, а именно — сначала о созерцании, а потом о мышлении, вместо того чтобы, как он это делает, толковать о чем-то среднем между ними, т. е. о чистой фикции. Тогда не было бы и такой громадной пропасти между трансцендентальной логикой и трансцендентальной эстетикой, где он, описав чистые формы созерцания, сразу
401
же отделывается от их содержания, т. е. от эмпирического восприятия в целом, словами «оно дано» и не спрашивает, каким же образом оно появляется на свет, с помощью ли рассудка или помимо него, а одним махом переходит к абстрактному мышлению, и не то чтобы к мышлению вообще, но непосредственно к его определенным формам, не обмолвившись ни полусловом насчет того, что такое мышление, что такое понятие, как относится абстрактное и дискурсивное к конкретному и интуитивному, в чем разница между познанием у человека и животного, что такое разум.
Между тем именно это оставленное Кантом без внимания различие абстрактного и наглядного познания и есть то, что древние философы обозначали словами φαινόμενα и νοούμενα* и противоположность и несоизмеримость чего искала своего разрешения в философемах элеатов, в учении Платона об идеях и в диалектике мегарцев, а позже у схоластов, в споре реалистов и номиналистов, источник которого лежал уже в контрасте интеллектуальной направленности Платона и Аристотеля28. Кант же, непростительным образом оставивший без внимания то, что обозначали при помощи выражений φαινόμενα и νοούμενα, пользуется ими, как своею собственностью, для обозначения ими своих вещей в себе и своих явлений.
Отвергнув кантовское учение о категориях, подобно тому как он сам отверг аристотелевское, я хочу теперь, в виде опыта, указать на третий путь, которым могла бы быть достигнута лежащая в их основе цель. А именно, то, чего оба они искали под названием категорий, представляют собой самые общие понятия, под которые можно было бы подвести все разнообразие вещей и посредством которых, таким образом, можно было бы мыслить в конечном счете все существующее. Поэтому-то Кант и разумел под ними формы всякого мышления.
К логике грамматика относится, как платье к телу. Не принадлежат ли в таком случае эти наивысшие понятия, этот основной бас разума, который является подкладкой всякого специализированного мышления и без применения которого поэтому невозможно никакое мышление, — не принадлежат ли они, в конце концов, к таким понятиям, которые именно в силу своей чрезвычайной общности (трансцендентальности[315]) находят свое выражение не в отдельных словах, а в целых классах слов, так что при каждом слове, каково бы оно ни было, мыслится и какое-либо из этих понятий, и поэтому не надо ли искать их названий не в лексиконе, а в грамматике?[316] Не являются ли они, в конце концов, теми различиями понятий, благодаря которым выражающее их слово есть существительное, прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог[317]: короче говоря — pars orationis**? Ибо части речи, бесспорно, означают формы, которые принимает всякое мышление и в которых оно непосредственно движется; именно поэтому они являются существенными формами языка, основными его элементами, так что нельзя пред-
402
ставить себе ни одного языка, который не состоял бы по крайней мере из существительных, прилагательных и глаголов29. Этим основным формам следовало бы затем подчинить те формы мышления, которые образуются посредством флексии первых, т. е. посредством склонения и спряжения, причем, по существу, безразлично, прибегают ли для описания последних к помощи артикля или местоимения[318]. Рассмотрим, однако, проблему несколько ближе и поставим сызнова вопрос: что такое формы мышления?
1) Мышление складывается всецело из суждений; суждения — нити всей его ткани. Ибо без употребления глагола наше мышление не двигается с места; всякий же раз, когда мы употребляем глагол, мы высказываем суждение.
2) Всякое суждение состоит в уразумении отношения между подлежащим и сказуемым, которые оно разделяет или соединяет с известными ограничениями. Суждение соединяет подлежащее со сказуемым, во-первых, в познании их действительного тождества, что может быть лишь при эквивалентных понятиях; затем в познании, что одно всегда мыслится в другом (но не наоборот) — в общеутвердительном суждении; и, наконец, в познании, что одно иногда мыслится в другом — в частноутвердительном суждении. Обратным путем идут суждения отрицательные. Поэтому в каждом суждении должны быть подлежащее, сказуемое и связка, утвердительная или отрицательная[319], причем каждая из этих частей может и не обозначаться отдельным словом[320], хотя большей частью она обозначается. Иногда одно слово обозначает и сказуемое, и связку, например: «Кай стареет». Иногда одно слово обозначает и то, и другое, и третье — например, в латинском выражении concurritur, т. е. «войска начинают сражаться». Отсюда ясно, что форм мышления нельзя искать прямо и непосредственно ни в словах, ни даже в частях речи, так как одно и то же суждение на разных языках и даже на одном языке может быть выражено различными словами и различными частями речи, но мысль остается той же, следовательно, той же остается и ее форма: ибо мысль не могла бы остаться той же, если бы изменилась ее форма. Но словесное выражение одной и той же мысли и одной и той же ее формы может быть, конечно, различным, ибо оно — только внешняя оболочка мысли; наоборот, мысль и ее форма неразрывны. Таким образом, грамматика объясняет только словесную оболочку форм мышления[321].
Поэтому части речи могут быть выводимы из самих форм мышления, изначальных и независимых от языка: выражать последние, со всеми их модификациями, — в этом и состоит их назначение. Они, части речи, — орудие этих форм, их платье, которое точно пригнано по их фигуре, так что по первому можно узнать вторую[322].
3) Эти действительные, неизменные, изначальные формы мышления совпадают, правда, с формами логической таблицы суждений Канта, с той разницей, однако, что в последней, в угоду симметрии и таблице категорий, наделано много фальшивых окон, которые следует ликвидировать, и, сверх того, неправилен порядок перечисления. Таким образом, эта таблица должна быть представлена приблизительно в следующем виде:
а) Качество: утверждение или отрицание, т. е. соединение или разделение понятий: две формы. Относится к связке.
403
b) Количество: понятие субъекта берется во всем объеме или отчасти: всеобщность или множественность. К первой принадлежат также индивидуальные субъекты: «Сократ» значит «Сократ», взятый во всем его «целом». Итак — лишь две формы. Относится к субъекту.
c) Модальность:[323] в самом деле имеет три формы. Определяет качество в смысле необходимого, действительного или случайного. Относится, следовательно, тоже к связке[324].
Эти три формы мышления возникают на основе логических законов противоречия и тождества. Из законов же достаточного основания и исключенного третьего вытекает:
d) Отношение: появляется только тогда, когда высказывается суждение относительно готовых уже суждений, и состоит в том, что выражает или зависимость одного суждения (суждений) от другого (других), следовательно, связывает их в гипотетическом предложении; или указывает на то, что суждения исключают друг друга, следовательно, разъединяет их в разделительном предложении[325]. Относится к связке, соединяющей или разделяющей готовые суждения.
Части речи и грамматические формы служат способами выражения трех элементов суждения — субъекта, предиката и связки[326], равно как и их возможных отношений друг к другу, т. е. перечисленных форм мышления ближайших их определений и модификаций. Существительное, прилагательное и глагол являются поэтому существенными элементами языка, как такового, и их непременно встретишь во всех языках. Однако можно представить себе язык, в котором прилагательное и глагол слиты, как это иногда бывает во всех языках. В целом можно сказать, что для выражения субъекта даны существительное, наречие, предлог; для выражения предиката — прилагательное, наречие, предлог; для выражения связки — глагол, который, однако, за исключением esse, уже содержит в себе предикат[327]. Подробный механизм выражения мыслительных форм должна изучать философская грамматика, сами же операции над ними — логика.
Примечание. Для предостережения от возможных заблуждений и для пояснения сказанного упомяну о книге Сигизмунда Штерна «Предварительные замечания об основах философии языка» (1835)[328] как о совершенно неудачной попытке конструировать из грамматических форм категории. Автор совершенно смешал мышление с процессом созерцания и потому вздумал вывести из грамматических форм — вместо категорий мышления — мнимые категории созерцания и таким образом поставил грамматические формы в непосредственную связь с созерцанием. Его крупная ошибка в том, будто язык относится непосредственно к созерцанию, тогда как на самом деле он относится непосредственно к мышлению[329], как таковому, т. е. к абстрактным понятиям, и уже через посредство понятий — к созерцанию; к последнему между тем язык находится в таком отношении, которое влечет за собою совершенное изменение формы. Разумеется, то, что дано в созерцании, а следовательно, и отношения, возникающие из форм пространства и времени, становятся предметом мышления; следовательно, должны существовать и формы языка для их выражения, но не иначе как in abstractа, т. е. в понятиях. Непосредственным материалом мышления непременно являются поня-
404
тия, и лишь к ним относятся формы логики; никогда не относятся они прямо к созерцанию. Созерцание определяет всегда лишь материальную, а не формальную истинность предложений; последняя сообразуется исключительно с логическими законами.
Возвращаюсь к кантовской философии и перехожу к трансцендентальной диалектике[330]. Кант открывает ее определением разума; эта способность будет теперь играть главную роль, в то время как до сих пор на сцене были только чувственность и рассудок. Я уже приводил выше его определения разума, в их числе и то, которое он дает здесь и согласно которому разум есть «способность принципов». Так вот здесь нас поучают, что все рассмотренные до сих пор априорные познания, делающие возможными чистую математику и чистое естествознание, дают только правила, а не принципы, так как образуются на основе созерцаний и форм познания, а не вытекают из чистых понятий, как это требуется для принципов. Поэтому принципы должны быть познанием на основе чистых понятий и притом познанием синтетическим. Однако последнее просто невозможно. Из чистых понятий не получится никаких суждений, кроме аналитических. Раз понятия должны быть связаны синтетически и в то же время a priori, то эта связь необходимо должна быть опосредствована чем-нибудь третьим, а именно — чистым созерцанием формальной возможности опыта, подобно тому как синтетические суждения a posteriori опосредуются эмпирическим созерцанием: следовательно, синтетическое суждение a priori никогда не может возникать на основе одних только понятий. Вообще же нам ничего не известно a priori, кроме закона основания в различных его формах[331], и поэтому невозможны никакие синтетические суждения a priori, кроме вытекающих из содержания этого закона[332].
Соответственно своему требованию, Кант выступает теперь с мнимым принципом разума, правда, только с одним, из которого он выводит все остальные положения. Это именно тот тезис, который выдвигает и поясняет Христиан Вольф в своей «Космологии», отд. I, гл. 2, § 93 и «Онтологии», § 178. И вот, подобно тому как выше под рубрикой амфиболии[333] принимаются и критикуются в качестве естественного и необходимого заблуждения разума просто-напросто лейбницевские философемы, то же происходит теперь с философемами Вольфа. Этот принцип разума преподносится Кантом, сверх того, в крайне туманной, неотчетливой, неопределенной и невразумительной форме (с. 307; V. 361, 322; V. 379); если же выразить его ясно, то он гласит: «Если дано обусловленное, то должна быть дана и полнота его условий, а вместе с тем и безусловное, благодаря которому только и осуществляется эта полнота». Мнимая правильность данного положения уясняется всего лучше, если представить себе условия и все ими обусловленное в виде звеньев ниспадающей цепи, верхнего конца которой, однако, не видно, так что она может тянуться вверх до бесконечности: но так как она висит, а не падает, то наверху должно быть одно первое и каким-то образом прикрепленное звено. Или короче: разуму хотелось бы иметь для своего удобства какую-нибудь точку, где прикреплена уходящая в бесконечность цепь причин и следствий[334]. Но оставим образные сравне-
405
ния и разберем сам принцип. Синтетичен-то он синтетичен: ибо аналитически из понятия обусловленного вытекает лишь понятие условия. Но истинности a priori в нем нет, равно как нет и истины a posteriori; свою же кажущуюся истинность он добывает себе одним весьма тонким приемом, который я сейчас и раскрою. Непосредственно и a priori мы обладаем познаниями, выражаемыми законом основания в его четырех формах[335]. Все абстрактные выражения закона основания выводятся уже из этого непосредственного знания и, следовательно, являются опосредованными; однако в еще большей степени это характеризует их логические следствия. Я уже говорил выше, что абстрактное познание суммирует разнообразные интуитивные знания в одной форме или одном понятии таким образом, что разнообразие наглядно познанного сглаживается: поэтому абстрактное познание относится к интуитивному, как тень к действительным предметам, огромное разнообразие которых она передает одним общим контуром. Так вот этой тенью и пользуется мнимый принцип разума. Для того чтобы все же добыть из закона основания прямо противоречащее ему безусловное, он благоразумно оставляет в стороне непосредственное, наглядное познание закона основания в четырех его формах и пользуется одними только выводимыми из этого познания и лишь благодаря ему имеющими смысл и значение абстрактными понятиями, чтобы как-нибудь тайно включить в широкий объем этих понятий свое безусловное. Суть этой операции будет лучше всего выявлена, если облечь ее примерно в такую диалектическую форму: «Если дано обусловленное, то должно быть дано и его условие, и притом целиком, т. е. полностью, т. е. должна быть дана полнота его условий; следовательно, если они образуют ряд, то должен быть дан весь ряд, следовательно, и начало его, т. е. безусловное[336]. Но здесь неверно уже одно только то, будто условия, как таковые, — по отношению к тому, что они обусловливают — могут представлять собою ряд. На самом деле полнота условий всякого обусловленного должна содержаться в его ближайшем основании, из которого оно непосредственно проистекает и которое поэтому является его достаточным основанием. Таковы, например, различные определения состояния, являющегося причиной, которые должны быть все налицо, прежде чем появится действие. Ряд же, например цепь причин, возникает лишь в том случае, когда то, что было условием, рассматривается в свою очередь как обусловленное, но при этом вся операция начинается сызнова, и закон основания вторично предъявляет свои требования. Никогда, однако, вместе с обусловленным не может быть дано последовательно ряда условий в собственном смысле слова, которые присутствовали бы как таковые[337] и ради завершающего их последнего обусловленного: это — всегда чередующийся ряд обусловленного и условий; при каждом пройденном условии цепь прерывается и требования закона основания полностью удовлетворяются, но они вновь актуализируются, как только условие превращается в обусловленное[338]. Итак, закон достаточного основания требует всегда полноты ближайшего условия, а никак не полноты ряда. Но именно само понятие полноты условий оставляет неопределенным, должна ли она быть одновременной или последовательной, и если выбирается последнее, то возникает требование полноты ряда следующих друг за другом условий.
406
Лишь на основе совершенно произвольной абстракции можно рассматривать ряд причин и действий как ряд одних только причин, существующих лишь ради последнего и необходимых притом в качестве его достаточного основания. Напротив, в результате более внимательного и вдумчивого размышления на эту тему, также, если опуститься из области неопределенных абстракций на почву определенных реальных частностей, обнаруживается, что требование достаточного основания распространяется только на полноту определений ближайшей причины, а не на полноту ряда. Требования закона основания полностью удовлетворяются при каждом данном основании. Но они тотчас же предъявляются снова, как только это основание рассматривается в свою очередь как следствие; но никогда оно не требует сразу всего ряда оснований. Наоборот, если вместо того, чтобы обратиться к самим вещам, мы будем держаться абстракций, то эти различия исчезнут: цепь чередующихся причин или логических обоснований и выводов окажется цепью одних только причин или оснований последнего действия, и полнота условий, только делающая данное основание достаточным, предстанет как полнота ряда одних только оснований, существующих якобы только ради последнего следствия. Тут-то и выясняется, что отвлеченный принцип разума слишком уж нагло выступает со своим требованием безусловного. Однако, чтобы убедиться в несостоятельности такого требования, не нужно никакой критики разума при помощи антиномий и их разрешения, а достаточно критики разума, как я ее понимаю, т. е. просто исследования отношения абстрактного познания к непосредственно интуитивному, путем низведения неопределенной всеобщности первого к твердой определенности последнего. Это исследование покажет, как мы увидим, что сущность разума состоит вовсе не в требовании чего-то безусловного; ибо пока он действует вполне разумно, он сам найдет, что безусловное — это небылица. Разум как способность познания[339] может иметь дело только с объектами; всякий же данный субъекту объект необходимо подчинен закону основания как a parte ante*, так и a parte post[340]**[341]. Значимость закона основания столь прочно слита с самой формой сознания, что объективно просто нельзя представить себе ничего такого, относительно чего нельзя было бы снова спросить «почему», т. е. нельзя представить себе абсолютного «абсолюта» как реальной вещи. А то, что тому или другому удобно остановиться где-нибудь и назвать это место абсолютным, так это не говорит ничего против данной неопровержимой и априорной истины, какие бы высокомерные физиономии при этом ни строились. На самом деле вся болтовня об абсолютном — эта почти единственная тема всей послекантовской философии — есть не что иное, как космологическое доказательство incognito. Лишенное всяких прав и поставленное вне закона вследствие проведенного против него Кантом процесса, оно не смеет больше показываться в своем настоящем виде, а прячется под всевозможными одеяниями, являясь то в благородном виде, закутанным в мантию интеллектуального созерцания или чистого мышления, то как жалкий бродяга, добивающийся
407
своего наполовину попрошайничанием, наполовину угрозами в менее притязательных философемах. Если же почтенным господам абсолютно нужно какое-нибудь абсолютное, то я укажу им его, и притом такое, какое несравненно лучше удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям, чем их туманный вздор: это — материя. Она не возникает и не уничтожается, значит, действительно независима и есть то, quod per se est et per se concipitur*, из ее лона все появляется на свет, и все в него возвращается, чего же еще требовать от абсолютного?! Но скорей следовало бы сказать тем, кого не пробьешь никакой критикой разума:
Вы
оба не на женщин ли похожи,
Которые
все вновь свое твердят,
Что
ни толкуй и как ни бейся с ними31.
То, что возвращение к какой-то безусловной причине, к какому-то первоначалу вовсе не делается сущностным требованием разума, доказывается, впрочем, также и фактически тем, что древнейшие религии нашего <арийского> рода, насчитывающие еще и теперь величайшее число последователей, т. е. брахманизм и буддизм, не знают и не допускают подобных предположений, а продолжают ряд взаимно обусловленных явлений в бесконечность. Я отсылаю в этой связи к примечанию, сделанному ниже, по поводу критики первой антиномии, а также к «Doctrine of Buddhism»** Уфама (с. 9) и вообще к любому правдивому описанию религий Азии. Не следует отождествлять разум с иудаизмом.
Кант, настаивающий сам вовсе не на объективной правомерности, а лишь на субъективной необходимости своего мнимого принципа разума, даже и в таком его качестве дедуцирует его путем явного софизма (с. 307; V, 364). А именно, так как мы всегда стремимся подвести всякую известную нам истину под истину более общую, то в этом стремлении будто бы сказывается погоня за предвосхищаемым нами существованием безусловного. На самом же деле это стремление есть не что иное, как применение разума (т. е. способности абстрактного и всеобщего познания, которая отличает мыслящего, наделенного даром речи человека от животного, этого раба настоящего) и его целенаправленное использование для упрощения наших знаний путем их обобщения. Ибо функция разума состоит именно в том, что мы познаем частное посредством общего, случай посредством правила, правило посредством более общего правила, — в том, значит, что мы ищем самую общую точку зрения; благодаря такому обобщению достигается то облегчение и усовершенствование знания, которое делает столь непохожей жизнь человека и животного, равно как и жизнь образованного и некультурного человека. Но, конечно, ряд оснований познания (существующий лишь в области абстрактного, следовательно — в области разума) заканчивается всегда чем-нибудь недоказуемым, т. е. известным представлением, которое не обусловлено уже этой формой закона основания, — другими словами, заканчивается непосредственно созерцанием a priori или a posteriori,
408
основанием самой верхней посылки всей цепи умозаключений. Я показал уже в трактате «О законе достаточного основания», § 50, что здесь ряд оснований познания переходит в ряд оснований становления или бытия. Однако использовать это обстоятельство для доказательства того, что, согласно закону причинности, существует безусловное, хотя бы в виде постулата, можно лишь в том случае, если совершенно игнорировать различие форм закона основания и, держась за абстрактное выражение закона, сваливать все их в одну кучу. Между тем Кант тщится оправдать эту путаницу, просто-напросто играя словами universalitas и universitas* (с. 322; V, 379). Итак, совершенно неверно, будто наш поиск высших оснований познания и всеобщих истин основывается на предположении какого-то необусловленного в своем бытии объекта или чего-то ему подобного. Хорошо свойство разума — предполагать то, что сам разум, поразмыслив, должен признать бессмыслицей! Нет, скорее всего источник понятия безусловного следует искать исключительно в лени индивида, который отделывается при помощи этого понятия, хотя и безо всякого на то оправдания, от всех дальнейших вопросов.
Сам Кант, отказывая своему принципу разума в объективном значении, выдает его, однако, за субъективно необходимую предпосылку и вносит таким образом в наше познание непримиримый раскол, который он впоследствии еще более усугубит. С этой целью он совершает расчленение названного принципа (с. 322; V, 379) согласно излюбленному им архитектонико-симметрическому методу. А именно, из трех категорий отношения у него вытекают три вида умозаключения, каждый из которых дает ему путеводную нить для отыскания безусловного особого рода, так что и разновидностей безусловного, соответственно этому, оказывается тоже три: душа, мир (как объект в себе и завершенная тотальность) и Бог. При этом мы сразу же наталкиваемся на принципиальное противоречие, о котором Кант не обмолвился ни словом, так как оно грозит весьма большой опасностью для симметрии: ведь первая и вторая из этих разновидностей безусловного сами являются в свою очередь обусловленными, а именно душа и мир — Богом как причиной своего возникновения; таким образом, общим с третьей у них является вовсе не предикат безусловности, о котором здесь вдет речь, а лишь то, что они есть результат умозаключения на основании принципов опыта постижения того, что запредельно по отношению к последнему.
Оставляя это пока в стороне, мы находим в трех разновидностях безусловного (к которым, по Канту, должен прийти всякий разум, следующий свойственным ему законам) три главных предмета, вокруг которых вращалась вся находившаяся под влиянием христианства философия, начиная со схоластов и кончая Христианом Вольфом. Хотя теперь, благодаря названным философам, данные понятия и сделались непосредственно доступными для всякого простого ума, но это отнюдь еще не доказывает, что они и помимо откровения должны вытекать из естественного развития каждого разума, как свойственные самой его
409
сущности продукты. Чтобы доказать это, следовало бы
предпринять историческое исследование и посмотреть, употребляли ли их древние и
неевропейские народы, в особенности индусы, равно как и древнейшие греческие
философы, или мы только великодушно приписываем им их и, подобно тому как греки
находили всюду своих богов, совершенно несправедливо переводим «Брахман» индусов
и «Тьен» китайцев словом «Бог»; и не правильнее ли говорить о теизме, как
таковом, имея в виду исключительно иудаизм и обе восходящие к нему религии,
последователи которых именно поэтому и объединяют сторонников всех прочих религий
на земле под именем язычников, а это определение (заметим, кстати, в высшей
степени бестолковое и невежественное) должно быть изгнано, по крайней мере, из
научного языка как отождествляющее и сваливающее в один мешок брахманистов,
буддистов, египтян, греков, римлян, германцев, галлов, ирокезов, патагонцев,
караибов, таитян, австралийцев и т. д. Для попов оно, конечно, весьма удобно,
но в научном мире ему следует немедленно указать на дверь: оно может ехать в
Англию и найти себе приют в Оксфорде. То, что именно буддизм, эта наиболее распространенная
религия на земле, не знает никакого теизма и с ужасом отворачивается от него,
это — вещь вполне доказанная. Что же касается Платона, то я того мнения, что
своим периодически всплывающим у него теизмом он обязан иудеям. Поэтому Нумений
называет его Moses graecisans (Clem. Alex. «Str
410
кое исследование, то он избежал бы неприятной необходимости говорить, что указанные три понятия с необходимостью вытекают из природы разума, и в то же время признавать, что они неопределимы и не могут быть рационально обоснованы, и делать таким образом из разума софиста, заявляя (с. 339; V, 397): «Это софизмы не отдельного человека, а самого чистого разума, от которых не может избавиться и наимудрейший из людей: самое большее, что он может сделать, это избежать связанных с ними заблуждений, но ему никогда не отделаться от их назойливо дразнящей видимости». Значит, кантовские «идеи разума» можно сравнить с фокусом, в котором сходятся отбрасываемые вогнутым зеркалом лучи, пересекаясь в нескольких дюймах от его поверхности; вследствие чего, в силу неизбежного акта рассудка, нам представляется в этом пункте предмет, не имеющий на самом деле никакой реальности.
В высшей степени неудачным является выбранное для этих мнимо необходимых продуктов чистого разума название идей, заимствованное у Платона, именовавшего так непреходящие образы вещей, которые, будучи умножены пространством и временем, неясно проглядывают в бесчисленных индивидуальных преходящих вещах. Таким образом, идеи Платона всецело наглядны, как это показывает избранное для них слово, которое можно было бы соответственно перевести как наглядности или зримости. Кант же перенял это слово для того, чтобы обозначить им вещи, лежащие настолько далеко от всякого возможного созерцания, что даже абстрактное мышление едва-едва способно к их постижению. Слово идея, введенное Платоном, сохраняло с тех пор в течение двадцати веков то значение, в котором употреблял его Платон: ибо не только все философы древности, но и схоласты и даже отцы церкви и средневековые богословы употребляли его только в этом платоновском его значении — в смысле латинского слова exsemplar*[342], как вполне определенно свидетельствует Суарес в своем двадцать пятом диспуте, отд. I. А то, что впоследствии французы и англичане стали по бедности своего языка употреблять его в другом значении, — это очень скверно, но ничего не значит. И решительно нельзя оправдать того, что Кант злоупотребил словом «идея», привязав к нему невидимой нитью новый смысл — не быть объектом опыта — смысл, который имеют и идеи Платона, но который у Канта ассоциируется со всевозможными химерами. И так как злоупотребление немногих лет ничего не значит в сравнении с авторитетом целых столетий, то я употребляю слово «идея» не иначе как в его старом, первоначальном платоновском смысле.
Опровержение рациональной психологии в первом издании «Критики чистого разума» гораздо обстоятельнее и полнее, чем во втором и в следующих изданиях, и поэтому я буду здесь пользоваться исключительно первым. В целом это опровержение представляет большую заслугу, и в нем много истинного. Тем не менее я вполне уверен, что Кант просто из любви к симметрии выводит необходимость понятия души из паралогизма <ложного умозаключения> чистого разума, путем применения
411
постулата необходимости безусловного к понятию субстанции — первой категории отношения, и утверждает, будто именно таким образом во всяком размышляющем разуме неизбежно возникает понятие о душе. Но если бы оно действительно имело своим источником предположение о предельном субъекте всех предикатов известной вещи, то с такой же необходимостью следовало бы признать существование души не только у человека, но и во всякой безжизненной вещи, так как и последняя требует предельного субъекта всех своих предикатов[343]. Вообще же Кант пользуется совершенно непригодным выражением, когда говорит о чем-то таком, что может существовать лишь в качестве субъекта, а не предиката (напр.: «Критика чистого разума», с. 323; V, 412; «Пролегомены», § 4 и 47); впрочем, прецедент этому можно найти еще в аристотелевской «Метафизике» (IV, гл. 8). Ничего не существует в качестве субъекта или предиката: ибо эти выражения принадлежат исключительно логике и означают отношение отвлеченных понятий друг к другу. В наглядном мире их коррелятами, или заместителями, являются субстанция и акциденция. Но в таком случае нам незачем искать то, что существовало бы только как субстанция, а не как акциденция, ибо мы имеем это уже в материи. Она — субстанция всех свойств вещей, которые и являются ее акциденциями. Она есть на самом деле, если угодно сохранить только что раскритикованное выражение Канта, предельный субъект предикатов всякой эмпирически данной вещи, то, что остается по устранении каких бы то ни было качеств: и это столь же приложимо к человеку, как и к животному, растению и камню, и настолько очевидно, что нужно намеренное нежелание видеть, чтобы не обнаружить этого. То, что она, материя, — настоящий прототип понятия субстанции, я не замедлю показать ниже.
Субъект и предикат относятся к субстанции и акциденции так, как закон основания в логике — к закону причинности в природе, и насколько несостоятельно смешение или отождествление последних, настолько же несостоятельно смешение и отождествление первых. Между тем в «Пролегоменах» (§ 46) Кант доводит такое смешение и отождествление до крайней степени, с целью вывести происхождение понятия души из понятия предельного субъекта всех предикатов и категорической формы умозаключения. Для того чтобы вскрыть софистику этого параграфа, достаточно вспомнить, что субъект и предикат — чисто логические определения, которые относятся единственно и исключительно к абстрактным понятиям и притом к их связи в суждении: субстанция же и акциденция принадлежат к наглядному миру и его восприятию в рассудке, но они существуют там лишь как тождественные с материей и формой или качеством, о чем я скажу сейчас подробнее.
Та противоположность, которая дает повод к признанию двух принципиально различных субстанций, души и тела, есть на самом деле противоположность субъективного и объективного. Если человек постигает себя объективно, во внешнем созерцании, он видит в себе пространственно-протяженное и вообще совершенно телесное существо; если же он постигает себя в самосознании, т. е. чисто субъективно, он видит в себе желающее и представляющее существо, свободное от всех форм созерцания и, следовательно, безо всяких присущих телам свойств. И вот
412
он создает понятие души, как и все трансцендентные понятия, названные Кантом «идеями», создает, применяя закон основания, эту форму всякого объекта, к тому, что не есть объект, в данном случае — прямо к субъекту познания и воли. Он рассматривает познание, мышление и волю как некие следствия, причину которых он ищет и, не находя таковой в теле, предполагает для них другую, совершенно отличную от тела, причину. Таким вот образом доказывают существование души все догматики от первого и до последнего — и Платон в «Федре», и Вольф, а именно: они выводят его из мышления и желания как из следствий, от которых заключается[344] к их причине. И лишь после того, когда таким образом в результате гипостазирования этой причины возникло понятие некоторого нематериального, простого и неразрушимого существа, стали логически выводить тезис о существовании последнего[345] из понятия субстанции. Но для этого само понятие субстанции было предварительно подвергнуто специальной переработке путем следующего не лишенного интереса фокуса.
Вместе с первым классом представлений, т. е. вместе с наглядным, реальным миром, дано и представление материи, ибо господствующий в нем закон причинности определяет смену состояний, предполагающих в свою очередь нечто пребывающее, изменениями которого они являются. Выше по поводу закона сохранения субстанции я указывал, что это представление материи возникает оттого, что в рассудке, для которого она только и существует, теснейшим образом соединяются на основе закона причинности (его единственной познавательной формы) пространство и время, и в продукте такого соединения участие пространства представлено в качестве сохранения материи, а участие времени — в качестве смены ее состояний. Сама по себе, как таковая, материя может только мыслиться in abstracto, но не может быть предметом созерцания, поскольку она всегда явлена последнему уже в определенной форме и с определенными качествами. Понятие субстанции есть результат дальнейшего абстрагирования от этого понятия материи, следовательно, представляет собой более общее, родовое понятие, которое получается вследствие того, что в понятии материи удерживается только предикат постоянства, все же прочие ее существенные свойства, протяженность, непроницаемость, делимость и т. д., отбрасываются. Как и всякое родовое понятие, понятие субстанции, конечно, беднее содержанием, чем понятие материи; но от этого оно не становится шире по объему, как это свойственно всякому родовому понятию, ибо оно не включает в себя наряду с материей никаких других низших родов, так что материя остается единственным видом понятия субстанции — единственным достоверным, реализующим его содержание и подтверждающим его. Таким образом, цель, ради которой наш разум создает при помощи абстрагирования высшее понятие, а именно — для того, чтобы мыслить в нем одновременно несколько различающихся видовыми признаками понятий, оказывается в данном случае невыполнимой: следовательно, вся эта абстракция или совершенно бесцельна и бессмысленна, или скрывает в себе некоторую постороннюю цель. И вот эта последняя обнаруживается благодаря тому, что под понятие субстанции, наряду с его настоящим видом, материей, подводят другой вид, а именно,
413
нематериальную, простую, неразложимую субстанцию, душу. Это понятие проскользнуло лишь постольку, поскольку уже при образовании понятия субстанции был пущен в ход незаконный и недозволяемый логикой прием. Действуя в рамках правил, наш разум образует высшее родовое понятие только и только тогда, когда сопоставляет несколько видовых понятий, и дискурсивно, путем сравнения, получает при помощи устранения их различий и удержания их сходных черт объемлющее все их (хотя, конечно, более содержательно бедное) родовое понятие, откуда следует, что видовые понятия всегда должны предварять понятия родовые. В приведенном же случае дело обстоит как раз наоборот. До образования родового понятия субстанции имелось одно только понятие материи, из которого затем неизвестно для чего, безо всякого повода и права на то было образовано мнимое понятие субстанции, полученное путем произвольного устранения всех определений исходного понятия, кроме одного. А потом уже рядом с понятием материи было подставлено — и тем самым узаконено — второе, совершенно ложное видовое понятие. Для получения же последнего требовалось только артикулированное на сей раз отрицание того, что уже раньше молчаливо отрицалось при определении понятия субстанции, а именно — отрицание протяженности, непроницаемости, делимости. Таким образом, роль понятия субстанции сводилась лишь к тому, чтобы замаскировать появление понятия нематериальной субстанции. Следовательно, понятие субстанции весьма далеко от того, чтобы считаться категорией, или необходимой функцией рассудка: оно представляет собой совершенно ненужное понятие, так как его собственное истинное содержание уже имеется в понятии материи, в сравнении с которым оно обнаруживает свою совершенную пустоту, и пустоту эту можно заполнить только искусственным понятием нематериальной субстанции, единственно ради утверждения которой оно и было образовано, так что, строго говоря, от понятия субстанции следует совсем избавиться и ставить всюду на его место понятие материи[346].
Если категории были у Канта прокрустовым ложем для всех возможных вещей, то три вида умозаключения являются таковым только для трех так называемых идей разума. Идея души вынуждена была иметь свой источник в категорической форме умозаключения. Теперь пришла очередь догматических представлений о мире как целом, поскольку он мыслится сам по себе в качестве объекта, расположенного между двумя границами — между самым малым (атом) и самым большим (пространственно-временны́е границы мира). Эти представления должны вытекать из гипотетической формы умозаключения. При этом нет нужды прибегать к особенным натяжкам. Ибо форма гипотетического суждения ведет свое происхождение от закона основания, а именно, от неосознанного, безусловного применения этого закона, а затем уже, в результате сознательного отказа от него, действительно возникают все так называемые идеи, и не одни только космологические: в самом деле, согласно этому закону, непрерывно ищут зависимость одного объекта от другого, пока наконец утомленная способность воображения не создаст иллюзию достижения конечного пункта поисков, причем совершенно упускается из
414
виду то, что всякий объект, равно как и их ряд, и, наконец, самый закон основания обусловлены некоторой еще более важной зависимостью, а именно — зависимостью от познающего субъекта, для объектов которого, т. е. представлений, этот закон только и имеет значение, поскольку им определяется само их бытие в пространстве и времени. И так как закон основания, т. е. та форма познания, из которой у Канта выводятся только космологические идеи, является на самом деле источником конструирования всех умозрительных ипостасей вообще, то для самого логического обоснования идеи на сей раз не нужно прибегать к софизмам; но зато они тем нужнее для классификации этих идей на основе четырех категориальных рубрикаций.
1) Космологические идеи по отношению ко времени и пространству, т. е. по отношению к пространственно-временны́м границам вселенной, смело рассматриваются как определяемые категорией количества, с которой у них на самом деле нет ничего общего, кроме того случайного обстоятельства, что в логике объем подлежащего в суждении обозначается словом количество — образным выражением, которое с успехом могло бы быть заменено другим. Но для кантовской страсти к симметрии этого довольно, для того чтобы воспользоваться счастливым совпадением терминологии и связать с количеством трансцендентные догмы о пространственно-временно́м протяжении мира.
2) Еще более смело Кант связывает с качеством, т. е. утвердительной или отрицательной формой суждения, трансцендентные идеи о материи, что не имеет основания даже в случайном совпадении терминологии: ибо как раз к количеству, а не к качеству материи относится ее механическая (не химическая) делимость. Но что еще важнее, идея делимости вовсе не принадлежит к числу следствий из закона основания, на котором, как на содержании гипотетической формы умозаключения, должны все-таки основываться все космологические идеи. Ибо утверждение, на которое при этом опирается Кант, — утверждение о том, что отношение частей к целому есть отношение условия к обусловленному, т. е. отношение, соответствующее закону основания, — является в действительности очень тонким, но совершенно лишенным оснований софизмом. Скорее это отношение опирается на закон противоречия. Ибо целое существует не как результат существования частей и части, не как результат существования целого, но и то и другое необходимо сосуществуют, потому что вместе они суть нечто единое, и разделение их — только произвольный акт. На этом основано то, что, согласно закону противоречия, мыслимое устранение частей ведет за собой мыслимое устранение целого и наоборот, а вовсе не на том, что части, как основание, будто бы обусловливают целое как следствие и что поэтому закон основания будто бы побуждает нас отыскивать предельные части, чтобы из них, как из основания, уразуметь целое. Вот какие затруднения преодолевает здесь страсть к симметрии!
3) Под рубрикой отношения, по-видимому, должна была бы фигурировать идея о первой причине мира. Однако Кант приберегает ее для четвертой рубрики, модальности, которую в противном случае нечем было бы заполнить и под которую он подгоняет эту идею при помощи мысли о том, что случайное (т. е., согласно его диаметрально проти-
415
воположному истине объяснению, всякое следствие из своего основания) становится благодаря первопричине необходимым[347]. Поэтому для удовлетворения требования симметрии в качестве третьей идеи выступает идея свободы, под которой, однако, подразумевается на самом деле та же только здесь и уместная идея о первой причине мира, как это ясно показывает примечание к тезису третьей антиномии. Таким образом, третья и четвертая антиномии в сущности тождественны.
Относительно всего этого я категорически утверждаю, что все учение об антиномии есть не более как мнимая борьба с призраками. Лишь образующие антитезисы утверждения в самом деле основываются на формах нашей способности познания, т. е., выражаясь объективно, на необходимых, a priori достоверных и всеобщих законах природы. Поэтому лишь они доказываются с помощью объективных оснований. Наоборот, образующие тезисы утверждения их доказательства не имеют под собой никакого основания, кроме субъективного, и всецело обусловлены слабостью мудрствующего индивида, воображение которого утомляется бесконечным регрессом и кладет ему конец путем произвольных предположений, оправдываемых затем на всевозможные лады, а его способность суждения сверх того еще и парализована в этом пункте ранними и глубокими предрассудками. Поэтому доказательства тезисов во всех четырех антиномиях являются чистейшей софистикой; наоборот, доказательства антитезисов — неизбежные выводы из a priori известных нам законов мира как представления. Поэтому Канту лишь ценой больших усилий и ухищрений удается удержать свои тезисы на плаву и заставить их совершать мнимые атаки на одаренного исконной силой противника. При этом первое и главное ухищрение состоит в том, что nervus argumentationis*[348], вместо того чтобы выступать в возможно более отчетливой, откровенной и резко очерченной форме, как это бывает всегда, если человек убежден в истине своего утверждения, размывается при помощи диалектической дихотомии и тонет в потоке ненужных и пространных фраз[349].
Встречающиеся здесь противоречащие друг другу тезисы и антитезисы напоминают δίχαιος и ἂδιχος λόγος**, которые заставляет спорить между собой Сократ в «Облаках» Аристофона. Впрочем, это сходство касается только формы, а не содержания, на которое его, вероятно, хотели бы распространить те, кто приписывает рассмотрению этих наиболее отвлеченных и надуманных вопросов теоретической философии влияние на нравственность и потому серьезно готов считать тезисы за διχαιος, а антитезисы на ἂδιχος λόγος. Впрочем, останавливаться на мнении этих жалких и ограниченных умов я считаю излишним и, отдавая дань не им, но истине, покажу, что приводимые Кантом доказательства отдельных тезисов на самом деле — софизмы, в то время как доказательства антитезисов ведутся вполне честно, правильно и на объективных основаниях. Я предполагаю, что следящий за ходом моего анализа читатель позаботится о том, чтобы постоянно сверяться с источником, обращаясь к самому кантовскому учению об антиномии.
416
Если даже допустить, что доказательство тезиса первой антиномии правильно, то оно доказывает слишком много, ибо одинаково могло бы быть применено и к самому времени, и к изменению во времени, и тем самым доказывало бы, что само время должно было начаться, а это бессмыслица. Впрочем, софизм состоит здесь в том, что понятие безначальности ряда состояний, о котором сперва идет речь, неожиданно подменяется понятием бесконечности, и затем доказывается то, в чем никто не сомневается, — что законченность логически противоречит бесконечности и все же каждый настоящий момент есть конец всего прошедшего времени. Однако можно прекрасно мыслить конец безначального ряда, не нанося никакого ущерба его безначальности, равно как и наоборот, можно мыслить начало бесконечного ряда. А против действительно верного аргумента в защиту антитезиса, гласящего, что изменения мира необходимо предполагают позади себя бесконечный ряд изменений, совершенно нечего возразить. Возможность абсолютного прекращения и остановки причинно-следственного ряда мы можем мыслить, но никоим образом невозможно помыслить возможность абсолютного начала*[350].
Относительно границ мира в пространстве доказывается, что если мир есть данное целое, то он необходимо должен иметь границы: заключение совершенно правильное, если бы только была доказана его первая посылка, чего на самом деле нет. Целостность несомненно предполагает границы, и границы предполагают целостность: но и то и другое принимаются здесь совершенно произвольно. Что же касается антитезиса, то в этом втором пункте он не имеет столь же удовлетворительного доказательства, как в первом, поскольку закон причинности дает нам основания для необходимых определений лишь по отношению ко времени, а не по отношению к пространству, и хотя данный закон и выступает a priori в качестве гаранта нашей уверенности в том, что заполненному событиями времени совершенно не может предшествовать свободное от событий время и что никакое изменение не может быть первым, но вовсе не является источником уверенности в том, что заполненное пространство не может иметь подле себя пространства пустого. Поэтому насчет последнего невозможно никакое решение a priori. Однако трудность
417
мыслить мир как ограниченный в пространстве заключается в том, что пространство само бесконечно, и потому лежащий в нем конечный мир превращается, как бы он ни был велик, в бесконечно малую величину, а в такой несоразмерности наше воображение встречает для себя неодолимую препону, так что ему остается выбирать одну возможность из двух: мыслить мир или бесконечно большим, или бесконечно малым. Это видели уже древние философы: «Metrodorus, caput scholae Epicuri, absurdum ait, in magno campo spicam unam produci, et unum in infinito mundum» (Stob. Eel. I, cap. 23)*[351]. Поэтому многие из них признавали (там же, ниже) infinites mundos in infinito**. К этому же сводится сущность аргументации Канта в защиту антитезиса, но только он обезобразил его вычурной схоластической формой изложения. То же самое доказательство можно было бы привести и против тезиса об ограниченности мира во времени, если бы нам не давала гораздо лучшего путеводная нить закона причинности. Далее, если допустить, что мир ограничен в пространстве, то возникает неразрешимый вопрос, какое же преимущество у заполненной части пространства перед оставшейся пустой бесконечной его частью? Обстоятельное и очень поучительное изложение аргументов pro и contra конечности мира дает Джордано Бруно в пятом диалоге своей книги «Del infinito, universo е mondi»***. Впрочем, сам Кант, опираясь на объективные доказательства, утверждает, что мир бесконечен в пространстве: см. его «Естественную историю и теорию неба» (Ч. II, гл. 7). То же признает и Аристотель (Phys., III, гл. 4); эта глава в указанном произведении Аристотеля и следующие за нею главы весьма поучительны с точки зрения усвоения содержания данной антиномии.
В тезисе второй антиномии Кант сразу же делает не слишком тонкое petitio principii****, заявляя: «Всякая сложная субстанция состоит из простых частей». Из произвольно допущенной сложности ему, конечно, очень легко затем доказать существование простых частей. Но положение «всякая материя есть нечто сложное», к которому он приходит, остается недоказанным: потому именно, что оно принимается как само собой разумеющееся. Дело в том, что простому противоположно не сложное, а протяженное, имеющее части, делимое на части. Но у Канта на самом деле, применительно к данному тезису, молчаливо принимается, что части существовали до целого и были потом сложены, вследствие чего возникло целое: ибо именно это означает слово «сложный». Однако этого нельзя утверждать, как равным образом невозможно утверждать и противоположное. Делимость означает только возможность разложения целого на части, но не то, что оно возникло, сложившись из частей[352] Делимость говорит о частях a parte post*****, сложность — a parte ante******. Ибо, в сущности, между целым и частями нет временно́го
418
отношения[353]:
на самом деле они взаимно обусловливают друг друга и существуют всегда вместе;
лишь поскольку существуют они оба (целое и части), имеется налицо пространственно-протяженное.
Поэтому слова Канта в примечании к тезису: «Пространство следовало бы называть
не c
Аргумент в защиту третьего тезиса представляет собою очень тонкий софизм; он, собственно, и есть мнимый кантовский принцип разума во всей своей чистоте и цельности. Он доказывает конечность ряда причин ссылкой на то, что причина, дабы быть достаточной, должна содержать в себе всю сумму условий, на основе которых возникает следующее состояние, действие. Эта полнота определений, данных одновременно в состоянии, которое является причиной, подменяется в аргументе полнотой ряда причин, вследствие которого только и осуществилось данное состояние; и так как полнота предполагает законченность, а последняя — конечность, то Кант, аргументируя третий тезис, выводит отсюда некую первую, заканчивающую ряд и вместе с тем необусловленную причину. Однако передержка очевидна. Чтобы мыслить состояние А как достаточную причину состояния В, я предполагаю, что А содержит в себе полноту соответствующих определений, наличностью которых неминуемо вызывается состояние В. Этим мое требование к нему как к достаточной причине вполне удовлетворяется и нисколько не затрагивает вопроса о том, каким образом осуществилось само А; последний вопрос относится совсем к другому ряду мыслей, он возникает тогда, когда я буду рассматривать состояние А уже не как причину,
419
а как действие, причем какое-либо другое состояние должно находиться к нему в том же отношении, в каком оно само находилось по отношению к В. При этом предпосылка конечности ряда причин и действий и, следовательно, полагание некоторого первого начала нигде не выступает в качестве необходимого (подобно тому как наличность настоящего момента нисколько не предполагает начала самого времени), а создается лишь косностью размышляющего индивида. Итак, совершенно неверно, взято с потолка, будто эта предпосылка содержится в понятии причины как достаточного основания; я подробно показал это выше при разборе совпадающего с данным тезисом кантовского принципа разума. Для пояснения этого ложного тезиса Кант не постеснялся привести в примечании в качестве примера необусловленного начала акт, совершаемый им в момент, когда он встает со стула: словно для него подняться со стула без мотива не было бы столь же невозможным делом, как и шару покатиться без причины! Что же касается ссылки Канта на философов древности, очевидно, внушенной ему сознанием собственной слабости, то я считаю излишним доказывать ее несостоятельность ссылками на Окелла Лукана, элеатов и др., не говоря уже об индусах. А против аргументации в защиту антитезиса третьей антиномии, как и в предшествующем случае, мне нечего возразить.
Четвертая антиномия, как я уже заметил, совпадает с третьей. Равным образом и доказательство тезиса четвертой антиномии в сущности идентично доказательству тезиса предыдущей антиномии. Утверждение Канта, будто всякое обусловленное предполагает полный и оттого завершающийся безусловным ряд условий, есть petitio principii[354], подлежащее решительному отрицанию. Всякое обусловленное предполагает свое и только свое условие: то, что последнее в свою очередь обусловлено, — это другой вопрос, непосредственно не связанный с первым.
Нельзя не признать, что учение об антиномиях создает известную видимость поиска истины; тем не менее примечательно то, что ни одна часть кантовской философии не встретила столь мало возражений и, даже более того, не нашла такого признания, как это весьма парадоксальное учение. Почти все философские партии и руководства придают ему важное значение, повторяют его и даже развивают дальше, между тем как почти все остальные части кантовского учения подверглись нападкам; мало того, были отдельные тупые головы, которые отвергали даже трансцендентальную эстетику. Единодушный же прием, встреченный учением об антиномии, надо думать, объясняется в конечном счете тем, что люди известного толка способны в глубине души испытать удовольствие, обнаружив пункт, в котором рассудок должен вполне закономерно остановиться, наткнувшись на что-то такое, что сразу и существует, и не существует, и таким образом они действительно имеют здесь перед собою шестой фокус Филадельфия, в лихтенберговском листке объявлений[355].
Следующее затем критическое разрешение космологического спора, если обратиться к его настоящему смыслу, представляет собой совсем не то, за что Кант его выдает: спор вовсе не решается благодаря обнаружению Кантом того обстоятельства, что в рамках первого и второго столкновения мнений спорящие стороны исходят из ложных посылок
420
и потому не правы, а в третьем и четвертом столкновении — обе правы; кантовское решение на самом деле является подтверждением антитезисов путем разъяснения их содержания.
Аргументируя свое решение, Кант прежде всего явно несправедливо утверждает, будто обе стороны принимают в качестве исходной посылки предположение, что вместе с обусловленным дается завершенный (следовательно, замкнутый) ряд его условий. Ибо это положение, кантовский чистый принцип разума, лежит в основе утверждений, подтверждающих один только тезис, в аргументации же антитезиса данное положение решительно отрицается, а утверждается прямо противоположное. Далее, Кант обвиняет обе стороны в том, что они полагают, будто мир существует сам по себе, независимо от его познания и форм последнего: но опять-таки и это предположение делается лишь в аргументации тезиса, а к основаниям утверждений, приводимым в защиту антитезиса, оно не имеет никакого отношения, даже прямо несовместимо с ними. Ибо понятию бесконечного ряда прямо противоречит то, что он дан сполна, существенным признаком такого ряда является как раз то, что он существует всегда только в отношении к процессу его отслеживания, а не независимо от него. Наоборот, в предположении определенных границ лежит и предположение целого, существующего самостоятельно и независимо от акта его измерения. Таким образом, только в аргументации тезиса делается неверное предположение о существующем самом по себе, т. е. до всякого познания данном мировом целом, к которому познание подходит как к чему-то готовому. В антитезисе же это утверждение отвергается с самого начала: ведь принимаемая просто по закону основания бесконечность причинно-следственных рядов может существовать лишь постольку, поскольку совершается регресс <в бесконечность>, а не независимо от него. Подобно тому как всякий объект предполагает субъект, точно так же и объект, определенный как бесконечная цепь условий, необходимо предполагает соответствующий ему способ познания у субъекта, а именно — непрерывное отслеживание звеньев этой цепи. Но это и есть именно то, что Кант выдает за разрешение спора, многократно повторяя: «Бесконечная величина мира существует лишь через регресс, а не до него». Таким образом, кантовское разрешение спора является, собственно, решением в пользу антитезиса, содержание которого и есть истина, тогда как с тезисом она не имеет ничего общего. Если бы в антитезисе утверждалось, что мир состоит из бесконечных рядов причин и следствий, но что при этом он существует независимо от представления с его регрессивным рядом, т. е. сам по себе, и поэтому представляет собой данное целое, то в таком случае он противоречил бы не только тезису, но и самому себе: ведь бесконечное не может быть дано целиком, как не может быть актуально бесконечного ряда, поскольку он бесконечно продолжается, и как равным образом не может быть беспредельного, которое составляло бы целое[356]. Итак, только содержанию тезиса свойственно то предположение, в котором Кант видит заблуждение обеих сторон.
Уже Аристотель учил, что бесконечное никогда не может быть дано actu, т. е. в действительности, а существует лишь potentia. «Infinitum non
421
potest esse actu… sed impossibile, actu esse infinitum» (Metaph. II, 10)*; и о том же: «Nihil enim actu infinitum est, sed potentia tantum, nempe divisione ipsa» (De generat. et corrupt. I, 3)**. Эту мысль он развивает подробно в «Физике» (III, 5 и 6), где до известной степени дает совершенно правильное разрешение всех антиномичных противоположностей. Со свойственным ему лаконизмом он излагает антиномии и затем говорит: «Это требует посредника (διαιτητου)», — сообразно с тем он предлагает решение, согласно которому бесконечности мира как в пространстве, так и во времени и в делимости нет до регресса (или прогресса), но она существует в нем. Итак, эта истина становится вполне очевидной при условии верного истолкования понятия бесконечного, и мы не понимаем самих себя, если считаем возможным мыслить бесконечное, какого бы рода оно ни было, как нечто объективно данное и готовое, — мыслить независимо от регресса.
Если же рассуждать противоположным образом и принять за
исходную точку зрения то, в чем Кант
видит разрешение спора, то мы на основе
того же самого придем как раз к утверждению антитезиса. А именно: если мир — не безусловное целое и существует не сам по
себе, но в представлении, и ряды
причин и ряды следствий существуют не до регресса, протекающего в рамках соответствующих представлений, а лишь через этот регресс, то он,
мир, не может содержать определенных и
конечных причинно-следственных рядов, ибо в таком случае их определенность и ограниченность были бы независимы от
возникающего позднее представления:
нет, все его ряды должны быть бесконечны, т. е. не могут быть исчерпаны никаким представлением.
На с. 506 (V, 534) Кант выводит из несостоятельности точек зрения обеих сторон трансцендентальную идеальность явлений и говорит: «Если мир есть существующее само по себе целое, то он или конечен, или бесконечен». Но это неверно: существующее само по себе целое никак не может быть бесконечным. Эту идеальность скорее следует выводить из бесконечности мировых рядов следующим образом: если ряды причин и следствий в мире не имеют конца, то мир не может быть целым, данным независимо от представления, ибо такое целое всегда предполагает определенные границы, как и наоборот, бесконечные ряды предполагают бесконечный регресс; поэтому предполагаемая бесконечность рядов должна определяться формой причинно-следственной связи, а последняя — способом познания субъекта; следовательно, мир, как он познается, существует лишь в представлении субъекта.
Сознавал ли сам Кант, что его критическое разрешение спора является, собственно, приговором в пользу антитезиса, я не берусь решать. Ибо это зависит от того, насколько значимо в данном случае влияние фактора, который Шеллинг весьма метко называет где-то «кантовской
422
системой приспособления»; а возможно и то, что дух Канта здесь уже под влиянием своего времени и окружения стеснен задачей бессознательного приспособления.
Разрешение третьей антиномии, предметом которой является идея свободы, заслуживает особого рассмотрения, ибо для нас весьма важно, что именно здесь, по поводу идеи свободы, Кант вынужден высказаться более подробно о вещи в себе, присутствовавшей до сих пор лишь на заднем плане. Для нас это вполне понятно, после того как мы обнаружили, что вещь в себе — это воля. Вообще, здесь находится тот пункт, в котором философия Канта приводит к моей или в котором моя философия ответвляется от кантовской, как от своего ствола. В этом можно убедиться, если прочитать со вниманием сказанное на с. 536 и 537 (V, 564, 656) «Критики чистого разума» и сравнить с этим местом введение к «Критике способности суждения» (с. XVIII и XIX третьего или с. 13 розенкранцевского издания), где прямо говорится: «Понятие свободы может сделать представимой вещь в себе как фиксируемый в этом понятии объект (а ведь это воля!), но не в рамках созерцания; напротив, понятие природы может сделать представимым свой предмет в рамках созерцания, но не как вещь в себе». В особенности же следует прочитать о разрешении антиномии в § 53 «Пролегомен» и спросить себя, не звучит ли все сказанное там как загадка, ключ к которой дает мое учение. Кант не довел своих мыслей до конца: я только закончил его дело. Поэтому я перенес то, что Кант говорит об одном лишь человеке, на все явления вообще, как на отличающиеся от последнего только степенью: я распространил на них ту истину, что сущность их есть нечто абсолютно свободное, т. е. воля. А то, насколько плодотворен этот взгляд в сочетании с учением Канта об идеальности пространства, времени и причинности, явствует из моего произведения.
Кант ни разу не сделал вещи[357] в себе предметом специального разъяснения или отчетливой дедукции. Всякий раз, когда он употребляет это понятие, он приходит к нему на основании заключения о том, что явление, т. е. видимый мир, должно иметь некоторую основу, некоторую умопостигаемую причину, которая не есть явление и поэтому не принадлежит к области возможного опыта. И он делает это после того, как неустанно твердил, что употребление категорий, а следовательно, и категории причинности, всецело ограничено применением к области возможного опыта, что категории — это только чистые формы рассудка, служащие для того, чтобы разбирать по складам явления чувственного мира, за пределами которого они не имеют никакого значения, вследствие чего строжайшим образом воспрещал их применение к вещам, лежащим по ту сторону опыта, и нарушением этого закона справедливо объяснял и тем самым сокрушал весь предшествовавший догматизм. Невероятная непоследовательность, которую совершает здесь Кант, была замечена уже первыми его противниками и сделалась предметом нападок, которым его философия не могла дать никакого отпора. Ибо хотя мы и в самом деле применяем известный нам a priori и до всякого опыта закон причинности к изменениям, допускаемым нашими органами чувств, но именно потому он[358] такого же субъективного происхожде-
423
ния, как и эти ощущения, и следовательно, не может приводить к вещи в себе. Истина в том, что, обретаясь на стезе представления, никогда нельзя выйти за его пределы: оно — замкнутое целое и не имеет в своем распоряжении никакой нити, по которой можно было бы дойти до toto genere[359] отличного от него существа вещи в себе. Если бы мы были только представляющие существа, то путь к вещи в себе был бы для нас совершенно закрыт. И лишь иная сторона нашего собственного существа открывает нам путь к иной стороне вещей. Этим путем пошел я. Совершаемое Кантом, вопреки его собственному запрету, заключение от того, что дано в опыте к вещи в себе, до известной степени оправдывается следующим соображением. Он не предполагает, как того требует истина, что объект прямо и просто обусловлен субъектом, а наоборот, он думает, что лишь сам способ явления объекта обусловлен формами познания субъекта, потому-то и осознаваемыми a priori. В противоположность этому, то, что познается только a posteriori, представляет собой, по Канту, уже непосредственное действие вещи в себе, которая, только проходя через эти данные a priori формы, становится явлением. Такой взгляд до известной степени объясняет, каким образом от Канта могло укрыться то, что само «бытие объектом» принадлежит форме явления и столь же обусловлено субъективным бытием, как способ явления объекта — формами сознания субъекта, и что, следовательно, если необходимо признать вещь в себе, то она совсем не может быть объектом, каким ее все время считает Кант, а должна принадлежать toto genere отличной от представления (т. е. от познания и от познаваемого) сфере, и о ней поэтому менее всего можно судить на основании законов, определяющих взаимную связь объектов.
С констатацией вещи в себе у Канта случилось то же, что и с утверждением об априорности закона причинности: оба положения верны, но способ их доказательства ложен; таким образом, они являются правильными заключениями из ложных посылок. Я сохраняю и то и другое, но обосновываю их совершенно иным и единственно верным образом.
Я не выдумываю вещь в себе и не делаю заключений о ней на основании законов, которые исключают ее, так как изначально относятся к области ее проявлений, я вообще прихожу к ней не окольными путями, а непосредственно свидетельствую о ней там, где она непосредственно обнаруживается, в воле, открывающейся изнутри каждому как в себе его собственного явления.
И это непосредственное знание собственной воли и есть тот источник, на основе которого в человеческом сознании возникает понятие свободы: так как и на самом деле воля в качестве миросозидающего начала, в качестве вещи в себе, свободна от закона основания, а вместе с тем и от какой бы то ни было необходимости, следовательно, она совершенно независима, свободна и даже всемогуща. Однако это относится лишь к воле как вещи в себе, а не к ее проявлениям, индивидам, которые с самого начала неизменно определены ею самой, будучи ее проявлением во времени. Но обыденное, не проясненное философией сознание не различает волю и ее проявление и то, что принадлежит только воле, приписывает последнему, вследствие чего возникает иллюзия безусловной индивидуальной свободы. Поэтому совершенно
424
справедливы слова Спинозы о том, что, если бы брошенный камень обладал сознанием, он был бы уверен в том, что летит по собственной воле. Ибо, конечно, и бытие-в-себе камня — та же единая свободная воля, но, как во всех своих проявлениях, так и здесь, где она является в виде камня, — это воля, уже вполне определенная. Впрочем, обо всем этом уже достаточно было сказано в основной части данного сочинения.
Кант, поскольку он исключает возможность непосредственного происхождения понятия свободы в человеческом сознании, объясняет возникновение данного понятия при помощи ссылки на механизм весьма тонкой спекуляции (с. 533; V, 561), согласно которой всегда искомое разумом безусловное дает повод к гипостазированию понятия свободы, и уже на этой трансцендентной идее свободы должно основываться практическое ее понятие. Однако в «Критике практического разума» (§ 6, с. 185 — четвертого, с. 235 — розенкранцевского издания) он выводит это последнее понятие иначе, из того, что оно предполагается категорическим императивом; таким образом, с точки зрения содержания данного предположения названная спекулятивная идея — это только первоначальный источник понятия свободы, здесь же оно получает настоящее значение и применение. Однако ни то ни другое неверно. Ибо иллюзия полной свободы индивида, сопровождающая его отдельные поступки, наиболее устойчива у наименее культурных людей, которые никогда не занимались размышлениями, и следовательно, не зависит от спекулятивной способности (хотя ее нередко и относят на счет таковой). Наоборот, от нее свободны только философы, и то лишь глубочайшие из них; равно как и наиболее серьезно мыслящие и самые просвещенные религиозные авторы.
Итак, согласно сказанному, настоящий источник понятия свободы вовсе не умозаключение — ни из спекулятивной идеи безусловной причины, ни из того, что оно, это понятие, предполагается категорическим императивом, — но оно возникает непосредственно на основе сознания, в рамках которого каждый сам напрямую знает себя как волю, т. е. как то, что в качестве вещи в себе не обусловлено формой закона основания и само ни от чего не зависит, тогда как от него, напротив, зависит все; но этот каждый, будучи чужд философской критике и рефлексии, не отличает себя как вступившее уже в форму времени и определенное проявление этой воли, можно сказать — волевой акт, от самой воли к жизни, и поэтому, вместо того чтобы признать все свое существование за акт своей свободы, ищет последней в отдельных своих поступках. По этому вопросу я отсылаю к своему конкурсному сочинению «О свободе воли».
Если бы Кант, как он это здесь заявляет и как, по-видимому, хочет представить дело в предшествующих случаях, приходил к вещи в себе лишь путем умозаключения и к тому же ценой величайшего противоречия с самим собой — путем умозаключения, им самим строжайше запрещенного, — то какое бы это было удивительное совпадение, что именно здесь, где он впервые вплотную подходит к вещи в себе и более подробно говорит о ней, он тотчас же признает в ней волю, свободную, проявляющуюся в мире только во временных явлениях волю! Я считаю поэтому, хотя этого и нельзя доказать, что Кант, говоря о вещи в себе, всякий раз безотчетно подразумевал в сокровеннейшей глубине своего
425
духа волю. Подтверждением этого является предисловие ко второму изданию «Критики чистого разума» (с. XXVII и XXVIII) и в розенкранцевском издании, с. 677 дополнений.
Впрочем, именно это намерение — таким образом развязать узел — дает Канту повод к прекрасному выражению самых глубоких мыслей его философии. Это относится ко всему шестому разделу «Антиномии чистого разума», особенно же к рассмотрению противоречий между эмпирическим и умопостигаемым характером (с. 534—550; V, 562—578), содержание которого я считаю величайшим достижением среди всего, что когда-либо было сказано людьми (в качестве пояснения см. параллельное место в «Критике практического разума», с. 169— 179 четвертого и с. 224—231 розенкранцевского издания). Тем более жаль, что здесь эти мысли находятся не на своем месте: во-первых, они открыты не тем путем, о котором говорится у Канта, и поэтому они должны были бы быть выведены иначе, чем это делается; во-вторых, не достигают они и той цели, ради которой высказаны, а именно — не разрешают мнимой антиномии. От явления здесь заключается к его умопостигаемому основанию, к вещи в себе — путем достаточно уже осужденного, непоследовательного употребления категории причинности за пределами области явлений. В качестве такой вещи в себе для данного случая полагается человеческая воля (которую Кант, в высшей степени неправильно и с непростительным пренебрежением к обычному словоупотреблению, именует разумом), со ссылкой на безусловный долг, категорический императив, постулируемый безо всяких дальнейших рассуждений.
Вместо всего этого следовало бы применить явный и открытый образ действий — исходить из самой воли и признать в ней непосредственно известное нам в себе нашего собственного явления и затем уже дать описание эмпирического и умопостигаемого характеров, показать, как все поступки, несмотря на строжайшую их обусловленность мотивами, тем не менее и самим действующим лицом, и оценивающим их наблюдателем относятся непременно и исключительно к самому действующему, как безусловно от него зависящее, сообразно с чем признается его вина или заслуга. Это был бы единственный прямой путь к познанию того, что не есть явление и, следовательно, не может быть найдено по законам явления, а есть то, что через явления открывается, познается, объективируется, — другими словами, представляет собой волю к жизни. Таковую затем следовало бы показать, просто по аналогии, в качестве сущности всякого явления вообще. Но тогда, конечно, нельзя было бы говорить (с. 546; V, 574), что в области неживой природы и даже у животных невозможно представить себе ни одной способности иначе как обусловленной чувственностью: а это на языке Канта значит, что объяснением по закону причинности исчерпывается и сокровеннейшее существо этих явлений, и таким образом для них, что весьма непоследовательно, упраздняется вещь в себе.
В результате того, что у Канта характеристика вещи в себе занимает неподобающее ей место, а также из-за соответствующего окольно-спекулятивного характера обоснования данного понятия, и само оно было совершенно фальсифицировано. Ибо найденная в результате поиска безусловной причины воля, или вещь в себе, выступает здесь по
426
отношению к явлению как его причина. Между тем такого рода отношение имеет место лишь в пределах явления, следовательно, уже предполагает его и не может связывать его с тем, что лежит вне его и toto genere[360]* от него отлично.
Далее, намеченная цель, т. е. разрешение третьей антиномии, вовсе не достигается указанием, что обе стороны, каждая в своем роде, правы. Ибо как тезис, так и антитезис говорят вовсе не о вещи в себе, но исключительно о явлении, об объективном мире, о мире как представлении. К нему и только к нему, к миру, взятому как представление, применимо то, что доказывается в аргументации тезиса при помощи выявленного выше софизма, будто он, этот мир, содержит безусловные причины; и только по отношению к этому же миру антитезис справедливо утверждает обратное. Поэтому все приводимое в защиту тезиса доказательство трансцендентальной свободы воли, поскольку она, воля, есть вещь в себе, является, собственно говоря, μετάβασις εἰς ἂλλο γένος**[361], как ни превосходно оно само по себе. Ибо представленная трансцендентальная свобода воли никоим образом не является безусловной каузальностью какой-либо причины (как это утверждается тезисом), поскольку всякая причина непременно должна быть явлением, а не тем, что лежит по ту сторону явления и от него всецело отличается.
Когда речь идет о причинно-следственной связи, то это совершенно невозможно распространять на отношение воли к ее проявлению (т. е. на отношение умопостигаемого характера к эмпирическому), как это делает Кант, потому что данное отношение совершенно отлично от причинного. Впрочем, и здесь, в рамках этого мнимого разрешения антиномии, сам Кант вполне правильно замечает, что эмпирический характер человека, как и всякой другой причины в природе, неизменен и что поступки человека вытекают из него, характера, по мере внешних воздействий, с безусловной необходимостью: поэтому, несмотря на всю трансцендентальную свободу (т. е. независимость воли самой по себе от связывающих ее проявления законов), ни один человек не обладает способностью начинать от себя ряд действий, как это утверждает тезис. Следовательно, и свобода не знает причинности, ибо свободна только воля, лежащая вне природы или явления, которое представляет собой лишь ее объективацию, но не находится к ней в отношении причинности: такое отношение существует только в пределах явления, следовательно, уже предполагает его, но не может заключать его в себе и связывать его с тем, что вовсе не есть явление. Сам мир можно объяснить только из воли (так как он и есть эта воля, поскольку она себя являет), а не из причинности. Но в мире причинность — единственный принцип объяснения, и все совершающееся в нем совершается исключительно по законам природы. Таким образом, правда всецело на стороне антитезиса, который не выходит за рамки того, о чем шла речь, и который опирается на соответствующий принцип объяснения и потому не нуждается ни в какой апологии; между тем как тезис, напротив, выводится при помощи апологии из чего-то такого, что, во-первых, выходит за предметные гра-
427
ницы вопроса, а во-вторых, опирается на такой принцип объяснения, который в данном случае не может быть применен.
Четвертая антиномия, как я уже говорил, в сущности тождественна с третьей. Но только при ее разрешении Кант углубленно раскрывает несостоятельность тезиса; в пользу же истинности последнего и мнимой его связи с антитезисом он не приводит ни одного доказательства, равно как не может он ничего противопоставить и самому антитезису. Он почти что выпрашивает у нас согласие на то, чтобы мы приняли тезис, но сам же называет его (с. 562; V, 590) произвольным допущением, предмет которого сам по себе, может статься, и невозможен, и демонстрирует одно лишь бессильное стремление запасти для него хоть одно надежное местечко, защищенное от всесокрушающей мощи антитезиса, для того чтобы не выдать всего ничтожества однажды полюбившегося ему предположения о необходимой антиномичности человеческого разума.
Далее следует глава о трансцендентальном идеале, переносящая нас сразу в самую закоснелую схоластику средневековья. Можно подумать, что слышишь самого Ансельма Кентерберийского…[362] На сцену выступает ens realissimum*, совокупность всех реальностей, содержание всех утвердительных предложений, и выступает притом с претензией быть необходимой мыслью разума! Я со своей стороны должен заявить, что для моего разума такая мысль прямо невозможна и что со словами, ее обозначающими, я не в состоянии связать ничего определенного.
Я не сомневаюсь, впрочем, что только любовь к архитектонической симметрии побудила Канта написать эту диковинную и недостойную его главу. Три главных объекта схоластической философии (которую, как сказано, можно продолжить до Канта, если понимать ее в широком смысле), душа, мир и Бог, должны были быть выведены из трех возможных форм исходной посылки умозаключения, хотя очевидно, что они возникли, да только и могли возникнуть единственно в результате безусловного применения закона основания. И вот, после того как в категорическую форму суждения было втиснуто понятие души, а в гипотетическую — понятие мира, для третьей идеи не осталось ничего, кроме дизъюнктивной формы исходной посылки. На счастье, обнаружилось, что кое-что уже сделано в этом смысле, а именно — «ens realissimum» схоластиков, наряду с онтологическим доказательством бытия Божия, доказательством, которое установлено в рудиментарной форме Ансельмом Кентерберийским и затем усовершенствовано Декартом.
Этим-то с радостью и воспользовался Кант не без некоторых, конечно, воспоминаний о своей юношеской латинской работе. При всем том жертва, приносимая Кантом в этой главе во имя своей страсти к архитектонической симметрии, слишком уж велика. Наперекор всякой истине, такое, можно сказать, гротескное представление о совокупности всех возможных реальностей превращается в необходимо присущую разуму мысль. Чтобы доказать это, Кант отправляется от совершенно ложной предпосылки, будто наше познание отдельных вещей возникает
428
на основе все большего и большего ограничения общих понятий, а следовательно, и на основе наиболее общего понятия, содержащего в себе всю реальность. Но тут Кант настолько же противоречит своему собственному учению, насколько и истине: ибо наше познание, как раз наоборот, отправляясь от единичного, доходит до общего, и все общие понятия возникают в результате абстрагирования от реальных, единичных, наглядно познанных вещей; и это абстрагирование может быть продолжено до образования наиболее общего понятия, которое и будет охватывать все сущее, но почти ничего не будет содержать в себе. Таким образом, Кант поставил здесь способ действия нашей познавательной способности с ног на голову и до известной степени повинен в том, что тем самым дал повод к прославленному в наши дни философскому шарлатанству, которое, вместо того чтобы признавать понятия за абстрагируемые от конкретных вещей мысли, ставит, наоборот, на первое место понятия, видит в вещах только конкретные понятия и, вывернув таким образом мир наизнанку, предлагает на рынке это философское паясничество, которое, естественно, должно было снискать себе великий успех[363].
Если мы даже признаем, будто всякий разум должен или, по крайней мере, может и помимо откровения дойти до понятия Бога, то очевидно, что это может произойти лишь на почве причинности, — настолько очевидно, что не требует доказательства[364]. Поэтому Христиан Вольф говорит: «Sane in theologia naturali existentiam Numinis a principiis cosmologicis demonstramus. Contingentia universi et ordinis naturae, una cum impossibilitate casus, sunt scala, per quam a mundo hoc adspectabili ad Deum ascenditur» («Cosmologia generalis», praef., p. I)*. А до него уже Лейбниц сказал по поводу закона причинности: «Sans ce grand principe nous ne poumons jamais prouver l’existence de Dieu»[365] (Theod. § 44)**; или, в своей полемике с Кларком (§ 126): «J’ose dire que sans ce grand principe on ne saurait venir a la preuve de l’existence de Dieu»***. Наоборот, развиваемая Кантом в этой главе мысль совсем не представляется необходимо присущей разуму, и в ней скорее следует видеть настоящий образчик чудовищных порождений эпохи, попавшей волею удивительных обстоятельств на окольные пути редкостнейших извращений мысли, — такой была эпоха схоластики, остающаяся ни на что не похожей, неповторимой эпохой во всемирной истории. Правда, когда схоластика достигла своего завершения, она строила основное доказательство бытия Божия на понятии «ens realissimum»[366], используя прочие доказательства лишь побочно, как вспомогательные: но это просто дидактический метод, никак не подтверждающий происхождение теологии из глубин человеческого духа. Кант же принял здесь прием схоластики за прием
429
самого разума, что вообще-то у него нередко встречается. Если бы было верно то, что в силу присущих разуму законов идея Бога возникает на основе дизъюнктивного умозаключения в виде идеи о всереальнейшем существе, то эту идею можно было бы найти и у древних философов: однако нигде ни у кого из древних философов нет ни малейшего признака «ens realissimum», хотя некоторые из них и учат о творце мира, но лишь о таком, который дает форму существующей помимо него материи, — о δημιουργος*, к которому заключают притом не иначе как по закону причинности. Правда, у Секста Эмпирика приводится аргументация Клеанфа, которую иные принимают за онтологическое доказательство (Adv. Math., DC, § 88). Однако это вовсе не онтологическое доказательство, а просто заключение по аналогии: так как, мол, опыт учит, что на земле одно существо всегда совершеннее другого (человек же, как совершеннейшее существо, хотя и заключает собой этот ряд, имеет много несовершенств), то должны существовать еще более совершенные существа и, наконец, — совершеннейшее (χράτιστον, ἂριστον)**, которое и будет Бог.
Относительно следующего затем у Канта детального опровержения спекулятивной теологии замечу, что хотя оно, как и вообще критика трех так называемых идей, т. е. диалектика чистого разума в целом, и есть до известной степени цель и задача всего сочинения, однако полемическая часть — в отличие от предшествующей, положительно-концептуальной, т. е. эстетики и аналитики — не представляет собой предмет общего, непреходящего и чисто философского интереса, а скорее временного и частного, поскольку опровержение находится в особом отношении к главным моментам господствовавшей в Европе до Канта философии; впрочем, полное сокрушение последней в рамках этой полемики является бессмертной заслугой Канта. Он элиминировал философский теизм, поскольку в философии как в науке, а не вероучении, может иметь место лишь то, что или дано эмпирически, или установлено путем надежных доказательств. Конечно, я разумею при этом исключительно настоящую, серьезную, имеющую в виду только истину, а не что-либо иное, философию, но никак не шутовскую философию университетов, в которой по-прежнему главную роль играет спекулятивная теология и по-прежнему, без церемоний, как добрая знакомая, появляется душа. Ведь университетская философия — это занятие, обеспеченное жалованьем, гонорарами и чинами надворных советников, это философия, которая с высоты своего величия гордо не замечает в течение сорока лет таких людишек, как я, и охотно отделалась бы от старого Канта с его Критиками, чтобы дать вздохнуть полной грудью Лейбницу!.. Замечу далее, что, подобно тому как поводом к кантовскому учению об априорном характере причинности послужило, по собственному его признанию, скептическое отношение Юма к этому понятию, так и кантовская критика спекулятивной теологии имела, быть может, своим источником юмовскую критику популярной теологии, сделанную им в столь поучи-
430
тельных «Natural history of religion» и «Dialogues conserning natural religion»*, — возможно даже, что Кант хотел определенным образом дополнить юмовскую критику. Ибо первое из названных сочинений Юма — это, собственно, критика популярной теологии, нелепость которой он вскрывает, почтительно противопоставляя ей, в качестве настоящей, рациональную или спекулятивную теологию. Кант же показывает несостоятельность последней, оставляя, наоборот, неприкосновенной популярную теологию и даже рисуя ее в облагороженной форме, в качестве опирающейся на моральное чувство веры. Эту моральную веру философских дел мастера исковеркали и превратили потом в разного рода постижения разума, осознания Бога, интеллектуальные созерцания сверхчувственного, Божества и т. д., и т. д.; тогда как Кант, подкопавший здание старых и почтенных заблуждений и осознавший опасность своего предприятия, хотел своей моральной теологией подставить лишь кое-какие подпорки, дабы обезопасить себя от грозящего обвала и заблаговременно удалиться.
Что касается самой аргументации Канта, то для опровержения онтологического доказательства бытия Божия не было нужды ни в какой критике разума, так как, не прибегая к помощи эстетики и аналитики, весьма легко показать, что это онтологическое доказательство — не что иное, как хитроумная игра понятиями, не имеющая никакой доказательной силы. Уже в «Органоне» Аристотеля есть глава, как будто специально написанная для опровержения онтологического доказательства, а именно седьмая глава второй книги «Analyt. post.», в которой, между прочим, прямо говорится: existentia numquam ad essentiam rei pertinet**.
Опровержение космологического доказательства есть применение к данному случаю всего предшествующего содержания Критики, и потому против него нечего возразить. Физико-теологическое[367] же доказательство есть лишь дополненное издание космологического, которое оно предполагает, и находит свое полное опровержение лишь в «Критике способности суждения»34. По этому вопросу отсылаю своих читателей к главе «Сравнительная анатомия» в моем сочинении «О воле в природе».
Как сказано, критика этих доказательств у Канта имеет в виду лишь спекулятивную теологию и ограничивается школой. Но если бы он принял во внимание и жизнь с ее популярной теологией, то ему следовало бы прибавить к трем названным доказательствам еще четвертое, которое, собственно, и имеет силу для масс и которое, подражая искусственному языку Канта, можно было бы назвать кераунологическим (основанном на страхе): оно апеллирует к чувству беспомощности, бессилия и зависимости человека, противопоставленного неисповедимым и большею частью грозным силам природы, бесконечно превышающим его собственные силы; с этим чувством страха соединяется естественная склонность к олицетворению этих сил и, наконец, надежда на то, что мольбами, угодливостью и дарами можно чего-нибудь достигнуть. Ведь во всяком человеческом предприятии есть нечто, не зависящее от
431
нашей силы и не поддающееся нашим расчетам: так вот желание, чтобы это нечто складывалось в нашу пользу, и есть настоящий источник веры в богов. «Primus in orbe Deos fecit timor»* — старое правдивое слово Петрония! Это-то доказательство и критикует главным образом Юм, несомненно являющийся в названных выше сочинениях предшественником Канта. Но кого Кант поставил своей критикой спекулятивной теологии в безвыходное положение, так это профессоров философии: оплачиваемые христианскими правительствами, они не смеют оставить в критическом положении главный догмат веры**. Как же выпутались почтеннейшие? А просто-напросто стали утверждать, что существование Бога разумеется само собою[368]. Отлично! После того как для доказательства этого существования древний мир сочинял чудеса, жертвуя своей совестью, а новый — онтологическое, космологическое и физико-теологическое[369] доказательство, жертвуя своим рассудком, у почтеннейших это разумеется само собою. Из этого само собою разумеющегося Бога они объясняют затем мир: вот их философия!
До Канта действительно существовала дилемма между
материализмом и теизмом, т. е. между допущениями, что мир создан или слепым случаем,
или строившей извне интеллигенцией по известному плану и в силу известных
понятий — neque dabatur tertium***. Отсюда
— отождествление атеизма с материализмом; отсюда сомнение, возможно ли быть
атеистом, т. е. действительно приписывать столь целесообразный порядок природы,
особенно органической, слепому случаю: см., например, Bacon’s «Essays» («Sermones fideles»), essay 16, «On Atheism»****. До сих пор проблема
существует в том же виде во мнении толпы и англичан, которые в подобных вещах
находятся на одном уровне с толпой (mob), — даже и самые известные их ученые:
достаточно сослаться на R.
Owen’а «Ostéologie c
432
наивностью в
докладе, сделанном 5 сентября 1853 г. в Academie des sciences: «La téléologie, ou la théologie
scientifique»* (см.: «C
В главе о конечной цели естественной диалектики разума указывается на значимость для прогресса естествознания трех трансцендентных идей в качестве регулятивных принципов. Однако едва ли сам Кант утверждал это всерьез. По крайней мере, для всякого натуралиста несомненно противоположное, а именно то, что эти идеи могут только парализовать и убить всякое исследование природы и уж во всяком случае то, что они губительны для отдельного исследователя. Чтобы убедиться в этом на конкретном примере, предлагаю решить, была ли идея души как простой нематериальной мыслящей субстанции[370] споспешествующим или чрезвычайно сильно противодействующим фактором по отношению к истинам, столь прекрасно изложенным Кабанисом, или для открытий Флуранса, Маршалла Холла и Чарльза Белла36! Да и сам Кант говорит («Пролегомены», § 44), что «идеи разума мешают максимам разумного познания природы и противоречат им».
Конечно же не самой малой заслугой Фридриха Великого является то, что под его скипетром Кант мог свободно развиться и обнародовать «Критику чистого разума». Едва ли в другое царствование находящийся на службе профессор отважился бы на что-либо подобное. Ведь уже преемнику великого короля Кант должен был дать обещание больше не писать.
От критики этической части кантовской философии я мог бы считать себя здесь свободным, потому что это сделано мною гораздо подробнее и обстоятельнее в «Двух основных проблемах этики», через 22 года
433
после первого издания «Мира как воли и представления». Но то, что я сохраняю здесь из содержания первого издания и что должно быть сохранено хотя бы ради полноты воспроизведения текста, может послужить целесообразным приготовлением к знакомству с упомянутой более поздней и более обстоятельной критикой, к которой я, в главном и существенном, и отсылаю читателя.
Сообразно принципу архитектонической симметрии теоретический разум должен иметь некоего pedant*. Искомое дает intellectus practicus[371] схоластов, происходящий в свою очередь от νοῦς πραχτιχός Аристотеля («De anima», III, 10 и «Politica», VII, cap. 13: ὀ μὲν γάρ πραχτιχός ἐστι λόγοςὁ, δὲ ϑεωρητιχός)**. Однако у Канта практический разум означает вовсе не то, что у Аристотеля, т. е. направленный на технику разум: практический разум выступает у него в качестве источника неоспоримой нравственной значимости человеческих поступков, равно как и всякой добродетели, благородства и достижимой святости. Все это, оказывается, вытекает из одного только разума и, кроме него, ничего не требует. Выходит, что поступать разумно — то же самое что поступать добродетельно, благородно, свято; а поступать себялюбиво, злобно и порочно — значит просто поступать неразумно! Между тем во все времена, у всех народов и на всех языках то и другое всегда различалось и считалось двумя совершенно разными вещами, как различают это и до сих пор все те, кто не знаком с языком новейшей школы, т. е. весь свет, за исключением небольшой кучки немецких ученых: все понимают под добродетельным поведением и разумным строем жизни две совершенно разные вещи. Сказать, что возвышенный основатель христианства, жизнь которого представляется нам образцом всякой добродетели, был разумнейшим человеком, — это было бы не только в высшей степени непристойным, но и прямо кощунственным выражением, и почти так же непристойно сказать, что его заповеди содержат наилучшее наставление к полностью разумной жизни[372]. И если кто, далее, следуя этим заповедям, вместо того чтобы заблаговременно думать о себе и о своих будущих потребностях, неустанно и без колебаний помогает другим в их настоящей и острейшей нужде, отдает все свое состояние неимущим и затем, лишенный всяких средств, идет проповедовать другим осуществляемую им на деле добродетель, то всякий справедливо отнесется к таким поступкам с благоговением; но кто отважится прославлять их как вершину разумности! И кто, наконец, будет восхвалять в качестве необычайно разумного поступка то, что Арнольд Винкельрид с беспримерной отвагой вонзает себе в грудь неприятельские копья, чтобы доставить своим соплеменникам победу и спасение? Наоборот, когда мы видим человека, который с юных лет с редким благоразумием направляет свои силы на то, чтобы доставить себе средства к обеспеченному существованию и содержанию жены и детей и приобрести себе доброе имя, внешний почет и отличия и притом не поддается ни соблазну предстоящих наслаждений, ни порыву осадить надменность власть имущих, ни желанию отомстить за перенесенные оскорбления и незаслуженное унижение,
434
ни увлекательной силе бесполезных эстетических или философских занятий и путешествий в интересные страны, — который, говорю я, не дает себя сбить с дороги ничем подобным и ни на минуту не упускает из виду своей цели, а с величайшею последовательностью работает исключительно для нее, то кто отважится отрицать, что такой филистер чрезвычайно разумен, даже н в том случае, если он прибегнет к не совсем похвальным, но безопасным средствам? Тем более если злодей с обдуманным лукавством н по тщательно составленному плану добывает себе богатства, почести, престолы и короны, с утонченным коварством опутывает соседние государства, подчиняет их своей единоличной власти и становится всемирным завоевателем, не позволяя себя сбивать с пути какими-либо соображениями права или человечности, и с беспощадной последовательностью топчет и перемалывает все, что противится его планам, без малейшего сострадания подвергая миллионы людей всяким несчастьям, обрекая миллионы других на кровь и смерть, но зато по-царски вознаграждает своих приверженцев и пособников, покровительствуя им всегда и во всем, никогда ничего не забывая, и таким образом достигает своей цели, то кто станет отрицать, что такой человек должен был действовать с чрезвычайной разумностью и что как для начертания его планов требовался мощный рассудок, так и для осуществления их необходимо полное господство разума, и именно практического разума. Или, быть может, и советы, которые дает государям умный, последовательный, осмотрительный и дальновидный Макиавелли, тоже неразумны*.
Как злоба прекрасно уживается с разумом и по-настоящему страшна именно в соединении с ним, точно так же и благородство может иногда быть связано с неразумием. К такого рода случаям относится, например, поступок Кориолана, который в течение стольких лет напрягал свои силы, чтобы добиться отмщения римлянам; когда же наступил для него час мести, он дал умягчить себя мольбами сената и слезами матери и супруги, отказался от столь долго и с таким трудом подготовлявшейся мести и даже, навлекши на себя этим справедливое негодование вольсков, умер за тех самых римлян, неблагодарность которых он познал и которых так напряженно хотел наказать. Замечу, наконец, ради полноты, что разум может уживаться даже с нелепостью. Таковы те случаи, когда руководствуются заведомо глупой максимой, но проводят ее последовательно. Пример такого рода представляет собой принцесса Изабелла, дочь Филиппа II, которая дала обет не надевать чистой рубашки, пока не будет завоевано Остенде, и исполняла его в течение
435
трех лет подряд. Вообще, такой характер имеют все обеты, ибо их источник лежит в ограниченности понимания связи вещей по закону основания, т. е. в глупости; тем не менее исполнение их разумно, коль скоро мы однажды имели глупость дать их.
Соответственно сказанному мы видим, что писатели
докантовской эпохи достаточно часто противопоставляют совесть, как средоточие моральных
побуждений, разуму: так, Руссо говорит в четвертой книге «Эмиля»: «La raison nous tr
Я признал разум способностью к образованию понятий. Этот совершенно своеобразный класс общих, не наглядных, только при помощи слов символически выраженных и фиксированных представлений и есть то, что отличает человека от животных и дает ему его господствующее положение на земле. Животное — раб настоящего: оно знает лишь непосредственно чувственные мотивы и потому привлекается или отталкивается ими с такой же необходимостью, с какой железо притягивается магнитом; наоборот, в человеке, благодаря разуму, действует расчет
436
и соображение. Благодаря разуму, он может, вспоминая о прошлом и заглядывая в будущее, обозревать свою жизнь как единое целое и наблюдать совокупный ход событий в мире, он становится независимым от настоящего и может обдуманно и планомерно идти к цели, дурной или хорошей. Все, что он делает, делает с полным самосознанием: он знает всякий раз, к чему склоняется его воля, что она избирает и каким мог бы быть иной выбор; и благодаря этому осознанному характеру своего желания он научается познавать самого себя и узнает себя в своих поступках. Во всех этих отношениях — применительно к человеческим поступкам — разум может быть назван практическим; теоретичен же он лишь постольку, поскольку предметы, которыми он занимается, не имеют никакого отношения к поступкам индивида, а представляют исключительно теоретический интерес, доступный обыкновенно лишь весьма немногим. То, что в этом смысле называется практическим разумом, прекрасно передается латинским словом pnidetia*, образовавшимся, по словам Цицерона (De nat. Deor., II, 22)[374], из сокращенного Providentia**; наоборот, словом ratio (в смысле духовной способности) обозначается большею частью собственно теоретический разум, хотя древние и не очень строго соблюдали это различие. У большинства людей разум имеет почти исключительно практический характер; если же отсутствует этот практический разум, мышление теряет господство над поступками, и тогда выходит то, о чем сказано: «Video meliora proboque, deteriora sequor»***, — или: «Le matin je fais des projets, et le soir je fais des sottises»****; человек руководствуется тогда в своих поступках не мышлением, а впечатлениями минуты, на манер животных, и его называют неразумным (вовсе не обвиняя в моральной низости), хотя на самом деле у него отсутствует не разум, а способность применять разум к поступкам: до известной степени можно сказать, что у него разум только теоретичен, а не практичен. Он может быть при этом очень добрым человеком, как и все те, кто не в состоянии видеть несчастного и не помочь ему, даже в ущерб самому себе, и в то же время не платить своих долгов. На крупное преступление человек с таким характером не способен, ему не хватает необходимых в данном случае планомерности, притворства и самообладания. Но и высот добродетели он тоже едва ли может достичь, ибо, при всей его природной склонности к добру, порочные и злые побуждения, которым он, как и всякий другой, не может не быть подвержен, непременно перейдут у него в дело, коль скоро разум, выступая практически, не противопоставит им неизменных правил и твердых убеждений.
Наконец, в качестве практического разум выступает особенно в тех чрезвычайно благоразумных характерах, обладатели которых слывут обыкновенно поэтому практическими философами и выделяются необычайным спокойствием как в неприятных, так и в радостных обстоятельствах, уравновешенностью настроения и неуклонным выполнением однажды принятых решений. На самом деле преобладание в них разума,
437
т. е. абстрактного познания над
интуитивным, и связанная с этим привычка смотреть на жизнь через призму
понятна, наблюдать ее как совокупное целое, масштабно позволяя узнать жизнь, — вот
что делает их раз и навсегда безразличными к обману минутного впечатления и
превратности вещей, к кратковременности жизни и тщете наслаждений, к измене
счастья и великим и малым ударам судьбы. Поэтому ничто не происходит для них
неожиданно, и то, что они уже знают in abstracto, не застает их врасплох и не
лишает присутствия духа, когда встречается им на деле, в конкретном случае, как
это бывает с людьми не столь разумного склада характера, над которыми момент,
наглядное и конкретное, проявляют такую силу, что холодные, бесцветные понятия отступают
в их сознании на второй план, и они, забывая всякие правила и предписания,
всецело отдаются аффектам и всякого рода страстям. Я уже сказал в конце первой
книги, что, по-моему, стоическая этика была первоначально не чем иным, как
наставлением к разумной жизни в этом смысле. Ее же неоднократно прославляет и
Гораций в очень многих местах. Сюда относится и его nil admirari*[375],
равно как и дельфийское μηδὲν
ἂγαν**.
Переводить nil admirari — «ничему не удивляться» — совершенно неверно. Это Горациево
изречение имеет в виду не столько теорию, сколько практику, и означает
собственно следующее: «Не цени ничего безусловно, ничем не очаровывайся, не
верь, что обладание чем-либо может доставить счастье: всякое невыразимо страстное
влечение есть либо дразнящая химера, от которой просветленное познание может
избавить так же хорошо, как и достигнутое обладание, но только намного легче».
В таком же смысле употребляет слово admirari Цицерон (De divinatione, II, 2).
Итак, то, что имеет в виду Гораций, — это ἀϑάμβία и αχατάπληξις,
а также αϑαυμασία***, которую уже Демокрит
прославлял как высшее благо (см.: Clem. Alex. Str
Во всех указанных и вообще мыслимых случаях различие между разумным и неразумным способом действия сводится к тому, являются ли мотивами поступков отвлеченные понятия или наглядные представления. Поэтому объяснение, данное мною разуму, вполне отвечает словоупотреблению всех времен и народов, которое в свою очередь нельзя считать чем-то случайным и произвольным, но следует признать, что оно отправляется от факта осознания каждым человеком различия между разными духовными способностями, сообразно чему люди и употребляют слова, не прибегая при этом, разумеется, к абстрактным дефинициям. Ведь наши предки создавали слова не как пустые формы, лишенные всякого определенного смысла, с тем чтобы грядущие через сотни лет философы определяли, что под ними следует разуметь; нет,
438
они обозначали ими вполне определенные понятия. Следовательно, слова изначально подвластны закону, и придавать им иной смысл, чем тот, какой они имели раньше, значит злоупотреблять ими, значит допускать произвол, при котором каждый может употреблять любое слово в любом смысле, в результате чего должна была бы возникнуть бесконечная путаница. Уже Локк обстоятельно показал, что большинство разногласий в философии происходит вследствие неверного употребления слов. Для иллюстрации достаточно взглянуть на нездоровую фальсификацию, к которой нищие мыслью философских дел мастера прибегают в наши дни, манипулируя словами субстанция, сознание, истина и т. д. Равным образом и представления о разуме всех философов всех времен, за исключением новейших, согласуются — не менее чем и господствующие у всех народов понятия об этой привилегии человека — с моим объяснением разума. См., например, что называет Платон в четвертой книге «Государства» и в бесчисленных местах λόγιμον или λογιστιχὸν τῆς ψυχῇς*41, что говорит Цицерон (De nat. Deor., III, 26— 31), что говорят Лейбниц, Локк в приведенных уже в первой книге основного произведения местах. Пришлось бы цитировать до бесконечности, если бы я захотел показать, что все докантовские философы понимали разум в целом так же, как и я, хотя и не знали, каким образом с полной определенностью и отчетливостью объяснить его существо и свести его к общему знаменателю. То, как понимали разум незадолго до Канта, обобщенно показано в двух трактатах Зульцера, в первом томе собрания его философских сочинений: «Анализ понятия разума» и «О взаимном влиянии разума и языка». Когда же читаешь то, что говорится о разуме в наше время под влиянием лавинообразно разросшейся ошибки Канта, то приходишь к предположению, что все мудрецы древности, равно как и все философы до Канта, не имели никакого разума: ибо открытые ныне «непосредственные восприятия», «созерцания», «наития» и «предчувствия» разума были им столь же чужды, как нам — шестое чувство летучих мышей. Впрочем, что касается меня, то я должен признаться, этот разум, непосредственно воспринимающий, или внемлющий, или интеллектуально созерцающий сверхчувственное, абсолютное и приключающиеся с последним длинные истории, — этот разум и мне представляется, по моей ограниченности, чем-то вроде шестого чувства летучих мышей. Однако изобретению или открытию такого — все что мило тотчас же и непосредственно воспринимающего — разума надо отдать должное, поскольку оно является несравненным expédient** к тому, чтобы, вопреки всяким Кантам[376] с их критиками разума, простейшим способом выходить сухими из воды со своими заветными маниакальными идеями. Изобретение и встреченный им прием делают честь времени.
Итак, сущность разума τὸ λόγιμον, ἠ φρόνησις***, ratio, raison, reason) осознавалась всеми философами и во все времена в общем и целом правильно, хотя и не была определена с достаточной строгостью и не была сведена к общему знаменателю; наоборот, что такое
439
рассудок (νοῦς, διάνοια, intellectus, esprit, intellect, understanding), представлялось им не столь отчетливо: они нередко смешивали его с разумом и вследствие этого не достигли полного, верного и простого объяснения его существа. К тому же понятие разума у христианских философов еще и получило чуждое ему, побочное значение вследствие противопоставления его откровению: исходя из этого, многие справедливо утверждали, что обязательность добродетели может быть познана и одним только разумом, т. е. без помощи откровения. Этот взгляд повлиял, несомненно, даже и на кантовскую концепцию и терминологию. Собственно, само по себе противопоставление разума и откровения имеет положительное, но исторически исчерпавшее себя значение и является поэтому чуждым философии элементом, от которого она должна быть свободна.
Можно было бы ожидать, что в своих Критиках теоретического и практического разума Кант будет основываться на описании сущности разума вообще и, определив таким образом genus*, перейдет к объяснению обеих species** и покажет, как один и тот же разум проявляется двумя столь различными способами и все же, сохраняя в обоих случаях свои основные характеристики, обнаруживает свое тождество. Однако ничего подобного мы не находим. Я уже показал, насколько недостаточны, нестабильны и противоречивы объяснения, которые даются в разных местах «Критики чистого разума» исследуемой в ней способности. Практический разум присутствует, не будучи назван, уже в «Критике чистого разума» и затем выступает в специально ему посвященной Критике, как дело уже решенное, безо всяких дальнейших доказательств и с полнейшим пренебрежением к словоупотреблению всех времен и народов и определению понятий у величайших предшествующих философов. В общем, насколько можно заключить из отдельных мест, мысль Канта заключается в следующем: познание принципов a priori представляет собой существенное свойство разума; а так как знание этической значимости поступков — не эмпирического происхождения, то, следовательно, оно есть principium a priori[377] и потому обязано своим происхождением разуму, который в таком случае является практическим. О неправильности такого объяснения разума я уже достаточно говорил. Но и без этого очевидно, насколько поверхностно и нелепо сводить воедино совершенно разнородные вещи, пользуясь их единственным общим признаком — независимостью от опыта, не замечая одновременно их коренного и непреодолимого различия во всем остальном. Ибо если даже признать, вопреки истине, что знание этической значимости поступков восходит к имманентно присущему нам императиву, к безусловному долженствованию (Soll), то насколько отличалось бы последнее от тех всеобщих форм познания, относительно которых Кант доказывает в «Критике чистого разума», что они известны нам a priori, и утверждает одновременно, что благодаря такому знанию мы можем заранее сформулировать некоторую безусловную необходимость (Muß), применимую ко всему возможному для нас опыту. Разница между этой необходимос-
440
тью (Muß), как обусловленной субъектом формой объекта, и моральным долженствованием (Soll) настолько велика и очевидна, что фактом наличия у них общей характеристики — априорности того и другого — можно воспользоваться разве только для остроумного сравнения, но никак не для того, чтобы философски оправдать отождествление их источника.
Впрочем, место рождения этого детища практического разума, абсолютного долженствования, или категорического
императива, находится в Критике не
практического, а еще чистого разума (с. 802; V, 830).
Однако роды искусственны и удаются лишь при помощи родильных щипцов некоего поэтому, которое дерзко и отважно, можно сказать — бесстыдно, втискивается между двумя совершенно чуждыми друг другу и не имеющими ни малейшей связи предложениями, чтобы связать их в качестве основания и следствия. А именно: Кант исходит из утверждения, что мы руководствуемся не только наглядными, но и абстрактными мотивами, формулируя его следующим образом: «Человеческую волю определяет не только то, что прельщает, т. е. непосредственно аффицирует[378] чувство, но мы обладаем и возможностью преодолевать реакции нашей чувственной способности желания при помощи представлений о том, что само по себе имеет весьма отдаленное отношение к непосредственно полезному или вредному. Эти соображения о том, что желательно, учитывая наши интересы в целом, т. е. что хорошо и полезно, основываются на разуме». (Совершенно верно: всегда бы ему говорить так разумно о разуме!) Поэтому (!) разум и дает законы, являющиеся императивами, т. е. объективными законами свободы, которые говорят о том, что должно быть, хотя бы этого никогда и не было» (!). Так, без каких-либо дальнейших удостоверений реальности своего существования в мире неожиданно объявляется категорический императив, чтобы править в нем с помощью своего безусловного долженствования, этого скипетра из деревянного железа. Ибо понятие долженствования всецело и существенно обусловлено представлением об обещанной награде или угрожающем наказании, без чего оно теряет всякий смысл и значение: поэтому безусловное долженствование — contradictio in adjecto*. Эта ошибка должна быть осуждена, как бы тесно она ни была связана с великой заслугой Канта перед этикой, заключающейся в том, что он освободил последнюю от всех принципов эмпирического мира, т. е. от всякого прямого или косвенного эвдемонизма, и ясно показал, что царство добродетели не от мира сего. Эта заслуга тем более значима, что уже все древние философы, за исключением одного Платона, — перипатетики, стоики, эпикурейцы — с помощью различных ухищрений или ставили добродетель и блаженство в зависимость друг от друга по закону основания, или отождествляли их по закону противоречия. В той же мере этот упрек относится и ко всем философам нового времени, вплоть до Канта. Поэтому его заслуга в данной области чрезвычайно велика; тем не менее справедливость требует также и здесь напомнить, что, во-первых, манера его изложения и аргументация нередко противоречат, как мы сейчас увидим, тенденции и духу его собственной этики,
441
а во-вторых, что он все же был не первым очистившим учение о добродетели от всяких эвдемонистических начал. Ибо уже Платон (особенно в «Государстве», где основная тенденция именно в этом и заключается) учит, что добродетель должна быть избираема исключительно ради нее самой, хотя бы с ней и были неминуемо связаны несчастье и поношение. Христианство еще более ригористично в проповеди совершенно бесполезной добродетели, которой следуют не ради награды в загробной жизни, но вполне бескорыстно, из любви к Богу, ибо оправдывают не дела, а только вера: добродетель сопровождает веру, просто как ее симптом, который никак не связан с надеждой на вознаграждение и возникает спонтанно. См. «De libertate Christiana»* Лютера. Не говорю уже об индусах, в священных книгах которых чаяние награды за свои дела изображается как путь мрака, никогда не ведущий к блаженству. Столь рафинированного учения о добродетели у Канта мы, однако, не найдем; или, лучше сказать, уровень реализации кантовских идей оказался неизмеримо более низким, чем дух его учения, что привело к противоречиям. В следующем далее толковании высшего блага добродетель оказывается смешанной со счастьем. Столь безусловное первоначально долженствование все же постулирует себе затем некоторое условие, собственно для того, чтобы избавиться от бремени внутреннего противоречия, при наличии которого оно не может существовать. Правда, счастье, заключающееся в высшем благе, не должно, собственно, быть мотивом добродетели; однако оно фигурирует здесь, как тайная статья договора, превращающая в фикцию все остальное: оно является, собственно, не наградой добродетели, а добровольным даром, за которым добродетель, совершив свою работу, украдкой протягивает руку. В этом можно убедиться из «Критики практического разума» (с. 223— 266 четвертого или с. 264— 295 розенкранцевского издания). Та же тенденция проявляется и во всей моральной теологии Канта; ею мораль, собственно, уничтожает самое себя. Ибо, повторяю, всякая добродетель, осуществляемая ради какой-либо награды, основывается на умном, методичном и дальновидном эгоизме.
Содержанием абсолютного долженствования, основным законом практического разума является знаменитая формула: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь одновременно значение принципа всеобщего законодательства». Этот принцип ставит перед тем, кто требует руководящего начала для собственной воли, задачу отыскать таковой для воли всех. Спрашивается, как его найти? Очевидно, чтобы отыскать правило моего поведения, я должен учитывать не только свои собственные интересы, а совокупность интересов всех индивидов. Тогда моей целью, вместо моего собственного благополучия, становится благополучие всех без различия. Но все же этой целью остается благополучие. Я нахожу затем, что все могут быть равно благополучны только тогда, когда каждый ограничивает свой эгоизм эгоизмом чужим. Отсюда, конечно, следует, что я не должен никому причинять вреда, потому что, коль скоро принцип принимается в качестве всеобщего, и мне не будет причиняться вреда; но это и является
442
единственным основанием, почему я, не обладая еще принципом морали, но отыскивая определение такового, хотел бы, чтобы он стал всеобщим законом. А отсюда ясно, что источником этого морального принципа остается желание благополучия, т. е. эгоизм. В качестве базиса учения о государстве этот принцип превосходен, в качестве базиса этики он не годится. Ибо в свете предполагаемой данным принципом необходимости определения регулятива для совокупной воли всех ищущий такое определение опять-таки оказывается перед лицом необходимости руководствоваться некоторым принципом, в противном случае все было бы для него безразлично. Но этим руководящим принципом может быть лишь собственный эгоизм, так как только на него влияет поведение других, и поэтому только на его основе и только с учетом данного фактора человек может желать тех или иных поступков от других людей, и оно для него не безразлично. Сам Кант весьма простодушно проговаривается на этот счет на с. 123 «Критики практического разума» (розенкранцевское издание, с. 192), где он следующим образом поясняет критерии искомой максимы воли: «Если бы каждый смотрел с полным равнодушием на нужду других и ты тоже принадлежал бы к такому порядку вещей, согласился ли бы ты на него?» — Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam!* — было бы регулятивом искомого согласия. Точно так же в «Основоположениях метафизики нравов» (с. 56 третьего, с. 50 издания Розенкранца) мы читаем: «Воля, которая решила бы не помогать никому в нужде, противоречила бы себе, так как могут встретиться случаи, когда она нуждается в любви и участии других» и т. д. Таким образом, этот принцип этики, представляющий собой на самом деле не что иное, как иносказательное и косвенное выражение старого и простого положения: quod tibi fieri non vis, alten ne feceris**, приложим прежде всего и непосредственно к пассивному, страдательному состоянию и лишь затем косвенно к состоянию активному; вот почему, как я сказал, он был бы вполне пригоден в качестве руководящего принципа при основании государства, задачей которого является предотвращение несправедливости и связанных с нею страданий, равно как и обеспечение всем и каждому наибольшей суммы благополучия, что вполне приемлемо и понятно; но в этике, предметом которой является поступок как поступок в его непосредственном значении для того, от кого он исходит, а не его следствие, т. е. страдание, или отношение к другим, — этот взгляд совершенно недопустим, так как он сводится, в сущности, опять же к эвдемонизму, т. е. к эгоизму.
Поэтому мы не можем также разделить радость Канта, вызванную тем, что его принцип этики нематериален, т. е. тем, что он не предполагает никакого объекта в качестве источника мотива, а чисто формален, и таким образом симметрично соответствует формальным законам, с которыми нас познакомила критика чистого разума. Это, конечно, не закон, а лишь формула для отыскания такового, но, во-первых, мы уже имеем эту формулу и притом выраженной гораздо короче
443
и яснее: quod tibi fieri non vis, alten ne feceris; а во-вторых, анализ формулы показывает, что она основывается исключительно на соображениях о личном счастье и потому может служить лишь разумному эгоизму, которому обязано своим происхождением и все положительное законодательство.
Другой ошибкой Канта, неоднократно осуждавшейся (поскольку она возмущает чувство каждого) и осмеянной Шиллером в его эпиграмме43, является ригористическое утверждение, что поступок, для того чтобы он был истинно хорошим и достойным хвалы, должен совершаться исключительно из уважения ко внутренне усвоенному закону и понятию долга и сообразно с известной in abstracto разуму максимой, а не определяться какой-либо склонностью или душевным порывом — чувством благосклонности к другим, мягкосердечным участием, состраданием. Эти проявления чувства оказываются даже помехой для благомыслящих лиц («Критика практического разума», с. 213, розенкранцевское издание, с. 257), так как препятствуют осуществлению их глубоко продуманных максим; нравственный поступок должен совершаться неохотно и в силу самопринуждения. Если вспомнить, что при этом не должна оказывать влияние и надежда на награду, то можно оценить всю нелепость требования! Но, что еще важнее, требование это прямо противоположно истинному духу добродетели: ибо не само деяние, а желание совершить его, любовь, из которой оно вырастает и без которой оно мертво, — вот что создает нравственную значимость поступка. Поэтому-то христианство и учит вполне справедливо, что все внешние дела не имеют никакой ценности, если они не являются плодом того неподдельного настроения, которое состоит в искреннем благоволении и чистой любви, и что имеют преимущество, делают блаженным и спасают не совершенные дела, opera operata[379], а вера, неподдельность настроения, которое ниспосылается лишь Святым Духом, но не свободная и обдуманная, имеющая в виду один только закон воля. Требование Канта, чтобы всякий добродетельный поступок совершался из чистого, осознанного уважения нравственного закона и согласно его отвлеченным максимам — холодно и безо всякой склонности, даже вопреки ей, — это требование похоже на то, когда считают необходимым, чтобы всякое истинное произведение искусства появлялось на свет в результате сознательного применения эстетических правил. И то и другое одинаково ложно. На поставленный уже Платоном и Сенекой вопрос, можно ли научиться добродетели, надо отвечать отрицательно. Мы должны в конце концов признать (и это является также источником христианского учения о благодати и предопределении), что добродетель, если иметь в виду ее глубинные основания, так же врождена, как и гений, и что подобно тому, как все профессора эстетики, вместе взятые, не могут привить ни единому человеку способность к гениальному творчеству, т. е. к созданию истинно художественных произведений, точно так же никакие профессора морали и проповедники добродетели не в состоянии превратить неблагородный характер в добродетельный и благородный, — невозможность этого гораздо более очевидна, чем невозможность превращать свинец в золото; поэтому создание такой этики и обнаружение такого высшего ее принципа, которые могли бы иметь прак-
444
тическое влияние и действительно изменили бы и улучшили человеческий род, совершенно аналогичны поискам философского камня. О возможности же при всем том радикального переворота человеческой души (возрождения), не средствами абстрактного познания (этика), а на основе познания интуитивного (действие благодати), я уже подробно говорил в конце четвертой книги своего основного произведения, содержание которой вообще избавляет меня от необходимости далее останавливаться на этом вопросе.
То, что Кант совершенно не проник в настоящий смысл этической значимости поступков, показывает, наконец, его учение о высшем благе как о необходимом соединении добродетели и блаженства, а именно речь идет о том, что первая является заслуживающей второго. Такая его точка зрения небезупречна уже и в чисто логическом отношении, поскольку понятие заслуженности, являющееся здесь критерием оценки, уже предполагает этику в качестве основания данного критерия и, следовательно, нельзя было из него исходить. В четвертой книге моего произведения установлено, что всякая истинная добродетель, коль скоро она достигла высшей своей степени, приводит, наконец, к совершенному самоотречению, и это означает полное исчезновение каких-либо желаний; наоборот, блаженство есть удовлетворенное желание, и, следовательно, оно в принципе несоединимо с добродетелью. Для того, кто проникся моим решением данной проблемы, не требуется уже больше никаких доказательств того, что кантовская концепция высшего блага совершенно неверна. А давать наряду с положительным решением вопроса еще и отрицательное я не намерен.
Любовь Канта к архитектонической симметрии мы обнаруживаем и в «Критике практического разума»: он скроил ее совершенно по образу и подобию «Критики чистого разума» и вновь воспользовался в ней теми же рубриками и формами, следующими столь же произвольной, как и в первом случае, схеме, что особенно заметно в таблице категорий свободы.
Учение о праве является одним из самых поздних созданий Канта и созданием настолько слабым, что, при всем отрицательном отношении к нему, полемику против него я считаю излишней, предоставляя ему умереть естественной смертью, как если бы оно не принадлежало этому великому человеку, а было бы порождением обыкновенного смертного. Я отказываюсь от отрицательной характеристики данного учения и ограничиваюсь ссылкой на положительное определение, т. е. на краткий очерк его, данный в четвертой книге моего произведения. Сделаю лишь несколько общих замечаний. Ошибки, которые я выявил, анализируя «Критику чистого разума», как постоянно встречающиеся у Канта, приобретают в его учении о праве такие преувеличенные размеры, что подчас кажется, будто вы читаете злую пародию на кантовскую манеру изложения или, по крайней мере, слушаете какого-нибудь кантианца. Две главные ошибки — следующие. Он хочет (как и многие вслед за ним) строго разграничить учение о праве и этику, но при этом не признает зависимости первого от положительного законодательства, т. е. от принципа произвольного принуждения, а трактует понятие права
445
как нечто абсолютно самодостаточное и a prioi данное. Между тем это невозможно, ибо поступки, рассмотренные помимо их этической значимости и без учета объективации в них отношения к другим людям и, следовательно, взятые безотносительно к внешнему принуждению, не допускают в истолковании их смысла никакой третьей точки зрения, хотя бы только как возможной. Следовательно, если он говорит: «Определенная правом обязанность — это такая, к которой можно принудить», — то это можно следует понимать или в физическом смысле, и в таком случае всякое право положительно и произвольно, равно как и всякий установленный произвол есть право, или надо понимать это можно в моральном смысле, и тогда мы находимся снова в области этики. У Канта, следовательно, понятие права повисает между небом и землей, не имея твердой почвы под ногами, у меня оно относится к этике. Во-вторых, определение понятия права у него полностью негативно и потому недостаточно*: «Право есть то, что на основе всеобщего закона совместимо с наличием совокупности индивидуальных свобод». Свобода (здесь эмпирическая, т. е. физическая, а не моральная свобода воли) означает отсутствие стеснения, следовательно, является чисто отрицательным понятием; совершенно такое же значение имеет и совокупность свобод. Таким образом, мы остаемся при голых отрицаниях и не получаем никакого положительного понятия, да и не понимаем даже, о чем, собственно, идет речь, если только уже не узнали этого другим путем. Затем по ходу изложения доктрины высказываются самые превратные взгляды, например о том, что в естественном состоянии, т. е. вне государства, не существует никакого права собственности, что, собственно, означает, будто всякое право положительно, и таким образом естественное право основывается на положительном, вместо того чтобы положительное право основывалось на естественном; далее — обоснование права приобретения собственности путем ее захвата, утверждение о существовании нравственной обязанности установления гражданского порядка, мысли, высказываемые по поводу основания уголовного права и т. д.; все это, как сказано, я считаю не заслуживающим специального опровержения. Между тем и эти кантовские ошибки оказали весьма отрицательное влияние, спутали и затемнили давно открытые и высказанные истины и дали повод к странным теориям, многописательству и многопрепирательству. Конечно, долго продолжаться это не может, и мы уже видим, что истина и здравый рассудок снова пробивают себе путь: о последнем особенно свидетельствует, в противоположность разным нелепым концепциям, «Учебник естественного права» Фридриха Мейстера, хотя я и не считаю его образцом совершенства.
Говоря о «Критике способности суждения», я также, после сказанного, могу быть очень краток. Надо удивляться, что Кант, который был весьма далек от искусства и который, по всей видимости, был маловос-
446
приимчив к прекрасному, да и к тому
же, вероятно, никогда не имел случая видеть значительное произведение искусства
и который, наконец, совершенно не знал, кажется, о своем исполине-собрате Гёте
(его одного во всем столетии и изо всей нации можно поставить рядом с Кантом), надо,
говорю я, удивляться, что при всем этом Кант мог снискать себе великую и
непреходящую заслугу перед философским анализом искусства и прекрасного. Эта
заслуга состоит в следующем. Хотя раньше высказывалось много верных замечаний о
прекрасном и искусстве, однако все мыслители рассматривали вопрос с эмпирической
точки зрения и, опираясь на факты, исследовали, какое свойство отличает объект,
называемый прекрасным, от других объектов того же рода. Этим путем
достигали сначала совершенно частных положений, а затем — более общих. Старались
отделить подлинно прекрасное в искусстве от неподлинного и отыскать признаки
этой подлинности, которые затем тоже могли бы в свою очередь служить правилами.
Что нравится как прекрасное и что не нравится, чему, следовательно, надо
подражать, к чему нужно стремиться, чего надлежит избегать, каких правил, хотя
бы отрицательных, необходимо держаться — короче, каковы средства возбуждения эстетического
удовольствия, т. е. каковы его условия, лежащие в объекте, вот почти
единственная тема таких исследований по искусству. Этот путь проложил
Аристотель, и по нему пошли и в новейшее время Хоум, Бёрк, Винкельман, Лессинг,
Гердер и др. Правда, всеобщность найденных эстетических положений возвращала в
конце концов к субъекту; исследователи обнаруживали, что если изучить
надлежащим образом воздействие прекрасного на субъект, то можно было бы
определить a priori и лежащую в объекте причину самого воздействия — и уже в
результате одного этого такие исследования приобрели бы научную достоверность.
Вот почему вновь и вновь появлялись психологические исследования красоты; но
особенно данный подход свойствен общей эстетике всего прекрасного
Применительно к кантовской «Критике эстетической способности суждения» прежде всего напрашивается то замечание, что он и здесь
447
сохранил метод, свойственный всей его философии и подробно рассмотренный мною выше: я имею в виду то, что он исходит из абстрактного познания для объяснения познания наглядного, так что первое служит ему как бы камерой-обскурой для улавливания и обозрения второго. Подобно тому как в «Критике чистого разума» формы суждения должны были объяснять познание всего нашего наглядного мира, так и в «Критике эстетической способности суждения» Кант исходит не из самого прекрасного — не из наглядного, непосредственно данного, а из суждения о прекрасном, столь скверно называемого суждением вкуса. Оно-то и является его проблемой. В особенности его внимание привлекает то обстоятельство, что такое суждение, очевидно, служит выражением некоторого процесса в субъекте, но при этом, однако, имеет настолько всеобщее значение, как если бы оно выражало свойства объекта. Вот что его поражает, а не само прекрасное. Он постоянно исходит только из высказываний других, из суждений о прекрасном, а не из самого прекрасного. Выходит так, как будто он знает о нем только понаслышке, а не непосредственно. Приблизительно так же мог бы скомбинировать теорию цветов наделенный острым разумом слепой, на основании точных показаний о них, которые он слышит. И действительно, нам приходится рассматривать учение Канта о прекрасном едва ли не буквально как аналог такого рода теории. Если принять эту аналогию, то мы найдем, что его теория весьма остроумна, что там и здесь разбросаны меткие и верные замечания, но само решение проблемы у него настолько несостоятельно, настолько по своему уровню ниже значимости предмета, что мы никак не можем принять его за объективную истину; поэтому я даже и не беру на себя задачу его опровержения и ссылаюсь здесь в очередной раз на положительную часть моего основного произведения.
Относительно формы всей его книги следует заметить, что она есть результат осуществления идеи решения проблемы прекрасного при помощи понятия целесообразности. К такого рода идее нетрудно прийти, насколько нам это известно из опыта последователей Канта. Таким образом, возникает причудливое сочетание познания прекрасного и познания целесообразности природных тел — в единой способности познания, называемой способностью суждения. Эти три способности познания — разум, способность суждения и рассудок — становятся затем материалом для всякого рода симметрико-архитектонических увеселений, пристрастие к которым вообще разнообразно проявляется в этой книге, — прежде всего в том, что она оказывается насильственно скроенной по образу и подобию «Критики чистого разума», что, в свою очередь, особенно дает себя знать в притянутой за уши антиномии эстетической способности суждения. Можно также было бы упрекнуть Канта и в той крупной непоследовательности, что, после того как в «Критике чистого разума» неустанно повторялось, что рассудок есть способность суждения — и формы его суждения сделаны были краеугольным камнем всей философии, — теперь появляется какая-то особая, совершенно отличная от первой, способность суждения. То же, что я называю способностью суждения, а именно способность переносить наглядное познание на уровень познания абстрактного и применять абстрактное к наглядному, это изложено в положительной части моего сочинения.
448
То, что превосходно в кантовской «Критике эстетической способности суждения», — это теория возвышенного: она удалась несравненно лучше теории прекрасного и дает не только, как та, общий метод исследования, но и кое-что в смысле решения вопроса; и хотя в ней нет окончательного решения проблемы, она все же очень близко к нему подходит.
В «Критике телеологической способности суждения»,
благодаря простоте материала, быть может, более, чем где-либо, сказывается удивительный
талант Канта так и этак повертывать известную мысль, формулируя ее различными
способами, пока из этого не получится целой книги. Все содержание книги
сводится к следующему: хотя организованные тела необходимо представляются нам
так, как если бы они были устроены по предварительному плану, однако на
основании этого мы еще не получаем права считать такой план объективно
существующим. Ибо наш интеллект, которому вещи даны извне, опосредованно и
который, следовательно, познает не внутреннюю их сущность, в силу коей они
возникают и существуют, а только их внешнюю сторону, может постигать известный
свойственный органическим продуктам природы характер не иначе как при помощи
аналогии, сравнивая его с продуктами преднамеренной человеческой деятельности,
свойства которых определяются целью и понятием о ней. Этой аналогии достаточно,
чтобы сделать для нас постижимым соединение частей организмов в гармонию целого
и даже указать нить для ее исследования: но ее ни в коем случае нельзя
превращать в реально действующий принцип при объяснении происхождения и бытия
этих тел. Ибо необходимость понимать их таким образом имеет субъективное
происхождение. Так приблизительно резюмировал бы я это учение Канта. Его
основные положения он дает уже в «Критике чистого разума» (с. 692— 702; V, 720—
730). Однако в уразумении и этой истины Кант имел славного предшественника
в лице Давида Юма, который также резко оспаривал допущение указанной
аналогии во второй части своих «Диалогов о естественной религии». Главная
разница между юмовской критикой данного допущения и кантовской заключается в
том, что Юм критиковал его в качестве эмпирического, а Кант — в качестве
априорного. Оба правы, и их соображения взаимно дополняют друг друга. Впрочем,
сущность кантовского учения об этом высказана уже в комментарии Симплиция к «Физике»
Аристотеля: «Error iis ortus est ex eo, quod credebant,
449
Вольтер считал неопровержимым, в высшей степени важно было показать, что субъективная сторона нашего познания, к содержанию которой Кант относит пространство, время и причинность, объясняет также и наше понимание природных тел, и поэтому испытываемое нами стремление мыслить их возникшими в результате предварительного замысла, на основе понятия о цели, т. е. так, как если бы представление о них предшествовало их бытию, — это стремление столь же субъективно, как и созерцание кажущегося нам столь объективным пространства; следовательно, оно не может иметь значения объективного свидетельства. Кантовское объяснение дела — если оставить в стороне утомительное многословие и повторения — превосходно. Он справедливо утверждает, что при помощи одних только механических причин, под которыми он понимает непреднамеренное и закономерное действие всех общих сил природы, мы никогда не сумеем объяснить свойства органических тел. Тем не менее я нахожу здесь еще один пробел. А именно, Кант отрицает возможность такого объяснения лишь относительно целесообразности и кажущейся преднамеренности в органических телах. Однако мы находим, что и там, где целесообразности нет, невозможно переносить принципы объяснения одной области природы на другую; коль скоро мы вступаем в новую область, они перестают действовать, и их место занимают новые основные законы, совершенно необъяснимые на основе законов предшествующей области. Так, в области собственно механических зависимостей господствуют законы тяжести, сцепления, косности, текучести, эластичности, которые (независимо от моего понимания всех сил природы в качестве низших ступеней объективации воли) выступают как проявления необъяснимых далее сил, но сами служат принципами всякого дальнейшего объяснения, состоящего только в сведении явлений к этим силам. Если же мы покидаем эту область и переходим к проявлениям химизма, электричества, магнетизма, кристаллизации, то указанные принципы уже не годятся, прежние законы больше не имеют значения, прежние силы преодолеваются другими, возникают явления, находящиеся в прямом противоречии с ними и определяемые новыми основными законами, которые, как и первые, столь же изначальны и необъяснимы, т. е. не могут быть сведены к каким-либо более общим законам. Так, например, при помощи законов механики никогда не удастся объяснить хотя бы разложение соли в воде, не говоря уже о более сложных химических явлениях. Все это уже показано подробнее во второй книге моего основного произведения. Такого рода анализ был бы, как мне кажется, весьма полезен в качестве дополнения к «Критике телеологической способности суждения» и во многом прояснил бы все сказанное там. Особенно уместен он был бы в применении к превосходному замечанию Канта о том, что более глубокое познание внутренней сущности мира, проявления которой суть вещи в природе, открыло бы нам, как в механическом (закономерном), так и в мнимо преднамеренном действии природы, один и тот же конечный принцип, который мог бы служить для объяснения и того и другого. Я, надеюсь, дал такой принцип своим указанием на волю как на подлинную вещь в себе; вот почему сказанное во второй книге моего основного произведения
450
и в дополнениях к ней, особенно же в сочинении «О воле в природе», дает, быть может, более ясное и глубокое понимание внутреннего существа кажущейся целесообразности, гармонии и согласия природы. Вот почему я здесь об этом больше ничего не скажу.
Читатель, которого заинтересует эта критика кантовской философии, пусть не преминет прочитать дополнение к ней, данное во втором отрывке первого тома моего сочинения «Парерга и паралипомена» под заглавием «Еще несколько пояснений к кантовской философии». Ибо следует принять во внимание то обстоятельство, что мои сочинения, как их ни мало, написаны не все сразу, а постепенно, в течение долгой жизни и создавались они через большие промежутки времени; поэтому не следует ожидать, чтобы все, сказанное мною о каком-либо предмете, находилось в одном месте.
человеке и основе морали
Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые,
прочитав одну его страницу, вполне уверены,
что они прочитают все, написанное им,
и будут слушать каждое сказанное им слово.
Ф. Ницше
1. Жизненный путь Шопенгауэра и
судьба его философии
Выдающийся немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788—1860) родился в вольном городе Данциге (ныне Гданьск). Его отец, Генрих Флорис Шопенгауэр, состоятельный купец, благодаря своей успешной коммерческой деятельности имел прочное общественное положение и высокую репутацию. Он слыл человеком немного неуравновешенным, так как порой был подвержен вспышкам гнева и приступам депрессии, что, впрочем, не умаляло в глазах тех, кто имел с ним дело, главных свойств его личности: доброты, ярко выраженного чувства собственного достоинства, независимости суждений, открытости, неподкупной честности, свободолюбия. Когда в 1793 г. перед ним встает необходимость выбора между благополучием и свободой, он не колеблясь бросает нажитое и уезжает с семьей в Гамбург за несколько часов до вступления в Данциг прусских войск. Сын горячо любил отца и до конца своих дней испытывал чувство благодарности по отношению к нему за «редкое счастье свободы и независимости», обеспеченное отцовским состоянием, позволившим ему «развить свои способности и употребить их по назначению»*.
Мать философа, Иоганна Генриетта Шопенгауэр, дочь сенатора Трозинера, была наделена гибким и острым умом, веселым и общительным нравом, увлекалась искусством и обладала несомненным литературным талантом**. В браке с человеком, который был двадцатью годами старше нее, она ценила прежде всего предоставленные ей возможности обеспеченной жизни, позволявшей беспрепятственно предаваться светским удовольствиям.
Отец Шопенгауэра хотел видеть своего наследника человеком разносторонне образованным и открытым миру. В 1797 г. он отвозит сына на учебу во Францию, в Гавр, где Артур два года обучался у лучших
452
местных учителей[380]. Когда Артур вернулся домой в Гамбург, отец был удивлен и обрадован тому, что его сын так «офранцузился»: тот почти ничего не понимал из того, что ему говорили на родном языке.
В 11 лет Артур поступил в частную гамбургскую школу, где в основном учились дети состоятельных коммерсантов, но он очень быстро превзошел предельный для этого учебного заведения уровень знаний и обратился с просьбой к отцу отдать его в гимназию. Отец же, желая воспитать продолжателя своего дела и считая гимназическое обучение бесполезным для коммерсанта, предложил ему взамен длительное путешествие по Европе в образовательных целях. Шопенгауэр-младший выбрал последнее и побывал в лучших городах Бельгии, Англии, Франции, Швейцарии и Южной Германии. Два года путешествий дали ему, по его словам, то, чего он никогда не приобрел бы в гимназии, изучая там классические языки. В этот период он убеждается в бесполезности изучения «одних только слов» и благотворности живого знакомства с «самими вещами».
По возвращении на родину в начале 1805 г., незадолго до конфирмации, Артур был отдан для обучения торговому делу в крупную гамбургскую фирму, но, не испытывая влечения к этому «ненавистному занятию», он тайно изучает труды по френологии Ф. Галля, читает книги по философии.
В том же году неожиданно, в результате несчастного случая, умирает его отец, обстоятельства смерти которого (он провалился в складской люк и упал в городской канал*, после чего, став инвалидом, был фактически заброшен всеми домашними) вызвали горький сыновний упрек в адрес матери: «Эта госпожа, моя мать, давала приемы, пока он умирал в одиночестве, и развлекалась в то время, когда он переносил тяжелейшие муки»**. Но именно мать дала свободу интеллектуальным
453
устремлениям сына, и Артур, продолжив учебу, начинает готовиться к поступлению в университет.
В Готе, где пробыл недолго, и в Веймаре он в течение двух лет изучал при городских гимназиях классические языки, занимаясь также математикой и историей. По достижении совершеннолетия в 1807 г. Шопенгауэр получил третью часть из оставленного отцом наследства и в том же году стал студентом медицинского факультета Геттингенского университета. Заинтересовавшись философией, он через полгода перешел на философский факультет, не оставляя совсем и медицинского[381]. Он изучает Платона и Канта, штудирует одновременно труды по медицине, слушает курсы логики, метафизики и психологии, математики, истории Германии, химии, физики, астрономии, естественной истории.
В 1811 г. Шопенгауэр переселяется в Берлин[382], где продолжает учебу в местном университете: слушает лекции Вольфа по истории греческой и латинской литературы, Шлейермахера — по истории философии, Фихте — по философии*, совершенствует свои занятия в области естественных наук. Учеба в Берлине продлилась два года и должна была завершиться докторским экзаменом, но вновь начавшиеся военные действия побуждают его оставить Берлин и отправиться в Саксонию. Поселившись недалеко от Рудольштадта, он пишет диссертацию «О четверояком корне закона достаточного основания». Вскоре он защищает ее в Иенском университете, удостоившись степени доктора философии. Одним из первых читателей его работы был Гёте, чье внимание привлекло умение автора выражать свои мысли в наглядной форме, а равным образом — оригинальность концепции. Их знакомство состоялось зимой 1813 г. в Веймаре, в доме матери Шопенгауэра. Несмотря на благоприятное впечатление, произведенное молодым человеком на Гёте (как-то заметившего: «Будьте покойны, этот ум еще превзойдет всех нас»), последний не разделял мировоззренческих позиций молодого философа. Известную долю скептицизма в отношении взглядов своего весьма независимого почитателя Гёте выразил двустишием, записанным в альбом Шопенгауэру, когда тот в мае 1814 г. уезжал в Дрезден после разрыва с матерью:
Willst du dich deines Wertes freuen,
So mu.t der Welt du Wert verleihen**.
454
В дрезденский период Шопенгауэр пишет трактат «О зрении и цвете» (по следам веймарских бесед с Гёте) и создает свое основное произведение — «Мир как воля и представление» (первый том), работу над которым заканчивает в 1818 г. После этого он отправляется в путешествие по Италии (он побывал в Венеции, Флоренции, Неаполе, Риме, где прожил четыре месяца, видел Геркуланум и Помпею) и в начале 1819 г. возвращается обратно в Дрезден. Во время этой поездки Шопенгауэр окончательно убеждается в том, что он не создан для семейной жизни*.
В связи с выходом в свет первого тома своего основного сочинения Шопенгауэр писал его издателю Фр. А. Брокгаузу: «Мой труд является… новой философской системой, причем новой в полном смысле слова: не подновленное изложение уже существующего, но ряд самым тесным образом связанных между собой мыслей, никогда прежде не приходивших ни в одну человеческую голову»**. Однако большая часть тиража опубликованной книги, как и опасался Брокгауз, пошла в макулатуру.
Вслед за провалом книги*** последовало его фиаско в преподавательской деятельности. В 1820 г. Шопенгауэр становится доцентом Берлинского университета. Его встреча с Гегелем в том же году при пробном чтении своей лекции «О четырех различных видах причин» послужила началом их продолжительной вражды. Гегель отнесся к нему с полным пренебрежением; Шопенгауэр же ополчился против великого «шарлатана» (как он называл своего противника) и его «философии абсолютной бессмыслицы». Самонадеянно назначив время своих лекций на те же часы, что и у Гегеля, Шопенгауэр остался без слушателей.
В 20-е гг. книга Шопенгауэра так и оставалась незамеченной, потерпела провал и его новая попытка чтения лекций в университете. В 1831 г. он бежит из Берлина от холеры, жертвой которой суждено было стать Гегелю. В 1833 г. философ окончательно обосновывается во Франкфурте-на-Майне и живет одним лишь своим основным произведением. Он пишет и объединяет дополнения ко второй части первого тома в самостоятельный труд, который выходит в 1836 г. под названием «О воле в природе».
455
Шопенгауэр перешагнул рубеж своего 50-летня, когда на долю философа выпал первый успех. Его конкурсная работа «О свободе воли» (1839) была удостоена премии Королевского норвежского научного общества. Однако другая конкурсная работа «Об основе морали» (1840) осталась незамеченной; равным образом не привлекла внимание и книга Шопенгауэра, объединившая оба эти сочинения по этике под названием «Две основные проблемы этики» (1841). Такая же участь постигла и второй, дополнительный, том его основного произведения (1844).
В эти годы Шопенгауэр стоит в стороне от событий своего времени и не участвует в текущей философской жизни, даже не реагирует на резонанс, вызванный именами Л. Фейербаха, Б. Бауэра, А. Руге, Д. Штрауса и др. В связи с этим, особенно после событий революционного 1848 г., отношение к которым он выразил словом «бунт», назвав действия восставших «предательством по отношению к приобретенной с трудом безопасности», в революционных и прогрессистски настроенных кругах складывается неприязненное отношение к Шопенгауэру: говорят о «бездеятельной созерцательности» его философии, о «парализующем, враждебном культуре пессимизме», о его «реакционности» и т. п. Его начинают воспринимать как экстравагантного пришельца из XVIII столетия; склонность к жестикуляции, разговоры с самим собой, сопровождающий его в уединенных прогулках пудель, нелюдимость и другие странности философа служат поводом для многочисленных анекдотов*.
В начале 50-х гг., после выхода в свет книги «Парерга и паралипомена» («Примечания и дополнения»), имя Шопенгауэра приобретает широкую известность. О нем начинают говорить и писать, выходят публикации, посвященные его творчеству. Шопенгауэр принимает все эти выражения признания, но одновременно он говорит и о «комедии своего успеха», ведь все то, что было написано им после первого тома своего основного труда «Мир как воля и представление», являлось лишь дополнением к нему или его популяризацией. Чувство духовного одиночества не оставляет мыслителя и тогда, когда Р. Вагнер, работая над оперным циклом «Кольцо Нибелунга», посвятил Шопенгауэру поэтическую часть
456
этого произведения (1854). «…Круг современников для меня слишком велик, если я должен обращаться к ним всем, слишком мал, если — к тем, кто меня понимает, — писал он. — Порой я говорю с людьми так, как ребенок со своей куклой: он… знает, что кукла не понимает его; но… он получает радость от общения»*.
Шопенгауэр умер 21 сентября 1860 г. и был похоронен на главном городском кладбище Франкфурта-на-Майне.
А. Шопенгауэр, как и другие представители послекантовского идеализма, претендовал на создание абсолютного мировоззрения, способного найти верное решение проблемы бытия, разгадать его тайну. Однако его философия, находясь в русле основных духовных тенденций начала XIX столетия, по существу, сознательно противостоит им. Под абсолютным мировоззрением Шопенгауэр понимал отнюдь не систему научных представлений о мире, нет у него и рассуждений о поглощении жизни отдельного человека логическим самодвижением «идеи». Хотя для него, как и для Фихте, Шеллинга и Гегеля, решающее значение имеет проблема преодоления противоположности между субъектом и объектом, идеальным и реальным, свободой и необходимостью. Он считал, что обычному человеку, не философу, для этого нет необходимости возвышаться до уровня философского анализа. «Великие истины рождаются в сердце», — писал Шопенгауэр. «Фихте… и все те, кто основывает этику, исходя из сочиняемой ими в муках мировой цели, требуют, чтобы люди каждый раз взбирались на самые высокие ступени их философствований для того, чтобы найти там мотивы для нравственных действий… Шопенгауэр же разрешает человеку прислушиваться к своему сердцу», — отмечал А. Швейцер**.
Свое отношение к послекантовскому идеализму Шопенгауэр выразил следующим образом: «Фихте и Шеллинг помещаются во мне, но не я в них, это значит, что то немногое истинное, что заложено в их учениях, содержится и в том, что сказано мною»***. В названии основного сочинения Шопенгауэра — «Мир как воля и представление» — и в его содержании легко обнаруживаются основные темы кантовской, фихтевской и шеллинговской философии: противоположение «вещи в себе» явлению и учение о том, что мир — это только «представление» (т. е. образ, создаваемый нашим сознанием), перенос центра тяжести философских проблем из теоретической сферы в область морали, учение о воле как сущности вещей. Но, по существу, Шопенгауэр использует понятийные конструкции послекантовской философии (и учение самого Канта) с целью создания совершенно иного мировоззрения. Послекантовский немецкий идеализм основывается на миропонимании, согласно которому деятельность мирового начала и благо человека в конечном счете совпадают; люди — дают они себе отчет в этом или нет — совместно осуществляют некий предуготованный, рационально постижи-
457
мый план. Шопенгауэровская же «воля к жизни» как мировой принцип бессознательна и не имеет никакой разумной цели; это злое, саморазрушительное стремление, голая и голодная агрессивность, и потому мир явлений, порождаемый волей, безысходен, не развивается.
Шопенгауэр был первым европейским философом, создавшим этику абсолютного миро- и жизнеотрицания, что нашло отражение в предложенном им понятии «пессимизм», выражающем негативное отношение к жизни, так как в ней, по его мнению, невозможно счастье, а торжествуют лишь зло и бессмыслица.
Исходное положение шопенгауэровской философии фиксирует бессвязность и противоречивость нашего опыта, но, превращая «немыслимое», «вещь в себе» в предмет мысли, Шопенгауэр стремится отыскать в самом опыте его глубинный смысл, «всеединство».
Шопенгауэровский пессимизм — это еще и моральная оценка, выражающая протест против обесчеловечивания мира, нравственно-философский проект спасения. По Шопенгауэру, именно ощущение самоутраты, вынужденности существования, задавленности естественных порывов и возникающее в связи с этим чувство вины — верные ориентиры избавления от «воли к жизни», указывающие на подлинную, идеальную значимость жизни.
Именно как протест против обесчеловечивания общества и проект нравственного спасения трактует шопенгауэровский волюнтаризм Ф. Ницше, в ранних работах которого философия Шопенгауэра получает сочувственный отклик. Шопенгауэр, по словам Ницше, был философским наставником «утерявших святость и подлинно обмирщенных людей», его пессимизм — это «род отрицания», который есть «истечение могущественной жажды освящения и спасения жизни»*.
Шопенгауэр видит спасение в обращении к открытой для каждого и по отношению ко всему миру человечности, проявляющейся в чувстве вины и сострадания, способной преодолеть зло эгоистически замкнутого существования. Согласно Шопенгауэру, только в самом человеке, в бездне человеческого неблагополучия и неизбывных страданий берет начало стремление к освобождению от подчинения бессмысленной «воли к жизни», а это освобождение и есть «высшее благо», единственное упование и надежда.
2. Теория познания и
натурфилософия
Мир — это мир человека, таков, в сущности, исходный пункт философии Шопенгауэра. Он писал: «Мир есть мое представление» — вот истина, которая имеет силу для каждого живого и познающего существа, хотя только человек может возводить ее до рефлексивно-абстрактного сознания; и если он действительно это делает, то у него зарождается философский взгляд на вещи. Для него становится тогда ясным и несомненным, что он не знает ни солнца, ни земли, а знает только глаз, который видит солнце, руку, которая осязает землю…»**
458
Что же означает утверждение «мир есть мое представление»?
Это значит прежде всего, что субъект не может выйти за пределы обусловленности своего знания самим собой, познающим. Поэтому если мы хотим быть последовательными в ответе на вопрос, что мы знаем (в смысле объективности, истинности нашего знания), то придется согласиться с тем, что непосредственно мы знаем только свой глаз, свою руку, свое ухо и т. д., а не сам мир. При этом правомерен другой вопрос, что значит тот «объективный» порядок, который мы обнаруживаем в мире: пространство, время, причинность. Не означает ли это, что время, пространство, причинность суть лишь формы нашего представления? Да, это именно так, считает Шопенгауэр. В пользу такого вывода, по его мнению, свидетельствует и то обстоятельство, что мы можем познавать названные формы представления, не познавая самого объекта, а исходя из одного субъекта: то есть мы можем мыслить и время, и пространство, и причинность, отделив их от какого бы то ни было предметно-событийного содержания.
Таким образом, мир, с точки зрения Шопенгауэра, — это «мой мир», мой в том смысле, что я его вижу таким, каким мне его позволяет видеть моя собственная способность представления. Но ведь мир отнюдь не только «мой мир», он еще и независим от меня, самостоятелен, неподатлив, существует как объективная реальность. «…Наблюдение и исследование природы неизбежно приводят нас к достоверной гипотезе, что каждое высоко организованное состояние материи следовало во времени лишь за более грубым, что животные были раньше людей, рыбы — раньше животных суши, растения раньше последних, неорганическое существовало раньше всего органического; что, следовательно, первоначальная масса должна была пройти длинный ряд изменений, прежде чем мог раскрыться первый глаз»*.
Как видим, выясняется, что картина мира как представления, по Шопенгауэру, двойственна и противоречива, в этой картине все прочно, достоверно, упорядоченно, но одновременно все условно, эфемерно и призрачно. Мир — сам по себе, он всегда объективен, у него есть своя история, в которой нас не было и в свое время не будет; и все же от «первого раскрывшегося глаза», хотя бы он принадлежал насекомому, зависит бытие всего мира именно потому, что сам мир ничего не знает о том, что он — мир, потому что он становится миром только для познающего существа. Раздвоенное на субъект и объект бытие, по словам философа, всегда является относительным бытием, где все «существует только через другое и для другого». Проще всего это можно понять на примере времени: в нем каждое мгновение существует, лишь уничтожив предыдущее, своего «отца», чтобы столь же быстро погибнуть самому; прошедшее и будущее (помимо результатов своего содержания) столь же ничтожны, как любое сновидение, а настоящее служит только непротяженной и неустойчивой границей между тем и другим.
Но если бытие мира, взятого как представление, противоречиво, то сам факт наличия противоречий косвенно указывает на необходимость
459
поиска некоего момента единства, некоей точки бытия, соединяющей субъект и объект непосредственно без участия познающего субъекта. Факт неустранимой противоположности между субъектом и объектом «заставляет искать внутренней сущности мира, вещи в себе, уже не в одном из названных двух элементов представления, но, скорее, в чем-то совершенно отличном от представления»*.
Необходимость поиска первоосновы всего явленного нам в опыте, с точки зрения Шопенгауэра, может быть подкреплена следующим соображением. «Теоретический эгоизм» формально может считать «все явления, кроме собственного индивида, за фантомы» (это нельзя опровергнуть никакими доказательствами), но в качестве «серьезного философского убеждения мы найдем эту позицию разве что в сумасшедшем доме». Направление поиска такого основания определяется тем, что субъект связан с объектом не только опосредствованно, через познание, но и непосредственно, ибо сам субъект — не просто «абстрактный субъект чистого познания», а часть этого мира, с которым его связывает собственная телесность: я познающее — прежде всего я телесное, желающее и действующее, добивающееся и страдающее, то есть проявляющееся еще и как воля; сама же воля, желание, — всегда есть направленность на объект, воля к чему-то, желание чего-то. С учетом этого исходный пункт шопенгауэровской концепции — принцип соотносительной поделенности мира на субъект и объект — трансформируется в другое положение, которое можно сформулировать так: «хочу, следовательно, существую», — и это единственный пункт опыта, где мое внутреннее существо, субъективная реальность (воля), совпадает с реальностью объективной (телом). Более того, эта же реальность является основой всего физического мира.
Но не расширяет ли неправомерно понятие воли такая его трактовка? Нет, считает Шопенгауэр. Он, правда, признает, что в его интерпретации «понятие воли получает больший объем, чем оно имело до сих пор», и в этой связи отмечает: «…Я называю весь род по самому выдающемуся из его видов». По его мнению, это отнюдь не предполагает неправомерного сведения всех других разновидностей детерминации к воле человека. Шопенгауэр поясняет: если сказать, что сила, влекущая камень к земле, по своему существу есть воля, «то этому суждению не будут приписывать нелепого смысла, будто камень движется по сознательному мотиву, ибо воля проявляется в человеке именно так». Нам следует, считает он, самые простые и обычные движения неорганических тел, совершающиеся по причинам, научиться «понимать в их внутренней сущности из моего собственного движения по мотивам»**.
Шопенгауэр полагает, что такой подход к объяснению мира углубляет наше познание. По его мнению, наше познание стремится к упрощению, стремится свести неизвестное к известному или к тому, что нам таковым кажется. «Лень и невежество порождают склонность к поспешным ссылкам на первичные силы», но ссылаться «вместо физического объяснения на объективацию воли так же нельзя, как и ссылаться на
460
творческую мощь Бога». Однако, замечает он, естественно-научное объяснение мира страдает принципиальной неполнотой. Естествознание объясняет только то, «почему каждое определенное явление должно обнаружиться именно теперь здесь и именно здесь теперь», — и с его помощью мы все-таки никогда не проникнем во внутреннюю сущность вещей. Наука, по его словам, стремится свести все проявления органической жизни к химической основе, всякий химизм, в свою очередь, к «механизму», но в рамках научного объяснения всегда остается «нерастворимый осадок», то содержание явления, которое нельзя свести к форме последнего. В каждой вещи в природе есть нечто такое, чему никогда нельзя найти основания, указать дальнейшую причину, чего нельзя объяснить: это — специфический образ ее действия, т. е. образ ее бытия, ее сущность.
Шопенгауэр не выходит за рамки аналогии, когда утверждает, что необъяснимое нечто, внутренняя сущность каждой вещи — это то же, что и воля человека: ведь он имеет в виду неизвестное начало вещей и неизвестный источник определенности нашей свободной воли. Сама по себе такая аналогия не лишена смысла, но, как и всякая аналогия, чересчур неопределенна для того вывода, который на ее основе делает Шопенгауэр, объясняя природу при помощи «мировой воли» как «слепого бессознательного порыва».
Раз мы в рамках обыденного и научного познания не можем объяснить определенность своей свободной (безосновной) воли, равно как и свойства вещей, то необходимо признать, что в основе и того и другого лежит нечто единое, и оно может быть понятно только исходя из нашей собственной воли — таков фактический ход шопенгауэровской мысли. Далее, раз данное начало, в том числе и наша собственная воля, есть нечто неопределенное и неопределимое, то это начало действует слепо и бессознательно; слепоту эту демонстрирует жизнь природы. Так воля как «слепой порыв» превращается в принцип, объясняющий динамику природы. Но воля же, безосновная в себе, — основание всякой определенности; в этом последнем качестве она объясняет структурную целостность природы.
Воля, воля к жизни, как таковой, по Шопенгауэру, бесцельна, «раздвоена в самой себе» и представляет собой «бесконечное стремление», а мир как воля — «вечное становление, бесконечный поток». В потоке вечного становления ничто не находит своего полного, непротиворечивого осуществления; человек как наивысшая объективация воли не выражает ее идеи (сущности) полностью. И он подвластен бесконечным поискам, тоске и страданиям постоянно «голодной» воли. Мир как продукт воли к жизни, природный мир слепого и необходимого действия сил, инстинктов и мотивов не может быть оценен иначе как безнадежный с точки зрения главного человеческого интереса — свободы; но и в этом бессмысленном потоке есть удивительные моменты остановки, моменты того, когда нам виден «свет с другого берега». Познание, по словам философа, будучи инструментом воли к жизни, средством поддержания индивида и рода, подобно всякому органу тела. Тем не менее у отдельных людей, считает он, познание может освободиться от этой служебной роли, сбросить свое ярмо и, свободное от всяких целей желания, существовать само по себе как «светлое зеркало мира, откуда и возникает искусство».
461
3. Телеология художественного
творчества
Каково же подлинное предназначение человека? Как и почему человек связан с этим бессмысленным миром и действительно ли он бессмыслен? Что такое мир по отношению к человеческому предназначению? По мнению Шопенгауэра, ответ на эти вопросы дает искусство: оно выявляет, хотя и не полностью, не окончательно, идеальную завершенность и целостность мира и надприродную (идеальную) значимость человеческой жизни.
У Шопенгауэра схема обнаружения идеального разворачивается следующим образом: Есть моменты, отмечает он, когда наше познание особым образом объективно: не заинтересовано в объекте и способно в «незаинтересованном созерцании» постигнуть идеальную сущность вещей.
Первая ступень такого созерцания — прекрасное. «…Когда внешний повод или внутреннее настроение внезапно исторгают нас из бесконечного потока желаний, отрывают познание от рабского служения воле и мысль не обращена уже на мотивы желания, а воспринимает вещи независимо от их связи с волей, т. е. созерцает их бескорыстно, без субъективности, чисто объективно, всецело погружаясь в них, поскольку они суть представления, а не мотивы, — тогда сразу и сам собою наступает покой, которого мы вечно искали и который вечно ускользал от нас… и нам становится хорошо. Мы испытываем то безболезненное состояние, которое Эпикур славил как высшее благо и состояние богов, ибо в такие моменты мы сбрасываем с себя унизительное иго воли, празднуем субботу каторжной работы желания, и колесо Иксиона останавливается»*. В рамках чистого, незаинтересованного созерцания мы уже находимся вне потока времени и всяких других отношений, тогда «уже безразлично, смотреть ли на заход солнца из темницы или из чертога». Причем сама же природа «погружает нас в чистое созерцание», отзывчива к нашему вопрошанию о ее «конечной цели» и смысле жизни, «предлагает» нам перейти из мира слепой необходимости в мир свободы; она как будто говорит нечто, намекая о нашем сверхприродном предназначении и неслучайном появлении на свет.
Еще более отчетливо наша эстетическая заинтересованность в мире и глубинная смысловая связь с ним выступают в феномене возвышенного. Возвышенное — это род явлений, несоизмеримых с физическими способностями человека и возможностями его познания: неподвластные ему природные (и социальные) силы и стихии, невообразимая для него бесконечность пространства и времени. Возвышенное — это и особое состояние духа или чувство. При встрече с безграничным и непомерным человек обескуражен и теряет себя, ибо при этом нарушается «естественная» связность и устойчивость его представления о самом себе как о центре вселенной, неповторимом и автономном субъекте. Но одновременно сознание зависимости от чуждой слепой стихии, ощущение бесформенности, хаотичности мира связано с пробуждением у индивида
462
особой духовной силы именно потому, что разрушена привычная картина мира, в рамках которой субъект относится ко всему существующему, кроме него самого, исключительно как к объекту и потому всецело погружен в объективные обстоятельства своего бытия, связан ими. Именно поэтому человек, лишенный главной опоры своего «естественного» существования, наталкивается на самого себя, обращается к самому себе и обнаруживает себя в новом, преображенном качестве, сталкиваясь со своей человечностью как предназначенностью к свободе от объектной реальности.
Итак, полная отчужденность от нас природы, ее враждебное противостояние нам, ее детям, равнодушие природных сил и их беспредельность оборачиваются не просто негативной от нее зависимостью, но и прямо противоположным феноменом — свободой. Этот феномен — результат открытия в нас самих идеального, чего-то и объективного, и сверхприродного; чего-то такого, что по своей универсальной значимости эквивалентно всему остальному миру и совпадает с ним и само при этом входит в его состав как его сущностное ядро: это есть и наше внутреннее «я», и сущностное «я» мира одновременно.
Но тогда кто же тот, кто «говорит» языком прекрасных форм природы, грозно «повышая голос» в возвышенном?
Формально Шопенгауэр не задается данным вопросом, и все же он, сообразно логике своего рассуждения, должен был так или иначе отвечать на него. Возможен такой ответ: речь идет о спроецированной самим человеком на этот мир его собственной ценностной мерке (мере), «человечности». То есть, попросту говоря, сам этот вопрос — результат непроизвольного очеловечивания мира, тем более что в пользу такого ответа может свидетельствовать то обстоятельство, что, по Шопенгауэру, мировые события имеют значение «лишь постольку, поскольку они — буквы, по которым может быть прочитана идея человека», а внутренняя значимость явлений — «это глубина прозрения в идею человечества». Такое толкование снимало бы покров таинственности с идеальной сущности мира, если бы не одно обстоятельство. И чувство прекрасного, и чувство возвышенного свидетельствуют, что именно мир (природа) как бы провоцирует наше преображение (достигаемое в эстетическом созерцании чувство свободы от мира): ведь это событийный ряд самого мира приводит к высшей степени неслучайному для нас, отвечающему нашей глубинной потребности результату, освобождению, и поэтому допустимо предположение о существовании промысла, устраивающего эти события ради нас, ради нашего совершенствования и, естественно, «устроителя», который стоит за всем этим. Возможность двух взаимоисключающих толкований, отсутствие однозначного определения открывающейся в эстетическом созерцании идеальной значимости человека и мира (относящейся то ли исключительно к потребности самого человека, то ли к скрытой способности мира к целеполаганию), с точки зрения Шопенгауэра, говорят о своеобразной неопределенности эстетической ценности или о неопределенности и неполноте идеала человечности, взятого в форме эстетической ценности. Во-первых, эстетическое значение мира раскрывается только как видение иного мира, мира бесконечной свободы от всех условий и условностей —[383]
463
идеальной сферы возможности безболезненно-игрового действия, понимания и согласия. Во-вторых, такое видение зависит от индивидуальных способностей, доступно не всем в равной мере. Эстетическое освобождение поэтому не преодолевает разрыва между идеальным и реальным; искусство как результат выражения эстетических идей — уникально значимых образцов этого «иного мира», содержащих задание по его построению, — противостоит обыденно-реальному, сама идея — понятию, гений в качестве выразителя идеи — толпе, духовной черни, по выражению Шопенгауэра.
По мнению Шопенгауэра, враждебность «толпы», «духовной черни каждой эпохи» к прекрасному и его создателям — следствие подчинения непосредственных интересов человека воле к жизни, то есть утилитарным целям. Гения, как и нашу способность эстетического созерцания вообще, интересует своего рода «картинность» мира — значимость происходящего сама по себе (внутренняя, сущностная, бытийная). Поэтому дня эстетического созерцания все интересно и значимо, и в этом смысле для него нет заранее установленного, понятийно-разграфленного «правильного» и «неправильного». Шопенгауэр считает, что каждая вещь обладает своей особой красотой, что вещи и явления идеальны, в том числе все «бесформенное, даже всякая поделка», даже «плохие строения и местности». Обыкновенный же человек, по его словам, «совершенно не способен на незаинтересованное в полном смысле слова наблюдение, по крайней мере, сколько-нибудь продолжительное, что и составляет истинную созерцательность: он может направлять свое внимание на вещи лишь постольку, поскольку они имеют какое-нибудь, хотя бы и очень косвенное, отношение к его воле»: вот почему обыкновенные люди, говорит он, так быстро теряют интерес к произведениям искусства и красотам природы, созерцание жизни дня них — потерянное время.
Каков же смысл нападок философа на обыкновенных людей? К чему все эти его упреки в нечувствительности к идеальному смыслу мира? Выражают ли они только элитарную точку зрения в оценке художественного творчества, или предполагают еще и необходимость поиска другого, нежели эстетическая ценность (прекрасное, возвышенное), действительно универсального ориентира?
Неспособность к творчеству, по Шопенгауэру, приводит к ориентации на голые понятия: слепок, метку, сигнатуру, ярлык демаркаций (общепринятых, традиционных оценок и суждений), принадлежащих внешнему порядку культуры, наработанному человечеством до нас. В этом рациональный смысл шопенгауэровского противопоставления эстетической идеи, постигаемой только творчески и актуально, и понятия как своеобразного футляра и консерванта смысла. Творческое бессилие — причина того, что обыкновенный человек «для всего, что ему встречается, ищет поскорее понятие, под которое можно было бы все это подвести, как ленивый ищет стул»*.
В последнем случае, однако, человек еще и предает свое предназначение — человечность как творческую свободу от природной необходимос-
464
ти и культурной запрограммированности: он обрубает все, что выходит за узкие рамки наиболее близкого, удобопонятного для него («не понимаю — значит, этого не должно быть») и стремится быть «как все»; не имея своего собственного суждения, он опирается на чужой авторитет, его оценки и суждения предрешены и «думают» за него. Ориентируясь на господствующие вкусы и расхожие мнения, он делит мир на «правильное» и «неправильное», а по сути, на отвечающее и не отвечающее его собственной слабости, на щадящее и беспощадное к ней, — вот смысл шопенгауэровских упреков в адрес «духовной черни».
Однако, по Шопенгауэру, в слабости творческой способности человека нельзя упрекать его самого, ибо способность или неспособность к творчеству дается индивиду от природы; даже в наивысшей степени наделенный творческой мощью гений в ней не волен, потому он и гений. В целом же, согласно Шопенгауэру, эстетический модус идеального не полон, не вполне определен: дело не только в том, что созерцание эстетической идеи не всем равным образом доступно и зависит от индивидуальных способностей, но еще и в том, что эстетический идеал остается только созерцательным идеалом — не претворяется в действие, выводящее за рамки чисто художественной практики. Искусство, по словам Шопенгауэра, — это камера-обскура, «которая отчетливо показывает вещи… пьеса в пьесе, сцена в сцене в «Гамлете». Оно дает человеку лишь временное утешение в жизни, но не указывает путь освобождения от связанных с нею страданий.
4. Телеология морального освобождения: пессимизм как
философия надежды
Итак, согласно Шопенгауэру, проступающая в эстетическом опыте идеальная «человечность» как бы повисает в воздухе, не может в рамках эстетического отношения реализоваться в определенном жизнедействии. Мораль же имеет дело не с идеальной исключительностью художественного произведения (продукта творчества гения), а с реальностью повседневной жизни. Эта реальность непосредственно ощущается и переживается как лишенная какой-либо утешительной перспективы бессмыслица. Будничный ужас невнятной, пустой и безысходной повседневности противоположен идеальной «картинности мира», живописуемой искусством. Даже трагедию, как то, что показывает несказанное горе, скорбь человечества, торжество злобы, насмешливое господство случая и неотвратимую гибель праведного и невинного, — это, по словам Шопенгауэра, «знаменательное указание на характер мира и бытия», — отличает от жизни «значительность всех ситуаций».
Повседневность в отличие от трагедии абсурдна. Но что означает столь подчеркнуто-жесткая фиксация внимания на непосильности и безнадежности для человека жизненной ноши, зачем она нужна Шопенгауэру? Не для того ли, чтобы обвинить во всем волю к жизни, в руках которой мы только марионетки, и оправдать нашу покорность судьбе? Отнюдь нет. Такая расстановка акцентов — лишь конечный результат
465
шопенгауэровской философии и притом результат в известном смысле побочный. Значение же, которое сам мыслитель непосредственно придает исходной пессимистической установке, связано с выполнением этой установкой традиционной критической функции философии как особого пути к истине — через избавляющее от иллюзий универсальное сомнение, отыскивающее пункт безусловной несомненности; только очищение от иллюзий позволяет выявить подлинный смысл мира и значимость отдельной жизни.
Шопенгауэр подвергает сомнению реальность самостоятельных, не зависящих от соображений пользы и удобства моральных побуждений, чтобы отделить мораль подлинную от неподлинной, от того, что только выдает себя за добродетель или может называться ею, на самом же деле продиктовано страхом перед полицией, церковью, чужим мнением или привычкой, надеждой на воздаяние. Согласно Шопенгауэру, успех попытки обнаружения действительного основания морали возможен, только если «нравственная пружина» будет обнаружена и зафиксирована строго опытным путем, она должна как наличный факт сама свидетельствовать о своей непреложности.
Идеальный порядок, моральный смысл бытия раскрывается через сострадание в мистерии перевоплощения в другое страдающее я, благодаря чему происходит открытие его тождества со мною; сострадание освобождает от бремени заботы о собственной жизни и поселяет в нас заботу о чужом благе. Но при этом сострадание открывает перспективу освобождения именно от «противного», про латая спасительный путь над бездной отчаяния и страдания, в которую человека ввергает эгоизм. Жизнь, по Шопенгауэру, — многообразное страдание и состояние вполне несчастное. Сострадание обнаруживает в нас самих — в исконной, первородной глубине нашего я, в открытой любовной связи со всеми другими страждущими существами — как некий идеальный масштаб всечеловечности и всемирности, который заявляет о своей значимости без нашего спроса, так, что мы оказываемся как бы без вины виноватыми, виноватыми во всех страданиях всего живущего и причастными к ним. Мы обнаруживаем, что вынуждены принимать вину на себя, «восполняя» тем самым противоречивую неполноту, жестокую несправедливость жизни. Сострадание свидетельствует о превращении чужого страдания в непосредственный мотив в той же степени, в какой таковым является собственное страдание. Но это предполагает, что я некоторым образом отождествился с другим, и, следовательно, граница между я и не-я исчезла. Тем самым нравственность, по Шопенгауэру, открывает внутреннее единство всего сущего и глубочайшую устойчивость и полноту бытия.
Феномен сострадания знаменует собой «переворот воли», ее «обращение»; воля отворачивается от жизни и в конце концов может превратиться в «квиетив»; при этом сострадание только открывает «дверь в свободу», и, прежде чем наступит окончательное самоотрицание воли, она должна быть сломлена величайшим личным страданием.
Освобождение от воли к жизни, по Шопенгауэру, возможно на пути «мужественной резиньяции», то есть деятельного поддержания человеком в себе того состояния единения со всем миром, которое открылось
466
ему в момент нравственного прозрения. Последовательная борьба за удержание приобретенного смысла жизни — путь аскетического подвига в святости. В образе аскета и святого человек предстает не как завоеватель мира, а как его «победитель».
Итак, в страдании как необходимой сущностной характеристике жизни обнаруживается идеальная подоплека: наше личное страдание и приобщенность к чужому страданию открывает для нас собственное предназначение, свидетельствуя о смысловой упорядоченности мира, о его глубинном моральном значении. Шопенгауэр считает, что, поскольку преисполненность жизни страданием, придающим ей сходство с «делом рук дьявола», приводит одновременно к очищению, освобождению от воли к жизни, постольку в страдании следует видеть еще и «средство милосердия», которое направлено на наше подлинное благо. И здесь мы сталкиваемся с двусмысленностью шопенгауэровской этики и всей его философии в целом.
В чем же состоит двусмысленность учения Шопенгауэра? Дело в том, что он — принципиальный противник мировоззрения, основанного на признании божественного промысла, который в конце концов все направляет к высшей цели, к благу. Но результатом его собственного истолкования морали, как мы убедились, вроде бы является возможность понимания мировой воли в качестве такого провиденциального миро- и благоустрояющего духовного принципа.
Критическая позиция Шопенгауэра, отрицание им теистических тенденций в философии Фихте, Шеллинга и Гегеля не в последнюю очередь были продиктованы соображениями, унаследованными от Канта — сторонника понимания морали как абсолютно автономного образования. Правда, Шопенгауэр при этом в значительной мере переставляет акценты в трактовке принципа автономии морали. Он хочет получить ответ на вопрос о природе того интереса, который лежит в основе моральной мотивации, о природе нравственной необходимости как особого модуса всеобщей связи явлений, или, как он это называет, «закона всеобщего основания» (подразумевая, что все совершающееся происходит необходимо). У нас, считает он, здесь только два источника сведений: внешний опыт, познание, ориентированное на объективный мир, и опыт внутренний, так называемое внутреннее чувство. Однако через познавательное отношение Шопенгауэру не удается выйти к решению занимающей его проблемы. Дело в том, что цепь причин и следствий (внешняя необходимость) и непонятная для нас самих самопроизвольная последовательность наших желаний (необходимость внутренняя, потребность, связанная с ощущением свободы, т. е. «я делаю то, что хочу») уходят в «дурную бесконечность». Мы не можем определенно сказать, есть ли в них начало — первая причина, исходное желание — и последняя цель. И все же в нашем опыте есть нечто, что выходит за рамки познавательного отношения: ответственность, удостоверенная чувством вины, которое столь же хорошо нам известно, как и цвет, звуки, запахи, вкусовые и другие ощущения. Вместе с тем сама вина бессмысленна без свободы[384]. Но такая свобода в определенном смысле необходима, и необходимость ее сродни необходимости физической, ибо она проявляется неизбежно, непроизвольно, ее нельзя обойти без ущерба для себя, без
467
вины, без самоутраты; поэтому моральная свобода (как свобода, принципиально отличная от произвола) — через ее выявление в чувстве вины — единственный пункт опыта, в котором и его внешнее, объективное, и внутреннее, субъективное, содержание совпадают, соединяются в целостную картину. Из этого Шопенгауэр делает вывод, что моральная свобода и есть основание всего мира, скрытая от непосредственного познания сущность мира, изначальная воля, тождественная моральной свободе.
Логика шопенгауэровского миропонимания, таким образом, — это логика подведения смыслового, ценностного основания под мироздание. В сущности, Шопенгауэр основывает свое мировоззрение на следующей оценке: на признании необходимости для человека осуществить свое моральное предназначение, необходимости привнесения в мир «человечности» как того, что исключается самой структурой этого мира, — именно так может быть истолковано шопенгауэровское понимание нравственной свободы как совершенно иного, нежели физический, порядка бытия, не совпадающего, однако, и с понятием произвола (прямо противоположного ему). Причем, по Шопенгауэру, необходимость эта заложена в самой первооснове бытия, воле. И здесь-то мы и сталкиваемся с той двусмысленностью, о которой шла речь выше. С одной стороны, по Шопенгауэру, «мы сами деятели своих деяний»; нет первой причины и последней цели, не существует провидения. С другой — изначальная воля как бы программирует необходимость и возможность морального освобождения человека. Итак, духовная потребность человека, потребность в исполнении им своего морального предназначения, превращается у Шопенгауэра в объективную идеальную первооснову мира, определяющую содержание мировых событий. Но тогда чем принципиально отличается его концепция от послекантовского идеализма? Существенное различие состоит в том, что Шопенгауэр индивидуализирует связь человека с мировым духовным началом. Последнее означает, во-первых, что о предопределении содержания событий со стороны духовного начала можно говорить только в том смысле, что жизнь в мире имеет искупительный, личностный смысл, но отнюдь нельзя считать, что события направлены к достижению некоего высшего состояния этого мира, который, по Шопенгауэру, остается неизменным в своих отрицательных характеристиках; во-вторых, то, что, согласно Шопенгауэру, идеальная структура мира, моральный миропорядок, существует не самостоятельно, вне зависимости от человеческой воли, а сопряжен с ней: его объективность (необходимость и всеобщность) открывается только через «обращение», моральный переворот этой воли, и потому самый уникальный акт такого обращения приобретает бытийную, а не индивидуальную только значимость, означает переворот в самом бытии.
А. А. Чанышев
Настоящее издание Собрания сочинений А. Шопенгауэра открывается первым томом основного произведения мыслителя — «Мир как воля и представление». Шопенгауэр писал еще в период создания своего труда: «У меня под руками, а скорее в моей душе, растет произведение, некая философия, в которой этика и метафизика должны слиться воедино… Произведение растет понемногу и постепенно, как ребенок в утробе матери, и я не знаю, что возникло вначале, что затем… Я обнаруживаю каждое звено, каждый орган, каждую часть подле других, это значит, я пишу, не заботясь о том, каким образом это войдет в состав целого: ведь я знаю, все это возникло из единого основания. Таким образом возникает органическое целое, а только оно и может жить» (Abendroth W. Arthur Schopenhauer in Selbstzeugnissen und Buddokumenten. Leck/Schleswig, 1978. S. 37). Логика построения шопенгауэровской системы представляет собой особый тип целостности мышления, который назван им органическим, так как, по словам самого философа, в его создании каждая часть поддерживает целое настолько же, насколько она сама поддерживается им, и не может быть понята, если заранее не понято целое, — в противоположность архитектоническому целому, в котором одна часть поддерживает другую, но не поддерживается ею; данный тип единства мысли, согласно Шопенгауэру, соответствует задаче символического воспроизведения в философском опыте онтологического единства мира. Задача построения такого рода мировоззренческого опыта и определила, собственно, характер творческого развития мыслителя. Сначала он создает законченный труд, исчерпывающим образом выражающий обретенную им истину, которой он спешит поделиться с миром, — одну-единственную мысль (имеющую различные проекции: гносеологическую, метафизическую, эстетическую и этическую), а затем создает многочисленные дополнения, в том числе и второй том основного произведения.
При жизни Шопенгауэра «Мир как воля и представление» издавался три раза: впервые — в 1819 г. в издательстве Ф. А. Брокгауза в Лейпциге; второе доработанное издание основного произведения (ставшее первым томом одноименного произведения, так как к тому времени был написан второй, дополнительный том) появилось в том же издательстве в 1844 г.; еще раз видоизмененный и расширенный текст был опубликован в 1859 г. в двух томах, и снова у Брокгауза. Шопенгауэр планировал издание пятитомного собрания своих сочинений, в котором первый том «Мира как воли…» должен был составить начальный том издания. Однако доктор Фрауэнштедт (берлинский домашний учитель, один из первых последователей философа и его «евангелист», унаследовавший, согласно завещанию мыслителя, его рукописи, а также права на все посмертные издания) в первом Полном собрании сочинений Шопенгауэра (Arthur Schopenhauers samtliche Werke. In 6 Bde / Hg. von Julius Frauenstadt. — Leipzig: Brockhaus,
469
1873—1874. 2. verbesserte Aufl., 1878) поместил это произведение во втором томе. В дальнейшем Артуром Хюбшером (1897—1985), который с 1936 г. был председателем основанного в 1911 г. Шопенгауэровского общества и издателем, с 1948 г., «Ежегодников» этого общества, на основе фрауэнштедтовского издания было подготовлено первое полностью критически переработанное собрание сочинений Шопенгауэра (Schopenhauer A. Sämtliche Werke / Nach der ersten, von Julius Frauenstädt besorgten Gesamtausgabe neu bearbeitet und hg. von Arthur Hübscher. In 7 Bde. 2. Aufl. — Wiesbaden: Brockhaus, 1946—1950). В этом издании основной труд философа был также помещен во втором томе. Еще ранее, правда, соответствующий авторскому замыслу порядок издания был восстановлен (Arthur Schopenhauers sämtliche Werke. In 5 Bde / Hg. von Eduard Ghesebach. — Leipzig: Insel-Verlag, 1920). И именно такому порядку следует также более позднее критическое издание: Schopenhauer A. Sämtliche Werke. In 5 Bde / Textkritisch bearbeitet und hg. von Wolfgang Frhr. von Löhneysen. — Stuttgart — Wiesbaden: Gotta-Insel Verlag, 1965.
Текст первого тома Собрания сочинений Шопенгауэра публикуется по изданию: Шопенгауэр А. Полное собрание сочинений / В пер. и под ред. Ю. И. Айхенвальда. Т. 1. M., 1900. Сверка произведена Ю. Н. Поповым («Мир как воля и представление». Т. 1, кн. 1—4) и А. А. Чанышевым («Приложение. Критика кантовской философии») по изданию: Schopenhauer A. Werke. In 10 Bde. Bd. 1 — Zurich: Diogenes, 1977. Терминология исходного перевода оставлена, как правило, без изменений.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
1 Согласно Шопенгауэру, метафизикой является любое знание, претендующее на преодоление границ опыта, знание, имеющее дело не с отдельными явлениями, а с опытом в его целокупности. — 4.
2 Королларий (лат.) — термин, означающий некоторое суждение как необходимое, само собой разумеющееся следствие из определенных положений. В данном случае употребляется в переносном смысле. — 6.
3 Имеются в виду работы Канта: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788) и «Критика способности суждения» (1790). — 6.
4 Шопенгауэр использует латинский перевод Упанишад с персидского А. Дюперрона, первый перевод на европейский язык: Oupnek’hat studio Anquetil Duperron. Vol. 1—2. Paris, 1801—1802 (см. об этом: Halbfass W. Indien und Europa: Perspektiven ihrer geistigen Begegnung. Basel; Stuttg., 1979). — 7.
6 Язвительность характеристики философии Г. Якоби вызвана ее некритическим теистическим содержанием. — 8.
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
1 Такая характеристика связана с резко отрицательным отношением Шопенгауэра к «спекулятивной» диалектике Гегеля. — 9.
2 Интеллектуальное созерцание — непосредственное, не нуждающееся в дискурсии познание идеального объекта, что противоречит критической установке кантовской философии. — 11.
470
3 Абсолютное мышление — вероятно, иронический парафраз способа самораскрытия абсолютной идеи в философии Гегеля. — 11.
4 Данная характеристика взглядов Фихте, Шеллинга и Гегеля связана с недоверием к спекулятивной, сверхопытной направленности их мышления, которой Шопенгауэр, считая себя наследником Канта, противопоставляет своеобразный эмпиризм своей метафизики: последняя стремится обнаружить идеальную (смысловую) целостность, «всеединство» как данность реального эстетического и морального опыта. — 11.
5 Калибан — ставшее нарицательным имя персонажа пьесы Шекспира «Буря», уродливого и грубого дикаря. Здесь — в переносном значении: интеллектуальный дикарь. — 11.
6 Имеется в виду критика Беркли и Мальбраншем тезиса о реальности (независимости от сознания) объективного мира. — 13[385].
7 Петрарка. Канцоньере 1, 7. — 15.
8 Речь идет, очевидно, об «абсолюте» (сущности, первопричине и цели всех вещей) как предмете философской спекуляции, имеющей целью подтверждение «истин откровения» — догматов христианского вероучения. — 15.
9 Шопенгауэр имеет в виду близость телеологических схем «спекулятивной теологии» восходящему к иудаистской традиции представлению о Боге как о всемогущем правителе, неуклонно направляющем мир (историю) по предопределенному им пути, к высшему благу; с этой точки зрения, если она последовательно проведена, зло и страдание либо выполняют конструктивную роль, либо являются только видимостью[386]. — 15.
Книга первая
О
мире как представлении
1 Ж. Ж. Руссо. Новая Элоиза V, I. Пер. Н. Немчиновой. — 18.
2 Веданта (санскр.) — конец Вед, учение, опирающееся на Упанишады; система древнеиндийской религиозно-философской мысли, основанная на представлении о достижении в процессе познания тождества абсолютного духовного начала (Брахмана) с индивидуальной душой (Атманом), что предполагает ряд условий: осознание различий между вечным и невечным бытием, отказ от материального воздаяния в этой и будущей жизни, обладание спокойствием духа, отрешенностью, терпением, сосредоточенностью, верой, стремлением к освобождению. — 19.
3 Шопенгауэр имеет в виду то, что вышеозначенная позиция, тезис о неразрывной связи существования и восприятия, объекта и субъекта, позволяет критической философии (исходящей вслед за Кантом из мысли о том, что форма нашего знания есть продукт нашей собственной познавательной активности) избавиться от кантовского дуализма — разрыва между непознаваемой вещью в себе и явлением; если принять указанный тезис, то трансцендентальная идеальность (по Канту, единство нашего сознания, высшее априорное условие возможности познания, основывающегося на синтезе созерцаний чувственности и категорий рассудка) и эмпирическая реальность (мир явлений как результат такого синтеза) будут находиться в отношении корреляции и взаимопрояснения: станет возможным отыскать смыслообразующую, объединяющую их воедино
471
«точку», волю, что в конечном счете позволяет онтологически обосновать противоречие между реальностью и смыслом, жизнью и истиной, необходимостью и свободой. — 19.
4 Вещь в себе — термин, выражающий существование вещей (предметной действительности) самих по себе, безотносительно к тому, какими они являются для нас в нашем познании; другое значение связано с фиксацией следующей принципиальной для Канта идеи: возможности теоретического познания лишь явлений, но не вещи в себе как непознаваемой основы чувственно воспринимаемых и рассудочно мыслимых предметов; третье значение: запредельный для опыта предмет разума — Бог, бессмертие души, мир как целое. Объект в себе — видоизмененный кантовский термин «вещь в себе» — подчеркивает неправомерность, с точки зрения Шопенгауэра, разрыва между субъектом и объектом (отрицательной тенденции кантовской гносеологии). — 20.
5 a priori (лат., «из предшествующего») — знание, предшествующее опыту и независимое от него; термин кантовской философии, означающий в широком смысле все, что относится к условиям возможности опыта, формальным предпосылкам познания: априорные формы чувственности — пространство и время, категории рассудка — субстанция, причинность и т. д. — 20.
6 Закон основания имеет, согласно Шопенгауэру, следующие разновидности: 1) логическое основание, или основание познания; 2) основание физическое, или закон причинности; 3) математическое основание (закон основания бытия) — априорная и пребывающая неизменной связь равновеликих и бескачественных, однородных частей времени (одной после другой) и однородных частей пространства (одной подле другой), определяющая последовательность явлений во времени и их положение в пространстве, — как предмет математики: арифметики (счета временных величин) и геометрии (исследования величин пространственных); 4) моральное основание, сообразно которому каждый человек и каждое животное при вступлении в силу мотива «должны исполнить то действие, которое одно согласовано с их врожденным и неизменным характером». — 21.
7 Выражение вечный поток вещей (в оригинале — «ewiger Fluß der Dinge»), вероятно, восходит к одному из платоновских текстов. Например: «…согласно… Гераклиту … все вещи движутся, словно потоки». — Платон. Теэтет 160 d. — Пер. А. В. Лебедева (Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 209). — 22.
8 Майя (санскр.) — согласно ведийской традиции, способ действия божественной творческой силы, порождающей тварный мир (мир видимости), не являющийся, однако, внутренним свойством самого Бога; иллюзорность воспринимаемого эмпирическим сознанием мира, скрывающего под видимым многообразием свою истинную сущность, преодолевается «подлинным познанием». — 22.
9 Пураны (санскр., «предание») — предания о богах, которые считаются Ведами низших каст. — 22.
10 См.: Кант И. Метафизические начала естествознания. Разд. I. Деф. 1. — 24.
11 Пер. Ф. Ф. Зелинского под. ред. М. Л. Гаспарова и В. Н. Ярхо. — 30.
12 В основу сюжетной коллизии драмы Кальдерона «Жизнь — это сон» (1636) положена ситуация, когда главное действующее лицо, принц Сехизмундо, проснувшись, оказывается в положении узника; возвращенный после выпавших на его долю испытаний в свое прежнее положение, он переживает духовный переворот. Философская символика драмы Кальдерона восходит к древнейшей традиции понимания смерти как пробуждения к действительной жизни. — 30.
472
13 Английский естествоиспытатель Роберт Гук (1635—1703) лишь предвосхитил закон всемирного тяготения Ньютона. Подобно другим современникам Ньютона (И. Бульо и Дж. Борелли), он высказал соображение, что движение планет может быть объяснено действием силы, которая притягивает каждую планету к Солнцу. Ньютон же в «Математических началах натуральной философии» (1687) впервые строго математически обосновал закон всемирного тяготения. — 33.
14 Лавуазье выяснил роль кислорода в процессах горения, окисления металлов и дыхания (1772—1777). — 33.
15 Согласно Гёте («Учение о цвете», 1829), эффект проявления монохроматических цветов есть результат взаимодействия света и тьмы: последняя позволяет нам увидеть реально существующий цвет. К такому выводу Гёте пришел после модификации условий опыта Ньютона по спектральному разложению светового (солнечного) луча при помощи призмы в темной комнате. — 33.
16 Шопенгауэр, по-видимому, излагает центральную идею «философии тождества» Шеллинга (такое название имел определенный период творчества этого мыслителя), наиболее рельефно выраженную в диалоге «Бруно, или О божественном и естественном начале вещей» (1802). — 37.
17 Шопенгауэр указывает на противоречие между философской позицией Фихте в первый период его творчества, наиболее полно отраженной в «Наукоучении», учением «трансцендентального идеализма» — о том, что всякая реальность есть продукт бессознательной деятельности Я (соответственно природа по отношению к этой деятельности — только материал, отчужденно выступающий в качестве внешней действительности; преодолевая это отчуждение, Я возвращается к себе, но никогда не может окончательно совпасть с собой, так как деятельность не может прекратиться) — и более поздней концепцией (после 1800), в рамках которой абсолют — актуальное бытие, Бог; а все, что вне его (природа), предстает в качестве схемы бытия, реконструируемой натурфилософией. Противоречие, в частности, состоит в том, что трансцендентальный идеализм, исключая допущение вещи в себе, все-таки полагал невозможным мыслить природу как завершенное целое, тогда как натурфилософия (умозрительное истолкование природы в качестве актуальной целостности) восстанавливает схему бытия из реальности природных объектов. — 37.
18 Ионийцы — представители возникшей в VI в. до н. э. в ионийских полисах Малой Азии — Милете (Фалес, Анаксимандр и Анаксимен) и Эфесе (Гераклит) древнегреческой философии. — 37.
19 Имеются в виду мыслители XVIII в. — Ламетри, Гельвеций, Дидро, Гольбах, разрабатывавшие механистическую версию материализма; понимали мышление как свойство материи. — 37.
20 Элеаты — одна из школ античной философии (по названию города-колонии Элея на тирренском побережье Италии) конца VI — первой пол. V в. до н. э. Основные представители — Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский. — 38.
21 Пифагорейцы — адепты пифагореизма, направления философской мысли (существовало с V в. до н. э. до эллинистической эпохи включительно; с I в. н. э. — неопифагореизм), которое возникло на основе доктрины основанного Пифагором религиозного союза. Общая особенность — понимание числа (меры) как логически организующего начала, превращающего хаос в космос. — 38.
22 И цзин (кит.) — «Книга перемен», каноническая книга китайской мудрости, основу которой составляют 64 гексаграммы, трактуемые как символическое выражение замкнутой структуры постоянно и циклически изменяющегося мира. — 38.
473
23 Средневековые религиозные философы исходили в своем понимании мира из богословского учения о сотворении мира единым Богом из ничего[387]; учение это опиралось в свою очередь на авторитет Священного Писания. — 38.
24 Антиномия (греч. «противоречие в законе» ) — противоречие между двумя суждениями, каждое из которых считается в равной степени обоснованным. Кант формулирует в «Критике чистого разума» (Трансцендентальная диалектика. Кн. II. Гл. 2. Разд. 2) следующие антиномии, которые возникают при попытке мыслить мир как единое целое: 1) Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве. — Мир не имеет начала во времени и бесконечен в пространстве; 2) Всякая сложная субстанция состоит из простых частей. — Ни одна вещь не состоит из простых частей, и вообще в мире нет ничего простого; 3) Причинность по законам природы недостаточна для объяснения всех явлений. Существует свободная (спонтанная) причинность. — Нет никакой свободы, все совершается в мире только по законам природы; 4) К миру принадлежит безусловно необходимая сущность как его причина. — Нет никакой абсолютно необходимой сущности, ни в мире, ни вне мира, как его причины. — 41[388].
25 Кронос — сын Урана (олицетворение Неба) и Геи (Земли); согласно мифу, оскопил отца по наущению матери. Последовавшее затем прекращение порождения богов-чудовищ означало разрешение первого мирового конфликта, возможность дальнейшей антропологизации богов и социального устроения; но одновременно акт оскопления — космическое преступление, под впечатлением которого Нюкта (Ночь) рождает Обман, Сладострастие, Старость, Смерть, Печаль, Труд, Голод, Забвение, Скорбь, Битвы, Тяжбы, Беззакония. В античности сближение и отождествление имени Кроноса с наименованием времени, Хроносом, было свойственно народной этимологии греков; в римской мифологии Кронос известен под именем Сатурна, который воспринимался как символ неумолимого времени. — 42.
26 Имеется в виду «Наукоучение» Фихте. — 43.
27 См.: Беркли. Три разговора между Гиласом и Филонусом, 2. — 47.
28 Имеется в виду платоновская теория соотношения чувственного образа и умопостигаемого эйдоса[389] (см., например: Платон. Государство VI, 510 в — 511). — 49.
29 Согласно приводимой Кантом в «Критике чистого разума» (Трансцендентальная аналитика, § 10) таблице, охватывающей четыре класса категорий (количества, качества, отношения, модальности), всего таких категорий двенадцать — единство, множество, целокупность, реальность, отрицание и т. д.; они являются условиями возможности априорных синтетических суждений, которые дают новое знание в теоретическом естествознании. — 52.
30 Генерал-бас (непрерывный бас, цифрованный бас) — басовый голос с цифрами, обозначающими созвучия, на основе которого исполнитель строит аккомпанемент. Цифры, стоящие над или под басовой строчкой, указывают на те диатонические интервалы от баса, которые составляют специфику созвучия[390]. Условность записи дает исполнителю (органисту, клавесинисту) свободу в выборе деталей фактуры, т. е. подразумевает элемент импровизации. Пособие по генерал-басу как учению о построении и соединении аккордов частично совпадало с ранними учениями о гармонии. Сочетание в композиции с генерал-басом полифонии и гомофонии характеризует стиль музыкального барокко. — 52.
31 Ж. Ф. Рамо — французский композитор первой половины XVII в.; автор теоретических трудов по гармонии. — 52.
474
32 Металогическим основанием Шопенгауэр называет (1) законы тождества, противоречия, исключенного третьего и (2) закон соответствия содержания суждения «чему-нибудь вне его как его достаточному основанию», представляющие собой «условия всякого мышления»; во втором случае речь идет не только о логике, но и о формах эмпирического познания — об условиях возможности всякого опыта, пространстве, времени, причинности; поэтому металогический — характеристика, относящаяся к выходящему за границы формальной логики исследованию трансцендентальных оснований истинности суждения[391]. — 54.
33 Античная философия изначально была связана с традицией атонального (от греч. «агон», борьба) использования слова в качестве инструмента публичной аргументации в пользу того или иного решения (отсюда — диалог как способ актуального выяснения философской истины, диалектика как умение ставить вопросы и отвечать на них). Кристаллизация теоретико-познавательных и формально-логических проблем, происходившая в упоминаемых Шопенгауэром школах, приводила к формулировке парадоксов, апорий, софизмов, паралогизмов и часто — к субъективизму в их толковании. Все эти тенденции концентрированно выражались в существовании эристики как особого инструментального искусства спора ради спора, безразличного к объективной истине[392]. — 54.
34 Разум — в нем. языке женского рода — die Vernunft[393]. — 58.
35 Контрадикторная противоположность — отношение между противоречивыми суждениями (понятиями), когда они оба вместе не могут быть одновременно ни истинными, ни ложными: одно из них истинно, другое ложно; третьего не может быть. У Шопенгауэра — в переносном смысле: применительно к отношению взаимоисключения между рациональным и чувственным познанием, образующегося в теории из-за расплывчатости самого понятия чувства. — 60.
36 Гёте. Торквато Тассо II, I. — Пер. С. Соловьева. — 64.
37 Гансвурст (нем. «Ганс-колбаса») — комический персонаж немецкого народного театра. — 66.
38 Шиллер И. X. Ф. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М.; Л., 1937. С. 164. — 66.
39 Ср.: Кант И. Критика чистого разума. Трансцендентальная аналитика. Кн. II. Введение. — 70.
40 Паралогизм (греч. «неправильное рассуждение») — логические ошибки, совершаемые непреднамеренно (в отличие от софизма, ошибки, сделанной с намерением ввести кого-нибудь в заблуждение). — 75.
41 Лат. «геометрическим способом», т. е. используя аксиоматически-дедуктивное построение. — 80.
42 Употребляя ставшие крылатыми слова папы Мартина IV (1281—1285), Шопенгауэр иронизирует над ошибочной, на его взгляд, ньютоновской теорией цветов. — 83.
43 ПОНЯТИЯ средневековой схоластики. — 85.
44 Дунс Скот (философ-схоласт второй половины ХIII в.) полагал, что только интеллект извлекает из низшей чувственной способности представления «общую природу» и превращает ее в понятие. — 87.
46 Т. е. системы, связанные с таким пониманием морали, когда нравственный мотив истолковывается как исключительно самоценный, не имеющий никакого «внешнего» содержания — утилитарно-эвдемонистического или теистического (при этом подразумевается, что представление о Боге как чисто внешней, караю-
475
щей и вознаграждающей инстанции противоречит христианской этике, основывающей добродетель на заповеди бескорытной любви Богу и человеку). — 89.
47 Стоическая этика эвдемонистична (от греч. «эвдемония», «хорошее расположение духа»), ориентирована на достижение блаженства через обретение внутренней свободы благодаря мудрости; все остальное рассматривается как «адиафора» (безразличное); этический идеал стоиков — мудрец, достигший «апатии» («бесстрастия») и не зависящий от внешних обстоятельств («автаркия»): мудрец следует бесстрастию природы и любит свой «рок». — 89.
48 Гораций. Послания I, 18, 97. — Пер. Н. Гинзбурга. — 92.
Книга вторая
О
мире как воле
1 Агриппа Неттесгеймский. Послания V, 14. — 94.
2 Этиология (греч.) — учение о причинах. — 95.
3 С точки зрения Канта, поскольку человек живет одновременно в двух мирах — чувственном мире явлений, мире естественной необходимости (человек — вещь среди вещей), и ноуменальном мире (человек — сверхчувственное, подчиненное идеалу и свободное существо), постольку у него — два характера, эмпирический (формируемый окружением) и интеллигибельный, умопостигаемый (присущий ему априори), связь между которыми реализуется в ответственном и вменяемом поведении. Так, ложь по принуждению можно простить, но не оправдать, ибо разум выступает как причина, которая могла и должна была иначе определить поведение человека: «Поступок приписывается интеллигибельному характеру человека; теперь в тот момент, когда он лжет, вина целиком лежит на нем; стало быть, несмотря на все эмпирические условия поступка, разум был совершенно свободен, и поступок должен считаться только следствием упущения со стороны разума» (Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 496). — 104.
5 Данный термин употреблялся в химии и означал способность неодушевленных химических элементов (несоединимых физическими средствами — смешиванием, растиранием и пр.) к притяжению и отталкиванию, к расторжению существующих и образованию новых связей, как будто они наделены волей. Так, по аналогии, эта способность трактовалась вплоть до 60-х гг. XIX в., в частности в работе шведского химика Т. Бергмана «De attractianibus selectivis» («Избирательное сродство», нем. перевод 1772), пока не утвердились окончательно атомно-молекулярные представления. — 116.
6 Упоминание этих имен в одном ряду связано с тем, что основой их философии является представление о том, что в мире нет случайности (беспричинности); поэтому наука о мире — механика (Декарт, Лессаж). — 117.
7 Ангелус Силезиус[394]. Херувимский странник I, 8. — 122.
8 Такое противопоставление вполне оправданно, поскольку Платон гипостазирует и онтологизирует идею, превращая ее в объективную реальность, в «вещь в себе», если воспользоваться кантовской терминологией (идея у Платона — трансцендентальная умопостигаемая форма, существующая отдельно от единичных вещей, которые к ней «причастны», объект достоверного знания); у Канта же идея — конститутивный принцип действия познающего разума, его регулятив и ориентир (ср.: Кант И. Критика чистого разума. Трансцендентальная аналитика. Кн. I. Разд. 1). — 123.
476
9 Суть данного учения, получившего название окказионализм (от лат. occasions — случай, повод) и составлявшего направление в западноевропейской философии XVII в., заключается в том, что материальная причина мысли или волевого акта объявляется совершенно недостаточной и понимается лишь как повод для истинно действующей причины: взаимодействие тела и духа («протяженной» субстанции и субстанции «мыслящей») объясняется как чудо постоянного и прямого божественного вмешательства. — 129.
10 Аристотелевская существенная форма — один из четырех высших «принципов» бытия (наряду с материей, или субстратом, источником всякого движения и благом, или целью процесса становления), а именно «эйдос», или «чтойность», сущность («эссенция»); в отличие от платоновской идеи она не существует самостоятельно помимо множества вещей, а только в их конкретном множестве. — 133.
11 Инь и ян (кит. «темное» и «светлое») — парные понятия-символы древнекитайской мудрости, выражающие дуализм мироустройства: пассивное и активное, мягкое и твердое, внутреннее и внешнее, женское и мужское, земное и небесное, луна и солнце, чет и нечет и т. д. Космогонический аспект учения о инь и Ян характеризует переход от первозданного хаоса к вещной определенности мира; их взаимодействие объясняет процесс изменения, взаимопревращения и слияния вещей, а также миропорядок, устройство всего сущего. — 134.
12 Каббала (древнееврейск. «предание») — основанное на иудаизме учение, основоположения которого сформулированы в написанной на арамейском языке в конце XIII в. в Кастилии «Книги сияния», или «Зогар». — 134.
13 Гёте. Фауст I, 1940 ел. Пер. Н. А. Холодковского. — Enheiresis naturae (сочетание греч. и лат. терминов) — «способ действия природы». — 135.
14 Плавт. Ослы, 493— 495. — 137.
15 Речь идет о кантовской космогонической гипотезе образования планетарной системы из первоначальной «туманности» (облака диффузного вещества) в результате действия центробежной силы («Всеобщая естественная история и теория неба», 1755). Позднее (1796) аналогичную гипотезу выдвинул Лаплас. — 138.
16 Согласно мифу, Ифигения, дочь микенского владыки Агамемнона, должна была по воле последнего стать жертвой во искупление дерзости своего отца, убившего лань Артемиды в ее священной роще и похвалявшегося, что в меткости стрельбы из лука он поспорит с самой владычицей лесов (за что богиня лишила попутного ветра направлявшиеся в Трою корабли предводительствуемых Агамемноном ахейцев). Еще в античности сюжет жертвоприношения Ифигении был использован Лукрецием как свидетельство преступной и нечестивой жестокости религии (см.: Лукреций. О природе вещей. I, 80—101). — 141.
17 Шопенгауэровское сравнение основывается на древнейшей традиции, в рамках которой число (будучи выразителем существа различных музыкальных данностей — интервалов, порядков ступеней в звукорядах, размеров такта и т. д.) связывает музыку с теми или итшми элементами универсально-символического истолкования бытия, в связи с чем появляется возможность понимания музыки как преисполненного глубочайшего метафизического смысла языка — аналога «языка природы». — 142.
18 Телеология природы — учение о целесообразности природных процессов, отвечающее на вопрос, для чего, ради какой цели они осуществляются: учение, согласно которому идеально положенная цель (конечный результат) предопреде-
477
ляет конкретный ход событий. Шопенгауэр употребляет понятие «телеология природы» в кантовском значении, и для него сама по себе бессмысленная, бессознательная природная целесообразность (по Канту, «целесообразность без цели») в конечном счете может быть понята только из уникальной определенности человеческого предназначения — нравственной свободы. Ср.: Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 315—317. — 148.
19 Микрокосм (греч. «малый мир») — категория, соотносительная с парной ей категорией макрокосм (греч. «большой мир»). Концептуальным содержанием этих категорий является отношение подобия между микрокосмом и макрокосмом: если человека рассматривают по аналогии с миром, то это, как правило, ведет к растворению последнего в безличных или сверхличных космических силах и процессах, если наоборот, то сам космос трактуется антропоморфно. Шопенгауэр в данном случае употребляет условное сравнение, апеллируя к философии Фалеса как типологически обобщенному примеру «космологической» интерпретации соотношения микрокосма и макрокосма и к философии Сократа как примеру ее «антропологического» истолкования. Последнее верно в той мере, в какой Сократ следует дельфийской заповеди «познай самого себя». — 149.
Книга третья
О
мире как представлении
2 Слова из древнего орфического стиха, ставшие поговоркой, близкой по смыслу изречению «много званых, а мало избранных» (Мф. 20:16). Эти слова Платон вкладывает в уста Сократа: «…как говорят те, кто сведущ в таинствах, «много тирсоносцев, да мало вакхантов», и «вакханты» здесь, на мой взгляд, не иные кто-либо, а только истинные философы. Одним из них старался стать и я— всю жизнь, всеми силами, ничего не пропуская» (Платон. Федон 69 а. Пер. С. П. Маркиша). — 156.
3 Платон. Государство VII, 535 с. Пер. А. Н. Егунова. — 156.
4 Альберт Великий. Сумма теологии I, 5, 22. — 157.
6 Согласно свидетельству де Прадта, автора книги «История посольства в Великое герцогство Варшавское» (1816), фразу, которая в данном случае приписывается Томасу Пэну (Пейну), часто повторял Наполеон в декабре 1812 г., во время бегства из России. — 160.
7 Байрон. Чайльд Гарольд III, 75. — 162.
8 Имеется в виду постоянное вмешательство олимпийских богов в историю, в дела смертных. — 163.
9 Говоря о колесе времени, Шопенгауэр, очевидно, хочет подчеркнуть рутинную неизменность временно́го порядка: колесо, согласно индоевропейской традиции, — астральный символ, связанный с представлением о движущейся по небу запряженной конями колеснице солнца. — 165.
10 Апперцепция (лат. «восприятие») — возможность восприятия наличного опыта; осознаваемый опыт. Термин введен Лейбницем в значении: осознанное восприятие в отличие от смутных, бессознательных перцепций. — 166.
11 На самом деле: Драйден. Авессалом и Ахитофель I, 163. — 169.
12 Шопенгауэр перечисляет сюжеты древнегреческих мифов, символизирующие неизбывную муку и вечное проклятие. — 174.
478
13 Согласно Эпикуру, цель философии — безмятежность духа («атараксия»), свобода от страха перед смертью и явлениями природы. — 174.
14 Ормузд — греч. имя Ахурмазды (перс, «премудрый владыка») — верховного бога в зороастризме и маздаизме; персонификация небесного свода и доброго начала, ведущего постоянную борьбу с Анхра-Майнью (перс, «враждебный дух»), которого греки называли Ариманом, персонификацией зла и тьмы. — 176.
15 Ср. с кантовской теорией возвышенного: Кант И. Критика способности суждения. Ч. I. Разд. 1. Кн. 2 (§ 23—29). — 181.
16 Пер. Б. Л. Пастернака. — 182.
17 Привходящая форма — термин средневековой схоластики, восходящий к аристотелевскому учению о множестве форм каждого сущего, единство которых обусловлено подчинением высшей, существенной форме; в отличие от последней означает вторичные, несущественные признаки, исчезновение которых не ведет к прекращению бытия вещи. — 186.
18 a posteriori (лат. «из последующего») — знание, получаемое из опыта. — 188.
19 Принцип индивидуации — термин средневековой схоластики; означал постулат онтологически обусловленной раздробленности мира на множество неповторимых индивидов — сходных, но не тождественных. — 189.
20 Гёте. Избирательное сродство I, 6. — 194.
21 Антиципация (лат. «предвосхищение») — способность к предвосхищению, предугадыванию событий. В данном случае — способность проникновения в идеальный смысл явлений. — 195.
22 Лессинг полагал, что античный художник «изображал страдание лишь в той мере, в какой позволяло ему чувство красоты и достоинства». «Применяя сказанное к Лаокоону, — писал он, — мы тотчас найдем объяснение, которое ищем: художник стремился к изображению высшей красоты, возможной в данных условиях, при телесной боли. По своей искажающей силе боль эта несовместима с красотой, и поэтому он должен был ослабить ее; крик он должен был превратить в стон, не потому что крик изобличал бы неблагородство, а потому что он отвратительно искажает лицо» (Лессинг Г. Э. Лаокоон. М., 1957. С. 88—89). — 198.
23 Как полагал Лессинг, «материальные пределы» изобразительного искусства ограничены отображением «одного только момента», и «так как это одно мгновение увековечивается искусством, оно не должно выражать ничего такого, что мыслится лишь как преходящее» (там же. С. 90, 92). — 199.
24 Вергилий. Энеида II, 774. — 199.
25 «Нахождение Моисея» — распространенный библейский сюжет европейской живописи[395] (см.: Исх. 2:10). — 202.
26 Схоластические термины, связанные с проблемой универсалий в средневековой философии. — 205.
27 Гораций. Послания I, 19, 19. Пер. М. Гаспарова. — 206.
28 Вергилий. Энеида I, 118. Пер. С. А. Ошерова под ред. Ф. Петровского. — 206.
29 Изготовленный Гефестом щит Ахиллеса был украшен различными изображениями (см.: Гомер. Илиада XVIII, 480—609). — 208.
30 Согласно церковной традиции, четыре Евангелия принято сравнивать с четырьмя необыкновенными существами из книги пророка Иезекииля (Иез. 1:4—28), подобными человеку, льву, тельцу и орлу. — 209.
479
32 Шопенгауэр имеет в виду мысль Платона об удаленности, оторванности нашего познания от бытия жлж источника истинного знания, об искажении нашего знания текучей действительностью, миром чувственных представлений. — 210.
33 Прозерпина — владычица подземного царства в древнеримской мифологии (то же, что и Персефона, дочь Зевса и Деметры, супруга Аида — в древнегреческой). В гомеровском гимне «К Деметре» рассказывается о Том, что Аид похитил Пероефону, за что ее мать наслала на землю засуху; Зевс повелел вернуть Пероефону обратно, но Аид дал ей отведать граната, чтобы она снова вернулась к нему. Поэтому дочь Деметры треть года находится среди мертвых, а две трети — с матерью; радость матери в это время возвращает земле изобилие. — 210.
34 Фабула романа Бальтазара Грасиана «Критикой» (1651—1657) представляет собой аллегорию жизненной истории Всякого Человека: после выхода из «пещеры» герой вспоминает о доразумном, темном начале своей жизни, затем перед ним раскрывается Театр Мироздания, Красота Природы, он погружается в Стремнину Жизни, знакомится с Состоянием Века, проходя свой путь вплоть до встречи со Свекрухой Жизни (Смертью) и Острова Бессмертия. Об «аллегоризме образотворчества» Грасиана в «Критиконе» см.: Пинский Л. Е. Бальтасар Грасиан и его произведения // Бальтасар Грасиан. Карманный оракул; Критикой. М., 1984. С. 560—565. — 210.
35 Многие мотивы «Критикона» подсказаны «Дон-Кихотом» Сервантеса; однако субъективно-фантастическому, психологическому характеру сатирических аллегорий Сервантеса соответствует логика «объективного безумия» у Грасиана. Свифт же, используя в интересах универсальной сатиры грасиановскую форму «путешествия», отказывается от явной аллегории, заменив сказочную фантастику «Критикона» точными (масштабными) гиперболами. — 210.
36 Шекспир. Гамлет II, 2. Пер. Б. Л. Пастернака. — 211.
37 Изображение рыбы служило эмблемой для ранних христиан: греч. слово «рыба» рассматривалось как аббревиатура формулы «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель»[396]. Это обстоятельство, очевидно, имеет в виду Шопенгауэр. — 211.
38 Шамполион Жан Франсуа (1790—1832) — французский египтолог, дешифровавший древнеегипетское иероглифическое письмо. — 211.
39 Откровение, или Апокалипсис (греч.) — последняя часть Нового Завета, автором которой по традиции считается апостол Иоанн Богослов. — 211.
40 Митра — древнейшее божество индоиранского пантеона, бог небесного света, солнца и правды. Культ Митры (время наиболее широкого распространения в Иране и за его пределами: кон. I тыс. до н. э. — нач. I тыс. н. э.) оставил после себя многочисленные скульптурные изображения. — 211.
41 Гомер. Илиада VIII, 485. Пер. Н. И. Гнедича. — 212.
42 Гёте. Годы учения Вильгельма Манстера. Кн. III. Пер. Б. Л. Пастернака. — 212.
43 Гораций. Об искусстве поэзии, 372. Пер. М. Дмитриева. — 214.
44 Дерзкое соперничество силена Марсия, игравшего на флейте, с Аполлоном-кифаредом окончилось поражением первого и его наказанием: Аполлон содрал с несчастного кожу. — 214.
45 Гёте. Фауст I, 582— 583. — 215.
46 Шиллер. К друзьям, 45—49. — 215.
47 Анакреон (Анакреонт) — древнегреческий поэт, воспевавший размеренное, сознательно культивируемое наслаждение радостями жизни на фоне тягот старо-
480
сти и предчувствия смерти. Ангелус Силезиус (Иоганн Шеффлер) — немецкий поэт-философ религиозно-мистического направления XVII в. — 217.
48 Байрон. Чайльд Гарольд III, 72. Пер. В. Фишера. — 219.
49 Имеется в виду Сэмюэл Джонсон, автор литературно-критических «Жизнеописаний наиболее выдающихся английских поэтов» (1779—1789), в одном из которых, посвященных Шекспиру, он сформулировал упоминаемое Шопенгауэром требование поэтической справедливости. — 221.
50 При помощи данного сравнения подчеркивается «закрытость» джонсоновской позиции, принципиально противоречащей трагическому мироощущению, а именно — свойственному последнему представлению о высоком очищающем (искупительном) значении безвинных страданий; эта закрытость характеризует, согласно Шопенгауэру, и другие упоминаемые в рамках данного сравнения позиции. — 221.
51 Кальдерон. Жизнь — это сон. I, 2. Пер. И. Тыняновой. — 221.
52 Обертоны — призвуки, образующиеся в результате колебаний струны или иного источника звука и входящие в спектр основного музыкального звука (звучат выше последнего). Шопенгауэр имеет в виду только ближайшие обертоны, которые образуют мажорное трезвучие. — 224.
53 См. примеч. 17 на с. 477 наст. изд. — 224.
54 Если придерживаться натурального строя (т. е. математически выраженного высотного соотношения, образующегося на основе опытного наблюдения за колебаниями звука в духовом инструменте, при пении или игре на скрипке), в различных регистрах частотное соотношение тонов одного и того же интервала различается: «до» не совпадает с «до» равномерной темперации. Поэтому с XVII в. октаву принято делить по математической модели на двенадцать равных полутонов по сто центов в каждом. При равномерной темперации разница в 1/9 тона (так называемая пифагорова комма) убирается, октава замыкается, но это достигается ценой потери правильной численной пропорции в соотношении квинт, вместе с которой утрачивается незамкнутость музыкального строя. Темперация — это, по сути, введение абстракции равномерности в музыке, аналогичной ньютонову пространству, социальному равенству и т. п. — 225.
55 Натяжка: на самом деле бас движется как угодно, в том числе и секундой, бас может быть мелодически развит, хотя в рамках тривиальной музыкальной нормы шопенгауэровского времени это соответствовало действительности. Двойной контрапункт — разновидность вертикально подвижного контрапункта, который, в свою очередь, представляет собой разновидность сложного контрапункта (такого сочетания мелодических линий, из которого производится их новое соединение или несколько соединений при помощи изменения их соотношения); двойной контрапункт — двухголосное соединение мелодий, из которого производится сочетание с вертикальной перестановкой соединяемых мелодий (линия баса оказывается линией мелодии и наоборот, линия мелодии — басовой линией), но при этом они продолжают сочетаться гармонично. — 225.
56 Allegro maestoso (итал. «быстро и торжественно») — темповое обозначение, типичное для части симфонии или сонаты. — 227.
57 Adagio (итал. «спокойно», «медленно») — типичное темповое обозначение части симфонии, а также иногда и отдельного инструментального произведения. — 227.
58 Moll (итал. «мягко») — обозначение минорной тональности; Dur (итал. «твердо») — обозначение мажорной тональности. — 227.
481
59 Universalia post rem (лат. «общее после вещей»), universalia ante rem (лат. «общее до вещей»), universalia in re (лат. «общее в вещах») — схоластические термины. — 229.
60 Обозначение, указывающее
на необходимость воспроизведения части музыкального произведения, уже
встречавшейся ранее. — 229.
61 Шопенгауэр, очевидно, имеет в виду свойственное Сократу отождествление знания (ответственного личного мышления) и добродетели — без опоры на традиционное космологическое обоснование. — 230.
62 См. примеч. 54 на с. 481 наст. изд. — 231.
63 Имеется в виду картина Рафаэля «Святая Цецилия со святыми» (ок. 1514—1516). — 252.
Книга четвертая
О
мире как воле
1 Т. е. учение о самоизлиянии (эманация — лат. «истечение»; пер. с греч.) вовне высшего абсолютного принципа («Первоединое» у Плотина), образующего менее совершенные, низшие ступени бытия; объясняет появление зла в мире как недостаток совершенства в низшем. — 235.
2 Вероятно, имеется в виду гностическое учение об отпадении мира от Бога, согласно которому мир предельно удален от божественного первоначала и есть его антипод, но в человеческом познании («гносисе») происходит восстановление единства бытия. — 235.
3 Имеется в виду шеллинговская концепция, комментируя которую Шопенгауэр писал, что Шеллинг «заставил в своем Боге основание отойти от следствия и сделал этот раскол еще прочнее… поучая нас, что «в Боге находится не Он сам, а Его основание, как первооснование, или лучше Безоснование» (Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания. М., 1900. С. 15—16). В целом, по мнению Шопенгауэра, данная концепция является модификацией «онтологического доказательства»: сначала постулируется сущность, а затем от нее заключают к существованию. — 235.
4 Тримурти (санскр. «тройственный образ») — божественная триада Брахмы, Вишну и Шивы: первый — творец мира, второй — его хранитель, третий — разрушитель. Различные секты толкуют Тримурти как три ипостаси единого верховного бога, который обычно получает имя одного из членов триады — преимущественно Вишну и Шивы. — 237.
5 Лингам (санскр. «линга», «знак пола») — обозначение мужского детородного органа как основного символа Шивы. В линге воплощено представление о созидающей энергии этого бога, хотя в индуистской триаде ему отведена преимущественно роль уничтожителя мира и богов в конце каждого «дня» Брахмы. Ожерелье из черепов — один из атрибутов изображений Шивы как «великого аскета». — 237.
6 Имеется в виду разговор от 2 мая 1824 г. — 241.
7 Орк (Оркус) — древнеримское, название царства мертвых, а также бога смерти; соответствует древнегреч. Аиду. — 241.
8 Гёте. Границы человечества. Пер. А. А. Фета. — 244.
9 Речь идет о великой битве на Курукшетре, перед началом которой эпический персонаж Кришна становится колесничим героя Арджуны и являет себя послед-
482
нему как высшее божество (Вишну), возвещая свое откровение «Бхагаватгиту» (Махабхарата VI, 23—40). — 244.
11 Шопенгауэр, очевидно, имеет в виду пафос «героического энтузиазма» Д. Бруно (любовь к бесконечному, возносящую мыслителя, поэта, героя над повседневностью и уподобляющую его божеству), а также родственную данной позиции принадлежащую Спинозе идею «свободной необходимости», связанную с отрицанием поверхностного учения о свободной (произвольной) воле и исходящую из мировоззренчески однотипного по отношению к концепции Бруно учения о бесконечной субстанции как едином основании множества вещей. — 244.
12 «Философское учение о необходимости» (1777), гл. 6 (см.: Английские материалисты XVIII в. Собр. произв.: В 3 т. М., 1968. Т. 3. С. 421—422). — 248.
13 Схоластический термин, восходящий к Августину. — 249.
15 Гёте. Ифигения в Тавриде IV, 5. Пер. Н. Вильмонта. — 252.
16 Магомет (Мухаммад) — основатель ислама, создатель Корана. Описываемый в Коране рай предполагает возможность чувственных наслаждений, в частности плотских утех праведников с девами-гуриями. — 253.
17 Гомер. Илиада XVIII, ИЗ. Пер. Н. И. Гнедича. — 262.
18 Имеется в виду семейная драма царя Давида — его борьба за престол со своим любимым сыном Авессаломом, убившим брата и восставшим против отца (2 Цар. 13—18). В рамках приводимого сравнения Шопенгауэр истолковывает эту историю в том смысле, что главной заботой Давида (не желавшего смерти сына и скорбевшего о его утрате) было все-таки достижение своих «политических» целей, а не судьба Авессалома. — 262.
19 Овидий. Лекарство от любви, 293. Пер. М. Л. Гаспарова. — 263.
20 Квиетив (от лат. quietus, «спокойный», «бездействующий») — термин, означающий мотивацию к полному безволию, неучастию в жизни. — 263.
21 Еккл. 1:18. Когелет (евр. от «кагал», религиозное собрание) — тот, кто исполняет обязанность говорить в собрании, проповедник: в греч. переводе — Екклезиаст, ставшее нарицательным имя, обозначающее автора одноименной книги Ветхого Завета, отождествляемого с царем Соломоном. — 265.
22 Ювенал. Сатиры X, 81. — 268.
23 Гомер. Илиада XXI, 272. Пер. Н. И. Гнедича. — 269.
24 Гомер. Одиссея XI, 620. Пер. В. А. Жуковского. — 269.
25 Гораций. Оды II, 3. Пер. А. Семенова-Тян-Шанского. — 272.
26 Согласно религиозно-философским представлениям древних индийцев, гуна — обозначение трех состояний природной субстанции: раджас-гуна — подвижное, страстное, деятельное начало; сатва-гуна — уравновешенное, благое; — косное, инертное, темное; эти начала, постоянно изменяясь, сменяя одно другое, порождают страдание, радость, безразличие. — 275.
27 Шекспир. Гамлет III, I. — 277.
28 Геродот приводит сентенции Артабана, дяди Ксеркса, заканчивающиеся словами: «…смерть для человека — самое желанное избавление от жизненных невзгод…». Пер. Г. Стратановского под ред. Н. Мещерского. — 277.
29 См.: Данте. Ад ХХХШ, 13—76. — 278.
30 Лейбниц. Теодицея 1, 8.— 278.
31 Адам, с которым Данте беседует на «восьмом небе». Рай XXVI, 100—142. — 278.
483
32 Т. е., согласно брахманистской традиции, достигшие четвертой степени совершенства (санскр. «саньяса»), живущие подаянием, без одежды, не имея собственности и т. п., что ведет к смерти, разрывающей цепь рождений. — 279.
33 Парки — богини судьбы в римской мифологии: Нона, Децима (покровительствовавшая рождению ребенка) и Мора (от mors, «смерть»). Отождествлялись с греч. Мойрами, прядущими и обрезающими нить жизни. — 281.
34 Гёте. Торжество чувствительности IV. — 281.
35 Эрос (греч. «(сильное) желание», «любовь») — бог — персонификация любви. Одновременно — одно из космогонических и теогонических первоначал наряду с Хаосом, Геей, Тартаром. — 282.
36 Amor (лат.) — то же, что и греч. Эрос. Понимание параллели с Майей требует отсылки к поэме Парменида «О природе": во второй ее части Эрос порождает мир видимости. — 282.
37 Фаллос — божество производительных сил природы в античной мифологии[397]. — 282.
38 Имеется в виду книга Ларошфуко «Максимы и моральные размышления» (1665). — 284.
39 Эрида — персонификация раздора в античной мифологии; одна из первичных космогонических сил, дочь Ночи, внучка Хаоса. — 285.
40 Законы Ману — приписываемый мифическому прародителю людей, Ману (санскр. «человек»), сборник предписаний с правилами поведения индийца в соответствии с религиозными догматами брахманизма; содержит также наставления по управлению государством и судопроизводству. — 287.
41 Под естественным правом понимают идею наличия некоторых прав, норм и принципов, продиктованных самой природой человека — и потому универсальных и неотчуждаемых. Эта идея восходит к античности и средневековью; наиболее интенсивно эксплуатировалась в XVIII в.; стала основой американской «Декларации независимости» (1776) и французской «Декларации прав гражданина и человека» (1789). — 291.
42 См.: Платон. Государство II, 358 с. — 359 с. — 293.
43 См.: Гоббс. О гражданине V, 9. — 295.
44 См.: Цицерон. О законах III, 3, 8. — 295.
45 Втор. 32, 35. Этот текст истолковывается следующим образом: праведный не мстит за себя, но, уповая на Бога, он передает ему отмщение за попранную правду. — 297.
46 Ср. с одной из формулировок кантовского категорического императива: «…поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству» (Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 4, ч. 1. С. 270). — 298.
47 Ср.: «Das Marchen v
48 Дважды рожденными «считаются брахманы (жрецы), кшатрии (воины) и вайшьи (земледельцы, ремесленники и торговцы): второе рождение — обряд посвящения («упанаяна»), который проходят только те, кто принадлежит к данным кастам. — 303.
49 Формула, означающая единство Атмана и Брахмана. — 303.
50 Шопенгауэр имеет в виду учения о сансаре (перерождении) и карме (жребии): перерождение возможно не только в образе человека, но и бога, и животного; характер нового рождения определяется кармой — суммой всех совершенных поступков и их последствий; и только тот не родится вновь, кто не запятнан. В настоящее время шопенгауэровская интерпретация учений о сансаре и карме
484
как мифологическом, морально-практическом отображении некоей глубинной сути ведийской мудрости считается неправомерной: такое противопоставление не имеет смысла. — 303.
51 Лат. пер. из «Чхандогья Упанишада» (VIII, 15). — 304.
52 Согласно буддистским представлениям, путь спасения открыт для любого, вне зависимости от его кастовой принадлежности. — 304.
53 Платон воспринял учение о переселении душ (как философский миф) из пифагорейской традиции (см.: Государство X, 614—621d). Пифагор, согласно античным биографическим свидетельствам, в юности совершил путешествие на Восток, в том числе и в Египет. — 304.
54 Гернгутеры — протестантская секта, основная идея которой — непротивление злу насилием. Шопенгауэр, очевидно, имеет в виду родственность непротивленческой идеи гернгутеров древнейшему индуистскому принципу воздержания от нанесения вреда живому (ахинса). — 304.
55 Возможно, имеется в виду космогонический гимн из Ригведы (X, 129), согласно которому первичное состояние сущего — Единое, в котором нет ни сущего, ни не-сущего. — 304.
56 Т. е. вкладывает в понятие правосудия (справедливости) двойной смысл — правовой и этико-метафизический одновременно. — 305.
57 «Определение, которое Шопенгауэр дает ниже понятию gut, яснее для русского читателя, чем для немецкого, так как первый обладает синонимами добрый и хороший; оттого на этих страницах мы передаем немецкое gut не однообразно, а то одним, то другим из названных русских слов, — смотря по оттенку мысли». — Примеч. Ю. Айхенвальда. — 307.
58 Summum bonum— термин патристики и схоластики. — 309.
59 «Телос» (греч. «цель») — термин античной философии, обозначающий предназначение отдельных вещей, человека и мира в целом. — 309.
60 Схоластический термин, возникший на основе аристотелевского учения о целевой причине; высшее благо как целевая причина. — 309.
61 Т. е. совершение церковных таинств. — 314.
62 Согласно древнегреческому мифу, Фиест ел мясо собственных детей, поданное ему его братом Атреем в отместку за то, что он соблазнил жену последнего. — 318.
63 «Агапе» (греч.) — «жертвенная, братская» любовь; «каритас» (лат.) — сострадательная любовь-жалость; и первая и вторая включают в себя элемент подлинного бескорыстия; поэтому их синонимичное объединение возможно в рамках противопоставления «эросу» — любви-страсти. — 319.
64 Pieta (итал.) — милосердие как слияние двух понятий, самозабвенной любви-сострадания и сознательной любви-верности (благочестивой преданности); образ скорбящей Божьей Матери. — 320.
65 Петрарка. Канцоньере, 21. — 321.
66 В русском синодальном издании: «…удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19, 24). — 323.
67 Ангелус Силезиус. Херувимский странник I, 275. — 324.
68 Будда — имеется в виду основатель буддизма, индийский принц Сидхадха Гаутама (Шакьямуни — «мудрец (из племени) Шакья»; 623—543 или 560—480 до н. э.). Бодхисатва — тот, кто принял решение стать буддой (просветленным); стремящийся выйти из бесконечной цепи перерождений (сансары) и спасти все живые существа от страданий. — 324.
485
69 Спиноза. Этика V, теор. 42, схол. — 327.
70 Саманы (на языке пали) — бродячие отшельники. — 327.
71 Святой Франциск Ассизский (Джованни Бернардоне, 1182—1226) — проповедник и поэт, основатель нищенствующего братства миноритов («меньших братьев»), образованного в 1207—1209 гг., впоследствии — орден францисканцев[399]. — 327.
72 Святой Бонавентура (Джованни Фиданца, 1221—1274) — генерал ордена францисканцев (с 1273), первый теолог-францисканец, один из крупнейших представителей поздней схоластики. — 327.
74 Очевидно, Шопенгауэр имеет в виду неприемлемость для христианской ортодоксии ряда идей Майстера Экхарта, в частности положения о том, что богопознание возможно благодаря наличию в самом человеке несотворенной и единосущной Богу «искорки»; отрешаясь от своего я и соединяясь с божественным ничто, человеческая душа становится орудием вечного порождения Богом самого себя. — 329.
75 Самому новозаветному вероучению свойственно противопоставление Нового Завета Ветхому, однако не абсолютное, как у Шопенгауэра. — 330.
76 Имеется в виду история любви Петрарки к героине его сонетов Лауре, поэтически отождествляемой с Дафной: согласно легенде, преследуемая влюбленным Аполлоном, Дафна взмолилась о помощи, и боги превратили ее в лавровое дерево, которое тщетно обнимал Аполлон, сделавший отныне лавр своим священным растением. — 337.
77 Шопенгауэр, говоря о благодати как о познании, не искажает религиозного понимания данного термина. — 343.
78 Докеты — одна из раннехристианских гностических сект, считавших телесное рождение, существование и особенно смерть Христа лишь кажущимися («докео», греч. «казаться»), понимали Христа как космическое существо и доказывали невозможность его воплощения в человеке Иисусе. — 344.
79 Тертуллиан (Квинт Септимий Флоренс, ок. 160 — после 220) — раннехристианский писатель, представитель латиноязычной патристики; защищал тезис о непостижимости для человеческого разума богооткровенных истин. — 344.
80 Согласно Пелагию, человек в силу присущей ему свободы воли способен к достижению спасения самостоятельно, без содействия Божественной благодати (тем самым фактически отвергался догмат о первородном грехе), и Божественное предопределение есть предзнание будущих событий, но не вмешательство в них. Учение Августина о предопределении было направлено против пелагианства: Августин утверждал, что Богом предызбраны праведники, которые спасутся («община святых»), что человек без помощи Бога способен только на грех. Впоследствии это учение оказало влияние на Лютера. — 344.
81 Лютер, в частности, пишет: «Избранные же благочестивые исправятся через Дух Святой, а прочие погибнут неисправленные. Ведь и Августин не говорит, что ни у кого не будут или, наоборот, что у всех добрые дела будут вознаграждены, а говорит, что некоторые будут вознаграждены, значит, все-таки будут такие, которые исправят свою жизнь»; «Если бы я мог хоть каким-нибудь образом уразуметь, как это Бог милосердный и справедливый являет нам столько гнева и несправедливости, то не было бы нужды в вере. Ныне, когда понять этого нельзя, как раз есть место для обучения вере, и это следует проповедовать и возвещать. А именно то, что когда Бог убивает, то смертью Он учит вере в жизнь» (Лютер М. О рабстве воли // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. С. 327—328, 330). — 345.
486
82 Ср. примеч. 9 на с. 477 наст. изд. — 345.
83 Платон. Софист 258 d. Пер. С. А. Ананьина. — 348.
84 Имеется в виду объяснение Эмпедоклом ощущений принципом подобия органа и объекта ощущения. — 348.
85 Речь идет о Брахмане — высшей метафизической реальности, безличном начале, в котором все возникает, существует и продолжает свое существование; сам же он — вне времени и пространства, вне причинно-следственных отношений, бескачествен и неопределим, что характеризуется при помощи отрицательных определений: непознаваемый, неизменяемый, безначальный, бесконечный и т. д. — 349.
Приложение
Критика
кантовской философии
1 Вольтер. Век Людовика XIV, гл. 32. — 350.
2 См. примеч. 2 на с. 472 наст. изд. — 353.
3 См. примеч. 1, 4 на с. 472 наст. изд. — 353.
4 См. примеч. 9 на с. 472 наст. изд. — 353.
5 Ср. примеч. 3, 4 на с. 473 наст. изд. — 355.
6 Кантовская критика онтологического и космологического доказательств содержится в «Критике чистого разума» («Трансцендентальная диалектика», кн. 2, гл. 3, разд. 4—5). Кант следующим образом подытоживает свою критику: «Идеал высшей сущности есть не что иное, как регулятивный принцип разума, требующий, чтобы разум рассматривал все связи в мире так, как если бы они возникали из вседовлеющей необходимой причины, дабы обосновывать на ней правило систематического и по всеобщим законам необходимого единства в объяснении этих связей; в этом идеале не содержится утверждения о самом по себе необходимого существования. Однако посредством трансцендентальной подмены мы неизбежно также представляем себе этот формальный принцип как конститутивный и мыслим это единство, гипостазируя его» (Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 536). — 355.
7 Суарес Франсиско (1548—1617) — испанский теолог и философ, представитель поздней схоластики. Основное его философское произведение «Метафизические рассуждения» (1597) было широко известно и оказало влияние на Декарта и Лейбница. — 356.
8 Гёте. Фауст I, 287—290. Пер. Б. Пастернака. — 357.
9 Кант показал, что предметную область рациональной психологии и спекулятивной теологии образуют такие надэмпирические понятия, или идеи чистого разума, как душа (я как мыслящее существо) и Бог (безусловно необходимое, высшее существо). Эти идеи неправомерно субстантивируются и гипостазируются в результате возникновения трансцендентальной иллюзии. Иными словами, разум непроизвольно конструирует конкретное содержание понятий Бога и души, хотя в границах возможного опыта не существует «объектов», соответствующих этому содержанию, — экстраполируя схемы, применяемые в доступных для нас эмпирических границах и следуя своей «потребности» абсолютного завершения антиномичного опыта до целого («…мы от чего-то известного нам заключаем к чему-то другому, о чем у нас нет никакого понятия, но чему тем не менее из-за неизбежной видимости мы приписываем объективную реальность» (Кант И. Соч. Т. 3. С. 367). — 357.
487
10 Эвдемонизм (от греч. «эвдемония», буквально «хорошее расположение духа») — такая позиция в этике, согласно которой целью морали является счастье (блаженство). — 358.
11 Гораций. Послания I, 1, 32. Пер. Н. Гинцбурга. — 361.
13 Гёте. Фауст I, 2563—2566. Пер. Б. Пастернака. — 362.
14 См.: Кант И. Соч. Т. 3. С. 168. — 362.
15 Первое издание «Критики чистого разума» появилось в 1781 г.; в 1787 г. вышло второе, переработанное издание; последующие три издания не подвергались модификации. Шопенгауэр, говоря о «розенкранцевском издании», цитирует по изданию: Kant I. Sammtliche Werke. In 12 Bde. Leipzig, 1838—1842. — 364.
16 Под металогическим основанием суждения Шопенгауэр имеет в виду законы тождества, противоречия, исключенного третьего и закон соответствия содержания суждения «чему-нибудь вне его, как его достаточному основанию», представляющие собой «условия всякого мышления» (см. также примеч. 32 на с. 475 наст. изд.). — 364.
17 См. примеч. 16 (выше). — 383.
18 На утвердительные и отрицательные суждения делятся по качеству связки. Бесконечное суждение — название одного из видов суждения у Канта, характеризуемого им как бесконечное по своему логическому объему; в такого рода суждении отрицание отнесено к сказуемому, а не помещено в связке. В качестве примера бесконечного суждения Кант приводит высказывание «душа есть нечто несмертное», характеризуя его следующим образом: «…по своей логической форме оно действительно имеет утвердительный характер, потому что я включаю душу в неограниченный объем несмертных существ» (Кант И. Соч. Т. 3. С. 169). — 384.
19 В гипотетическом суждении основание и следствие соединяются при помощи связки «если… то». Кант приводит следующий пример такого суждения: «полная справедливость существует и неисправимый злодей будет наказан» (Кант И. Соч. Т. 3. С. 170). — 384.
20 См. примеч. 6 на с. 472 наст. изд. — 384.
21 Категорическое суждение — общеутвердительное и общеотрицательное суждение. — 385.
22 Дизъюнктивное (или разделительное) суждение — сложное суждение, в котором логической связкой «или» связано несколько суждений, отображающих различные признаки одного предмета. Кант приводит следующий пример: «…мир существует или благодаря слепому случаю, или благодаря внутренней необходимости, или благодаря внешней причине» (Кант И. Соч. Т. 3. С. 170). — 386.
23 Аристотель. Метафизика II, 3. Пер. А. В. Кубицкого. — 389.
24 Шопенгауэр неточно употребляет понятие контрадикторной противоположности, желая сказать, что понятия «случайность» и «необходимость» являются контрадикторными (от лат. contradiktorus, противоречащий): контрадикторные понятия — это такие несовместимые понятия, которые нельзя одновременно и в одном и том же отношении применять к одному и тому же предмету; контрадикторной же противоположностью в формальной логике называется сопоставление общеутвердительного и частноотрицательного или общеотрицательного и частноутвердительного суждений (одно из них истинно, другое ложно, третьего не дано). — 390.
25 Аподиктическими Кант (см.: Кант И. Соч. Т. 3. С. 171) называет суждения, в которых утверждение или отрицание рассматривается как необходимое, но не
488
как возможное (произвольное — проблематическое суждение) или как действительное (истинное — ассерторическое суждение). — 393.
26 Т. е. посылки, представляющей собой ассерторическое суждение (суждение действительности) — констатацию наличия или отсутствия у предмета того или иного признака. — 393.
27 В русском переводе «Первой аналитики» гл. 23 кн. I имеет иной подзаголовок. См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 2. С. 166. — 396.
28 См. примеч. 8, 10 на с. 476—477 наст. изд. — 402.
29 Куно Фишер, комментируя данное место, замечает: «Человеческий разум мыслит категориями, даже если язык по своей структуре не в состоянии выражать их грамматически. Так бывает в не имеющих флексий и изолирующих (односложных) языках, которые ставят друг подле друга корни без изменения и различия частей речи выражают интонацией; таков, например, китайский язык». Шопенгауэр, по его словам, «кажется, вообще не имел никакого понятия о сравнительном языкознании, хотя эпохальные исследования Бонда предшествовали его основному произведению» {Фишер К. История новой философии. Т. И. Артур Шопенгауэр. М., 1896. С. 465). — 403.
30 Спиноза. Этика I, 3. — 408.
31 Шиллер. Смерть Валленштейна II, 3. — Пер. Каролины Павловой. — 408.
32 Суда (что может означать «долговременная постройка») — название самого крупного греческого лексикона X в., последнего сборника античной литературы, содержащего сведения о языке, толкования терминов, биографические данные, цитаты и т. д. — 410.
33 Демиург (греч. demiurgos — ремесленник, мастер, строитель) — термин, введенный Платоном («Тимей» 28 с). Как творец (отец) космоса на основе вечного и неизменного образца, Демиург отличен от сотворившего, согласно христианскому вероучению, мир из ничего Бога тем, что творческий акт первого направлен на со-вечную ему материю. — 430.
34 Физико-теологическое доказательство, согласно Канту, опирается на «принцип, согласно которому механизм природы подчинен архитектонике разумного творца мира» (Кант И. Соч. М., 1966. Т. 5. С. 471). — 431.
35 Петроний. Фрагменты 27, 1. — 432.
36 Кабанис Пьер Жан Жорж (1757—1808) — французский философ, врач. Утверждал, что мышление — такой же продукт мозга, как секреция поджелудочной железы или печени. Флуранс Пьер Жан Мари (1794—1867) — французский физиолог и врач. Исследовал функции полушарий мозга и мозжечка; установил наличие и локализацию центра дыхания. Холл Маршалл (1790—1857) — английский врач, автор работ по рефлексологии и заболеваниям нервной системы. Белл Чарлз (1774—1842) — английский анатом, физиолог и хирург, открыл названный впоследствии его именем закон, согласно которому передние корешки спинномозговых нервов содержат двигательные, задние — чувствительные волокна. — 433.
37 См.: Аристотель. Политика 1333 а 25. — 434.
38 Приведенное Шопенгауэром свидетельство Стобея (философа V в. н. э., составителя и издателя учебного пособия, «Антологии», куда вошли тексты почти 500 греческих поэтов, прозаиков и философов) можно трактовать иначе: перипатетики следуют в данном случае свойственному Аристотелю (Никомахова этика 1103 а 3—7) различению между этическими добродетелями (способностью к практическому действию, основанной на упражнении, формировании воли и характера) и добродетелями дианоэтическими (интеллектуальными способностями,
489
знанием и мудростью). Другое дело, что этические добродетели приобретены трудом самовоспитания и потому похвальны в нравственном смысле, относятся к нашей нравственной доблести, что, впрочем, не исключает моральной значимости добродетелей интеллектуальных. — 436.
39 Овидий. Метаморфозы VII, 20. — 437.
40 Гораций. Послания I, 6, 1. — 438.
41 Разумное начало души, по Платону, есть «способность рассуждать». См.: Государство IV, 439 cd (Платон. Соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 3, ч. 1. С. 233). — 439.
42 Гораций. Беседы I, 3, 67. — 443.
43 См. примеч. 38 на с. 475 наст. изд. — 444.
Указатель
имен1
Абендрот В. — 452, 453, 455, 456
Августин Блаженный — 120, 178, 329, 344, 345, 356
Агриппа Менений — 210
Алкиной — 186
Альфьери В. — 168, 170
Альциат — 209
Анакреон — 217
Анаксагор — 402
Ангелус Силезиус — 122, 217, 324
Ансельм Кентерберийский — 428
Антисфен — 89
Апеллес — 344
Аристарх Самосский — 354
Аристотель — 10, 55, 76, 106, 136, 165, 169,186,226, 251, 282, 295, 361, 389, 392, 393, 402, 418, 419, 421,431,434, 436, 447, 449
Аристофан — 416
Арно А. — 345
Асмус — см. Клаудиус М.
Байрон Дж. — 161, 170, 219, 455
Баумгартен А. Г. — 447
Бауэр Б. — 456
Бахман К. Фр. — 432
Беатриче — 278
Бейль П. — 341, 345
Белл Ч. — 433
Беллори Дж. П. — 208
Бёме Я. — 136, 193, 264
Берг Ф. — 386
Беркли Дж. — 13, 19, 47, 357, 366,
367, 374, 376
Бёрк Э. — 447
Боутервек Ф. — 156
Брокгауз Ф. А. — 455
Бруно Дж. — 37, 244, 319, 356, 418
Будда (Гаутама Сидтхартха) — 324, 325, 327
Буль Дж. — 156
Бэкон Ф. — 85, 86, 103, 432
Бюффон Ж. — 35
Вагнер Р. — 456
Венцль — 124
Вергилий — 198, 200
Вернер З. — 453
Верфт Ван дер — 63
Виланд К. М. — 169, 453
Вилькинсон Г. — 128
Винкельман И. И. — 196— 198, 200,
209, 215, 447
Винкельрид А. — 319, 434
Вольтер — 221, 350, 450
Вольф X. — 87,392,405,409,413,429,454
Гайдн И. — 229
Галиньяни — 137
Галль Ф. Й. — 453
Гарди С. — 327
Гегель Г. В. Ф. — 11, 353, 362, 368, 455, 457, 467
Гельвеций К. — 195
Гераклит Эфесский — 22
Гердер И. Г. — 49, 447
Геродот — 278
Гесиод — 282
Гёте И. В. — 3, 15, 33, 168,170,172, 194, 199, 200, 210, 218, 241, 244, 281,
491
328, 334, 351, 353, 357, 362, 447, 453— 455
Гийон Ж. M. Б. — 327, 332
Гикет — 354
Гиппий — 16
Гирт А. — 199
Гоббс Т. — 29, 240, 260, 284, 292, 295, 298
Гомер — 163, 200, 210, 212, 219
Гораций— 169, 272,438
Горгий — 16, 299
Гоцци К. — 163
Грасиан Б. — 210
Гримстоун — 128
Гук Р. — 33
Гуфеланд Г. — 341
Д’Азир Ф. — 124
Данте Алигьери — 176, 278
Декарт (Картезий) Р. — 19, 117, 132, 251, 256, 356, 357, 361, 364,428
Демокрит — 37, 117, 169, 432, 438, 449
Деннер Б. — 63
Деций Мус — 319
Джонс В. — 19, 55
Джонсон С. — 221
Диоген Лаэртий — 91, 112, 123
Диоген Синопский — 112
Диодор — 394
Дуне Скот И. — 87
Дюперрон А. — 233, 330
Евклид — 59, 68, 74— 78, 168
Еврипид — 221, 300
Евсевий — 410
Жан Поль (Рихтер И. П. Ф.) — 362
Зенон Элейский — 91, 251
Зульцер И. Г. — 439
Изабелла (принцесса) — 435
Кабанис П. Ж. Ж. — 433
Каллисфен — 55
Кальдерон П. — 30, 221, 303
Камерарий И. — 209
Канне И. А. — 327
Кант И. — 6, 7, 9, 13— 15, 19— 22, 24— 26, 29, 41, 43, 47, 52, 66, 69, 72, 76, 81, 86, 88, 89, 97, 104, 114— 115, 123, 126, 133, 138, 142, 144, 145, 153— 157, 177, 181, 233— 235, 248, 250, 286, 287, 294, 304, 320, 347, 351— 386, 389, 391, 392, 396-403, 405, 407— 416, 418— 434, 439— 450, 454, 457, 467
Карраччи А. — 207, 208
Кембл — 200
Кеплер И. — 71, 72, 76, 103
Кизевегтер И. Г. К. X. — 373
Кларк С. — 345, 429
Клаудиус М. — 335, 336, 338, 343
Клеанф — 91,430
Клейст Э. фон — 210
Клеттенберг С. К. — 328
Климент Александрийский — 281, 410, 438
Клопрот фон — 330
Кодр — 319
Козак К. Р. — 77
Кольбрук Г. Т. — 324, 325
Коперник Н. — 354
Кориолан — 435
Корнель П. — 222
Корреджо А. — 207, 208, 349
Кристина А. — 290
Ксенофонт — 195
Ксеркс — 244
Кювье Ж. — 124
Лавуазье А. Л. — 33
Лактанций — 410
Ламарк Ж. Б. — 132
Ламберт И. Г. — 51
Лаплас П. С. — 138
Ларошфуко Ф. — 284
Лафатер И. К. — 211
Лейбниц Г. В. — 47, 87, 156, 223, 230, 345, 355, 400, 401, 429, 430, 439
Леонид— 319
Лесаж А. Р. — 117
Лессинг Г. Э. — 198, 199, 358, 447
Ливии Тит — 328
Лингард — 341
Локк Дж. - 47, 352, 353, 400, 401, 439
Лукан О. — 420
492
Лукреций Кар — 267, 272, 274
Луллий Р. — 335
Людовик XV — 456
Лютер М. — 329, 345, 346, 442
Магомет — 221, 253
Макиавелли Н. — 435
Мальбранш Н. — 13, 128, 129, 343, 345, 357
Мейстер И. К. Ф. — 446
Меккель — 132
Мендельсон М. — 354
Метродор — 418
Монтень М. де — 306
Нассе X. Ф. — 341
Ницше Ф. — 452, 458
Нумений — 410
Ньютон И. — 33, 57, 117, 121, 133
Овидий — 263
Осиандер Ф. Б. — 112
Оссиан — 163, 219
Оуэн Р. — 432
Парменид — 75, 106, 282
Паскаль Б. — 316
Пейн Т. — 160
Петрарка Ф. — 15, 17, 321, 337
Петроний — 432
Петтигрю — 128
Пиза К. — 454
Пиндар — 30
Пиррон — 75, 402
Пифагор — 71, 74, 77, 230, 304
Платон — 7, 10, 22, 30, 42, 55, 69, 75, 82, 85, 89, 107, 122, 123, 152— 158, 162, 165, 169, 186— 188, 204, 226, 233, 235, 245, 270, 282, 293, 299, 304, 336, 348, 351, 353, 354, 356, 380, 402, 410, 411, 413, 439, 441, 442, 444, 454
Плиний — 4
Плуке Г. — 51
Плутарх — 89, 328, 410
Польеде — 327, 330, 417
Поп А. — 169
Пристли Дж. — 248, 419
Прокл — 76, 282
Протагор — 299
Пуссен Н. — 207
Пуфендорф С. — 298
Пфейфер Ф. — 324, 329
Рамо Ж. Ф. — 52
Ранее Д. (аббат) — 335
Расин Ж. — 168
Рафаэль — 200, 201, 232, 349
Регул — 319
Рейль И. X. — 105
Рейсдал Я. — 175
Рейтц — 327
Робеспьер М. — 311
Розенкранц И. К. Ф. — 25, 144, 248, 366, 443
Россини Дж. — 228
Руге А. — 456
Руссо Ж. Ж. — 18, 170, 230, 436
Секст Эмпирик — 55, 75, 230, 402, 430
Сенека — 23, 64, 169, 252, 256, 299, 444
Сервантес М. — 210
Симплиций — 449
Сократ — 149, 186, 195, 230, 319, 404,416
Софокл — 30, 200, 221
Спиноза Б. — 22, 38, 80, 85, 87, 89, 120, 160, 244, 251, 256, 313, 320, 327, 356, 359, 401, 425
Стобей И. — 89, 91, 251, 300, 333, 418, 436
Страбон — 438
Суарес Ф. — 68, 109, 118, 141, 356, 411
Таулер И. — 329, 331
Теннеман В. Г. — 59, 356
Терстеген Г. — 327
Тертуллиан — 344
Тифтрунк И. — 373
Тишбейн Н. Г. — 265
Трембли — 137
Трозинер — 452
Уилсон Г. — 325
Уфам Э. — 408
Фалес — 37, 149
Федер И. Г. Г. — 399
493
Фейербах А. Р. фон — 298
Фейербах Л. — 456
Фенелон — 329
Фернов К. Л. — 199, 453
Филипп II — 435
Филипп Нери (св.) — 328
Филолай — 354
Фихте И. Г. — 11, 37, 42, 43, 118, 362,
368, 454, 457, 467
Флуранс П. Ж. М. — 433
Фосс — 218
Франциск Ассизский — 327
Фридрих Великий — 433
Хауттюйн — 341
ХладниЭ. — 231
Ховитт В. — 137
ХоллМ. — 112,433
Холтон — 128
Хоум — 447
Хрисипп — 90, 91, 258, 394
Хюбшер А. — 457
Хютнер — 330
Цецилия (св.) — 200, 232
Циммерман И. Г. — 341
Цицерон — 90, 91, 169, 258, 394, 436— 439
Челлини Б. — 336
Шампольон Ж. Ф. — 211
Шатен — 148
Швейцер А. — 457
Шекспир У. — 30, 195, 221, 336
Шеллинг Ф. В. Й. — 11, 362, 368, 422, 457, 467
Шёманн Г. Ф. — 282
Шиллер Ф. — 215, 444
Шлейермахер Ф. — 59, 454
Шмидт И. Я. — 349
Шопенгауэр Адель — 455
Шопенгауэр А. — 452— 468
Шопенгауэр Г. — 452, 463
Шопенгауэр И. — 452, 453
Шталь Г. Э. — 57
Штерн С. — 404
Штраус Д. — 456
Шульце Г. Э. — 367, 369, 386, 399
Эйлер Л. — 51, 120, 121
Эйхель И. — 410
Эккерман И. П. — 241
Экхарт (Майсгер Экхарт) И. — 324, 329
Эльджин-и-Кинкардин Т. Б. — 192
Эмпедокл — 136, 195, 348
Эпиктет — 89, 90, 256
Эпикур — 37, 40, 432, 449, 462
Юлиан — 235
Юм Д. — 26, 27, 49, 72, 353, 430— 432, 449
Якоби Ф. Г. — 8, 156
Составитель П. П. Апрышко
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие к первому изданию 4
Предисловие ко второму изданию 8
Предисловие к третьему изданию 17
Книга первая
О мире как представлении. Первое размышление: представление, подчиненное закону основания: объект опыта и науки 18
Книга вторая
О мире как воле. Первое размышление: объективация воли 94
Книга третья
О мире как представлении. Второе размышление: представление, независимое от закона основания: платоновская идея: объект искусства 152
Книга четвертая
О мире как воле. Второе размышление: утверждение и отрицание воли к жизни при достигнутом самопознании 233
Приложение
Критика кантовской философии 350
А. А. Чанышев. Учение А. Шопенгауэра о мире, человеке и основе морали 452
Примечания 469
Указатель имен 491
495
АРТУР ШОПЕНГАУЭР
Собрание сочинений в шести томах
Том
первый
Заведующий редакцией М.
Беляев
Ведущий редактор Л.
Апрышко
Редактор Ж. Крючкова
Художественный редактор Е.
Андрусенко
Технический редактор О.
Прохорова
Корректор Н. Антонова
ЛР № 071673 от 01.06.98 г. ЛР
№ 010273 от 10.12.97 г.
Изд. № 0599138. Подписано в
печать 30.03.99 г.
Гарнитура Тайме. Формат
60×901/16
Печать офсетная. Усл. печ. л.
31,0.
Уч.-изд. л. 38,1. Заказ №
586.
ТЕРРА— Книжный клуб.
113093, Москва, ул. Щипок, 2,
а/я 27.
Российский государственный
информационно-издательский
Центр «Республика» Государственного комитета Российской Федерации по печати.
Издательство «Республика».
125811, ГСП, Москва, А-47,
Миусская пл., 7.
Отпечатано в ОАО «Ярославский
полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул.
Свободы, 97.
ISBN
5-300-02645-Х