Н.Я. БЕРКОВСКИЙ
Романтизм в Германии
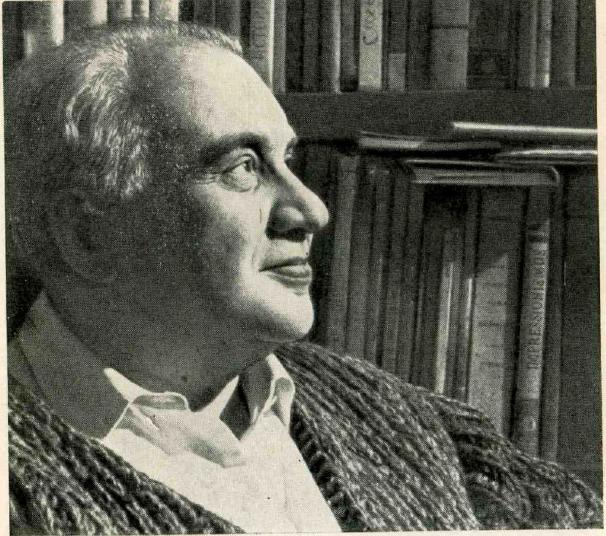
Н.Я. БЕРКОВСКИЙ
Романтизм в Германии
Ленинград
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Ленинградское отделение
1973
Вступительная статья А. Аникста
Оформление художника Н. Васильева
Берковский Н. Я.
Б 48 Романтизм в Германии. Вступит, статья А. Аникста. Л, «Худож. лит.», 1973.
568 с.
Книга выдающегося советского ученого Н. Я. Берковского посвящена целой литературной эпохе — истории романтизма в Германии. Автор рассматривает наиболее важные явления и темы немецкого романтизма, выделяя специально главы о творчестве Новалиса, Тика, Гельдерлина, Арнима, Брентано, Клейста и Гофмана, и в то же время связывает его с общим развитием европейской литературы.
©Издательство «Художественная литература», 1973 г.
(1901—1972)
Перед читателем последний завершенный труд выдающегося советского литературоведа и критика Наума Яковлевича Берковского. Книга имеет для русских читателей особое значение: это первое в нашей научной литературе фундаментальное исследование немецкого романтизма. У нас были работы о различных сторонах этого литературного направления и об отдельных представителях его, но такой обобщающей книги ни в дореволюционном, ни в советском литературоведении еще не было.
За этой книгой стоит целая человеческая жизнь. Еще юношей, будучи студентом, Н. Берковский познакомился впервые с некоторыми немецкими писателями-романтиками. Постепенно расширяя руг своих знаний, он овладел и всей литературой немецкого романтизма. Н. Берковский, однако, далеко не ограничивался этой темой. В молодые годы, — а они совпали с революцией и гражданской войной, с периодом восстановления и первыми шагами в строительстве новой, социалистической культуры, — Н. Берковский увлеченно участвовал в литературных боях тех лет, выступал как критик и публицист сначала в провинциальной печати, а затем в Ленинграде, где он начал свою творческую деятельность. Плодом тех лет явилась книга статей «Текущая литература» (1930).
Став профессором и читая курсы лекций в высших учебных заведениях Ленинграда, он расширил свой диапазон, охватив все крупнейшие явления западноевропейских литератур, а после Великой Отечественной войны написал специальную работу о мировом значении русской литературы (пока еще не опубликованную).
В середине 1930-х годов Н. Берковский напечатал первый цикл исследований о немецком романтизме. Тогда же появилась большая работа ученого «Эволюция и формы раннего реализма
3[1]
на Западе» (1936), где рассмотрены социально-исторические и литературно-эстетические проблемы литератур Запада от эпохи Возрождения до конца XVÜI века.
Он часто выступал в печати по вопросам литературы и театра. К сценическому искусству он питал любовь смолоду. Отражением этого являются два монографических исследования «Таиров и Камерный театр» (1962), «Станиславский и эстетика театра» (1968).
Особенно активной стала деятельность Н. Берковского в 50-е и 60-е годы. Работы последнего времени он собрал в двух книгах: «Статьи о литературе» (1962) и «Литература и театр» (1969).
Н. Берковский не был литературоведом в узком смысле слова. В больших этюдах и малых эссе он всегда ставил проблемы, интересные для всех думающих людей. В ранних работах особенно проявился социологический уклон, вообще характерный для нашего литературоведения в 20-е и первую половину 30-х годов. Но уже тогда определился принцип, которому Н. Берковский следовал во всех работах до последних дней. В литературе его волновала проблема человека, и он всегда изучал ее в связи с общественным положением личности, в зависимости от социально-политических условий. Судьбы писателей, их героев, наконец — литературных форм Н. Берковский всегда рассматривал в связи с состоянием общества.
Участвуя в спорах о путях советской литературы в годы ее становления, Н. Берковский решительно выступал против пренебрежения к проблемам литературного мастерства. «Иные критики полагают, что простая ориентация на материальную действительность уже ведет к реализму», — писал он. Для такой критики, остроумно замечал Н. Берковский, «форма — словно кошелек, будь он кожаный, будь он замшевый, — безразлично, лишь бы содержание было „золотое“»1.
Не все его тогдашние оценки писателей выдержали испытание временем. Н. Берковский впоследствии многое переосмыслил. Однако среди ранних страниц есть такие, которые свидетельствуют о прозорливости критика. Такова статья о «Смерти ВазирМухтара» Ю. Тынянова, написанная сразу после появления романа. С интересом читается этюд «О прозе Мандельштама», в котором тонко проведено различие между прозой этого поэта и прозой Б. Пастернака.
Читая работы Н. Берковского, можно убедиться, что его интеллектуальное развитие отличалось несомненной последовательностью. Это не означает, что он раз и навсегда определился
4
и не пережил никакой эволюции. С годами все более расширялся кругозор, оттачивалась аналитическая способность, обогащались эстетические вкусы и понятия. Литературоведческие категории не имели в глазах Н. Берковского самодовлеющего значения. Сквозь рассмотрение философского, социального, эстетического смысла великих произведений у Н. Берковского на первый план выдвигалась глубоко человечная основа шедевров мировой литературы.
«Мы перерабатываем художественное наследство не как сумму отдельных вещей, авторов, но как исторический процесс. Мы наследуем не «авторов», но весь процесс художественного развития в целом»1, — писал Н. Берковский уже в одной из ранних работ; это осталось характерной чертой его научно-критического метода в целом.
Диапазон интересов Н. Берковского был необыкновенно широк — от античности до наших дней. Хотя немецкий романтизм считался его главной «специальностью», внимание ученого привлекали разные эпохи и несходные в художественном отношении явления.
Постигнуть поэта, романиста, драматурга значит воссоздать мир, в котором он живет. Взгляд критика должен быть философским, способным провидеть в творении художника жизнь, как она отразилась в его творческом воображении. При всем индивидуальном своеобразии писателя, критик должен выявить художническую способность, через свое личное сознание выразить мироощущение лучших людей своего времени, то, что важнее всего для народа.
Минуя работы Н. Берковского об античности «Греческая трагедия» (1963), «Драматический театр и дух музыки» (1965), а также замечательный этюд о Леонардо да Винчи (1954), обратимся к его статьям о Шекспире: одна из лучших проверок литературоведа и критика — его понимание величайших творений человеческого гения. Кроме общего обзора исторических драм и трагедий Шекспира в работе «Эволюция и формы раннего реализма на Западе», Н. Берковский написал этюды о «Короле Лире» (1941), «Отелло» (1944), «Ромео и Джульетте» (1964), отличающиеся свежестью и оригинальностью трактовки.
Гуманизм Шекспира в понимании Н. Берковского проникнут духом социальности. Общая идея определяет сущность трагизма всех трех трагедий: «Шекспир восстает, когда человек в обществе является всего лишь условно-практической фигурой, функционером, работником, служебной вещью»2. Это сказано об Отелло, но, как мы увидим, относится и к другим шекспировским героям. Ко-
5
рень трагедии Отелло в том, что для Венеции он не свой: «Отелло не может сполна, со всем, что несет в себе его личность, привиться к Венеции, — в этом завязка трагедии»1. Само по себе «венецианское», точнее — шекспировское, общество безлично, корыстно, но оно не может обходиться без положительных сил. Однако эти последние оно лишь эксплуатирует в своих целях, использует к своей выгоде. Социальная почва трагедии Отелло именно в этом.
Говоря о «Короле Лире», Н. Берковский подчеркивает ту же социальную обусловленность трагического — столкновение идеалов гуманизма с общественным неравенством и несправедливостью: «Для Шекспира трагичен строй, который не исходит из человеческой личности, не в ней ищет для себя основания и оправдания. Власть, влияние, управление попадают к случайным людям, к худшим людям, которые поднялись благодаря рождению или богатству. Иерархия в обществе отделилась от ценности людей, общество потеряло общественную мораль, превратилось в случайное сожительство, оно поощряет в людях низменное, низкое, грубое и оставляет без последствий благородные поступки или же карает за них»2.
Рассматривая «Ромео и Джульетту», Н. Берковский замечает, что здесь наличествует яркий контраст простого и усложненного. С одной стороны, масса внешних событий, показанных во всем хитросплетении перекрещивающихся судеб двух семей и их отдельных представителей, а с другой — ясные и простые сцены любовных встреч юных героев. «Спросим, что же создает различие между лирическими сценами, двумя единственными, и всем остальным множеством сцен, фабульных, внешне действенных, спросим и ответим: тут каждый раз даны иные типы и стили человеческих отношений. В лирических сценах воссоздаются отношения людей изнутри, на основе их самоопределения и свободы... Вокруг Ромео и Джульетты жизнь другая по своей природе: там каждый день и каждый час творятся насилия и принуждения, там управляют людьми извне, а для этого низшего типа жизни неизбежны сложность и хитросплетенность...»3
Глубокое постижение противоречий эпохи Возрождения на ее позднем этапе развития сказывается и в двух статьях Н. Берковского о Сервантесе: «Дон Кихот и его друг Санчо Панса» (1941), «Новеллы Сервантеса» (1955).
Обратимся теперь к большому эссе критика «Театр Шиллера» (1959—1960). Естественно, что Н. Берковский не мог обойти дилемму «Шекспир — Шиллер». Он открыл в ней еще один аспект.
6
У Шекспира, считает он, идеальные герои — «носители материального счастья, сил расширения и улучшения жизни (...) идеальные герои Шекспира сами заинтересованы быть самими собой: они отстаивают свой личный мир также для самих себя, не только для других. Герои Шиллера — «схимники, они собственное «я» как схиму приняли, они могли выбирать — быть или теми, или иными. У Шиллера хороший персонаж хорош как бы из одолжения, он хорош тем, что захотел быть хорошим, — это его добровольная жертва. Против воли Шиллера все выглядит так, что хорошо быть только плохим и плохо быть хорошим». Это очень непохоже на традиционную романтическую трактовку нравственного «идеализма» Шиллера.
Н. Берковский исследует драматургию Шиллера в свете центрального события эпохи — французской буржуазной революции конца XVIII века. Выразительно показав, что молодой Шиллер в период «бури и натиска» отверг принцип насилия, ученый отметил парадоксальное явление во взглядах немецкого драматурга: «...осуждение якобинской диктатуры отнюдь не последнее слово Шиллера о революции. Он лучше оценил ее, высокий ее смысл, когда практически она пошла к спаду, — несправедливый обвинитель ее в годы якобинского ее апогея, он правильно оценивает сделанные ею завоевания, когда после термидора начинается утрата их»1.
Критик очень тонко говорит о том, что отношение Шиллера к проблемам революции в послереволюционное время не получило прямого выражения. Напрасно искать прямые аналогии. Дело не в них, а в общей тональности пьес, в новом отношении драматурга к героям. Если в годы «бури и натиска» Шиллер не мог скрыть своей горячей заинтересованности в судьбах персонажей его бунтарских драм, то теперь им овладевает равнодушие.
Н. Берковский считает, что такое отношение было навеяно современной Шиллеру историей: «...Шиллер наблюдал то одну, то другую личную карьеру — то генерала Дюмурье, то генерала Лазаря Гоша, то затмившую их всех карьеру генерала Бонапарта. Смысл этих личных историй был почти один и тот же — никто из этих людей не был носителем новых идей, все они торопились завладеть наследием революции, все были собирателями плодов из чужого сада. В свете этого равнодушия к историческим лицам и возникло перед Шиллером лицо Валленштейна, холодное, малопривлекательное»2.
Н. Берковский нашел глубокое и вместе с тем остроумное объяснение той эмоциональной холодности, с какой Шиллер осве-
7
тил фигуру исторического деятеля, поставленного им в центр трилогии. Между тем, как убедительно доказывает Н. Берковский, суть здесь не только в одном Валленштейне. В отличие от критиков, которые сводили трилогию к драматической судьбе этого героя, Н. Берковский показывает, что трилогия Шиллера имеет более широкую историческую тему, что, хотя буржуазия попрала освободительные идеалы, писатели, подобные Шиллеру, все же сохранили веру в идеал гражданской свободы.
Глубоко восприняв принципы марксистско-ленинской диалектики, Н. Берковский особенно интересовался формами непрямого отражения социальных вопросов в литературе и искусстве. Трудности анализа, связанные с этим, интересно решены Н. Берковскнм в его работах о немецком романтизме.
История этого литературного направления неоднократно привлекала внимание ученых. Немецкое литературоведение второй половины XIX и первой половины XX века занималось преимущественно философской и эстетической проблематикой немецкого романтизма, подчеркивая главным образом асоциальные и религиозно-мистические мотивы романтической идеологии.
Немецкие романтики питали отвращение к убогой бюргерской действительности. Но, как известно, бунтарство ранних иенских романтиков быстро сменилось их переходом в лагерь реакции. Буржуазные критики связывали это с якобы присущим всем романтикам отрицательным отношением к революции вообще. В действительности суть была не в отрицании принципа революции как такового, а в неприятии революции буржуазной.
В работе «Эстетические позиции немецкого романтизма» (1934) Н. Берковский подчеркнул, что идеологию и эстетику немецкого романтизма нельзя понять вне связи с отношением романтиков к Французской революции. Это отношение не было однородным прежде всего потому, что иенская группа романтиков пережила два этапа в своем отношении к Французской революции — сначала горячее сочувствие ей, затем столь же решительное отрицание ее политических идеалов и практики. Но на первом этапе будущие деятели романтизма еще не были романтиками, они сохраняли тогда приверженность идеям XVÜI века. Отказ от просветительства и культ античности возникли позже, когда иенские романтики, в первую очередь братья Фридрих и Август Шлегели стали создавать новую философскую эстетику, которая и легла в основу романтизма. Как пишет Н. Берковский, «все движение иенского романтизма определялось «всемирной ситуацией», ему современной. Он возник после термидора. Ближайшие годы позволили выяснить, какие обещания революция выполнила, какие нет. Одно уже стало очевидным: великий развал
8
мелкобуржуазных иллюзий»1. В романтическом движении причудливо переплетались влияния немецкого дворянства и консервативной мелкой буржуазии. От таких малообещающих позиций, казалось, нельзя было ждать ничего сколько-нибудь прогрессивного. Однако диалектика истории сложнее. Н. Берковский показал, что немецкий романтизм «был одним из самых широких, самых грандиозных опытов критики буржуазной культуры»2. Правда, то была критика «справа», но все же критика. Выдвигая это положение, Н. Берковский опирался на характеристику «феодального социализма» в «Коммунистическом манифесте».
Нисколько не отрицая очевидного — реакционных элементов в романтизме, — Н. Берковский в работе «Эволюция и формы раннего реализма на Западе» (1936) подчеркнул в немецком романтизме его двойственность и предложил совершенно новое толкование пресловутой романтической иронии, показав, что она продемонстрировала несоответствие просветительских идеалов реальному порядку вещей. В статье «Немецкий романтизм» (1935) ученый пишет о том, что немецкие ромаптики нападали на «буржуазный индивидуализм эпохи Просвещения», и говорит о диалектике как одной из черт их мышления. Романтики «трактовали человеческую личность как явление опосредованное, носящее в себе миры традиций». Все это было направлено против антиисторизма просветительства. Но диалектика самих, романтиков страдала тогда, когда они отворачивались от современности, отказывались от анализа буржуазной действительности.
Характеризуя философские основы романтизма, Н. Берковский акцентировал то, что механицизму просветительского материализма XVIII века романтики противопоставили идею органичности. Она важна была для них не только в качестве объяснения природы, но и общества. Буржуазному мировоззрению, исходившему из понятия бытия как существования отдельных, независимых друг от друга атомов, романтики противополагали идею органического единства природной и социальной жизни. В противовес литературоведческим концепциям, выдвигающим на первый план романтический индивидуализм, Н. Берковский находит в идеологии иенских романтиков сильную коллективистическую струю, принимавшую форму прославления патриархальной общности людей. Свой идеал коллективности романтики мыслили лишь в архаических формах средневековых отношений. В частности, это касалось природы искусства и места художника в обществе. У Вакенродера и Новалиса рисуется картина гармонии художника с природой и обществом, — в противовес буржуазному
9
строю, создающему дисгармонию между творцом и его прозаически-меркантильным окружением. Мотивы враждебности общества искусству получили особенно сильное выражение в творчестве Э.-Т.-А. Гофмана. Коротко говоря, романтики заложили основы особого рода — «романтической» — критики капитализма. Двойственная природа этой критики раскрыта в трудах классиков марксизма-ленинизма; следуя их положениям, Н. Берковский показал своеобразие идеологических позиций немецких романтиков и связь их идеалистической социологии с романтической эстетикой.
Отмечая эти моменты в исследовании романтизма Н. Берковским, я хотел бы подчеркнуть последовательность, с какой развивалась мысль ученого. Его концепция получила завершение в данной книге, и я напомню лишь главные положения, изложенные во введении к ней. В предшествующих работах Н. Берковский раскрывал двойственность и противоречивость романтизма, особенно выделяя реальный смысл, скрывавшийся за всей романтической «мифологией». Он продолжает это и здесь. Но в новой работе наибольшую новизну представляет акцентирование положительного начала в романтизме.
Романтики утверждали идею изменчивости, развития. По их мысли, душу всем вещам дает творящая жизнь. «Романтики отождествили прекрасное и новое. Как это уже было признано со времени Ренессанса и его эстетики, в прекрасном должна содержаться новизна. Если высший идеал в творчестве, в развитии, то новизна не может не входить в него». В этом видел Н. Берковский главный принцип, выдвинутый немецким романтизмом.
Однако рождение нового сопряжено с трудностями. «Новое рождается в оболочке чуждости, и сама эта чуждость вступает в игру с человеческим восприятием». Романтики стремились к сочетанию старого и нового. «Особая поэзия для них содержится в соприкосновении обеих сторон, в проникновении одного в другое. В чужом находить свое, в своем чужое, в бывшем, настоящем, — небывшее и будущее, в национальном мировое, и обратно», — такова тенденция романтической теории искусства.
Методологически последний труд Н. Берковского о романтизме представляет интерес тем, как решил исследователь трудности построения такого рода работы. Он ставил себе целью дать общую идею романтического движения в Германии, вскрыть его социально-исторические и идеологические основы, выявить вклад романтизма в мировую художественную культуру и вместе с тем показать своеобразие творческой индивидуальности каждого из главных деятелей этого художественного направления. Мне кажется, диалектика общего и единичного мастерски раскрыта в этом историко-литературном исследовании. Даже самые отвле-
10
ченные вопросы рассматриваются в живой связи с обстановкой, с людьми, решавшими их. Н. Берковский удивительно сочетает ощущение эмоциональных стихий в творчестве данного писателя с объективным анализом исторического и идейного смысла его творчества. Н. Берковский не только ученый и критик, но также и писатель, создающий образ того, о ком он пишет. В этом отношении особенно сложной была задача создать литературные портреты Новалиса, Гельдерлина, Клейста и Гофмана. Берковский рисует перед нами не психологический портрет человека, написавшего те или иные произведения, а духовный портрет писателя, и нам становится ясной его художническая природа, независимо от того, какие загадки могла содержать его личность. На мой взгляд, из всех этюдов особенно удачен тот, который посвящен Гофману. В богатой литературе об этом писателе очерк Н. Берковского один из наиболее проникновенных и проницательных. Другие этюды также имеют свои неоспоримые достоинства.
В заключение скажем несколько слов о работах Н. Берковского, посвященных русской литературе.
Н. Берковский горячо любил русскую классику, отлично знал поэзию, включая и современную. В библиотеке Н. Берковского огромное место занимал раздел книг о Пушкине. Пушкин был спутником всей духовной жизни И. Берковского, с наукой о нем он был знаком в полном объеме. Его внимание привлекли те произведения, о которых написано работ сравнительно меньше, чем о других, — «Повести Белкина» и «Русалка».
Н. Берковский принес в свои этюды о русской литературе ту широту и историческую масштабность, которая характерна и для его трудов о литературах Запада. «Повести Белкина» с их «частными» сюжетами ученый ставит в перспективу всего художественного развития Пушкина и заодно в перспективу развития всей русской литературы. И тогда «Повести» приобретают важное значение, как веха на большом пути: «Пушкин в 30-х годах разламывает синтетическую картину национальной жизни, прежде того построенную в «Евгении Онегине», — разламывает с целью пересоздать и воссоздать ее»1. Это и было сделано в «Повестях Белкина». Правда, они не венец, не завершение исканий, а начало их. Здесь «все дано в первоначальной, очень лаконической еще разработке». Но уже и в этом виде в них заложено противопоставление реальной и «простой» жизни быту светского общества, о котором Пушкин неоднократно в те годы принимался писать, но не завершил ни одного замысла. «Развернутую антитезу «светского» и «белкинского» провел Л. Толстой в своих боль-
11
ших романах, Пушкин же себя ограничил накоплением материалов для этой антитезы»1. На примере «Повестей Белкина» Н. Берковский развивает известное положение о пушкинском творчестве как истоке всех последующих явлений русской литературы XIX века. Рассмотрение «Повестей» выявляет важные социальные мотивы, вполне достойные пушкинского величия. В частности, Н. Берковский освещает особую трудность для решения Пушкиным социальных проблем из-за отсутствия в тогдашней России «демократической жизни». Тем не менее Пушкин ищет решения общественных противоречий в демократическом духе. В отличие от Запада, где демократическое движение начала века объединяло еще буржуазию и народ, «у Пушкина всеобщие начала отнесены только к народу и к тем, кто приближен к народу»2.
За несложными, казалось бы, повествованиями, при всей их лаконичности и жизненной конкретности, исследователь открывает огромные пласты философских и социально-исторических идей. Рассмотренные в контексте современной русской и западноевропейской литературы, «Повести Белкина» оказываются произведениями, полными глубокого смысла, в которых если и не решаются, то ставятся некоторые коренные вопросы русской жизни.
За пределы сказки и легенды выведена критиком «Русалка» — произведение, приобретающее в его трактовке глубокий социально-философский и психологический смысл как подлинная трагедия. «Собственно трагическим в ”Русалке“ является лишь первый акт. После гибели героини начинается нечто необычное для жанра трагедии — начинается избавление от трагедии: погибнувшая воскресает... Побежденные и победители у Пушкина меняются местами, после первого акта наступает время, когда побежденные могут подняться и положить начало новой жизни. Разорение мельника, упадок князя — это и мрак и свет, так как оба они впервые очеловечились в своих несчастьях...»3. Такая трактовка не только глубока, но и оригинальна, она открывает новые перспективы в хорошо известном творении Пушкина.
Обратимся наконец к писателю,
особенно привлекавшему внимание Н. Берковского в последние годы — к Чехову. В
двух работах о нем «Чехов — повествователь и драматург» (1960) и «Чехов: от
рассказов и повестей к драматургии» (1966) ученый исследует поэтику Чехова. Из
всех ее аспектов, рассмотренных Н. Берковским, я остановлюсь на одном, который
является узловым. Это — роль и место фабулы в произведениях Чехова. Через
12
нее раскрывается не только своеобразие Чехова-художника, его стиль, но и отношение в действительности.
Чехов отвергал фабулу уже в своих рассказах, ибо она не только лишала его, как художника, свободы в отражении реальной жизни, но исключала всякую возможность поэзии. По этой же причине он отказался от фабулы в своих драмах. Чехов предпочитает событиям мирный быт, ибо он содержит в себе не только низкие побуждения, но и добрые стремления. «Фабула — это испытание, экзамен. Фабула дает окончательную форму движениям жизни, воплощает их. Добрая жизнь к испытанию еще не готова, она может теплиться, гореть малым пламенем, пребывать в неоформленном состоянии, недовоплощенном»1.
Старая, преимущественно дореволюционная критика видела в быте только трясину, засасывающую хороших людей. В предлагаемой критиком концепции повседневность нечто большее — она «жизнь без конца, без края». Если события несут разочарование и разрушение, то повседневная жизнь таит в себе залоги будущего. «У Чехова рыхлое и слабое, на сегодня побежденное, обладает будущностью, поэтому Чехов так внимателен к нему»2.
Для обзора целой жизни и десятков научных трудов эта статья слишком коротка. В ней можно было лишь в самых общих чертах представить историко-литературную концепцию Н. Берковского. Он любил и хорошо понимал искусство, но о чем бы ни шла у него речь — о философии, переломных моментах истории, разнообразных формах творчества, — за всем стояло глубоко взволнованное отношение к жизни. В статье о «Повестях Белкина» есть знаменательное место. Говоря о позднем JI. Толстом, отрицавшем культуру и стремившемся к «опрощению», критик противопоставлял ему великого поэта: «Пушкин был убежден в другом: человеку, как бы он ни был высок умственно и духовно, необходимо сохранять собственную свою связь с простейшими мотивами жизни, развиваться, не отрываясь от них, внутренне питаясь ими»3. Вопрос о соотношении культуры, цивилизации и «естественного» состояния на протяжении мировой истории вставал не раз. Пушкин выразил гуманистический идеал нового времени. Высшая человечность требует не отказа от культуры, а органического сочетания ее и здравого чувства жизни, постоянного контакта с реальностью. Как верно и глубоко связал критик этот идеал с духовным обликом Пушкина и с его творчеством!
13
Том, который держит в руках читатель, — важная часть научного и литературно-критического наследия Н. Берковского. Краткий обзор его работ поможет воспринять ее в контексте всего его научного творчества. Книга, надо думать, станет предметом критического разбора. Она вызовет и споры. Это будет отвечать замыслу автора: он любил будоражить мысль, вызывать на спор, уверенный в том, что глубокая продуманность его идей не пострадает от столкновения со взглядами тех, кто думает иначе. Человек богато одаренный, он предпочитает монологу диалог. Его собственные работы часто были такими диалогами, спорами против неназываемых оппонентов. Если он при этом не заострял полемичности выдвигаемых им положений, то происходило это из особого, свойственного ему отношения к науке и к ученым. Для него важно было утвердить истину, а не доказать, что прав именно он. Поэтому он всегда охотнее называл в своих работах тех, с кем был согласен, чья мысль натолкнула его на плодотворный путь исследования, чем тех, чьи взгляды он оспаривал. Доказывать свое превосходство он не считал нужным. Если же нельзя было уклониться от необходимости поправить чужую ошибку, Н. Берковский умел делать это с тактом, не принижая достоинства тех, с кем спорил. Впрочем, о личных качествах Н. Берковского я не стану говорить. О них прекрасно сказал Б. Зингерман1. Мне же хотелось в этом очерке представить облик Берковского как мыслителя, ученого и критика.
Остается сказать еще о совершенно индивидуальном стиле Н. Берковского. Он умел создавать словами пластические образы писателей и литературных героев, образы психологически очень емкие. Идеологические построения, скажем, тех же романтиков получают у исследователя живое словесное воплощение. Читая эту книгу, нетрудно убедиться в том, что Н. Берковский неприязненно относился к фразеологическим штампам и умел находить свежие и впечатляющие слова для характеристики разных явлений. Его проза обладает своим ритмом, в котором узнается строй речи живого Берковского.
В подготовке книги к изданию приняла участие Е. А. Лопырева.
Советская культура уже создала свои непреходящие духовные ценности в разных областях мысли и творчества. В числе этих ценностей занимает свое место литературно-научное наследие Н. Я. Берковского, глубокого мыслителя и замечательного исследователя литературы и искусства.
А. Аникст
Романтизм в Германии
РОМАНТИЗМ В ГЕРМАНИИ, ЕГО ПРИРОДА, ЗАМЫСЛЫ И СУДЬБЫ
Едва ли не весь ранний романтизм сводится к делам и дням иенской школы, сложившейся в Германии на самом исходе XVÜI столетия1. Она же, иенская школа, была и высшим расцветом романтики. Историю немецкой романтики давно принято делить на два периода: расцвет — упадок. Расцвет приходится на иенскую пору. За иенским романтизмом стоит некая коллективная личность школы и биография школы, и с них нужно начинать. Город Иена оказался резиденцией школы по некоторым особым обстоятельствам. Пользовался славой его университет, где преподавал еще недавно Шиллер и преподавал по-прежнему Фихте. Там скопилась молодежь, на лад романтиков настроенная, по словам одного злого современника, кроме вопроса: что есть истина, пренебрегавшая всеми вопросами чуть поменьше. Вблизи Иены находился Веймар, место жительства Гете и Шиллера, Гердера и Виланда и в силу этого столица немецкой культуры. С Веймаром у романтиков были свои отношения, не всегда дружелюбные, но всегда живые, порой до остроты живые и побудительные для них. В стареющем Гете они надеялись найти бога-покровителя. Гете охотно принимал от романтиков их необыкновенно рьяное поклонение, примеров которому в Германии до них никогда не было, но от других способов сблизиться с ними Гете воздерживался. Он мог благосклонствовать Августу Шлегелю как знатоку метрики или Шеллингу как натурфилософу, строго, хотя и не возбуждая обид, соблюдая должную дистанцию между собой и романтическим движением как таковым.
Август Шлегель первым поселился в Иене, еще в 1790 году, а с 1798 по 1800 год стал профессорствовать в Иенском университете. С того же года по 1803-й там же действовал и Шеллинг. Были попытки и со стороны Фридриха Шлегеля овладеть университетской кафедрой.
Дом Августа Шлегеля в Иене стал местом романтических сборищ. Одни наезжали в Иену, другие жили там — в 1799 году в Иене поселились Тик и Фридрих Шлегель с Доротеей, ставшей его женой. В среде романтиков царило величайшее оживление, они создавали новую литературу, новую философию, безжалостно рассчитывались с неугодными современниками, пародировали, передразнивали, насмехались и забавлялись. Один из свидетелей жизни в доме Августа Шлегеля заявил, что она невыносима, — слишком много в этом доме комикуют и острят, слишком много расходуют здесь ума и игры ума2.
В иенском кругу держались подъема и вдохновения первых лет Французской революции. Иена жила их отблеском.
В иенский круг вошли все романтики раннего призыва кроме Вакенродера, скончавшегося уже в 1798-м, и Гельдерлина, находившегося в стороне от каких-либо литературных объединений. К раннему кругу романтиков тяготели люди разных занятий и призваний. Шлегели, старший Август и младший Фридрих, были ученые-филологи, литературные критики, искусствоведы, публицисты, Шеллинг — вождь новых направлений в философии, создатель заново философии природы, Шлейермахер — философ и теолог, Стеффенс — геолог, Риттер — физик, Гюльзен — физик, трое последних — приверженцы Шеллинга. Собственно поэтом во всем этом многолюдном объединении был один только Людвиг Тик, равнодушный к философии, редко отступавший в сторону филологии и критики. Тик оставался «продуцентом» как таковым, создавал драмы, стихотворения, новеллы. Новалис «продуцент» далеко не до конца, по господствующему своему призванию поэта он отдавал должное и философской мысли, дозволяя себе здесь всяческую прихоть, в каком-то полуобразном виде философская мысль присутствует и в его по прочим признакам художественных произведениях, законы и границы жанров очень мало смущали его. Оба Шлегеля притязали на художественное творчество, бывшее только не слишком обязательной добавкой к их трудам, крити-
18
ческим и теоретическим. Достижение Августа Шлегеля как поэта — переводы. Он впервые дал немцам настоящего Шекспира после опытов Виланда и Эшенбурга.
В 1794-м Фридрих Шлегель писал о школах греческой поэзии, ссылаясь на пример историков живописи, разделяющих своих мастеров на школы: там в изобразительных искусствах школы существовали на самом деле, учитель учил учеников, как работать кистью, а здесь, в поэзии, можно вести речь о школах в весьма отдаленном — переносном смысле. Историю романтизма тоже трактовали, как смену школ, и все начинали иенской школой, как если бы то было подобие школам венецианской или флорентинской у старых итальянцев. Однако немецкие романтики менее всего походили на людей из одной художественной мастерской, где каждый сидит у своего холста. Допустим, что они были школой в поэзии. Тогда еще основательней считать их школой в философии и в науке. Даже беглый просмотр состава говорит о том, насколько энциклопедична была школа. Физики и геологи дружили с поэтами, позднее началась дружба с музыкантами, с живописцами, с биологами, с историками, с медиками. Романтизм складывался как целая культура, многообразно разработанная, и именно в этом подобен был своим предшественникам — Ренессансу, классицизму, просвещению. Он явился как единый стиль, если угодно — как единая «школа», но во всех искусствах и заодно в делах культуры, выйдя из литературы и проникая в каждое из искусств, одно за другим, в исполнительскую практику певцов, актеров, музыкальных виртуозов, в философию, в науку, в прикладные знания, он держался в Германии, в Европе полвека, а то и больше, благодаря этой широте своего распространения. Умирал в естествознании и хранился в науках гуманитарных, исчезал в живописи и доживал в книжной иллюстрации, сходил со сцены драматических театров и воскресал к вящей жизни на сцене музыкальной, все равно, было ли это искусство антагонистов, оперы Верди или оперы Вагнера: и тот и другой имели свои собственные связи с романтизмом.
Профессиональная пестрота в среде романтиков нисколько не вела к низкой оценке искусства и людей искусства, хотя бы те порой и составляли меньшинство. Напротив того, авторитет поэзии и художества был чрезмерным, все хотели быть поэтами, мыслить как поэты,
19
писать как поэты. Свидетельство этому — философская проза Шеллинга и Шлейермахера, которым, несомненно, вредило рьяное их соревнование поэтическим стилем, как правило, не слишком им дававшимся. В романтической среде не все были великие артисты, но артистический принцип царил. Юный Шеллинг все же писал стихами шутя, юный Гегель, романтиком никогда не бывший, писал стихами всерьез вслед Гельдерлину, своему романтическому другу.
Иенская школа была примером коллективной жизни в искусстве и в духовном творчестве. Иенские романтики и размышляли и творили совместно. Фридрих Шлегель, скорый на изобретение словечек, стал говорить о неких симфониях, создаваемых не в музыке: symphilosophie, sympoesie — симфилософия, симпоэзия3. Шлейермахер в «Монологах» проповедовал общность талантов. В своих сборищах романтики усматривали некоторое подобие философским симпозиям Платона или итальянского Ренессанса под водительством Лоренцо Медичи. Тут присутствовал еще особый, чисто современный смысл. Человечество идет и приходит к братству, к жизни и работе сообща, и так во всем, до дела культуры включительно. Один начинает, другой продолжает, третий возвращается к первому и т. д. и т. д. Идеал романтического симпозиума отразился в больших композициях романтиков, в сборниках, ими сочиненных. Такие сборники, как «Фантазус» Людвига Тика, «Зимний сад» Арнима, «Серапионовы братья» Гофмана по общему замыслу своему были как бы записанными симпозиями. Сочиняет каждый раз кто-то один, но за ним стоит со своими вкусами и запросами целое сообщество, кто сегодня публика, тот завтра становится автором, и обратно. В романтическом «Декамероне» соединительный текст был важнее, чем в «Декамероне» Боккаччо, он должен был создавать впечатление целой творящей культуры.
Симпозиум означал также празднество, праздничное общение, и опять-таки для этого существовали словечки Фридриха Шлегеля: фестивальность, урбанность — Festivalität, Urbanität. Младшие романтики, гейдельбергского или швабского круга, представляли себе народность в духе фольклорности сельского или провинциального стиля, с большим или меньшим налетом архаичности. У старших вместо этого ориентация на публичность, на современные формы духовной связи, нередко на праздничные столичные
20
сборища — на «фестивальность» и «урбанность», как они это называли. Они искали изящества, а через изящество — точности и вседоступности. Более других в этом преуспел Август Шлегель, самая ясная голова среди романтиков. Именно за ясность слова и мысли позднейшие историки литературы, считавшие, что запутанность — это и есть дар свыше, позволяли себе его третировать4. Без его курса драматической литературы Европа никогда не постигла бы, что такое немецкий романтизм, да и сам романтизм не был бы в силах понять самого себя. Будем помнить, что курс Августа Шлегеля в селе Михайловском, по всей очевидности, имел под рукой Пушкин и что курс этот ему служил5. К урбанности и фестивальности стремился всей душой и Фридрих Шлегель, изобретатель этих слов. И то и другое ему давалось трудно. Этот человек, незаурядно одаренный, инициатор множества романтических идей, открыватель целых романтических материков, по натуре своей был вождем, вожатым, проводником. Его призвание состояло в том, чтобы общаться и сообщать, но именно общение далеко не полностью ему давалось, он писал тяжеловесно и темно, подчас очень дерзко и остроумно, однако читатели не всегда догадывались, что имеют дело с остроумием, и принимали остроумие за чудачество и маньеризм. У Фридриха Шлегеля в тисках темного и ученого стиля могла очутиться вполне современная, всем нужная и увлекательная мысль, — далеко не всегда ей удавалось освободиться и стать достоянием читательских умов. Вначале Фридриха Шлегеля воодушевляли античность и немецкая философская мысль, он был неравнодушен и к прямым возвестителям идей Французской революции в литературе. Позднее, в годы проживания в наполеоновском Париже, он стал изучать персидский и санскрит. Гомер, Аристотель, Гете, Фихте, Георг Форстер, Кондорсе, древняя Индия — таков репертуар увлечений и штудий этого литератора; зная какое-либо одно из ценимых Шлегелем имен, лишь с трудом можно угадать, какие имена и темы за ним последуют. В нем жили разпые личности без примирения друг с другом: основательного камерного ученого, революционного агитатора и пропагандиста, бескорыстного философа-любомудра, современного журналиста, охочего до полемик, сенсаций и скандалов. Не было сочетаний и амальгам,
21
которые смутили бы его, он готов был на любые. Способность следовать то за одним знаменем, то за другим привела его, как известно, к печальному концу.
В иенском кругу заметные участницы-женщины — Каролина, жена Августа Шлегеля, за которым она последовала в Иену, ставшая потом женой Шеллинга, и Доротея Фейт, верная жена Фридриха Шлегеля. В иенском кругу стойко держался культ Каролины, между тем она не писала ни стихов, ни прозы, если не считать ее литературных попыток, брошенных в самом их начале. Она не создавала собственных философских систем и не толковала чужих. Зато ее самое рассматривали как замечательный феномен жизни и культуры, требующий истолкований и разгадывания. Фридрих Шлегель с жаром интерпретировал Каролину, каждое ее полуслово или полудвижение. В «Люцинде» он писал, что Каролина уже отвечает на вопросы, которые еще не успели предложить ей, умея все предугадать заранее, что лицо ее полно музыки, новой каждый раз. Она была искусницей разговоров и писем, тирад, попутно вставленных замечаний, каких-то трех-четырех заключительных фраз, которыми произведению или человеку, как считали романтики, выносится окончательный приговор. Радикальнее, чем другие, она развенчала Шиллера, и своей незавидной репутацией в среде романтиков Шиллер более всего обязан ей — «госпоже Люцифер», как ее он прозвал. Не случайно именно она порицала Шиллера, как вычурно-рационального поэта, подменяющего живую жизнь и живые личности комментариями к ним: чем проявлять на деле свою приверженность к католицизму, Мортимер в «Марии Стюарт» предпочитает объяснять свои идейные пути к нему, обвиняла она Шиллера6. По мысли романтиков, творя, вы состязаетесь с природой, комментируя, вы сразу же оказываетесь позади нее. Вероятно, отзвук недовольства Каролины драмой Шиллера можно найти в сентенции Августа Шлегеля: «Примечания к стихотворению то же самое, что лекции по анатомии по поводу жаркого, которым хотят вас кормить»7.
Доротея Фейт, написавшая хороший роман, все же ценима была не в качестве самобытного автора, а в роли своей при ком-то другом, при других. По значительности и значению она уступала Каролине, была только остра, где Каролина была прозорлива, и приносила пользу, где Каролина воодушевляла.
22
В романтическое объединение женщины вносили непосредственность, то, чего недоставало их чрезвычайно ученым и высокомудрствующим друзьям мужского рода. Женщины враждовали с книжностью и с книжниками, с педантством, которого немало было и у романтиков, антипедантов по своим программным убеждениям. Культура во всех ее течениях и специальностях была представлена в романтическом сообществе, все кипело волей к синтезу всех искусств друг с другом и к синтезу этого синтеза со всеми богатствами отвлеченной мысли. На долю женщин выпадал синтез самый ответственный: культуры с жизнью как таковой. Доподлинность и живость жизни нашли своих хранителей в Каролине, да и в Доротее. Романтики ушли бы еще далее от мира, в котором остались все прочие люди, не будь на них этого женского влияния, заставлявшего их поверять себя простым воззрением на вещи. Женщины при романтиках играли роль изящных «опростительниц», в чем и состояло их обаяние. Великим талантом в области личных общений и влияний также оказалась женщина более молодого поколения, Беттbна, сестра Брентано, жена Арнима, значительно позднее издавшая серию замечательных книг. Она внесла в романтическое общество веселость, затем дух импровизаций, каких угодно: разговорных, философских, а еще лучше в точном их смысле — певческих, музыкальных.
Я говорю об изящном опрощении, исходящем от женщин. От них исходило и иное. Беттина в особенности напоминает об этом. Фестивальность и урбанность, за которые ратовал Фридрих Шлегель, разумеется поддерживались присутствием женщин.
Каролина сближала романтиков не с одним только повседневным течением жизни, она вела их и к большой жизни: на ранний романтизм веяла Французская революция. Каролина была чем-то более осязаемым, она была реальной связью с нею. Уже самый женский стиль ее принадлежал новым временам. Эта женщина привыкла свободно распоряжаться собою, что ее решительно отличало от жен и дочерей немецких бюргеров. Она умела быть подругой и союзницей мужа, а те научены были выполнять только роль служанок и наложниц. Каролина являлась в отблесках своего необычайного прошлого. В городе Майнце, оккупированном французами, она выказывала сочувствие к ним и к революции, за что и была брошена немцами в тюрьму, едва те опять стали хозяевами в городе.
23
Она состояла в дружбе с героем Майнца Георгом Форстером, немецким якобинцем. О Форстере, замечательном деятеле и писателе, Фридрих Шлегель написал одну из лучших своих «характеристик»8. Через Каролину и Фридриха Шлегеля в иенское содружество духовно входил и Георг Форстер, самый смелый и свободный из тогдашних немцев.
В Иене задумано было и написано много замечательных сочинений, и художественных и теоретических. Много людей, отмеченных историей, можно было увидеть тогда в гостиных Иены и на кафедрах ее университета. Каролина правильно угадала, главным из них был молодой Шеллинг, — по силе и значительности творчества. Он создавал тогда свою натурфилософию с необычайной быстротой и энергией. Только что написанные листы выносились в аудиторию и тут же читались, обнародовались едва просохшие. Шеллинга сравнивали с молодым генералом французской республики, говорили даже, что в наступающей армии он был бы уместнее, чем в аудиториях университета. Философия природы Шеллинга едва ли не основополагающее произведение раннего романтизма. Оно важнее эстетики Шеллинга, ибо эстетика выводилась из философии природы, и оба Шлегеля, Август в особенности, с этим делом справлялись уже до того, как сам Шеллинг за него взялся. Зная учение Шеллинга о природе, нетрудно было вывести, что из этого следует для науки о «подражании природе», как называли тогда по аристотелевским традициям искусство. В 1802 году Август Шлегель выступил с лекцией об отношении изобразительного искусства к природе9, она удивительно близка к знаменитой речи Шеллинга, произнесенной в Мюнхене на ту же тему в 1807 году10. Но Шеллинг говорил несравненно сильнее, он был хозяином главного предмета — природы, с которым Август Шлегель находился в дилетантских только отношениях. В семействе Шлегелей существовало, вопреки идеям «симфилософии», недовольство по поводу Шеллинга, который будто бы у них заимствует. В данном случае грех Шеллинга лишь тот, что Август Шлегель на пять лет раньше самого Шеллинга сказал его, Шеллингово11.
Шеллингова натурфилософия разработала первоклассно-важные
для романтизма мотивы. Для нее нет царства
застывших и очерченных навсегда или хотя бы лишь надолго отдельных явлений. Она всюду видит
единую творимую жизнь. Природа и
жизнь суть по Шеллингу непре-
24
рывное творчество, Творя самих себя, они себя же самим себе открывают, они возвышаются в своем развитии со ступени на ступень, покамест не кончают миром культуры и человека. В том, что у Шеллинга столь решительно распалась традиционная точка зрения на мир, стабилизующая его сколько возможно, в этом нельзя не видеть прямого воздействия на Шеллинга революционной практики, ничего в мире традиционном не оставившей нетронутым, все пересоздавшей, поднявшей миллионы людей на творчество новых жизненных условий. Позиция романтиков, покамест они оставались романтиками, всюду одна и та же: творимая жизнь — в природе, в истории, в обществе, в культуре, в индивидуальном человеке. Творимая жизнь — в ней первоосновной импульс к эстетике и к стилю романтиков, к их картине мира. Связь с идеей творчества как с универсальнейшей из всех идей указывает и на внутреннюю связь романтиков с революцией, независимо от того, что они сами могли думать и утверждать по этому поводу. Идея творчества имела свои вековые традиции и связи, но романтики впервые для себя освоили ее и превратили в свое духовное достояние через революцию, которой они были живыми свидетелями. Философия природы у Шеллинга далеко выходила за пределы осмысления каких-либо специально обособленных областей бытия. Ей присущ был характер всеобщего учения о том, на каких основах движется мировая жизнь, об изменчивости, переворотах, о переходах от низшего к высшему как о главных ее законах.
У Шеллинга человек чувствует единство свое с природой, связь с нею для него не только высокая связь, но и домашняя, интимная. Через все романтическое искусство прошел этот интимизм в отношении природы, и можно указать, как и на чем он завязался. В одном стихотворении Андре Шенье с некой эпохальной наивностью высказано, от чего зависит восприятие природы человеком: надо знать, собственник он в природе или не собственник. У Шенье два пастуха собеседуют, один из них свободный, другой продан в рабство. Свободный любит природу, радуется ей, видит в ней оживленность и душу. Для раба природа чужая, господская, она кормит господ, рабу она мачеха, он воспринимает ее прозаически и мрачно (André Chenier, из цикла «Poèmes Antiques», «La Liberté»). Французская революция расширила крестьянскую собственность, через эту собственность, массовую, трудовую,
25
изменилось чувствование природы, дошедшее волнами и до романтиков, до их художества и философствования. Природа ничего не потеряла в своем величии, однако она соединилась с человеком узами массовой доступности, повседневного и повсеместного содружества с ним.
Иенское содружество возникло из людей, разбросанных по немецким областям и городам. Чаще всего это были одиночки, иной раз союз двоих, как братьев Шлегелей, как сблизившихся по своему философствованию Фридриха Шлегеля и Новалиса. До того, как все они слились в большое общее движение, романтики мало или ничего не знали друг о друге. А сошлись они все вместе, будто давно знакомые. У всех у них и на самом деле было знакомство, была дружба, важнее того — было братство по эпохе, что было важнее кровного братства обоих Шлегелей. То обстоятельство, что романтизм сложился сперва во многих умах и душах, друг другу неведомых, указывает на силу и неслучайность его.
Романтики стояли у ворот нового общества, получившего права и жизнь через Французскую революцию. Они еще полны были ее иллюзий, ее гипербол, ее ожиданий и сверхожиданий, когда сама революция уже, собственно, кончалась и буржуазное общество, ею созданное, приобретало твердость очертаний, всему утойическому враждебных. Был, однако, какой-то особый, по-особому воспринятый час, когда иллюзии могли разгореться с новой силой, и это был час романтиков, продленный за свои законные пределы. Они называли себя «энтузиастами» — так уже в ранней переписке Тика и Вакенродера мы находим эту антитезу «эгоизма» аристократов и «энтузиазма», что присущ демократам, — письмо датировано 28 декабря 1792 года, датой подъема революции12. Но 18 октября 1800 года Фридрих Шлегель читает свою вступительную лекцию в Иенском университете «Об энтузиазме или о мечтательстве», следовательно, понятие энтузиазма до конца века оставалось дееспособным. Четвертый тезис, предложенный Фридрихом Шлегелем факультету в Иене 14 марта 1801 года, гласил: «Enthusiasmus est principium artis et scientiae» — энтузиазм есть принцип искусства и науки.
Маркс писал о Франции конца века: «...При Директории стремительно вырывается наружу и бьет ключом настоящая жизнь буржуазного общества. Буря и натиск по части создания торговых и промышленных предприятий, страсть к обогащению, сутолока новой буржуазной жизни,
26
где на первых порах наслаждение этой жизнью принимает дерзкий, легкомысленный, фривольный и опьяняющий характер; действительное просвещение французской земли, феодальная структура которой была разбита молотом революции и которую многочисленные новые собственники, в первых порывах лихорадочной деятельности, подвергли теперь всесторонней обработке; первые движения освободившейся промышленности, — таковы некоторые из проявлений жизни только что народившегося буржуазного общества»13.
Очевидно, материальный расцвет Франции, новая индустрия, массовая трудовая собственность, приносящая свои плоды, — для романтиков все это до поры до времени скрывало убожество и низменность термидорианских нравов. Даже в термидорианском плотском разгуле они могли усматривать какую-то его правоту, отблески чего можно найти в «Люцинде» — экспериментальном романе Фридриха Шлегеля, например, или же в романе Клеменса Брентано «Годви». Роман Фридриха Шлегеля написан, как считал Новалис, в «коринфском стиле», преувеличенно пышном и цветущем, телесном, при всей его замысловатости14. Романтикам представлялось до поры до времени, что иллюзии революции, рожденные ее подъемом, можно отнести и к последовавшему за революцией мирному строительству буржуазного общества.
В атмосфере материального возрождения страны, откуда пришла революция, складывалось и многое в натурфилософии Шеллинга, с ее главной темой бесконечной производительной силы, заложенной в природе, и неустанно через все пороги бьющего жизнетворчества. Учение Шеллинга подготовил и выработал длительный исторический опыт последних веков, однако опыт, ближайший по времени к этому учению, сообщил ему от себя дополнительный и весьма явственный колорит.
У Шеллинга есть более простой, чем его философские трактаты, отклик этим настроениям жизнелюбия и ободрившейся чувственности, объявившихся в Париже. Стихотворение Шеллинга «Эпикурейское исповедание веры Гейнца Видерпорста»15, хотя и служило полемике с «Речами о религии» Шлейермахера, положительный свой пафос заимствовало из общественной практики тогдашней Франции. Сочиненное в манере старого нюрнбергского поэта Ганса Сакса грубоватыми виршами, оно тем не менее несомненный отголосок материальному избытку,
27
наступившему во Франции, — избытку после героических лишений и героической аскезы, потребованных в свое время от страны революцией. Немецкая национальная форма этих стихов Шеллинга не исключает того, что первоисточник находился вне Германии. Стихотворение написано в год, когда немцы еще не считали события во Франции чужими для себя. Гейнц Видерпорст, от имени которого ведется философский монолог, — народная фигура со склонностью к озорству, к бесцеремонности в своих признаниях и в способе их выражения. Философия его исключает всякие «наукоучения» по образцу Фихте или же хотя бы и самое либеральное, однако же религиозное миросозерцание по образцу Шлейермахера. Шеллинг хочет, чтобы не кафедра у него заговорила, а сама земля — крестьянская земля — пустилась в изложение того, как она понимает мир и вещи. Гейнц Видерпорст от природы язычник, и он глумится над мистиками и спиритуалистами, которым невнятен язык ощущений. В этой маленькой поэме Шеллинг высказался в пользу философского первородства материи в первый и в последний раз. «Материя», сказано в поэме, «единственная правда, наш попечитель и советчик, истинный отец вещей, стихия всякой мысли, начало и конец знания»16. «Только руками осязаемое существует на деле и воистину»17. Истина писана по камням, по мхам, цветам и металлам глубокими иероглифами, она лежит внутри самой природы18. Истина — в женской прелести, в молодом обнаженном теле. Указано, где сочинялось послание Гейнца, — в гроте Венеры, в логове древней богини любви, оно же описано в старинной песне о рыцаре Тангейзере с христианским трепетом и ужасом, — и трепет и ужас обновляются в одной из ранних повестей Людвига Тика, стилизованной под средневековье19. Природа, которую проповедует Гейнц Видерпорст, — это огромное, все и вся заполняющее движение, первоподатель жизни. В поэме Шеллинга презрительно говорится о природе как ее понимает бюргер в своей науке или в своем житейском обиходе. Природа не есть домашнее животное, раз и навсегда вышколенное, чтобы лежать у ног человека. Природа самобытна, своенравна и неистощима, ей неспокойно в «железном панцире» материи, она рвется к высшей форме жизни — к сознанию и человеку. Могучий дух скрывается в природе, в вещах живых и мерт вых, и он домогается, чтобы ему дано было доразвиться, найти в человеке самого себя.
28
«Гейнц Видерпорст», написанный шутливо, этой своей шутливостью развязывал Шеллинга. Декларация в защиту материального, чувственного начала сделана с последовательностью, на которую в своих обычного рода сочинениях Шеллинг не решился бы, здесь же, в сочинении побочном, решился. К тому же в среде соратников-поэтов Шеллинг удостоверился, что и он поэт по-своему. Стихи Шеллинга дали выход настроениям не одного лишь их автора, и другие романтики могли через них узнать свое несмело существующее, тайное credo.
Вся ранняя романтика подернута чувственностью. Еще в свой доромантический период Шеллинг между строк делал признания, совсем не предусмотренные в его философской программе; признания эти относились к Спинозе, который в качестве философа-догматика, не порвавшего с миром объектов, должен бы вызывать у Шеллинга чувство чуждости. Ученик и последователь Фихте, начинающий Шеллинг находит для Спинозы слова сочувствия и понимания, он говорит о том, как мало увлекали Спинозу аналитические тезисы, как тяготела над ним другая загадка — загадка вселенской жизни («das Rätsel der Welt»)20. B далее: «Собственное «я» не составляло для Спинозы собственности, оно принадлежало бесконечной реальности»21. Философствованию Спинозы, по слову Шеллинга, свойствен «покой»22, жизнь объекта поглощает у Спинозы философствующую личность, уравнивает ее с собою, снимает ее волнеиие. В отношении к Спинозе Шеллинг скорее лирик, чем обвинитель. Уже в этот период следования Фихте ои предвосхищает романтиков, отказавшихся от безоговорочной борьбы с «объектом», с материальным миром, в котором будто, бы все есть предательство и яд.
Ранние романтики возвращают чувственности ее права и делают это иной раз торжественно, как Новалис. И на самом деле оправдание это было событием, без него не состоялся бы романтизм, который не может обходиться без любви к цвету и звуку, даже к запахам. Однако чувственность романтиков особенная, не та густая и агрессивная, что у английских реалистов XVÜI века, например, но прозрачная и летучая, закрепленная то здесь, то там и только временами. Она всего лишь легкая оболочка внутри нее творимой жизни, которая светится сквозь нее, будучи главным, тем, ради чего существует искусство. Отдельные вещи в отдельности своей и самодостаточности почти истаяли, ставши органами и орудиями великой
29
единой жизни. Творимая жизнь — это и есть поэзия, сама по себе взятая, поэзия в своей эссенции. Предромантический Шеллинг, приняв романтизм, мог поправить свои прежние высказывания о гибели на просторах «объекта»: нужны были добрые отношения к «объекту» вовсе не ради того, чтобы призвать на себя катастрофу. «Объект» таил творимую жизнь, ту же, что мы носили и в самих себе. Предаться «объекту» — значит прийти к самому себе, вернуться в собственный дом.
Как это по-своему делал уже и Фихте, романтики и Шеллинг понизили значение категории вещи. Есть движение творимой жизни, в нем суть всякой сути. Вещи — весьма относительные точки покоя, временные узлы постоянного движения, пауза ради отдыха и нового собирания сил. Через романтиков традиция эстетики жизни побеждает традицию эстетики вещей, прочно еще державшуюся в XVÜI веке в практике искусства и у теоретиков искусства. Для Германии до романтиков великими поборниками эстетики жизни и ее движения были Гердер и Гете. Но стареющий Гете с его возвратом к классицизму снова предан эстетике отдельных предметов, по особому и строгому выбору прекрасных. В разговорах с Эккерманом Гете то и дело разъясняет, чем хороши те или иные вещественные подробности и в чем красота такой-то мизансцены, из живописи или пластики она взята или из литературного описания. Эстетика вещи имела свои связи с привилегированным обществом, она хорошо соединялась с интересами и вкусами собственников, приобретателей и собирателей, коллекционеров. Эстетика жизни по смыслу своему не в пример демократичнее, устраняет всякое привередничество, не нуждается в избранных предметах и избранных местах, признает жизнь в целом, всем и каждому доступную. О других демократических связях эстетики жизни речь еще впереди. Все они вместе взятые вели ее к победе. Тайно и непрестанно льющаяся жизнь — и в этом первооснова эстетики романтиков: избыток жизни, как называется одна из поздних повестей Людвига Тика. Они любят само течение жизни уподоблять стиху. Оно, собственно, уже есть стих по-своему, поэзия неписанная, незаписанная, и станет поэзией по всем правилам, едва мы того пожелаем. Новалис писал, что ритм, метр, такт, мелодия повсюду — в природе, во всех занятиях людей23. В «Гимнах к Ночи» он воспел работу кровообращения — тайную поэтическую работу жизни в органических телах.
30
Иван Копевской, русский поэт конца прошлого века, один из немногих, откликнувшихся у нас Новалису, писал, по-своему отвечая «Духовным песням»:
И в
сердце плеск круговращенья
Кипит,
как в небе звездный шар...
Тема Новалиса возведена здесь в новую, более яркую степень24.
Поэзия жизни и движения жизни, независимая от тех или иных предметов, форм и тем, должна была приобрести и приобретала огромнейшую широту. Фридрих Шлегель недаром декларировал романтическую поэзию в качестве прогрессивной и универсальной — progressive Universalpoesie. «Она содержит в себе все, что только поэтично, от величайшей системы искусств, включающей опять-таки целые системы, и до вздоха, до поцелуя, как они выражают себя в безыскусственной песне ребенка, полной поэзии»25. Все предметы и все способы выражения — такова сфера притязаний «прогрессивной, универсальной поэзии», приход которой объявлен Фридрихом Шлегелем. Романтики хотят владеть такими же поэтическими пространствами, как Ренессанс в свою лучшую пору, но и этого им мало. Сфера того, что способен был заполнить собою поток жизни, не подлежала обозрению и заранее установленной быть не могла. Творимая жизнь не совмещалась с консерватизмом, и Фридрих Шлегель имел основания называть романтическую поэзию прогрессивной по самой ее природе. Прогрессивная — власть которой все возрастает и возрастает, власть которой бесконечна.
Литературная речь у романтиков должна была передавать это непрестанное струение жизни, поэзия речи должна была вобрать в себя поэзию вне речи. Это лучше всего давалось стиху, с относительностью всех делений и перерывов хода в нем, которые в конце концов преодолеваются, и стих изливается как некоторая жизнь, единая и цельная. Очень важна роль тропов. Тропы, в частности — метафоры, снимают изоляцию образов, понятий, слов внутри фразы. Слова и все представления, за ними следующие, как бы отворяются навстречу другим словам, другим представлениям, словами фраза делится, через метафоры она снова идет к поэтической слитности. У Новалиса в первой главе его романа рассказан сон Офтердингена. Снится ему голубой цветок с насквозь просвечивающими листьями, широкими, блестящими. Цветок стоит на краю
31
у воды. Вдруг листья заблестели еще сильнее, прижались к стеблю, лепестки стали голубым воротником, облегающим чье-то милое лицо. Романтики любили описывать превращения, разрушающие вещи и обнажающие жизнь. Метаморфоза не столько сюжет, сколько явление стилистики. Собственно, все тропы, и более всего метафора, суть метаморфозы, расставание с отдельными вещами и выход в течение единой жизни. Новалис рассказывает о сне Офтердингена: сны предоставляю? силам жизни свободу, неизвестную им наяву.
Фридрих Шлегель был мастером парадоксов и обосновал свое к ним пристрастие: «Все высшие истины любого рода совершенно тривиальны, поэтому нет ничего необходимее, как постоянно давать им новое и как можно более парадоксальное выражение, дабы не забывать, что они все еще налицо и что их, собственно, они никогда до конца не высказывают»26. Полезно сопоставить отношение Фридриха Шлегеля к вещам вещественного мира и к готовым истинам мира духовного. Готовые истины тоже некоторое овеществление. Мысль перестала быть мыслью, жизнью, движением, она застыла и отвердела. Цель парадокса вернуть ей все утраченное, пусть она снова заживет духовно, вступит в общение с другими мыслями, как материальные предметы на ландшафтах романтиков, в которых заструилась одна общая жизнь природы. Парадокс — средство реанимации в мире умственном, выход из омертвевших связей ради вступления в связи живые и активные.
Жизнь с ее тайным поступательным движением в вещах, в телах романтики именовали музыкой. Необыкновенный культ музыки у романтиков тем и объясняется: музыка выражает бытие самого бытия, жизнь самой жизни, чуть ли не совпадает с ними. Тайна жизни, как бы ни были мы от нее далеки в нашей жизненной практике, уже доступна нам через музыку. Слуху дано то, что нам самим, но всей очевидности, никогда дано не будет. Оно доносится до нас, не обладаемое нами, не вступившее в осязаемые связи с нашим восприятием.
Гегель не был сторонником романтизма и даже враждовал с ним, в особенности в свой зрелый период. И все же он умел высказаться на темы романтиков порою сильнее их самих. Мимоходом он обронил романтическое стихотворение в прозе по поводу звука в одной своей книге чуть ли не учебного характера. «Рождение звука
32
о трудом поддается пониманию. Когда специфическое — внутри себя — бытие, отделившись от тяжести, проступает наружу, это и есть звук; это — жалоба идеального, находящегося во власти другого, но вместе с тем и его торжество над этой властью, ибо оно сохраняет в ней себя»27.
Романы в прозе романтики писали с непременнейшими стихотворными, песенными вставками — Новалис, Тик, Брентано, Эйхендорф, Мерике. Делалось это с целью достать звук, разбудить его где-то в глубине изображаемых вещей и так изнутри осветить их.
Романтики понимали работу художника как развоплощение. Собственно, неизбежным моментом развоплощение всегда и всюду входит в искусство, как угодно направленное. Художник всегда стилизует предлагаемое ему действительностью, нечто ослабляет, нечто смещает, нечто устраняет вовсе. Но эти предварительные действия бывают скрыты в законченном произведении, погашены в нем. Иное у романтиков: развоплощение они оставляют на виду, опи придают ему верховпую ценность, снимают акценты со всего, что есть тело, слишком навязчиво указанное разграничение, слишком густо наложенная краска. По духу времени романтики были максималисты, считали себя призванными дать самый широкий безболезненный выход лучшим силам жизни, ее красоте и поэзии, устранить следы тюремного режима, которым они подвергались и подвергаются, устранить всякое над ними насилие и всякое их уродование. Было это написано в романтических декларациях или не было, разумеется, первопричина уродств и насилий лежала в режимах социальных или политических, в продиктованных ими идеологиях, и поэтому на них-то в конце концов падали удары развоплощения. Романтики не доверяли ничему, что отстоялось, уплотнялось, сложилось, принуждало и повелевало. По романтикам даже контур есть деспотизм, обводить образ чересчур черным контуром — это как бы держать его в заключении. Новалис писал: «Лессинг видел чересчур остро и терял поэтому чувство целого во всей его неясности, магическое воззрение на предметы в их освещенности и в их затененности»28. «У Шиллера рисунок слишком резок, чтобы казаться правдоподобным для глаза, как у Альбрехта Дюрера, а не как у Тициана, где рисунок предельно идеален и поэтому естественен»29. Размытые контуры как бы приглашают явление на волю, позволяют ему дышать и жить, как оно того желает.
33
Фридрих Шлегель выражал сожаление, почему у Канта в его таблице отсутствует категория «почти» — beinahe30; приблизительность — одна из неизбежностей романтического стиля. Английский романтик Хэзлит в 1817 г. попрекал доктора Джонсона, известного классициста-просветителя, за его стремление работать одними круглыми цифрами. Дроби доктору Джонсону недоступны31. В круглых цифрах сидит одна только фальшивая точность и стилизованная завершенность. И та и другая даже в лучшем своем виде всегда для романтиков подозрительны.
Колридж свою «Балладу о старом моряке» печатал в два текста. Весь сценарий поэмы, все, к фабуле относящееся, он вынес на поля страниц, и там это идет написанное прозой, колонка за колонкой; в основном тексте, в стихах осталось только внутренне-пережитое, лирически осмысленное и лирически освещенное. Колридж тоже по-своему освободил свою поэму от контуров, ибо фабула и дает рассказанному контуры, и ей он предоставил следовать отдельно, сбоку стихотворных строк, в своем содержании больше ею не стесняемых. Сама поэма у Колриджа струится вне комментариев, комментарии из нее изъяты, ей дана лирическая безбрежность.
Романтики любили туманности и неопределенности, — в них прячется свобода. Где все приведено в известность, там свободы нет. В их ландшафтах, написанных кистью или созданных словами, они с особым к ней влечением изображали даль и дорогу — недостижимую, все отступающую даль. Один из лейтмотивов романтической литературы в стихах и в прозе: звездная ночь, дорога, по которой несется почтовая коляска, рожок почтальона, который трубит сквозь ночь, и только он поравнялся с нами, опять растет между нами расстояние. Даль проста, близка и вечно уходит от нас. Почтовая карета — хороший ример новой эстетики, которая не в вещах. Ибо почтовая карета как вещь, как «вещь в себе» — ничто, сама бедность, но с нею связана идея отдаленности и далей, бесконечного движения к ним, и в этой идее дышит прекрасное. Бесконечность — особая любовь романтиков, быть может главенствующая. Они преданы всем своим существом бесконечности, клянутся ею, дружны ее именем, считают себя детищами ее. Философы и поэты, для которых мир был развитием, не могли не завершать свой мир идеей бесконечности. Мировое развитие включает в
34
себя бесконечность, оно тождественно с нею. Развитие, которому положена граница, которое чем-то и когда-то остановлено или же однажды началось, уже не есть развитие в его всемирном смысле, и в этом случае оно отказывается от самого себя.
Произведения ранних романтиков, будут ли это Новалис, Тик, Брентано в Германии, будут ли это Блейк, Колридж, Вордсворт в Англии, близкие к ним, — лишены объемности. У них только два измерения, и недостает третьего, им не дано кубического пространства, они либо еще не вошли в него, либо его потеряли; рельеф, который Леонардо считал гордостью и красотой изобразительного искусства, у романтиков отсутствует, даже изгоняется. Знаменательна картина Рунге, где изображена женщина с ребенком на берегу ручья. На том же холсте одна и та же тема выписана дважды: в наивно-реалистическом трехмерном виде и в виде одухотворенном — двухмерном. Нижняя часть картины почти полностью повторяет верхнюю. В верхней были ложь и правда, в нижней оставлена одна только правда истинная, остальное отсеялось, лучше сказать — отмылось. Верхняя половина — задремавшая женщина с ребенком, перехваченным правой ее рукой. Тело женщины протянулось вдоль картины, массивное материальное тело, лицо округлое, голова подперта массивным голым локтем. Нижняя часть картины — досказывание всего, что дано в верхней, и переистолкование. Нижняя часть — отражение в ручье. Эта чересчур материальная женщина не отражена, но отражены ребенок и пейзаж. Ребенок ручками тянется к своему отражению, он перегнулся к нему. Где ребенок был передан в своем плотском образе — на берегу, там едва видным было его лицо, зато оно вполне нам открывается в обратном — духовном, имматериальном образе отражения. В смутной и темной бегущей воде «разъясняются» образы верхней части картины — лицо ребенка и лицо цветка. Цветок свесился с берега и чашечка его, сердцевина светятся только в отражении. Рунге на той же картине и воплощает и развоплотцает, ради того развоплощает, чтобы на свободу вышли истина и поэзия, в трехмерных образах как бы взятые под стражу. Для романтиков отражение — более высокая одухотворенность, в этом смысле отражение для них подлиннее, чем отражаемое. У Рунге видимый мир через свои отражения одухотворяется и самоуглубляется, отражения как бы распечатывают его. Романтики охотно
35
вычитают третье измерение, они же охотно ослабляют контуры, выводят на простор прекрасную жизнь, обитающую в природе и в людях. Кубическое пространство — тот же мир, наполненный вещами, как изба Солохи, где, завязанные в мешках, корчились ее поклонники.
Романтики имели особую склонность к двухмерному стилю великих мастеров трехмерного Таково их пристрастие квставным новеллам «Дон Кихота», конечно двухмерным по стравнению с окружающим текстом. Двухмерные новеллы по жанру и по стилю своему почти сказки или полусказки. Заботы материальной жизни из них устранены, это и погашает третье измерение, полностью сохранившее значение в основном тексте. Во вставных новеллах люди преданы интересам высокой любви и сверх-утонченным своим переживаниям. Когда герои этих новелл спускаются в основной текст с его обыкновенной жизнью, то это кажется чудесным превращением: боги позволяют себе принять человеческий образ. Сервантес играл этими переходами от двух измерений к трем и обратно, богатство мира у него и в этом, в способности его то терять свою кубическую форму, то снова возвращаться к ней. Что касается главного героя, самого Дон Кихота, то, кроме одного-двух малодейственных соблазнов, он никогда не выходит из своей двухмерности, а кубический мир имеет вне себя и возле себя в лице Санчо Пансы, своего оруженосца, которому третье измерение как бы препоручается. Служба его в том, чтобы выполнять обязанности, наложенные на него третьим измерением, выполнять их за себя и за своего господина.
У Шекспира романтики облюбовали его комедии, большей частью двухмерного стиля и потому столь либеральные к поэтическому содержанию. Романтики присматривались к манере Шекспира освобождать, когда он того хочет своих лучших людей от уродований, которыми им угрожает рельный быт. Они хотели действовать, как волшебник Просперо, освободивший прекрасного Ариеля из расщепа сосны, куда засадил его Калибан, бестиальное существо.
О Новалисе, стоящем в начале романтической литературы, можно бы утверждать, что у него наличествует цвет и отсутствует все остальное, с чем цвет сопряжен и что дает литературе объемность — иллюзию объемности. Кубический стиль возвращается в романтическую литературу очень поздно, под наитием грозы и мрака, в дра-
36
мах и в новеллах Клейста. Кубический стиль — один из признаков разочарованности Клейста в романтике. Он восстановлен в канун ее падения.
Фридрих Шлегель называл свое время «временем тенденций»32. Из других определений, что такое был романтизм, самым счастливым мне кажется данное Шеллингом на старости лет, когда он заговорил однажды о своей юности и о содружестве в Иене. Шеллинг, описывая тогдашнее состояние умов, говорил, что дух человеческий был раскован, считал себя вправе всему существующему противополагать свою действительную свободу и спрашивать не о том, что есть, но что возможно. Шеллинг сказал главное, если не главнейшее слово: возможность, а не заступившая уже их место действительность, — вот что важно было для романтиков. Всякая возможность осуществляется рано или поздно. Но возможности даны во многих вариантах. Если какая-то из них стала реальностью, то нет нужды возводить ее в догмат. В тылу вещей как они обязательны для нас сегодня, толпятся другие, непризнанные еще, недопущенные еще возможности, и кто знает, не придет ли также и для них свой час. Романтики заимствовали у античной философии идею хаоса. Все начиналось со всеобщего нестроения, с древнего хаоса, как его называл Шеллинг. Хаос не уходит из мировой жизни. Решениям и переустройствам каждый раз предшествует хаос, состязание мотивов, примеривание, угадывание, сопоставление — бурные пробы и бурная игра сил. Идея хаоса прошла у романтиков две стадии. Вначале хаос оценивался в смысле положительном. Хаос — созидающая сила, опытное поле и питомник разума и гармонии. Ранние романтики были очень далеки от иррационализма, они вводили в поле зрения иррациональные величины вовсе не ради того, чтобы подчиняться им. Темный хаос ранних романтиков рождает светлые миры. «Хаос есть та запутанность, из которой может возникнуть мир», — пишет Фридрих Шлегель33. У Шеллинга в «Афоризмах к введению в натурфилософию»: «Хаос — запутавшееся обилие»34. В одном из своих сочинений Фр. Шлегель написал: «Междумирие культуры, плодоносящий хаос, готовящий новый порядок вещей, истинное средневековье»35, — заметим, что здесь средневековью не придается еще никакого самостоятельного значения, оно не оолее как предваряющее состояние, вспомогательное понятие для философии истории. Если уже в этот ранний
37
период у романтиков замечается несколько большее пристрастие к темам хаоса, чем это было тогда натуральным для них, то это объясняется дурными предчувствиями, — до них доходил порою подземный гул истории, неблагоприятствующий им, и это их готовило к трактовке темы хаоса, возобладавшей в дальнейшем, в их худший период. На поздней стадии романтизма хаос — это образ и понятие негативные, и сам хаос темен, и дела его темны. У ранних романтиков все можно получить из рук хаоса — и свет, и красоту, и счастье, для поздних хаос все отнимает и ничего не возвращает. Ранняя концепция хаоса у Шеллинга, у Шлегелей, у Новалиса, поздняя — у позднего Шеллинга, у Шопенгауэра под именем «воли». Впрочем, и у этого философа первоначально концепция хаоса была оптимистична, но в своем виде осталась малоизвестна. В поэзии Тютчева превосходно трактован антично-романтический хаос, причем в двух его лицах; и как начало созидающее, животворящее, и как носитель разрушения и смерти; в иных случаях обе эти характеристики сливаются у Тютчева в одно. Вероятно, Тютчев единственный, через кого традиция этой темы да еще в ее важнейших разветвлениях, дошла до наших дней. Ни у кого из коснувшихся ее не было тютчевского дара речи, поэтической и философской, способной внести вековечную живость в мысль, однажды явившуюся.
Возможность — это свобода, внутриприсущая самой природе вещей. Объективная жизнь не знает однолинейного принуждения — внутри нее, по Шеллингу, творится выбор, какой-то путь получил предпочтение, надолго ли, неизвестно, есть и другие пути, предлагающие, чтобы их испытывали. О природе, о жизни объекта у того же Тютчева сказано: «В ней есть свобода». И если есть свобода в явлениях извне, то тем более должно и можно ревновать о свободе человеческой личности... Возможности, скрывающиеся за всяким реальным образом реального мира они-то и служат источником человеческой свободы.
Называемое хаосом дает опору против догмата и против превращения в догму. В хаосе содержатся еще и другие возможности, помимо тех, что победили на этот раз и поэтому притязают на свою общеобязательность. Воплощаемое для романтиков всегда богаче и многообразнее, чем само воплощение, и если кто спорит с воплощением — прежде всего сам художник, то в этих возможностях, в него не вошедших и реющих вокруг него, он найдет
38
союзников. Нужно сохранять связи с пройденными уже как будто стадиями нашего познания, возвращение к ним может оказаться живительным, и именно оно нас поведет вперед. У Новалиса поэт Клингзор учит, что «в каждом поэтическом произведении сквозь покровы правильности и порядка должен просвечивать хаос»36. В законченном произведении нет ничего окончательного, поэтому нельзя отъединяться от стихии, первоначально питавшей его. Пусть в каждом образе сохраняется его почва, предобраз, хаос, как называет его Новалис. У него сказано: «У каждой идеи множество имен»37. Одно название, одно имя — в этом претензия на замкнутость в себе и окончательность. Множество имен — это раскрытость и готовность идти разные стороны, никому не отказано и далее общаться идеей, делиться с нею своим содержанием.
Фридрих Шлегель: «Для многосторонности необходима не только система с широким охватом, необходимо еще чутье к хаосу, что остался за ее пределами, как для всего человеческого необходимо чутье ко всему оставшемуся по ту сторону человеческого»38. «Для духа нашего равно смертельно иметь систему и не иметь ее вовсе. Поэтому уже не обойтись ему иначе, как объединить одно с другим»39.
Гегель учил тому, что развитие «снимает» одну свою форму в другой, более высокой. Пройденные однажды формы по Гегелю, лишены ценпости и интереса. Они важны отныне только в своем превращенном виде, как они сохраняются на более высокой ступени развития. В мире классицизма то же самое. Классицизм не допускает в свою картину мира сырых явлений, еще не познавших дисциплины мысли и формы. Когда они подверглись ей, когда все в них строжайшим образом урегулировано, тогда они получают заранее для них предусмотренные положение и место. У романтиков все по-иному: снятость у них теряет свой фатальный характер, снятость новой формой, новой ступенью. Снят, но жив и любим в прежнем своем киде. И в оценках, какая форма выше, у них гораздо меньше ригоризма. У них вообще нет фатальности того, что уже свершилось, фатальности факта, поступка, деяния. Факты у них еще никого и ничего не убивают. Это порою дает им широту взгляда, в этом же их слабость. Новалис губил свои лучшие силы на заглядывание по ту сторону смерти; это следствие все того же умственного построения, не отделяющего вчерашний день от сегодняшнего.
39
Романтики никогда не считали предшествующую фазу развития исчерпанной. Это уже позднее, в пору своего упадка, они стали предаваться культу прошлого ради самого прошлого. В лучший свой период они тоже были активны в сторону уже пройденных младших ступеней развития, но с целью найти там важные поправки к настоящему, ради усиления настоящего, ради переделки его. И речи не было о каких-либо радикальных отказах от настоящего. Просветительных идей абсолютного прогресса романтики не разделяли, они были близки к учению о прогрессе относительном, изложенному у молодого Гердера («Еще одна философия истории»), к учению отнюдь не ретроградному. Настоящее не принимается на веру, оно подлежит тщательному рассмотрению и оценке. Нужно установить, все ли лучшие силы былого развития в него вошли, а если не вошли, то как их туда вернуть. Позднейшее не всегда есть полная победа над силами минувшего, иное в минувшем тоже стоит попечения и охраны. Собственно, это условия, при которых появилась натурфилософия, интерес к природе возник на фоне очень ярких интересов к социальной жизни и культуре, не как ускользание от них. Природа рассматривалась как предкультура, как среда, из которой заимствовались строительные камни для культуры. Важно было найти в природе мотивы, культурой заглушенные, извращенные, забытые, и вернуть их к правильному развитию. Важно было найти иные способы соотношения природы и культуры, чем господствующие. Ландшафты Каспара-Давида Фридриха говорят об одном: погруженная в природу культура у него кажется полуживой, суетной и немощной, пейзаж своим величием и своей безмерностью уже одним своим присутствием как бы критикует и снижает ее. На прибрежных камнях в час заката расселось городское общество, разодетое по-модному, и один из зрителей, в рогатом берете, и женщины-зрительницы в высоких прическах, перехваченные в талии, все это фрачное и корсетное народонаселение очерчивается иронически, когда на него идет громада вечера, моря, морских туманов и зорь. Культура строится из материалов природы, и сколь многое она еще не добрала из этих материалов, сколь многое уже сделанное подлежит переделке. Сравнительно с природой культура малосамостоятельна и непрочна. Сопоставленный с природой человек на картинах Фридриха кажется подкидышем и бедняком, существом с неоправ-
40
данными претензиями. Каждый вечер закатывается солнце, природа со стороны вечно повторяющихся событий дана как бы вне времени, люди и цивилизация в подчеркнуто сегодняшнем их облике, с осязаемым налетом времени на них. Особая ирония картины Фридриха в том, что природа — это постоянное, сильное и первичное, а цивилизация — нечто мелко однодневное, бессильное, производное. Природа против цивилизации — это вечность против моды. Фридрих нередко совсем устраняет в своих ландшафтах человека, природа остается сильна, полногласна в своем одиночестве.
Другой пример — романтическая философия познания. Романтики не забывали сказать доброе слово в защиту непосредственности. Она заняла важное место в философии Шеллинга. Вакенродер посвятил ей многие страницы своей небольшой книги. Защитником ее был Гельдерлин. Как правило, романтики вовсе не хотели остаться с нею одной навеки. Им дорог был полет философской мысли, поднявшейся надо всякой непосредственностью, они любили великое искусство, которое одной наивностью не дается. Они хвалили доморощенность Ганса Сакса, а нужнее им был Шекспир, воспитавшийся при блеске молний. Непосредственность для них важна была тоже как некая предварительная фаза, как предсостояние познающей души и познающего ума, когда столь многое ловится и улавливается без воли и расчета, без наших собственных усилий само приходит к нам. Мысль питается непосредственным сознанием, пропуская и упуская в нем то или иное, неумелая в отношении его богатств. Романтики настаивали, чтобы мысль и мастерство внимательнее были к непосредственному опыту, талантливее отзывались бы на него. По-своему повторялась та же коллизия природы и культуры, непосредственное сознание выполняло назначение природы, над которой духовная культура надстраивалась. Здесь, как и всюду, пути романтиков расходились. Непосредственность у Гельдерлина не та, что у Вакенродера. Гельдерлин начинает с нее как с основания, и ждет, как она станет ветвиться дальше. У Вакенродера готовность оставаться навсегда с нею и при ней, на пожизненной роли подмастерья при Гансе Саксе, обуздывающего собственный ум, чтобы тот не заносился выше, чем это дано мастеру.
«Мышление религиозного человека этимологично, все понятия сводятся на первоначальное созерцание, на то
41
своеобразие, что содержалось там»40. Так сказано в «Идеях» Фридриха Шлегеля, создававшихся под сильным воздействием Шлейермахера, — о религии говорится здесь в пантеистическом смысле, принятом у Шлейермахера в его «Речах». Оттуда же, из «Идей»: «Чувству доступно лишь то, что было им воспринято в качестве семени, питалось им, росло, покамест не дошло до цветения и не стало приносить плоды. Итак, засевайте святое семя в почву духа, бросьте искусничанье и празднословие»41.
Фридрих Шлегель написал в журнале «Атенеум»: «Историк — это пророк, обращенный назад»42. Кажется, из всего написанного и сказанного Фридрихом Шлегелем приобрел известность только этот афоризм, ходкий настолько, что его стали приписывать кому угодно, только не настоящему его автору. Так, даже философски просвещенный Борис Пастернак отнес его к Гегелю: «Однажды Гегель ненароком назвал историка пророком». Этому афоризму и этой мысли подобало явиться в романтической среде. Прошлое для романтиков и прошло, и оно еще будет, в прошлом остались драгоценности, либо не вошедшие в дальнейшее развитие, либо вошедшие по искаженной и неполной еще их оценке. Поэтому, изучая прошлое, можно гадать и прорицать. Работа историка для Фридриха Шлегеля заключается в том же разыскивании этимологий, изымании из бывшего того, что будет и покамест покоится в бывшем.
Романтики охотно искали этимологий и в прямом смысле, они в своих произведениях нередко археологи слова, раскапывающие его первоначальное — первозданное значение или создающие подобие его. Страсть к словесному образу, построенному на этимологии действительной или предполагаемой и воображаемой, мы знаем хорошо по Тютчеву. Но Шлегель говорит о некой философской этимологизации, о необходимости держать перед собой, перед лицом сознания всю эволюцию явления, что дает нам свободу в отношении него, ибо нам открыта вся его биография, вся творческая жизнь, им пройденная. Этимологизация помогает нам вступить в поток чужого творчества, оказаться внутри него.
Романтизм установил культ ребенка и культ детства. XVÜI век до них понимал ребенка как взрослого маленького формата, даже одевал детей в те же камзольчики, прихлопывал их сверху паричками с косичкой и под мышку подсовывал им шпажонку. С романтиков начинаются
42
детские дети, их ценят самих по себе, а не в качестве кандидатов в будущие взрослые. Если говорить языком Фридриха Шлегеля, то в детях нам дана как бы этимологизация самой жизни, в них ее первослово. В том же смысле высказывался Новалис: «Каждая ступень развития начинается с детства. Поэтому земной человек, обладающий наивысшим развитием, так близок к ребенку»43. В детях максимум возможностей, которые рассеиваются и теряются позднее. Внимание романтиков направлено к тому в детях и в детском сознании, что будет утеряно взрослыми. На картинах Рунге дети прекрасны и загадочны, жители неведомых миров, у них бездонные глаза, они посвящены во многое, о чем и не догадываются, о чем уже забыли, если знали когда-то, обыкновенные зрители, стоящие перед картиной.
У Рунге есть картина, для романтизма программная. Изображается утренний час, вернее — предутренний, с высоким, высочайшим, несмело еще розовеющим небом, заполняющим добрую часть картины. Все в будущем, все в этом дне, еще не разгоревшемся, сам холст кажется еще условно только заполненным, ибо между небом и землей оставлены великие пространства. Внизу картины нарисован навзничь лежащий младенец с растопыренными ножками и ручками, со взглядом, обращенным к небу. Из своей травы, растущей вокруг него беспорядочно, как ей вздумается, он следит за тем, как в небесах творится утро, он сам творит это утро, этот наступающий день, в ребенке — корнесловие дня, его первичная идея.
Часто романтизму давали дешевое толкование. В этом, мол, и весь романтизм: все сводится к младенчеству, к примитиву, к фольклору и к фольклорному лепету, дальнейшее развитие у романтиков отрицается. Забывали, что, по воззрению романтиков, творящая жизнь и дает душу всем вещам на свете, иначе находящимся в немоте и в косности. Романтики отождествили прекрасное и новое. Как это уже признано было со времени Ренессанса и его эстетики, в прекрасном должна содержаться новизна. Если высший идеал в творчестве, в развитии, то новизна не может не входить в него. Так и у романтиков, новое это развитие, каким мы его только что застали, это последнее его слово, последняя его победа. На одном полюсе лежит повторение, на другом развитие, — оно идет от одной новизны к другой. У романтиков обновить или даже только подновить явление означает приблизить
43
его к требованиям прекрасного. Апологетика развития неотделима от апологетики нового и новизны, они совпадают. Новое рождается в оболочке чуждости, и сама эта чуждость вступает в игру с человеческим восприятием. У Томаса Манна в романе «Его королевское высочество» для принца поэзия и романтика — это жизнь королевских челядинцев, скрытно от него идущая, для него непонятная и потому его волнующая.
Чужое, чуждое более всего ощутимо в своей пограничности старому, традиционному, своими вкраплениями в него. Романтики ищут встреч чужого, нового со своим, привычным. Особая поэзия для них содержится в соприкосновении обеих сторон, в проникновении одного в другое. В чужом находить свое, в своем чужое, в бывшем, настоящем — небывшее и будущее, в национальном — мировое, и обратно, — к этому они стремятся. Каждая такая встреча есть обогащение; неведомое, приходящее извне, раскрывает в нас самих неведомое. Внешний мир расширяется и обновляется, это же изменяет и наше «я», приводит в движение неясности души, еще нетронутую глубину ее, для романтиков полную чудес и неожиданностей. Интерес к первичному, который так силен у романтиков, нисколько не исключает пафоса творимой жизни. К обнаружению первичного развития приходят позднее и труднее всего. Первичное лежит в завязке развития, а обнаружение его, ввод в сознательную жизнь — это и конец и вершина развития, плод колоссальнейших усилий. Речь идет о первичном в порядке бытия, а не в порядке осознания, тот и другой порядок не совпадают и совпадать не могут. Первичное — это наша личность, еще лишенная своей характерности, но в своей наивысшей содержательности, в богатстве всех своих возможностей. То же относится к целым нациям, к культурам. Они еще не получили формы, но в первичном состоянии они более свои, чем это будет с ними когда-либо, это полнота их жизни, хотя это еще не есть настоящая выразительность их жизни. Овладение первичным, оно-то и есть великая зрелость, великая новость развития. Овладевая первичным в себе, нации, целые культуры, отдельные индивидуальности становились наконец самими собой, исполнялась их мера. Хорошо известно, как поздно, после каких трудов и ценой каких достижений приходит к людям это чувство верности собственной личности в ее первоосновах. Стать самим собой
44
никому не давалось сразу же. Романтики верили, что их эпoxa есть и будет эпохой цветения первичного в нациях и в индивидуальностях, что как соседние нации, так и немцы приходят к самим себе. Первичное для романтиков — великий источник обновления, собирания и укрепления сил. В романе Тика Франц Штернбальд постоянно как бы окунается в воспоминания детства, оздоровляющие его. То же самое темы детства в поэзии Клеменса Брентано. Народная культура, фольклор в лучших случаях нужны были у романтиков не для ухода в архаику, а ради того же обновления. Самое древнее у них нередко становилось самым новым, укрепляло в новом. Восхождение к первичному не означало, что держат путь к первомладенчеству, к Адаму, к кембрийскому периоду. Первоисточник мог быть взят на разной временной глубине. Например, XÜ—XÜI века у романтиков — первоисточник современной Германии, но XVI век — другой, более близкий первоисточник. Ренессанс — первоисточник современной европейской культуры. Важнее было другое: видна ли дорога от первичного к позднейшему, или первичное предпочитает закрыться в самом себе. В романе Новалиса средневековье дает просветы в новую Германию, у де Jlaмотт-Фуке оно их не дает.
Новалис: «Поэзия, подобно сну, прерывает для нас обыденный ход жизни, чтобы обновить нас и нашему ощущению жизни сохранить его бодрость»44. Новалис: «В истинно-поэтической книге все кажется столь естественным и тем не менее столь чудесным. Нам думается, что ничто не могло быть иным, что до сих пор мы находились во сне и что только сейчас нам открывается смысл мира»45. Новалис о приобщении к романтическому миру: «Обыденному придается высший смысл, привычному таинственный вид, знакомому достоинство незнакомого, конечному видимость бесконечного»46. «Искусство удивлять приятным образом, умение представить предмет чужим и все же знакомым и притягательным, в этом и состоит романтическая поэтика»47.
Романтики бросают взгляд и вперед и назад, и на предстоящее и на пройденное уже, верят, что все на свете можно пересоздать и переделать, и это связано с их коренными убеждениями. Все подлежит переделке, ибо нее есть работа, все есть творчество. Они очень хорошо видят, что работа — черная работа — составляет условие самого прекрасного, самого воздушного творчества, что
45
творчество появляется из грубых недр работы. Сама природа в представлении Шеллинга находится в непрестанном труде, она ищет выразить самое себя и один за другим отвергает не угодившие ей варианты. Природа знает выбор, и так сказывается ее свобода. Сходным образом Шеллинг описывал возникновение античных богов, как эти легкие и светлые существа вырабатываются из первоначальной тьмы кромешной античной мифологии. Существа чудовищные и лишенные формы должны сгинуть, прежде чем наступит дарение милосердных и блаженных вечных богов. От объятий Урана и Геи происходят ужасающие уроды, сторукие великаны, которых сам родитель их низвергает в Тартар. После является Кронос, после Кроноса, пожиравшего своих детей, наступает наконец царство Зевса, веселое и благоустроенное. Места старых, расплывшихся, пластически-неясных богов занимают боги новые, стройные, отчетливо обрисованные, старого Океана сменяет Нептун, Тартара — Плутон, Гелиоса, титана, вечно юный, прекрасный для человеческого взора Аполлон48. По Шеллингу, история античного мифа — история самой природы, которая после многих проб и неудач, отринутых черновиков высекает наконец из средств, находящихся в ее распоряжении, нечто подобное в глубине ее скрытому внутреннему ее образу. Идея и тема труда, привлекательная и привычная для романтиков, принимала в их представлениях о космосе размеры тоже космические. Во всяком случае, ей принадлежало великое место в их эстетике. Шеллинг, впервые развивавший свою эстетику в «Системе трансцендентального идеализма» учил, что в искусстве соединяются практическое и творческое сознание (раздел VI)49. Если наглядно представить себе мысль Шеллинга, то она вот в чем: всякое искусство есть некое практическое занятие, оно есть дело — поэт, живописец, пластик соделывают нечто, материально созидают. Идеал романтиков — Орфей из древнего мифа, он пел и играл, и под музыку его сдвигались камни, строились города, сады расцветали, — так объясняли купцы в романе Новалиса юному Офтердингену, что такое поэзия. Еще Леонардо прославлял художников как производителей в своем роде, они производят на холсте, производят в глине, в бронзе, в мраморе, воссоздают видимый и осязаемый мир. Кстати сказать, он из этих соображений безмерно ниже ставил поэтов — те ничего не производят, кроме слов, дешево им
46
обходящихся. Мы знаем, как охотно отмечали романтики ремесленную и производительную основу искусства, как охотно они описывали иолуремесленный быт Альбрехта Дюрера, например. Даже поздний Э.-Т.-А. Гофман жаловал своим вниманием художество, идущее от ремесла, хотя и не смешивал одно с другим, как это стали делать многие романтики. Чтобы досказать до конца всю мысль Шеллинга — оно в этом и состоит. Художник делает вещь за вещью, вырабатывает их красками, вылепляет, высекает, отливает. Они не появляются извне, они рождаются из-внутри самой работы. Воссоздавая мир через материальные образы искусства, воображая мир, как если бы мир сам себя воспроизводил материально, мы тем самым познаем его, и очень точно, с наибольшим приближением к нему. Мы воссоздаем, поскольку мы познаем, рука об руку с познанием. В какой степени удалось воссоздать, с какой степенью «сходства» внешнего и внутреннего, — в этом поверка успехов нашего познания, проницательности и проникновенности его. Покамест мы воссоздаем только, мы не вышли еще из области труда, материального делания; когда же в нашу деятельность проникает духовное содержание, когда делание наше становится актом материально-духовным, целостным, личностным, то труд преобразуется в творчество. От романтиков редко ускользала элементарно-трудовая основа всякого творчества, пусть и восходящего к самой высшей выси.
Шеллинг восстановил одну из любимых идей Ренессанса: познания через делание, кто сделал — тот познал. Кажется, это лучшая из заслуг Шеллинга в эстетике, Шеллинг способствовал преодолению в эстетике чистого интеллектуализма, голой познавательности, ничем другим не обогащенной. Сходные с эстетикой Шеллинга идеи можно найти у Фридриха Шлегеля в специально литературном преломлении. В опыте своем «О непонятности» Фридрих Шлегель говорит, что ему хотелось уже давно доказать, насколько всякая непонятность относительна и насколько непонятны для него сочинения Гарве, например: замечание очень задорное, ибо Гарве, просветитель-популяризатор, сделал себе профессию из общедоступности. Фридрих Шлегель: «...я хотел доказать что очень часто сами слова гораздо лучше понимают друг друга, чем люди, употребляющие эти слова»50. Подобно тому как и у Шеллинга, так и у Фридриха Шлегеля средства искусства, слова, глина, краски больше не трактуются
47
как мертвая техника, в них присутствует своеобразная воодушевленность, они не орудия только, они какой-то мерой соавторы автора. Поэтому Фридрих Шлегель и рассчитывает, что слова сами могут найти друг друга в предложении, даже, как он шутит, помимо того и вопреки тому, кто их туда направил. По поводу инстинкта и преднамеренности у Гомера Фридрих Шлегель писал: «Если у него и не было собственных замыслов, то они были у его поэзии и у подлинного автора ее — у природы»51.
Итак, художник, приступая к делу, сразу же находит двух помощников-подсказчиков: один из них — в предмете, подлежащем художественному выражению, другой — в средствах выражения, обладающих своими собственными содержанием и смыслом, заложенными в них самой природой вещей. Эта простая и трезвая идея Шеллинга доступна была и Новалису. У него можно найти подробные рассуждения о том, насколько характер произведения искусства определяется инструментарием, которым искусство пользуется52. И он же кратко и решительно высказывается в духе мастеров Возрождения: «Мы познаем, поскольку мы делаем»53. «Что я постигнул, то я должен уметь и сделать, что я еще собираюсь постигнуть, то я должен подготовиться сделать»54. Однако у Новалиса идеи этого рода получают свой особый магический вариант: искусство создается чуть ли не само собою, а художник не более чем свидетель, как движутся навстречу друг другу камни, из которых возводится здание. Новалис записывал свое мечтание о таком искусстве, где бы поэт от начала до конца оставался зрителем, сам бы не писал, а, собственно, читал написанное ему и для него силой свыше. «Рассказы без связи, однако с ассоциациями, как сновидения. Стихи на одном благозвучии и полные красивых слов, безо всякой связи и смысла — в лучшем случае понятны только отдельные строфы, в них обломки самых различных предметов. Истинная поэзия — и в этом ее лучшее призвание — может в целом иметь аллегорическое значение и воздействовать косвенно, подобно музыке. По этой причине природа поэтична и бывает подобна жилищу волшебника, ученого-физика или же детской комнате или кладовой»55. Эти слова Новалиса часто цитируются как предвосхищение некоторых крайних опытов в современной поэзии. Забывают, что у Новалиса поэзия такого рода — каприз философского
48
воображения, эксперимент теоретика, который он никогда по решился бы осуществлять на деле, — практические опыты этого рода нам у него неизвестны.
Существенная задача — отделить романтиков, уже сложившихся, уже пришедших к самосознанию, от некоторых деятелей немецкой духовной культуры, им предшествующих. Кант, Шиллер, Фихте — их учители и все же не соучастники их движения. Все трое причастны к юридическому социализму, как называл Энгельс некоторые тенденции просветительного миропонимания56. Юридический социализм — программа, в свете которой люди до Французской революции и в самой революции рассматривали уже вошедшее в общественную действительность либо только еще входящее в нее. Юридический социализм — концепция формального общественного равенства, ревниво соблюдаемого, вопреки историческим реальностям. Прямее и действеннее всего она была изложена у Жан-Жака Руссо в его «Общественном договоре», в той книге, что служила практическим назиданием для Робеспьера и для его партии. Герой юридического социализма — абстрактный человек, фигура общественного равенства, некто, равный всякому другому и совлекший с себя всякие личностные отличия. Мир истины, права и красоты есть мир абстрактного человека — согласно просветительству. У Канта субъект теоретического и практического разума, да и разума эстетического, есть тот же абстрактный человек — «субъект вообще». Мир в его истине есть мир, предлежащий ему, мир в категориях сознания вообще. В искусстве царство абстрактного человека открывается нам через просветительский классицизм, по преимуществу через зрелого Шиллера, автора «Дон-Карлоса». Все индивидуальное в людях, в исторической среде, в исторической обстановке в самой природе вещей отпадает, как ненужность и излишество. Все проходит через обработку под средне-обобщенные величины, откуда должны явиться стройность и порядок, хотя не подлежит сомнению угроза бедностью и сухостью.
Высшая апофеотика абстрактного человека и его царства представлена философией Фихте. В ней налицо попытка ничего не оставить, кроме этого царства. Объективный мир рассматривается как всего только препятствие на путях абстрактного «я», которое находится с объективным миром в напряженном процессе. Философия Фихте
49
в высшей степени волюнтаристична. Абстрактное «я» насаждает себя, создает великую державу этики и права, которой ничто противостоять не смеет. Фихте воюет с миром данностей. Все должно идти от «я». Он ведет философскую войну с данностями, как Робеспьер — с неравенством имуществ, он созидает в своем наукоучении подобие «государства добродетели», прокламированного Жан-Жаком Руссо. Сам Фридрих Шлегель хорошо понимал связь идей Фихте с делами Французской революции. Известен его тезис из «Атенеума», журнала иенских романтиков: «Французская революция, Наукоучение Фихте и Мейстер Гете содержат в себе величайшие тенденции нашего времени...»57. Через увлечение Фихте, притом сильнейшее, прошли почти все романтики в свой доромантический период: Шеллинг, Фридрих Шлегель, Новалис, Гельдерлин. Иной раз, и это ошибка по существу, самого Фихте принимали за романтика и многие чисто романтические черты в романтизме относили к его влиянию. Были причины, почему Фихте, будучи по своей картине мира антиромантиком, тем не менее мог пленить своим учением будущих распространителей романтизма. Они находили в нем родственный им максимализм, они находили в нем хорошо понятную им патетику желания и воли. У Фихте воля насмерть враждует с объективным миром, добивается уничтожающей власти над ним, не оставляющей ему даже тени независимости. Новалис создал философскую свою аналогию наукоучениям Фихте, свою философию магического идеализма, в которой все подчиняется человеческой воле, из человеческого организма изгоняется все автоматическое и бессознательное, все находится под управлением сознания и воли, человек заведует всем в собственной своей жизни, он заведует смертью — умирает или не умирает, как он сам выбрал. Магический идеализм у Новалиса совмещался, однако, с совершенно противоположной настроенностью, с поощрением всему инстинктуальному и стихийному. Новалис ведь прислушивается, что ему внушает собственное кровообращение, хотя он же намерен был отдавать ему собственные приказы, самые точные и строгие. У Новалиса далеко не все совпадает с Фихте. Очевидно, и в его глазах утратила свой престиж эта колоссальная, без остановки работающая воля, заведомо лишенная объекта, который умел бы за себя постоять, и поэтому бессодержательная и пустая. Воля, как ее понимал Фихте, обезли-
50
чивала все вокруг и поэтому становилась сама мертва и безлична.
Так или иначе, романтизм начался с восстаний против Фихте, против Шиллера, против юридического социализма и его героев и догматов. Эти идеологии создали пропасти между человеком и природой, между человеком и историей. Шиллер, сочиняя исторические драмы, испытывал некоторый страх перед историей, перед историческим материалом. Ему нужны были немалые старания, чтобы, оставаясь самим собой, в последние свои годы допустить в свои драмы стихию подлинно историческую, усилить в драмах колорит исторических реальностей, как это было им сделано в трилогии о Валленштейне, например.
Перед романтиками постоянно возобновлялась великая коллизия их времени: между тем, что дано природой и историей, что послано, и тем, что вносит в мир современное поколение. Они не могли и не хотели считать посланное соблазном только и предательством, как привычны были думать их старшие современники. Когда Фридрих Шлегель свиделся с Фихте, которому он привык поклоняться до ожесточения, то ему пришлось увидеть, до чего наг этот бог его, до чего равнодушен к любой науке, имеющей свой объект. Филолог-эллинист, жадно изучавший древние и новые культуры во всех их подробностях, историк по своему пафосу, он услышал от великого Фихте такое варварское заявление: чем заниматься историческими науками, лучше пересчитывать горошины58.
Шеллинг, вначале подвластный всецело идеям Фихте, торопившийся доразвить иные из них, прежде чем сам учитель успел это сделать, с известных пор повернул и против Фихте и против всего, что в области мысли связано было с мотивами «юридического социализма», подчиняло мироздание интересам права и этики. Разрослась его вначале еще столь робкая защита Спинозы и преданности того объективному миру. Философия природы, разрабатываемая Шеллингом, уже по теме своей шла против всего направления, приданного философии через Фихте. С точки зрения Фихте и его приверженцев, природа была, собственно, запрещенным предметом. Интерес к природе был интересом к тому, что существует само по себе, тогда как всюду следовало выдвигать автономию человека, созидающего мир, как он этого хочет и как это ему нужно. Творимая жизнь, берущая свое начало в глубинах
51
природы и завершаемая человеком, который тоже вступает в поток ее, конечно была понятием, совершенно неугодным наукоучению, неудобным для него, действующим разрушительно. Если у Фихте и был намек на жизнь, то жизнь заключалась разве только в бесконечных пререканиях между «я» и «не-я», досконально описанных в его системе.
Из всего сказанного не нужно выводить, что романтики пошли на полнейший идейный разрыв со своими первоучителями, с людьми, так или иначе находившимися в зоне духовных влияний Французской революции. Ничуть. В собственных своих программных сочинениях романтики весьма озабочены по-новому, по-своему поддержать прежние связи. Независимая природа у Шеллинга не превратилась в некую шкалу мировой стабилизации, в ней в укрупненном еще виде продолжали жить беспокойство и движение, которому подвержено было у Фихте «я», царившее в его системе. Самое же главное: вовсе не был подавлен принцип воли и свободы, которым так дорожили и не могли не дорожить предшественники. Только сейчас воля и свобода осуществлялись не вопреки природе вещей, а в союзе с нею. Идея возможностей тут и играла свою решающую роль. Иначе говоря, в объективном мире существует не один путь, а множество путей развития, и жизни и нам позволено выбирать. Множественность путей — один из важнейших мотивов романтизма, дающий людям простор и воздух. Множественность путей — более высокий принцип, чем деспотический волюнтаризм Фихте. Множественность дает выход человеку и не убивает мира вокруг него, — есть выход и есть пространство, которое стоит того, чтобы выходить к нему. Возможности: это и наша воля, это и наша разумная восприимчивость к данностям, которые мы застаем. В том, что мы не сами создали, в том, что нам послано природой и историей, мы можем тем не менее найти свое. Принцип возможностей был особой формой сохранения связей романтиков с идеологией попутного революции просветительства, при условии весьма критичного к просветительству отношения, при серьезнейших дискуссиях с ним и против него, при совсем чуждой просветительству основе движения. В более позднюю пору Фихте пытался усвоить себе отдельные мотивы в учении Шеллинга, бывшего своего адепта, — разумеется, из победоносной тогда натурфилософии. Шеллинг отозвался, что
52
это похоже на то, как если бы кто-либо захотел капитель древнедорической колонны увить листьями аканфа с колонны коринфского стиля59.
Сказано кичливо, и все же примечательно, что Шеллинг, даже величаясь перед Фихте, сознает общую для них основу — сравнения взяты из общей для обоих области, в данном случае это античные архитектурные ордера.
Возможности ничуть не означают отказа от этических и эстетических критериев или же равнодушия к ним. Они показывают другое — критерии эти больше не навязываются извне, а соответственное им ищется и отыскивается в недрах самой природы вещей. В самом строе жизни как она есть я ищу возможных этических начал, объединяюсь с ними, развиваю их, а не диктую их со внележащих позиций. То же самое красота. Я умею найти ее, она ко мне приходит, она не дело прививки или внушения. Шеллинг: «Поэзия та же философия, но ей подобает быть скромной и не позволять высказываться одному только субъекту. Да будет она неким внутренним событием, присущим предмету, как музыка сферам. Сначала поэзия самих вещей, и только вслед за нею поэзия слов»60.
Сами возможности, само их всплывание, сама их актуальность мало отделимы от опыта революционной эпохи. Стоит вспомнить того адвоката из Арраса, который стал Робеспьером, — вот простейший пример обнаружения и движения возможностей в те годы. Новалис писал Фридриху Шлегелю в письме от 1 августа 1794 г. «Нынче не годится чтобы швырялись таким словом как сновидение. Реальностью становятся вещи, которым лет десять тому назад было бы отведено место в доме сумасшедших философов»61. Открылась арена для событий и для людей, которые иначе никогда не узнали бы жизни на публике. Домашнее стало общегосударственным, захолустность — столичной и прославленной, инициатива и дарования открылись там, где их никто не подозревал. Если бы не эти смещения, Фридрих фон Гарденберг не стал бы Новалисом — делал бы дворянскую карьеру, принятую в его семейном кругу, и остался бы в стороне от литературы и философии, где под псевдонимом Новалиса было ему суждено ознаменовать себя. Каролина, вероятно, провела бы свою жизнь в качестве дочери одного профессора и жены, а потом вдовы другого, сойдя в могилу как
53
безымянность. Новалис: «Привлекательность республиканского строя та, что все получает в нем большую свободу выражения, добродетель и порок, добрые нравы и беспорядочность, добродетель и глупость, талант и неспособность выступают гораздо резче, и в этом республика подобна тропическому климату, исключая лишь ровность его»62. Старый режим направлял человека в жизнь согласно его сословию и имущественному цензу, профессии, им полученной от предков. Правило было таким: на одного человека только один выход в жизнь. Сейчас выходов много, и ведется спор внутри человека: какую же из собственных личностей, какую из собственных возможностей ему выпустить в свет. Так становятся понятными странные афоризмы Новалиса: «Каждый человек — маленькое общество»63, «Совершенный человек — это маленький народ»64. Новалис подразумевает, что каждый человек дан самому себе не однажды, что в нем содержится материя, из которой он может быть создан и в одном и в другом образе, и тут бывают внутренние тяжбы и раздоры. Облик, в каком человек ходит перед нами, не содержит в себе ничего непреложного, сквозь этот облик может проглядывать совсем иной, с не меньшими, а то и с большими правами на осуществление. У Э.-Т.-А. Гофмана в большом лице волшебника Проспера Альпануса просвечивало еще совсем иное, маленькое лицо. У Гофмана и у других романтиков к каждому персонажу даны еще варианты его же: один вариант сбывшийся, что не уничтожает значения несбывшихся. Фридрих Шлегель полагал о человеческой личности: в ней представлена целая система персонажей (ein ganzes System von Personen), ей позволено менять постоянно собственную сферу, вживаться в любую сферу, в любые реальные контексты, и не одним только умом и воображением, а всеми силами души65. Еще из Фридриха Шлегеля: «Большинство людей подобны возможным мирам Лейбница. Это всего лишь равноправные претенденты на существование. Как мало таких, кто существует на самом деле»66.
Романтики относились полемически к литературе характеров и психологического анализа. Программные заявления Новалиса: «Удивительно, что внутренний мир человека до сей поры рассмотрен так скудно и трактован так бездуховно»; «Так называемая психология — это лавры, занявшие в святилище места, положенные истин-
54
ным богам»67; «Многообразие в трактовке характеров, — только бы не куклы, только бы не так называемые характеры, — живой, причудливый, непоследовательный пестрый мир (мифология древних)»68. Характеры неприемлемы для романтиков, ибо они стесняют личность, ставят ей пределы, приводят ее к некоему отвердению. Известен интерес у поздних романтиков к маске — у Брентано, у Гофмана. Маска — это ступень отвердения, следующая за характером, маска — характер в «потенцированном» виде, если пользоваться языком Шеллинга. Новалис, как видим, говорит о куклах. Характер — та из возможностей человека, что победила и требует поэтому для себя догматического значения. Романтики исходят из дуализма души и характера, — в душе содержится человек во всех его возможностях, в путях, им не пройденных, но возможных для него. Характер — действительность человека, развязка коллизии между ним и внешним миром, скорее всего компромисс между обеими сторонами или — хуже того — печать, навсегда оттиснутая внешним миром, поражение от внешнего мира, понесенное человеком. Для романтиков самый естественный способ воссоздать человека через лирику и музыку. Это прямая связь с его душой, с непочатым в ней, с тем, что не профанировано в ней современниками и их бытом. В драме Тика «Голо и Генофефа» мы знаем о молодом Голо многое, но вот его удивительная элегическая песня, которая поется в драме не однажды, она-то и есть Голо в его доподлинном виде, каков он по душе своей, не для наблюдателей и не для соглядатаев. Для романтиков лирическая характеристика дает великое проникновение в человека, перед которым бедна и слаба характеристика характером. Персонажам романтиков достаточно сыграть музыку, свою или чужую, чтобы дать знать о себе, кто они такие: Иозеф Берглингер у Вакенродера, Иоганн Крейслер у Гофмана. Самые красноречивые исповеди происходят через музыку. Описание музыки, которую играет персонаж, предпочтительнее психологического анализа по его же поводу. В лирику и в музыку романтики верили, в психологию не верили, психология вторила дурному внешнему миру вокруг, она только переводила его на свой язык. Если спросить, где у такого много писавшего автора, как Тик, автора повестей, романов, драм, что-либо похожее на характеры, то мы долго будем искать и скажем наконец с некоторым смущением:
55
характеры почти отсутствуют, разве маски и масочки в его комедиях — кота, что ходил в сапогах, волка, что убил Красную Шапочку. Впрочем, нельзя забывать Вильяма Ловелля, очень разработанного, хотя Ловелль скорее «тип мировоззрения» чем человоческий характер. Как правило, характеры даны животным: домашним и не домашним, люди не удостаивают облекаться в характеры. Сам характер, сама характерность содержат уже предрасположение к комизму; поэтому романтики и берегут своих персонажей, в особенности положительных, ото всякой характерности. Новалис: «Многие люди производят впечатление, будто их духовная сущность строит гримасы своему видимому образу»69. Фридрих Шлегель: «Все люди отчасти смешны и гротескны, потому только, что они люди. И художники в этом отношении тоже двойственны. Так оно есть, так было и так будет»70.
Есть и другая сторона в романтической трактовке человека, в иных случаях почти памфлетной в отношении человека как такового. Возможности — они у всех, они пребывают во всех и в каждом. Тезис Новалиса: «Полезность всякого человека»;71 «Все люди должны располагать правом на престол»72. Шлейермахер: «ни один человек не тождественен другому. В жизни каждого есть некая минута, подобная серебряному блеску у неблагородных металлов, когда этот человек, то ли приблизившись к существу высшему, то ли от прикосновения некой электрической искры, бывает поднят над самим собою и достигает высочайшей вершины, доступной ему»73. Слова Шлейермахера приложимы к самим ранним романтикам, к их Иене — ведь годы Иены и были у них временем серебряного блеска.
Гротеск, разумеется, еще не вся истина о носителе гротеска, о том, чье лицо гротеск, чьи быт и обиход тоже гротеск. У романтиков всегда допускается предположение, что за комической, гротескной личиной скрывается личность, никаким комизмом не поврежденная, значительная и целостная. У Фридриха Шлегеля можно найти эскизы таких художественных допущений. Вы имеете дело с отрицательными, ущербными явлениями, они вас угнетают и сердят, вы хотите отделаться от них смехом и сатирой — невеселыми, но стоит совершить в сознании некоторую перестановку, и этот юмор досады сменится свободным, праздничным юмором. Вообразите, что ограниченная и убогая личность, с какой вы имеете дело, — это всего лишь
56
первый подступ к тому человеку и, углубившись в него, вы найдете кого-то совсем иного, сидящего за этой личностью, кого-то, полного творчества и движения сил. В этот наш книжный век нельзя избежать необходимости перелистывать множество плохих изданий, а иные из них приходится и читать. Будем готовы к тому, что есть книги совсем глупые; только от нас самих зависит найти в них занимательность. Мы должны их рассматривать не иначе как остроумные произведения самой природы. «Лапута повсюду — либо нигде. Все зависит от акта нашей фантазии, от нашего произвола, и вот мы уже в Лапуте»74. Как считает Фридрих Шлегель, следует дойти до более глубокого пласта в человеческой натуре, и тут окажется, что глупые, бездарные книги нарочно такими написаны, такими их задумал автор — они акт свободы, или опять-таки «произвола», как предпочитает выражаться Фридрих Шлегель. Они на самом деле произведения таланта, который решил прикинуться, поиграть в свою заведомую будто бы бездарность. Ум надел на время личину глупости или даже тупости, чтобы лучше ощутить самого себя. Ум и талант, если хотят, могут себя повысить в степени, могут себя понизить. В их природе лежит способность распоряжаться всеми степенями одаренности. В русском поверье о лешем, который сам выбирает свой рост — то мал, как карлик, то становится в один рост с идущим по лесу дождем, есть что-то похожее на эту мысль Фридриха Шлегеля.
Эмоции наши решительно перестраиваются при такой перемене взгляда нашего на читаемые книги. Мы сердились, мы гневались, когда же мы видим, что бесталанность была игрой, была тоже проявлением таланта, то мы способны только на добрый смех.
В том же духе и шутки Фридриха Шлегеля, отнесенные к Жан-Полю Рихтеру. Он считает Жан-Поля безвкусным писателем и сожалеет, зачем Жан-Поль не сознает этого. Он стал бы тогда как ему бы этого захотелось управлять собственным безвкусием и извлекать из него эффект за эффектом. Несвободный порок стал бы тогда свободной добродетелью.
Фридрих Шлегель посмеивается по поводу «Мемуаров», написанных Гиббоном, прославленным историком. Но «Мемуары» могли бы очаровывать, считает он, стоит только допустить, что их сочинили нарочно, что они написаны от имени вымышленного персонажа с тем же строем души и мысли, что у Гиббона. Надо себе представить,
57
что сочинили и самого сочинителя. Фридрих Шлегель как бы предвидит будущие опыты мировой литературы, наших А. К. Толстого с Жемчужииковыми, сочинивших Козьму Пруткова заодно с его произведениями, Кристиана Моргенштерна, тоже сочинившего собственного поэта Пальмштрема, он же и персонаж.
Эти эпизоды из «Письма о романе» Фридриха Шлегеля незаметно уводят нас в область романтической иронии, о которой .необходимо говорить отдельно и подробно. Здесь пусть будет сказано только о знаке относительности, под которым стоит романтическая ирония. Для нее относительна всякая действительность, кроме жизни и мира в целом. Неумелость, бездарность не могут быть окончательным суждением о бытии, ибо в целом бытие есть творчество, есть игра жизни, талант и гений ее. Поэтому Фридрих Шлегель и предлагает рассматривать бездарность как маску, шутки ради на себя надетую гением жизненной силы. Не надо теряться перед данностью, перед непреложностью, перед необходимостью. Они тоже не более чем личины мира в его свободе. У Фридриха Шлегеля трактуются не только возможности, присущие отдельной человеческой личности, но и возможности, которые содержит в себе универсум, — возможности внутренней свободы, к которым через универсум приобщена и частная личность. Романтическая ирония велит от меньшей действительности восходить к наибольшей и глазами этой наибольшей глядеть на меньшую, трактовать ее и оценивать.
Интерпретация людей и явлений со стороны возможностей, независимо от того, раскрылись ли возможности и насколько раскрылись, широко применялась у романтиков в области литературной и художественной критики. Не столь важным они полагали, что на деле явил тот или иной автор, сколько важны были скрывавшиеся в нем богатства, которыми он мог бы нас одарить. Собственно, в этом принцип «характеристик», написанных Фридрихом Шлегелем. Еще в 1791 году Фридрих Шлегель сносился с братом, как следует трактовать литературу. Поводом послужил Вольтер75. Говорилось о том, что писателя, исторического деятеля надо в мыслях наших развить из него самого и сопоставить это с его реальным развитием, в его соответствиях с историческими обстоятельствами; иными словами, Фридрих Шлегель хотел в Вольтере действительном найти и Вольтера возможного, если пользоваться позднейшими его терминами. Через шесть лет Фридрих
58
Шлегель пишет о Лессинге и выполняет задуманное прежде для Вольтера76. Опыт о Лессинге мало подробен в характеристике действительных, вполне осязаемых достижений Лессинга, теоретика литературы и драматического автора. Вся ценность не в писаниях этого писателя, а в нем самом, в его «революционном духе»77, в характере Лессинга, в «большом, свободном стиле его жизни»78. Нужно искать Лессинга в Лессинге («Lessingen im Lessinge»), возможного Лессинга в реальном79. У романтика Фридриха Шлегеля сердце не лежало к Лессингу-классицисту, автору с отточенной манерой, свое он предполагал в Лессинге «возможном», притаившемся в глубинах его натуры и не осуществленном, он сам, Лессинг, стоил большего, чем все его таланты80.
Как для Фридриха Шлегеля есть Вольтер и Вольтер, Лессинг и Лессинг, так для Новалиса есть Клопшток и Клопшток — один нам известен, другого мы угадываем. «Произведения Клопштока большей частью кажутся вольными переводами и обработками из неизвестного поэта, сделанными талантливым, но в поэтическом отношении неодаренным филологом»81. Кстати, отзыв Новалиса о Клопштоке поразительно сходствует с отзывом Пушкина о Державине. Вероятно, по всей Европе ходил в те десятилетия ветер вольной критической мысли, не прикрепленной к своему объекту, чтобы затем тем вернее вернуться к нему и постичь его со всею точностью.
Новалис предложил собственную теорию художественного перевода82. У романтиков перевод — философская тема. Перевод у них — вдохновенная борьба с подлинником, с вещью в ее текстуальном виде, ради иного содержания, которое вещь таит и которое не получило в тексте подобающего выхода. По Новалису, существует перевод грамматический и перевод мифологический: либо вы передаете вещь как она есть, копируете ее, имитируете, либо вы проникаете в ее сокровенную жизнь, развиваете не развитое самим автором и становитесь поэтом самого поэта таким образом. Есть еще перевод-переделка, но перевод-миф от него весьма отличен. Миф не переделка оригинала, но действительное постижение того идеала, который содержится в нем. Перевод-миф ближе к подлиннику, чем перевод-переделка и, более того, чем перевод грамматический. По Новалису, перевод-миф обладает величайшей точностью. Новалис толкует свою теорию широко, она
59
применима не только к авторам и книгам, всякая вещь жизни поддается переводу в миф, преобразованию в миф.
У романтиков мифу уделяется особое внимание. Миф античный или средневековый для них высший вид поэзии. Они задумываются, способно ли новое время возродить миф по-новому, сами делают опыт воссоздания мифа. Конечно, многие из прославленных произведений романтиков — новые мифы. «Ундина» Фуке есть миф. «История Петера Шлемиля» Шамиссо — то же самое. В лучших новеллах Тика, написанных в лучший его период, просвечивают основы мифа природы и человека. «Романсы о Розах» Клеменса Брентано, «Эликсиры дьявола» Э.-Т.-А. Гофмана тоже суть мифологические построения, причем осложненные и громоздкие, несравнимые по простоте и ясности с созданиями Шамиссо и Фуке. В романтической Европе до самой поздней поры ее миф был плодовит, к мифу были неравнодушны писатели многообразнейших ориентаций — Байрон, Гоголь, Бальзак, Проспер Мериме.
Миф — некий сверхобраз, сверхвыражение того, что содержат природа и история, миф — явление в его максимальной жизни, какой фактически оно еще не обладало. Миф — максимальное развитие, зашедшее далеко вперед сравнительно с совершившимся на самом деле, отсюда и гиперболическая обобщенность мифа. В мифе выгоняется на поверхность вся скрытая подземная жизнь явления, пусть это будут положительные силы, там лежащие, пусть это будут разрушительные. Неявное, возможное только представлено в мифе на равных правах с действительным и явным, без различения между ними, чаще всего с преимуществами в пользу возможного. Высоко обобщенный стиль вносит в миф философичность, а неразличение между тем, что дано и чего не дано, сближает миф с фантастикой. Философский стиль и фантастика, сказочность, необычайность соприсутствуют у авторов, писавших по высоким образцам мифа. Из опыта литературы поновее хороший пример мифа, переплетенного с философией, «Contes philosophiques» у Бальзака. Здесь воображение и мысль действуют с равной свободой, в освобожденности своей они помогают друг другу, поощряют и еще увеличивают энергию, присущую им, взятым порознь. Миф — усиление внутреннего смысла, заложенного в художественный образ, и смысл при этом доводится или, скажем, возвышается до вымысла.
60
Шеллинг в «Философии искусства» аттестовал великих поэтов новых веков как мифотворцев. Шекспир и Сервантес, по Шеллингу, в созидании мифов соперники поэтов античности. Как Шеллинг считает, и Гамлет, и Лир, и Фальстаф, и Макбет — все подряд фигуры своеобразно мифологические83. Особая историческая, жизненная, художественная зрелость шекспировских фигур действовала парадоксально. Их великий и сверхвеликий реализм позволяет Шеллингу называть их мифами нового времени. Они подымались над общедоступной действительностью национальной и мировой истории, отделялись от нее, чтобы вознестись в сферу мифа и свойственных ему поэтических ценностей.
О Сервантесе Шеллинг говорил то же самое. Сервантес по материалам своей эпохи создал Дон Кихота и Санчо Пансу, которые впечатляют нас как лица, из мифа пришедшие. Оба они, и Дон Кихот и его спутник, — вечные мифы («es sind hier ewige Mythen»)84, дата сложения которых, однако, хорошо известна, как известен и их автор.
В 1790 году Гете впервые опубликовал сцены из «Фауста», под названием «Фауст. Фрагмент». В 1808 году появилась в печати вся первая часть поэмы целиком. Гете с «Фаустом» заметнее, чем другие поэты, содействовал обращению романтиков к мифу. После «Фауста» миф для них сила, доказавшая себя. «Фауст» — самый близкий пример мифа, восстановленного в своих правах и по возникновению своему и по содержанию принадлежащего новому времени. Как Шеллинг писал, «Фауст» — это «извлечение из нашего века, чистейшая его эссенция, здесь и содержание и форма извлечены из носимого нами в себе»85. Были еще и другие мотивы, по которым столь важен был «Фауст» для своих немецких современников. Он связан был с национальной традицией, еще до Гете предсуществовал в немецкой народной легенде, в народной книге, в ярмарочном театре. По словам Шеллинга, доктор Фауст у немцев — первенствующее лицо в их национальной мифологии86.
Фауст — один из тех человеческих образов в литературе нового времени, что отмечены титаничностыо. Все это идет от мифа — масштабы, калибр привнесены мифом, который, проникнув в образы поэзии иной раз незаметно, с тех пор владычно в них присутствует.
Впрочем, не станем спешить с заявлениями о незаметности. Ибо миф любит таиться, но любит также и выда-
61
вать себя, свою ирреальную природу. Часто фантастика мифа играет не на главном направлении, и миф впадает в игру где-нибудь в боковых, а то и побочных эпизодах. Сам принц Гамлет датский или же доктор Фауст в главных своих чертах как будто бы строго написанные фигуры, их стиль как будто бы реальный стиль. Все же одному из них послан дополнительно призрак покойного короля для сообщений и общения, а другому придан супранатуральный черный пудель, придан бес из ада с деловым договором в руках. Не говорим уже, что по надобностям фабулы Фаусту приходится наведываться в кухню ведьмы, например, и что для него становится неизбежным знакомство еще с иными странностями дневного и ночного мира.
Охотнее своих предшественников романтики выписывали в мифе сделанные ради него фантастические допущения. Они развивали их в духе вольной игры, часто забавлялись и тешились ими. У Фуке, у Шамиссо, у Брентано, у Гофмана теряется то здесь, то там граница между мифом и волшебной сказкой — сказочкой, потешным зрелищем, каприччо.
Фантастика, вошедшая в миф, хотела быть истиной и действительностью, высокой разновидностью обеих. Она также хотела оставаться самой собой, быть верпой игровой своей природе и мало стесняться обязательствами, наложенными на нее взыскательными инстанциями художественного познания. Именно через игру возможное, заложенное в миф, дает узнать о себе. Покамест возможное остается только возможным, оно играет, и игра сокращается или прекращается вовсе, когда возможное обретает себя как действительность, получает реальное направление, цель, обжимается со всех сторон действительностью, в среду которой оно вступило, подобно тому как обжимается на заводской площадке текущий и извивающийся змеевидно-расплавленный металл87.
Романтики — призванные, убежденные историки, историки в общем смысле и в смысле специальном, историки культуры, историки искусств, историки литературы. В их миросозерцании историзм — существенная сила, они-то по преимуществу его и узаконили, сделали обязательным для последующих поколений, хотя историзм пользовался почетом и влиянием уже накануне романтизма — у Гердера, активнейшего философа истории, у Шиллера, у Гете. Как поколение революции, романтики наделены были особо живым отношением к историческому прошлому —
62
и к недавнему и к очень давнему. Историзм у них всегда и повсюду, он и в тех областях, где по тогдашним представлениям он заведомо исключался. Шеллинг самое природу, почитавшуюся вечной и неизменной, подвергает историческому рассмотрению. Собственная история природы огромна, история человека в ней небольшой заключительный отдел, но все богатство и могущество своего развития природа переносит на эти последние эпизоды, где человек главенствует. Современное общество освобождало себя долгие века от стеснительных связей, оно несло с собою груз новых и старинных надежд, на него возложенных с разных сторон, и очень издавна ему предъявленных счетов, на которые оно обязывалось ответить. Вместе с революцией и нечто начиналось и нечто завершалось, приобретало цельность и единство выражения. Именно общий дух пройденного и пережитого романтики старались разгадать и распознать, отожествляя самих себя с этим духом. Подбивались итоги новому времени и развитию, до него еще бывшему, где для нового времени созидались условия и предусловия. Романтики очень далеко озирались на прошлое, до самых его начал и до начала этих начал, романтики пользовались даром дальновидения, которым одарила их революционная эпоха «...Вдруг стало видно далеко во все концы света», — как сказано у Гоголя в «Страшной мести». Революция завоевала духовным и материальным образом будущее, духовным образом она завоевала и прошлое, ум и чувство приобретали власть над ним, не давали ему уйти в небытие.
В своих исследованиях и размышлениях романтики не ограничивали себя одним только новым временем европейских народов и его предпосылками. Очень важное место занимает у них, казалось бы, чуждая для них и чересчур традиционная античная тема. Так во всех главнейших сочинениях романтиков, посвященных культуре и ее истории, а это — сочинения еще совсем юного Фридриха Шлегеля, превосходного знатока древней Греции, мечтающего стать Винкельманом литературы, сделать для античной литературы нечто похожее на героические труды Винкельмана по изобразительному искусству древности88. Это большие лекционные курсы Августа Шлегеля — берлинские о литературе и об изящных искусствах, так и не связанные им самим в печатное издание89, и знаменитая его книга, публикация его венских лекций о драматической литературе90. Это также и сочинения Шеллинга —
63
о методе академической науки91 и наконец, его философия искусства92. При жизни автора не изданная, и уже до Гегеля примечательная, как, впрочем, и у всех романтиков, она была опытом поставить в живые связи социальную историю, формы общества, его культуры с фактами художественного творчества. Тут названы только главнейшие выступления романтиков на ролях историков большого стиля по темам культуры и искусства; не называю их отдельных статей, порою очень значительных по содержанию, и не указываю отдельных страниц с этой тематикой, вошедших в трактаты совсем иного характера и замысла.
У романтиков античность неожиданным образом занимает заметнейшую часть в их построениях, несоразмерную с воздействиями античности на их собственное творчество. Конечно, у них разрабатывалась своя собственная античность, мало совпадающая с античностью классицистов, старых и новых, отлично и от Расина и от Гете с Шиллером. Каков бы ни был вклад, сделанный романтиками, в понимание античности, не сама по себе античность тревожила их. Настоящий предмет романтических интересов, романтическая любовь и страсть — новое время, ради него и ведутся штудии античности. Романтики в истории физиономисты, как старший их современник Лафатер в отношении индивидуального человека. Они хотят определить лицо эпох, наций, культур, и прежде всего и более всего — лицо нового времени в особых, ему одному свойственных чертах. Античный мир поставляет им огромный сравнительный материал. У романтиков и у их современников античный мир — едва ли не единственный источник сравнений, он давал начало их сравнительному методу и сравнительным характеристикам, и уже в этом одном состояла его великая роль. Романтики сопоставляют античный мир и новый мир как модель с моделью, ради самоосознания нового мира. Напрасно духовную биографию Фридриха Шлегеля делят на два отдела: сначала — энтузиазм по поводу античности, даже не энтузиазм, а беснование, и потом беснование по поводу «модерна» —нового времени. Глубочайшая заинтересованность новым временем свойственна была Фридриху Шлегелю от самых его духовных основ, его античные штудии постоянно перебиваются испытующими, сравнивающими, сверяющими взглядами, брошенными им на современность. Уже в самый ранний период Фридрих Шлегель сделал немало первоклассных замечаний по
64
поводу нового времени в его отличиях от античности, в его своеобычности. Фридрих Шлегель описывал античность с одинаковой выразительностью в том, что она имела сравнительно с новым временем и чего не имела. Сравнение позволило ему многое открыть и установить. Он хорошо увидел и оценил народность античной культуры, ее республиканско-демократический стиль. «Греки чтили народ, и немалая заслуга у греческой музы, сделавшей высшую красоту доступной необразованному уму, простому человеку»93. Античное народоправство, по Фридриху Шлегелю, предрасполагало к бодрости духа, к веселью, к массовой радости. Всеобщее веселье, безгранично расточительное, неизвестное в быту бюргеров, где все на деловом расчете, где даже веселятся от сих до сих, оба Шлегеля трактовали как великое явление народной культуры. Фридрих Шлегель о греках: «Поэзия, песни, танцы, общительность, радость праздника служили прекрасной связью, единившей людей и богов»94. Шлегели одними из первых заговорили об античных дионисиях и самих по себе взятых и о них же как об основе античного театра и драмы, о карнавалах, о масленичных играх у новых народов, по-своему продолжающих традицию античных дионисий. Диониса романтики искали и нашли не у трагиков, а в античной комедии, у Аристофана, которого они возлюбили едва ли не превыше всех античных поэтов. Непонятный их современникам, через романтиков он стал понятен. Для романтиков он осветился весь через сопоставление с карнавальпыми играми. Аристофан был для них классичнейшим примером свободного юмора — самозабвенного, ликующего, победоносного. Проекты импровизирующего юмора, которые Фридрих Шлегель только набрасывал, предлагая способы борьбы с дурными книгами, заполнившими прилавки и библиотеки, эти проекты были всего-навсего скромным подобием того, что предлагал в своих комедиях Аристофан. В ранней своей статье Фридрих Шлегель пишет, в чем юмор Аристофана по существу его95. В сочинениях старшего брата, сначала в большой статье по поводу Парни, в виде отступления от главной темы96, а позднее, в венских его чтениях о драматической литературе, даны все подробности97. Юмор Аристофана для романтиков — тот, который прокламировали они сами. Обыкновенно юмору уделяют мало внимания, вопреки тому, что юмор у романтиков — одна из богатейших глав их поэтики.
65
Юмор романтиков — это стихия смеха, далеко, без пределов разыгравшаяся, как будто бы забывшая или же забывшая на самом деле, что и как ее призвало в жизнь. Август Шлегель в разборах комедий Аристофана очень внимателен к частным поводам, по которым они возникали, — будь это поведение афинских демагогов, того или другого, будь это текущая внешняя или внутренняя политика афинского государства. Аристофан лелеял всяческую злобу дня, бытовую, политическую, литературную, какую угодно, и один из эффектов его комедий в скачках от обыденно-злободневного к заумным высям комедийного вдохновения. В комедиях его все опрокинуто вверх дном, взяты под сомнение все порядки и всяческое благочиние, веками насаждавшееся обществом и государством. Все предоставлено на проверку и на обновление необузданному хаосу, сатира по тем или иным частным поводам перерастает в бурю юмора, в целый океан шутовства и комедийных выходок, направленных порою против самих законов бытия, шатающих его устои, которые на этот раз тоже утратили свою неоспоримость. Не щадя ни космоса, ни логики, аристофановский юмор тем самым выражает свою свободу, — в алогизмах художественная гипербола его свободы, его решимости и смелости. Юмор, играющий свои игры в пределах мира как он есть, готов продолжить ее и там, где мир кончается. Шлегель обращает внимание на обычай Аристофана выводить в комедиях именитых граждан под их собственными именами, портретно. Манера эта и на самом деле художественно знаменательна. Портретность у Аристофана формальная и преднамеренно совмещается с отчаянным внутренним несходством. Казалось бы, есть непререкаемость в человеке, у которого на лбу написано, кто он есть и как его зовут. Аристофан, оставляя человеку в полную собственность его самого как такового, вплоть до имени его включительно, нисколько не стесняет себя толковать его внутренний образ как вздумается и как захочется. С личностью, данной de facto и de visu, всем видной и известной, он поступает, как если бы то был художественный вымысел, вполне зависимый от воли и произвола поэта. Простейший пример — образ Сократа в «Облаках», весь построенный на игре неузнаваемости внутри узнаваемости, на игре небылиц с былью, всем знакомой. Точно так же обходится Аристофан и с другими персонажами, именованными, засвидетельствованными в быту и в истории. Аристофан под
66
дразнивает нас и дразнит своей несдержанностью в отношении того, что должно бы и ограничивать и сдерживать.
Так в комедиях Аристофана все взбудоражено, все поставлено сначала на голову, потом опять на ноги, потом снова на голову. Дионисово безумие никого не миновало — будь это обыкновенные граждане в домах и на площадях, будь это их правители и судьи в судах и народных собраниях, будь это сами бессмертные боги в храмах, им посвященных. Фридрих Шлегель, по чьей инициативе возданы были новые почести старому Аристофану, писал о комедиях его: «Должна проявлять себя величайшая подвижность жизни, она должна производить разрушения. Если она ничего не находит вне ее стоящего, то она обращается на любимые предметы, на себя же самое, на собственные свои создания...»98 Фридрих Шлегель, очевидно, имел в виду бесцеремонность, с которой Аристофан обращался с собственной комедией, не только с персонажами, в нее вошедшими. Аристофан фамильярен и дерзок с собственным творчеством — повадка, к которой романтики пригляделись и которая отозвалась в иронических комедиях Тика.
Для романтиков Аристофан — великий пример стихийного смеха. Комическое, само по себе взятое, еще не есть поэзия. В комическом поэзия — это рождаемый им, его талантом и искусством смех, к которому комическое целиком не сводится. К поэтике смеха романтики отнеслись с обычным для них критерием развоплощения. Смех требует, чтобы расширили его область. Вся идеология смеха у романтиков продиктована полемикой с тем, как обходится со смехом бюргер. Тот его потеснил со всех сторон утилитарностью и дидактизмом. Бюргер дозирует смех в точном соответствии с поводом и целью. Аристофан в толковании романтиков сокрушитель и антагонист этой бюргерско-просветительской культуры смеха. Его комедии — бунтующая радость жизни, пренебрегающая всеми соображениями, которые могла бы представить бюргерская осторожность. Бюргер ничего не желает упускать из того, что он имеет иа сегодня, а из комедий Аристофана выглядывал веселый хаос, готовый все на свете перемолоть и переустроить заново.
С учением ранних романтиков о стихийном смехе спорят тезисы позднее появившейся книги «Ночные бдения Бонавентуры»:99 радостное в смехе не больше чем способ дать смеху пропуск, узаконить его. «Маска радости» —
67
так описан смех в этой невеселой книге, сущность смеха — злоба и сатира. Бонавентура мрачно и ожесточенно восстанавливает понимание смеха и комического, противниками которого были Шлегель и Тик.
Август Шлегель в своих драматических чтениях изложил историю комедии, от древности к новым временам. Он писал историю вымирания в комедии поэтического момента, стихийного смеха — следовательно, ее упадка, историю от Аристофана, через Менандра и через Плавта и Теренция ведущую к Мольеру, к творчеству которого Август Шлегель был крайне несправедлив: ему казалось, что именно Мольер — отец всех непростительных прозаизмов в бюргерском комедийном искусстве. Антитеза Аристофан — Мольер теряла остроту в дальнейшей истории самого романтизма. Лучший пример Э.-Т.-А. Гофман: «деловой» сатирик с очень точными целями для комических своих выпадов, и в то же время мастер писанных на бумаге каприччо, празднеств смеха, уже отчасти предсказанных старшими романтиками.
Однако могучая буффонада Аристофана, как и следовало предполагать, осталась недоступной романтикам в их художественной практике. Нагляднейшим образом это позднее доказал граф Платен, эпигон в равной мере и немецкого классицизма и немецкого романтизма, автор двух комедий, имитирующих Аристофана, с большой ученостью касательно античных метров и особых комедийных приемов, но беспомощных воссоздать хотя бы частицу аристофановского веселья. Это было не под силу и гораздо более талантливому Тику. За Аристофаном стоял афинский демос, правивший государством. Как бы он ни переворачивал на сцене свой город Афины, в этом присутствовали своя фантастическая мощь и правда. Демос действительно был градозиждущей силой, уверенным хозяином Афин, источником политических форм и установлений. Он имел право играть ими как своею собственностью. Комедии Аристофана — игра, да еще и самая азартная. Игра тогда захватывает, когда она втайне серьезна, не до конца и не совсем игра, когда не потеряна ее сообразность с действительностью и когда действительность, едва захочет, может проснуться в игре. Игры, когда-либо увлекавшие людей, велись вокруг спящего льва, велись в последнем смысле своем на жизнь и смерть или близко к этому. Игры же берлинских или мюнхенских литераторов затевались без права на них,
68
соотношение с жизнью, сколько-нибудь приметное, отсутствовало, игры эмансипировались, становились чистой условностью, и в них поселялась скука, хорошо разработанная и даже изобретательная подчас.
В венских чтениях Август Шлегель строит сравнительные характеристики античного стиля в драме и стиля нового времени — шекспировского. Античный стиль он именует пластическим, шекспировский — живописным. Эти определения господствующих стилей связаны с романтической философией культуры, с тем, как в их среде понимали античный строй жизни и как его отличали от современного. Опять-таки и здесь исходная точка в сочинениях Фридриха Шлегеля, издавна задумавшегося, что такое жизненный стиль античного мира и что такое современный. Фридрих Шлегель заговорил о двух системах развития, их определяющих. Античность знает кругообразное движение, возвращение по кругу. Новое время — бесконечный прогресс. Античность построена на принципе меры, новое время меры не знает, оно безмерно. Эти чрезвычайно важные идеи, несомненно, основаны на хорошем чутье Фридриха Шлегеля к античному народоправству, к греческому полису, к гражданской общине, стоявшей там в центре социальной жизни. Развитие совершалось под наблюдением общины, в ее интересах и целях. Иначе говоря, развитие обладало мерой, — это и значит, что оно возвращалось к себе. Мерой развития был человек, он не терялся в нем, а напротив того, в нем преобладал. Это и дает ключ к античному пластическому стилю. Романтики сами не проводят соединительных линий, они подразумеваются. Греки были мастерами в пластическом искусстве как таковом, созидателями статуй, скульптурных — индивидуальных и групповых — изображений. Важно, какова смысловая емкость той или иной формы искусства в ее эпоху, в ее исторических обстоятельствах. У греков отдельная статуя или пластический ансамбль выражают все, весь их мир. Люди как бы измерители происходящего через них, сквозь них развития. Оно познаваемо через них, как бы может быть изложено в отдельных лицах. «Развитие по кругу», как называет его Фридрих Шлегель, — сосредоточенное развитие, не склонное разбрасываться и раздробляться. Немногие фигуры, а то и одна-единственная, способны высказать то, что высказать предположено. Шеллинг утверждал, что пластический стиль свертывает пространство и время — они ему не нужны,
69
ни то, ни другое для него «не значат»100, не ценятся в нем. Живописный стиль ведет другую жизнь — пространство и время для него все, он питается ими и сам питает их. Принцип живописного стиля не свертывание, но развертывание в пространстве и во времени. О Фидии говорили, что колоссальный его Юпитер, поднявшись со своего сиденья, пробил бы крышу, надстроенную над ним. По замечанию Шеллинга, это домыслы художественно неграмотных. Античная статуя как бы вбирает в себя окружающее пространство, оно не существует безотносительно к ней.101
Античная трагедия пластична по своему свертывающему, вовнутрь идущему стилю, по своей нещедрости на внешние характерные подробности, по немногочисленности своих фигур, жестко отобранных.
Фридриха Шлегеля беспокоил вопрос о тенденциях современного искусства портретности, о его ненасытности в отношении подробностей и индивидуализации, для которых отсутствует какая-либо мера, извнутри самих явлений возникающая. В пластическом искусстве она дана родовыми, пребывающими, устойчивыми очертаниями человека и его быта, типизующими, как бы надвременными началами. В новом, в живописующем искусстве наглядно регулирующее начало отсутствует. Главной ценностью стало индивидуальное, само по себе взятое, и вот, по Фридриху Шлегелю, безо всякого противодействия откуда-либо, эта ценность бесконечно приумножается и приумножается. Хотели индивидуального и характерного, но и этого мало, стали звать к интересному, чего опять-таки оказалось мало, и в искусстве появилось щекочущее, колющее и поражающее, — «Das Piquante, das Frappante, das Choquante», как выражается Фридрих Шлегель102. Индивидуальное и характерное внутри себя меры никакой не содержат, ничто не указывает, где и на чем им должно бы остановиться. Собственно, Фридрих Шлегель пишет против сенсационности в искусстве. Он в 1797 году предвосхищает и его в далеком .будущем победы и его болезни.
Живописность шекспировской драмы выражается в ее многофигурности, в ее многофабулыюсти. Представлены фигуры крупного, крупнейшего калибра по внутреннему своему значению, и, однако, они не господствуют в драматической композиции, не взяты как общее выражение всех прочих, не являются их представительством и судьбой. Принцип шекспировской драмы — множественность
70
жизненных центров, из которых каждый требует для себя равной с другими признанности. Чтобы найти ключ к происходящему в «Гамлете», недостаточно самого Гамлета, нас пересылают к другому, к третьему, чуть ли не к тысячному человеку. Быть может, этот ключ у Фортинбраса, который всего только с маршем прошел мимо, быть может, и второй могильщик владеет чем-либо имеющим значение. В драме создается цепь зависимостей, смысловых соотношений и необходимостей, где-то очень вдалеке теряющаяся. Внутренний центр драмы постоянно перемещается, идет к главным лицам и обратно от них, иной раз он может показаться мерцающим и блуждающим. Современный поэт не может довольствоваться одной избранной точкой, он должен перебрать всю среду действующих лиц, исходить все пространство, их окружающее, жизнь должна у него звучать на больших ее протяжениях. Живописная зыбкость и текучесть представлялись романтикам достаточным определением для стиля Шекспира. Романтики хорошо воспринимали многообразие личных миров в драмах Шекспира. Но оно для них было летучим, оптическим, волнующимся, красочным, именно «живописным», без особой пытливости к каждому из этих миров в отдельности: если оставаться в среде живописных аналогий, то надо бы сказать, что от романтиков скрыто было рембрандтовское начало в творениях Шекспира, они в драмах его видели сплошную венецианскую школу.
Люди Шекспира, как их понимали романтики, чересчур жили каждой своей минутой, как если бы они бессильны были совладать со временем в его общезначительных формах, с эпохой и с эпохами, к которым они принадлежали.
Уже первое подробное высказывание Августа Шлегеля о Шекспире, статья его от 1791 года о «Гамлете» и «Вильгельме Мейстере»103 намечает все последующее. Разборы «Гамлета» в романе Гете явились поводом. Гете занят характерами Шекспира и характером самого Гамлета. На это нет откликов у Шлегеля. Его статья богата мыслями о Шекспире, но все они относятся к речевой партитуре его драм, к чередованию в них прозы и стиха, к применению рифмы, к вставным песням — к их музыкально-живописному стилю, почти без отступлений.
Шекспир создает перекличку фабул, взаимно отражающих друг друга, отвечающих одна другой. Каждая новая появляется, как будто стоит еще одну-другую добавить,
71
и произойдет слияние драмы с жизнью во всей ее необозримости. Она, эта жизнь, в целом, в ее многообразии туманно и загадочно присутствует в драмах Шекспира как их глубочайший и неразложимый фон.
Шеллинг, принимавший интерпретацию Шекспира, предложенную Августом Шлегелем, внес в нее свои вариации. Август Шлегель говорил о живописности, Шеллинг те же явления называл музыкальностью стиля. Он писал о контрапункте в искусстве Шекспира: «Сравните Эдипа и Лира. Там ничего, кроме простой мелодии одного-единственного события, а здесь к истории изгнания Лира дочерьми присоединяется история сына, изгнанного отцом, и так каждому элементу целого противостоит другой, сопровождающий этот первый и отражающий его»104.
Многофигурный стиль искусства нового времени хорошо поясняет, что такое возможности, которые в мирах, здесь изображенных, скрываются, иногда только ненароком приоткрываясь нам. В многофигурных этих композициях кто угодно соседствует друг с другом, находится бок о бок, и, однако же, это немое соседство, бесплодное. Связей нет, хотя есть возможности связей, общения и общности тоже нет, хотя и то и другое в возможностях своих наличествует. Романтики высочайшим образом ценили широту общения между людьми, считая ее одним из главных благ, им выпадающих. Шлейермахер был настоящим философом и апологетом общения как в его камерных формах, так и в мировом его размахе105. Великое завоевание нового времени для романтиков в том, что раздвигается бесконечно арена мыслимых человеческих встреч, лицом к лицу оказались человеческие существа, между которыми недавно еще лежали рвы, пропасти сословий, цехов, наций, вероисповеданий. В драмах Шекспира мелькают десятки, сотни намеков на дружбу, что вот-вот и состоялась бы, на добрые, нежные связи, в которые вошли бы персонаж за персонажем. И все же люди остаются в разделении, вражда между ними не останавливается, а если не вражда, то их отчуждает равнодушие. Жизнь кипит новыми, новейшими возможностями, и люди не в силах овладеть ими. В этом атмосфера трагедий Шекспира. Ведь дело не в богатствах материальных, культурных, художествепных, нравственных, которыми полна эпоха. Дело в том, владеют ими люди или не владеют, возможности ли они для них, или невозможности. Происходит неслыханно прекрасная встреча двух существ,
72
созданных, чтобы радовать мир и друг друга, — встреча Ромео и Джульетты. И вот все у обоих рассыпается и гаснет. Оказывается, они принадлежат к семействам Монтекки и Капулетти, между которыми немыслимы ни любовь, ни даже мирные отношения. Вероятно, это самый сильный пример того, как у Шекспира наилучшие возможности жизни становятся недоступны, трагически несоединимы с людьми.
О «Ромео и Джульетте» есть несколько строк, заслуживающих внимания, у раннего Фридриха Шлегеля. Он писал об этом творении Шекспира без обычного для него жара и энергии философской спекуляции, с редкостной для него нежностью, как если бы речь шла о собственном его детище. Главное для него в лиризме этой трагедии. Ей присуща единая музыкальная настроенность, лирическая однородность, чего нельзя воспринять рассудком и что подлежит одному лишь тонкому чувству. Трагедия эта — «романтический вздох о беглости и краткости юношеского счастья. Это жалобная песня, почему свежий цвет быстро увядает уже весной под безжалостным дыханием грубой судьбы. Это захватывающая элегия, в которую воткали сладостную боль, неотделимую от страдания радость любви. Волшебное смешение грациозного и горестного, его-то и называют элегией»106.
Романтики, хорошо знавшие Шекспира, до тонкости
разобравшиеся во всех его произведениях, по всей видимости, более всего
тяготели к его комедиям и к так называемым «романсам» («R
73
признаются в любви друг к другу, после того как друзья вдоволь наигрались ими, добились превращения забавы в серьезное событие («Много шуму из ничего»). В комедиях можно было лицезреть, что такое творческий хаос романтиков, как из него рождаются прекрасные миры. Август Шлегель говорит о средствах, какими Шекспир пользуется для того, чтобы игра не превращалась в дело, в деловое занятие («ein Geschaft»), об его импровизациях, об его интермедиях. Скажем лучше: игра не становится творчеством, но переходит в него, в строительство прекрасных отношений между людьми. Высоко оценивался у романтиков словесный стиль комедий Шекспира, где давалась вольная воля той же игре и импровизации. Август Шлегель о комедии «Бесплодные усилия любви»: «Все здесь дурачатся, как из рога изобилия сыплются забавнейшие выдумки. Дух юности ощутим здесь во всем избытке. Бесконечный поток шуток, полных разнообразной игры слов, несется беспрерывно, не давая зрителю передохнуть; искры остроумия сверкают настоящим фейерверком, а диалог схож скорее с быстрым обменом репликами, как это принято между масками, поддразнивающими друг друга на карнавале»107.
В комедиях Шекспира развоплощению предшествует разоружение, с людей сняты доспехи, они больше не собираются вредить друг другу, да и не способны. В описании Августа Шлегеля и это близко к истине, персонажи шекспировских комедий выходят на сцену, собственно, с тем, чтобы друг друга забавлять, а по ходу действия и зрителя, перед сценой сидящего. Если персонажи и заняты каким-то подобием дела, то это одна лишь видимость; по сути в их деловых телодвижениях — трепет и извивы той же универсальной забавы, заполняющей собою содержание комедии. Забава прикидывается делом, и это тоже одна из забав. Вся радостная и поэтическая природа жизни предлежит перед нами в своем расторженном виде, допускающая нас к себе, проникающая нас собою. Август Шлегель по «поводу «Сна в летнюю ночь»: «Мир фей, здесь изображенный, подобен затейливым арабескам, где крошки гении с мотыльковыми крылышками, едва-едва облекшиеся в тело, возникают из цветочных чашечек. Они способствуют природе, — как ее ковер из зеленой листвы, из цветов, раскрашенных всеми красками, или из сверкающих насекомых. В человеческом мире они слоняются, как дети, со своими капризами, со
74
своими то полезными, то вредоносными действиями. Самый свирепый их гнев выражается добродушным поддразниванием. Их страсти, с которых сброшена всякая земная материальность, предстают как идеальные сновидения»108. Для романтиков велик был соблазн поставить Шекспира комедии выше трагедийного Шекспира. Во всяком случае, подлинная оценка комедий Шекспира в их особом качестве, в особой их манере, малообычной в мировом комедийном репертуаре, начинается именно с них. После романтиков «Сон в летнюю ночь» столь же обязателен для друзей Шекспира, как «Лир» или «Гамлет», лунный свет такой же сопутствующий непременный персонаж, как и всякий другой. Август Шлегель писал: «Талант Шекспира в комическом столь же изумителен, как и в области патетического и трагического, стоит на той же высоте, обладает той же глубиной и тем же объемом...»109
Надо вернуться к вопросу о мере, которая дана была античной культуре и отсутствовала в новом времени, надо вернуться к старой дилемме Фридриха Шлегеля, и о комедиях мы тогда вправе будем сказать: они развертываются, как если бы их мир получил меру ему свойственную, или как если бы эту меру стали тут же вводить на наших глазах и люди стали бы превращаться в безоговорочных владык богатств, которые их окружают. В комедиях на веселых пастбищах люди пасут свои стада, и они им послушны. Ранние романтики принимали и безмерный мир, зная, что в безмерности завоеваны и его свободы и его богатства. Но безмерный мир был дорог и близок только с оговорками о его недостаточности, о его трагизмах, с какими он предстает у Шекспира. Для романтиков неприемлемой была безмерность, взятая как норма и допущенная как навеки неизбежная и неисцелимая.
У Августа Шлегеля можно встретить отповедь поэтам барочного направления. «Мильтон и Клопшток... постигнувшие вместо бесконечного только лишепиое конца. А именно, они воображают, что все сделано, когда из виду теряется предел, поставленный количествам и массам. Сказывается это в бесформенности и нескончаемости их более чем пространных поэм, в особенности у Клонштока... Их миру недостает органического единства, которое исходит из самого себя и к себе же возвращается»110. Мильтону и Клопштоку Август Шлегель предпочитает более светлые имена подлинного Ренессанса, имена Данте
75
и Петрарки. Он разбирает терцины Данте и сонеты Петрарки, стремясь показать, что стиль этих поэтов — борьба с дурной бесконечностью, что движение здесь не безлично, не бесформенно, что у обоих человек — герой, а не жертва развившейся вокруг него жизни.
Шекспир романтиков не совсем тот Шекспир, что ходил в Англии при королеве Елизавете и что по временам приходит к нам. В романтическом Шекспире есть свои перестановки и своя стилизация, в нем убавлено тела и характерности и прибавлено лунного света, в нем больше автора комедий, чем автора трагедий. Романтики поклонялись Ренессансу, то и дело упуская в нем очевидное: его телесность и определенность, его изобразительную силу. По всей вероятности, они уповали, что для шекспировской поэзии еще будет найдено другое, лучшее тело, в котором та заживет вольнее, избавленная от трагических испытаний. До поры до времени они обходились Шекспиром Шлегелей и Шеллинга. Романтики не были профессиональными историками литературы, им нужен был не точный Шекспир, а приблизительный, который помогал бы им сегодня. В каждую литературную школу, помимо живых ее участников, тоже на правах живых входят ее предки или те, кого они считают предками, иной раз вызванные из очень отдаленных времен. На симпосиях школы эти издалека пришедшие их участники даже при всех допущенных стилизациях зачастую колоссально превосходят всех прочих, запросто живых и запросто действующих. Как бы то ни было, историки романтизма не могут избежать таких глав в своем изложении, как «романтический Шекспир», «романтический Аристофан» или «романтический Сервантес», как если бы все это были тоже своеобразные авторы, принадлежавшие той же эпохе. О них следует говорить тут же в истории романтизма, в одном ряду с обыкновенными романтиками, а не только в специальных сочинениях, озаглавленных «Шекспир в веках», «Шекспир в Германии» или как-либо иначе. Конечно, не нужно думать, что сила и власть в одних только великих тенях. Новые поколения тоже делают что могут. Гомер говорил, что мертвые снова оживают через усилия живых. С помощью живых они способны узнавать окружающих, снова обретают дар речи, а свежая кровь жертвоприношений, которую пьют их тени, возвращает им память. Можно отнести эти слова Гомера к прошлому культуры, почему и как она не умирает,
76
почему живы остаются великие ее дела, — новые поколения воскрешают их, продолжают их былую жизнь частицами собственной, которая вся в настоящем. Стоят внимания не одни воскресающие, но также И их воскресители. Что способен был дать Шекспиру Август Шлегель, на то неспособен был его маломощный дублер в эстетической критике, основательно забытый и только в 30-х годах вспомянутый Адам Мюллер. Во времена нацизма к этому человеку только попутно обращались за эстетикой, а ценился он за совсем иное, как предшественник теории корпоративного государства111. В дрезденских своих чтениях 1806 года Мюллер излагает будущую антитезу Августа Шлегеля так: античный театр — это скульптура, новый — панорама112. При этом поясняется, что такое панорама: «Иллюзия богатой и красивой местности», созданная стенной живописью и световыми эффектами113. Адам Мюллер, теоретик драмы, более кого-либо из романтиков был лишен всякого чувства драматизма, по самому коренному свойству своего мировоззрения он повсюду напрашивался «мирить противоречия», «посредствовать» (быть посредником), как он это называл. От Шлегелей он отличался полнейшей терпимостью ко всем направлениям мировой литературы, у него нет направлений, исключающих друг друга, все по-своему оправданы и уместны. Его дружелюбие ко всем мировым поэтам и ко всей мировой поэзии вместе взятой в любых ее ветвях казалось подозрительным: либо оно равнодушие, либо нигилизм. Еще предстоит речь об оценке французской классической трагедии у Августа Шлегеля, далеко не полной и не безупречной. В самой немецкой литературе справедливее к ней были Гете, Шиллер, Гегель, Гейне. Худший из ее защитников — Адам Мюллер. У него дурная защита. По его словам, классицизм, конечно, упадок, но и упадок хорош, есть надобность и в упадке. Греция в расцвете хороша, дряхлеющий Рим тоже хорош. Французский театр после Шекспира — это Рим после Эллады, старчество после юности, которым почему бы и не восхищаться. Апологетика одряхления была испытанным занятием у Адама Мюллера, он хотел удружить ею и французскому классицизму114. Для романтиков Иены Шекспир Адама Мюллера мог служить предостережением — это был низший предел для стилизации Шекспира, Допускаемый ими самими. «Панорама» — это было толкование Шекспира в духе чуть ли не бездумного обозрения.
77
На современников произвели сильное впечатление отрицательные страницы «Венских чтений», посвященные французскому классицизму. Когда чтения публиковались и впервые переводились на европейские языки, престиж французского классицизма был еще высок в Европе. Август Шлегель чувствительно его поколебал. По его выкладкам и доводам классицизм — искусство пластического стиля без внутреннего права на это. Классицизм не обоснован достаточными художественными мотивировками, он строится на художественных недоразумениях. Французские классики надеялись подчинить классическому стилю чужую ему жизнь новых народов. Нарушения стиля всего виднее там, где у них воспроизводятся античные сюжеты. Формально сохранены те же черты, тот же антураж, но смысл всюду ложный. Античные цари, пастыри народов, как их называет Гомер, перенесенные на французскую сцену, народов своих уже более не пасут, и все же за ними остается прежняя полнота представительства. Старый цельный античный стиль перебивается современным, где общество находится в расщеплении, в антагонизмах и где верхний слой не может выражать жизнь народа в ее целостности. У французов в драмах с античным сюжетом древние открытые площади заменены дворцовой передней, и уже это одно знаменательно, по Августу Шлегелю115. Античные герои у французов превратились в дворцовых политиков, героические цели вытеснены личным расчетом и «макиавеллизмом побудительных мотивов», как называет это Август Шлегель116. Как он старается показать, французская трагедия строится по комедийным схемам, стоит на интриге, то есть, как у него сказано по другому поводу, на взаимном скрещении замыслов и случайностей. В интриге цели персонажей по своей возвышенности одна не лучше другой. Французская трагедия не идет выше состязания весьма ограниченных интересов, как же она может после этого требовать статуарного стиля, пластики со всем масштабом присущих им значений. Классицизм — стиль, притязающий на вечность, а охватывает он явления исторически и социально относительные, сегодня их признают, а завтра отвергнут. По Августу Шлегелю, истинно высока одна «Андромаха» Расина. Он не собирается корить французов, зачем они поверхностно обставляют античный миф, пусть так оно и остается: античность в качестве «легкого одеяния» («eine leichte Beklei-
78
dung»)117. Александр у Расина — маска Кондэ, Тит и Берениса — Людовик XIV и Лавальер. Август Шлегель упрекает французов в другом: зачем они запнулись где-то между античностью и современностью, погрешая и против одной и против другой, зачем лишь один «Сид» Корнеля остался опытом трагедии в духе новых народов. Рано умерший философ Зольгер, ценимый Гегелем, написал большой разбор «Венских чтений» Августа Шлегеля, где многие положения усилены. Классическую трагедию Зольгер назвал придворной церемонией, подменившей народную обрядность древних. Зольгер говорил, что французы черпали темы из истории Македонии, из жизнеописаний римских цезарей, из истории Турции, — все, где только чуялись деспотизм и исключительность, вдохновляло их. Удивительно, как это они обошли византийские придворные хроники, настоящий для них кладезь118.
Чего бы ни коснулась романтическая эстетика, задача у нее все та же: максимализм прекрасного. Предоставить прекрасному царственный выход при трубных звуках, так, чтобы никто не сокращал его области, не искажал всю полноту жизни, ничего не отнимал. Иначе говоря, романтики всюду побуждали к развоплощению, к тому, чтобы дурная, безобразящая плоть была бы сброшена. Они хотят увеличить значение смеха в жанрах комического и указывают на великие примеры, когда смех царил неограниченно. Они хотят поэтического максимума в мире комического и указывают на карнавал, на фастнахтшпили, на дионисии, на дионисийскую комедию у древних. Им нужен поэтический максимум в театре вообще, и это для них Шекспир. Их критика французского классицизма, ведущаяся со многих точек зрения разумно и остро, обретает настоящую живость лишь тогда, когда они обращаются против него за его прозаизм, за его постыдно для великого театра бедную эстетику. Они возобновляют старые нападки Скаррона против классицизма, почему тот изгоняет зрелищность. «На многих французских представлениях у зрителя такое чувство, как если бы и на самом деле совершались важные события, но он сидит на слишком плохо выбранном месте, чтобы оказаться свидетелем»119. В классическом театре нет ничего для глаза, нет ничего от зрелища. В нем отсутствует живописность в элементарнейшем смысле ее.
Единство действия во французском его смысле это интерес к итогам события и равнодушие к путям его.
79
Французская драма упрощает, укорачивает ход действия, темп ее быстрый, скользящий по событиям, без особой к ним любознательности. На взгляд романтиков именно эти пути важны. Так создаются события важнее самих событий, ибо здесь драма может застигнуть движение жизни в почти обнаженном его виде. Классицизм не отвечает высшим интересам культуры нового времени, а эти интересы — созидание, становление. Все это присутствовало, по словам Августа Шлегеля, в поэзии Шекспира и во всей культуре нового времени, так как новое время — «хаос, стремящийся к чудесным, небывалым порождениям», и «дух первозданной любви здесь снова носится над водами»120.
После единства действия Августу Шлегелю остаются отзывы о двух прочих единствах, требуемых французской поэтикой. Единства времени и места он объясняет тем, что классическая трагедия по сути дела желает превратить и время и пространство в величины нейтральные. Сжатое время, время голых итогов, неизменное на всю драму место действия — это все признаки полнейшего равнодушия классиков к тому и к другому. Им нужно, чтобы время и пространство не замечались. Они не дорожат содержанием времени — становлением и измеряют время, протекающее в драме, чисто формально, с часами в руках. Пространство как величина животрепещущая для них не существует. Еще в берлинских чтениях Август Шлегель говорил с подъемом о великом географическом кругозоре новых народов, о выразительности и самобытности локальных и этнических красок. В венских он требует от романтических драматургов внимания к этим ценностям, либо неизвестным античной поэзии, либо невоспринятым ею. Романтическое искусство, произносит Август Шлегель памятные слова, чтит пространство и время как «непостижимые сверхиатуральные сущности, в которых пребывает нечто божественное»121.
Однажды, в году 1801-м, Шиллер — классик и Тик — романтик побывали в дрезденской картинной галерее, после чего Шиллер завел разговор в защиту искусства пластического и против искусства живописного. «Посмотрите на эту ткань, — сказал Шиллер и показал на алую шаль своей жены, лежавшую у окна. — В эту минуту шаль красного цвета, но пусть освещение изменится, и красное мы примем за лиловое или же за серое, и тогда
80
все впечатление будет иным. Зато в пластическом искусстве все отличается определенностью и верностью»122.
Шиллер с несколько новой стороны подходит к пластическому и живописному, к толкованию, что они такое. Пластическое, по Шиллеру, устойчивое и обобщенное, как бы поднято над временем. Живописное в своей изменчивости и беглости, напротив того, погружено во время полностью, до конца предано минуте. Шиллер отстаивал искусство пластическое, когда живописное уже победило его. Искусство пластическое и в этих условиях могло сохраняться, как очень многое навсегда сохраняется в культуре, спор идет о том лишь, на какой роли. Когда Шиллер беседовал с Тиком, искусство пластическое могло рассчитывать лишь на второстепенные права отдыха и покоя. Через эстетику живописности люди участвовали в волнениях современной жизни, через эстетику пластического отдыхали от нее. Так оно уже повелось тогда, так и осталось после.
Искусство классическое, — пластическое, как его называли романтики и Шиллер, — имело еще особое назначение, не возле живописного, не рядом с ним, а внутри самого живописного, как подчиненность живописному. Совершенно неверны представления, будто романтики попрали форму, порядок, упорядоченность, уже давно были даны разъяснения, что романтиков не следует смешивать с «бурей и натиском», с проповедью голой стихийности у тех123. Романтики отрицали форму именно в ее классических чертах, опи освобождали искусство от формы стесняющей, насильственной, как у классиков, ради перехода к другому ее пониманию и к другой ее практике.
Старая регламентация искусств держалась на идее, что всякий порядок, всякая форма вне истории, только беспорядок может иметь историю. Для классического миросозерцания вся святость и красота порядка в том, что он не меняется. Этих верований держались и в эстетике, и в политике. Абсолютистское государство притязало на вечность. Даже для Руссо и руссоистов их «государство добродетелей» — неподвижный строй, и весь его пафос в неподвижности. Точно так же рассуждает и Шиллер — против Тика. В пластическом искусстве все дано навеки, а вы, романтики, все ерзаете да ерзаете. Старое искусство, классичное, Шиллеру близкое, любит бедную форму. Суть формы — в ее бедности, богат, разнообразен только
81
беспорядок, только смута играет всеми цветами. В форме видели нечто по необходимости насильственное — государство ли это, законодательство ли, наука ли. Все учреждения старого режима создавались, чтобы сопротивляться развитию или сдерживать его по крайней мере. Романтики — за богатую форму. Для них и форма исторична и содержание исторично, следовательно, снимается антагонизм их. Они за уступчивую форму, отвечающую потребностям развития, каждый раз новым, — это и есть принцип волнообразности, о котором, ссылаясь на Монтеня, говорила госпожа де Сталь124. Прямая линия — у классиков, волнистая, отвечающая жизни в ее движении и в ее беспокойных подсказах, — у романтиков.
Форма для романтиков почерпается изнутри содержания, возникает из глубины его. Это Август Шлегель и называл органичностью формы, в противовес форме извне наложенной, механической125.
Август Шлегель в венских чтениях говорит о «скрытом порядке» («versteckte Ordnung»), которого придерживаются при разбивке английских парков и который выше навязчивой, ъ глаза бьющей дисциплины парков Лeнотра126.
Насильственный порядок не умеет скрыть себя, даже если он того хотел бы. А порядок органический никогда не выводится весь наружу, случись это, он был бы разрушен тут же.
Романтики тем смелее творили Шекспиру его апофеоз и тем безжалостнее судили о классицизме, чем больше верили они в шекспировскую универсальность. В Шекспире заключен и сам Шекспир и все достоинства классицизма, если они достоинства; Шекспир, как об этом любили напоминать романтики, полон обдуманности и мастерства, скрытый порядок господствует в его произведениях. Порядком классицизма владел и Шекспир, но в более высоком и свободном его понимании.
Допросы формы, порядка и вопросы меры имеют точку схода. Романтики в самый сильный свой период и в самых сильных своих деятелях стояли за современное развитие во всем неописуемом его богатстве и во всей его огромности. Но те же романтики — Шлегели, Гельдерлин — мечтали о внесении сюда возрожденной меры, несравнимой с мерой античной по щедрости и гибкости, но меры. Они угадывали, что мера эта сама в современной культуре тайно вырабатывается — «скрытый поря-
82
док», они чувствовали обобществление жизни, стихийно происходившее где-то в глубоких фонах ее дуалистической разорванности, на сегодня уже что-то смутно обещавшее. Общество, по явным данным своим механизованное, по возможностям своим есть общество органическое.
К литературно-театральным традициям примыкают близко идеи и темы романтической иронии, многое в романтизме собравшие воедино и преднаметившие многое в последующей его истории.
Первый вопрос к романтической иронии: почему же романтическая, а не попросту ирония, какой она известна у всех и повсюду. Об этом уже отчасти было сказано. Мир как он есть, в его догматическом и общедоступном образе, во всех его прозаизмах и некрасивостях, романтическая ирония трактует из своего прекрасного далека, из мира возможностей, где скрываются поэзия, свобода и все остальное, что ценят люди. Романтическая ирония начинается с движения от худшего к лучшему, причем лучшее ослабляет худшее, показывает, как убоги отпущенные ему средства, как малы его права на существование. Худшее, меньшее, относительное хочет нам навязать себя, будто оно и есть все, будто оно и вселенная одно и то же. Ирония притворяется, что принимает эти притязания, и, поощряя, соглашаясь, тут же наносит непоправимые полемические удары. Кажется, что романтический абсолют лелеет и ласкает вещи относительные, тогда как он сводит их на нет, помогает познать их ничтожество. В комедии Людвига Тика «Принц Цербино» (акт пятый) мебель в комнате разговорилась. Стол, стулья, шкаф из подобострастия к человеку похваляются, в какие полезности их превратили, — все они бывшие зеленые деревья, которые где-то без толку стояли, росли, шумели, а нынче со стола едят и пьют, на стульях сидят, а в шкафу, тоже образумившемся, держат скатерти и салфетки. В мебели проснулись деревья, проснулась лесная жизнь, в этом главное. Если мебель на все голоса заверяет нас, как она счастлива работать на людей, то отсюда видна степень унижения, до которого довели независимую живую природу. Юмор в том, что природа опомнилась, очнулась, как ни гнали природу и поэзию, а они опять прорезались сквозь прозу, с этой минуты скомпрометированную и осмеянную. В той же комедии
83
вдруг заговорила, запела небесная синева, ее как будто бы исключили из вещей действительных, а она внезапно подает голос, что опять-таки производит беспорядок в мире, устроенном для себя филистерами.
Фридрих Шлегель, изобретатель романтической иронии и теоретик ее, говорит, что такое ирония: «Ирония есть ясное сознание вечной оживленности, хаоса в бесконечном его богатстве»127. Иначе говоря, вся полнота мировой жизни в иронии и через иронию держит свой суд над ущербными явлениями, от нее оторвавшимися и притязающими на самостоятельность. Начало беспокойное, творческое судит через иронию все раз навсегда отвердевшее, принявшее вид и форму, не предполагающее никаких изменений. В комедии Людвига Тика живой лес судит мертвую мебель — обстановку бюргера, его жилище, быт его и цивилизацию.
Но романтической иронии известно и обратное, она включает в себя также и иронию в обыкновенном ее смысле. В комедии Тика поэзия убивает прозу, через романтическую иронию бывает дано и другое, привычное, — проза убивает поэзию или же капля за каплей приносит ей вред, медленно отравляет ее, внушает к ней скепсис. Одному роду иронии совсем не легко отделиться от другого, один преобладает, другой проникает в него исподволь. В комедии Тика лес пробудился в столярных работах, осмеял их, и это еще не все: ведь и лес страдает, когда он перед нами представлен в качестве стола и стульев, когда он весь уходит на обстановку для бюргера, в которой все сплошь стандарт и безобразие, извращение живой природы. Лес опозорен, когда его применяют как строительный материал для жилища бюргера, для пошлейших утензилий, которыми тот себя окружил удобной жизни ради. Романтическая ирония, и это немаловажно, равнодушна к частностям в своем предмете, к частным изъянам, к несовершенствам в отдельных подробностях. Она избирает коллизии куда позначительнее, интересы ее универсальны. Она ставит целое против целого, мир романтизма против бюргерского, филистерского мира, гениальный мир против посредственного и бездарного, могущество природы против мелкой техники и мелких поделок, бытие против быта. Столы и шкафы в комедии Тика — это быт, в котором возроптало бытие. Однако же и у быта есть свои способы въедаться в бытие и посильно профанировать его.
84
Романтизму свойственно томиться по бесконечно-прекрасному. Не надо забывать, что в романтизме есть и томление по реальности, простой, наглядной, по конкретностям, готовым идти людям в руки. Романтизм не огражден от соприкосновений с коикретностями, с бытом, от вторжения их в его собственную среду, так как он сам же хочет того. Романтизм разрушает объект в его обыденных чертах, и романтизм стремится в том же объекте найти для себя опору. Об этом говорится в одном из «фрагментов» Фридриха Шлегеля: «Идея — это понятие, получившее для себя завершенность вплоть до иронии включительно, это абсолютный синтез абсолютных антитез, постоянный взаимный обмен двух мыслей, спорящих друг с другом. Идеал есть одновременно и идея, и факт. Если для мыслителя идеалы не обладают индивидуальностью в такой же степени, как для художника образы античных богов, то все его манипуляции с идеями всего-навсего скучная и утомительная игра в пустые формулы, подобная игре в кости, или же это по примеру китайских бонз созерцание собственного носа. Нет ничего более жалкого и презренного, чем сентиментальные спекуляции, лишенные объекта...»128
Требования, предъявляемые романтической иронией, в конце концов ясны. Она против «фактов» в их обособленности, против плоскостного рассмотрения мира, и она же против вдохновенных и бессильных жестов, против энтузиазма, не способного для себя завоевать какое-то место в конкретной практике людской. Позднеромантический философ Зольгер говорил об этом с достаточной обстоятельностью: «Искусство дано нам всецело как бытие, как настоящее и как действительность... но как бытие, настоящее и действительность вечного существа всех вещей»129. Суть иронии в том, чтобы не было полужизни на одной стороне и полужизни на другой, здесь энтузиастических возможностей, а там косных, непретворимых фактов. Ирония хочет единой жизни, в которую факты в их прозаизме и поэзия, за ними таящаяся, сошлись друг с другом. Такое слияние — вечная задача. Ирония — устремленность к целокупной истине, мы располагаем только элементами ее, одной ее стороной, одной стадией на пути к ней, одной ее эпохой, и нам напоминает об этом ирония, не позволяет успокоиться и принимать недостижение за наше достижение. В свете иронии мы столь же приближаемся к целокупной истине, как и уда-
65
ляемся от нее. Приближение это не есть сплошная мнимость, как к тому замку в романе Кафки, расстояние между которым и путником остается всегда неизменным. Ирония говорит, что происходит и то и другое, и приближение и возрастание недоступности цели.
Романтическая ирония неоднократно обсуждалась в науке и в критике с малым успехом, ибо обсуждавшие так или иначе упускали точку зрения целостности. Увлечение философией Серена Киркегора, которым отмечены последние десятилетия нашего века, несколько обновило и дискуссию вокруг романтической иронии. К участию в дискуссии наши современники привлекли и диссертацию Киркегора, посвященную этому предмету и защищенную им в Копенгагене в 1841 году130. Одна из лучших работ, написанных об иронии в последнее время, это работа Беды Аллемана131. В ней ведется довольно упорный спор с Киркегором, и в споре этом филолог Беда Аллеман держится более верных общих идей, чем Киркегор-философ. Для Киркегора ирония в конце концов только разновидность сатиры, критики и отрицания. Беда Аллеман именно этого не принимает. Он хочет вернуть иронии своеобразие, без которого нет ее, ведь она не тот юмор, не тот комизм, не та сатира, привычные для нас. По Аллеману, ирония имеет свойство качаться, скользить и ускользать, ничего не утверждать, ничего не отрицать окончательно, а сатира говорит да или говорит нет, сатира положения свои фиксирует, и то же было бы с иронией, будь Киркегор прав.
Как можно видеть, для романтической иронии характерна проблема действительности — действительности целостной, полной, прочной, надежной, всеобъемлющей. Со временем проблема эта станет обуревать все романтическое движение, станет фатальной силой в нем, и уже с ранних пор, объявившись через иронию, она присутствует в романтическом мировоззрении и в романтической поэтике. Постоянно спрашивается, что есть истина, где она — в творящем ли хаосе, о котором говорит Фридрих Шлегель, или же в выступивших из него готовых вещах и фактах. Стоит поддержать-одну из борющихся сил, как ирония предъявляет нам иск от имени другой, ирония пересылает нас в поисках истины туда и обратно, не дозволяя отдохнуть на чем-либо одном-единственном. Над романтической иронией носится еще не декларированная тогда идея Гегеля, по которой истина конкретна, требует сращения в одно многих истин, подходов и точек зрения.
86
Стоит только углубиться в одну из истин, поверить в ее окончательность, как тотчас пробуждается истина противоположная и начинает безжалостно дразнить нас. Если мы бросимся к этой дразнящей, то третья истина тоже не замедлит сделать нам гримасу, и так до бесконечности. Кто захочет довести до конца сравнение с Гегелем, тот увидит, что у Гегеля конкретная — сращенная — истина доступна и осуществляется, а у романтиков она была и остается вечным томлением. Они подготовили вопрос о конкретности истины и не брались ответить на него.
Когда нам кажется, что мы овладели жизнью вместе с ее романтической сущностью, нам напомнит ирония, что овладели мы только в мыслях, в воображении, а в реальной практике все осталось по-прежнему, и, думая, что мы решили все, мы на самом деле не решили ничего. Вспомним хотя бы эпизоды с мемуарами Гиббона, как шутит по поводу мемуаров Фридрих Шлегель. Он предлагает нам считать, что самого Гиббона со всеми его непривлекательными свойствами кто-то сочинил, и только во-вторых тот же автор сочинил за Гиббона и его сочинение. Но ведь это всего лишь некое проектирование, игра нашего ума, и от Гиббона подлинного мы нисколько не освободились, он тиранствует над нами, как тиранствовал. Подход, умственная ориентация, особый прищур нашего сознания на изучаемый предмет могут быть началом преобразования предмета на самом деле, началом и не дальше того, сам предмет все тот же. Романтическая ирония очень часто строится на переоценке духовной победы — торжество ума и воображения будто бы является торжеством практическим, действенным, непобедительностью такой победы ирония часто дразнит нас, позволяет занестись очень высоко, пережить во всех подробностях наше торжество, а потом заставляет познать истину и упасть ниже низкого. Так будет у Э.-Т.-А. Гофмана, так будет много позднее у Генриха Гейне.
Ирония, искательница истины, действительности, по природе своей интеллектуалистична. Конечно, действительностью озабочено всякое искусство и все виды юмора. Но для них, для прочих видов, действительность — это территория, на которой они решают свои коллизии. Для иронии проблемой и содержанием коллизии становится сама действительность, в собственном ее лице, — что она такое, чего она стоит, насколько она подлинна или неподлинна. Ирония часто держится в стороне от смеха, ей
87
сопутствует усмешка, одно только движение губ, она может зарождаться в произведениях, лишенных юмора, мрачных, как «Ловелль» Тика. Контур смеха может в истории присутствовать, а расцветки смехом нет.
Классиком смеха у романтиков был Аристофан, классиком иронии стал Карло Гоцци, один из их старейших современников, ничего о них не подозревавший, ни в какие романтические затеи не замешанный. Гоцци был автором фиаб — комедий-сказок, написанных им лет за тридцать с лишком до романтиков, для венецианского театра масок. Романтики читали фиабы, как они были сочинены, и независимо от замыслов самого Гоцци вычитывали в них образцы «романтической иронии». Комедии Карло Гоцци ждали их, как Сфинкс Эдипа, чтобы наконец узнать, что они такое. Толкователями и энтузиастами Гоцци были почти все романтики без изъятия, и старшие и младшие: Фридрих Шлегель, Тик, Клеменс Брентано, Э.-Т.-А. Гофман, у которого критическая интерпретация произведений Гоцци сочеталась со следованием ему в художественной практике.
В манере Гоцци есть неустойчивость, скольжение, обыкновенно связанные с романтической иронией. Ирония допускает несделанность и недоделанность, охотно смешивает реальности жизни и образы искусства, второе подставляет на место первого. В комедии «Зеленая птичка» (акт III, картина 2) Труффальдино раскаявшийся является с повторным визитом к Ренцо. В тот первый раз он был груб, а сейчас преувеличенно подобострастен. Тут едва заметная и весьма утонченная подстановка театрального эпизода под житейский. В реальном быту все сделано как сделано, в реальном быту сделанное не переделывают тут же, в реальную дверь входят как вошли, нельзя войти однажды, а потом снова войти с поправками. Это театр может репетировать, бесконечно поправлять и переигрывать одно и то же. Вот это переигрывание стушевывает самые тонкие и деликатные различия между бытом и сценой. Ирония отрицает оконченность и окончательность в художественном образе; она идет дальше, она отрицает их и в реальном течении жизни, как если бы жизнь поддавалась совершенствованию по примеру создаваемого искусством, переписыванию и перерисовыванию.
Фиабы Гоцци по существу своему — высокие патетические трагедии. По высоте изображаемых страстей Гоцци мог бы спорить с Расином или Калидасой. Он поэт само-
88
забвенной любви, великих жертв и подвигов. Одна из прелестнейших фиаб Гоцци «Король-олень» изумляет простотой и пафосом чувства. Благороднейший Дерамо, тот, кто был королем в этой стране, превращается в старого грязного нищего. Подлый Тарталья, бывший министр, вошел в облик короля и завладел всеми королевскими правами. Анджела, бывшая королевская невеста, холодна к этому человеку, при котором сейчас вся атрибуция верховной власти, и ласкова к нищему старику, угадывая в нем того, кого она любила и любит. При самых ошеломительных перестановках и перетасовках, происходящих во внешнем мире, души угадывают друг друга.
Старый Гоцци был воспитан в культуре Просвещения, он воспринял от нее склонность к анализу и скепсис. Он едва признавал способность людей к героическим делам и необыденным чувствам. Он хотел всего этого как поэт и не смел допустить как просветитель. У него даже маленькие дети Ренцо и Барбарина все делают по книге, у Ренцо в лесу аркебуз в одной руке, книга в другой, у Барбарины книга сочетается с вязанкой дров («Зеленая птичка»). Оба, и Ренцо и Барбарина, стоят за просветительскую философию личного интереса, который они заподазривают у всех и повсюду. Гоцци вышучивает эту философию как норму и не сомневается в ее соответствии реальным нравам.
Пафосные, высокие сюжеты Гоцци всегда отличаются умышленной жизненной неполнотой. В основе их лежит одно-другое допущения, которые не могут не смущать, едва они будут замечены. Гоцци не позволяет нам до конца забыть себя в изображаемых им трагических историях, что-то трудпо уловимое препятствует безоговорочному нашему в них вчувствованию. Есть и сила, и трогательность, и потрясение, и все же все это в своей глубине где-то и как-то чуть-чуть подорвано. Поэтому можно утверждать, что возвышенная трагедия у Гоцци в невидимых своих первоисточниках иронична. Греки, Расин и Шекспир в особенности, чтобы создать трагедию, включают в нее все силы и мотивы жизни. Гоцци прежде всего занят не включениями, а исподволь проводимыми исключениями. Что-то и кого-то нужно устранить, иначе трагедия не двинется, не будет сыграна.
Для трагедии Гоцци нуждается в стилизованных предпосылках. Нет материалов реальности, которые пригодились бы в первоначальном своем состоянии. Для Гоцци
89
они нужны в усеченности своей, даже ущербности. Можно бы сказать, что у Гоцци трагедия требует попорченной реальности, это дает ей пищу и горение.
В фиабах Гоцци напряженная, безудержная жизнь чувств возможна только под условием сказки и балагана, — нужен аляповатейший из балаганов в качестве основания всему происходящему, и именно за счет его выражает себя героическая жизнь. Стоило бы только в нетронутом виде оставить персонажам их житейское благоразумие, их способность соображать свои интересы, стоило бы только дозволить им обыкновенную жизнь обыкновенных людей, и все прекрасное содержание фиабы ушло бы, кончилось бы тут же и тотчас. Нужно сразу же расстаться с миром буржуазной пользы, выгод и удобств, с этим зауряд-обитаемым миром, который принято считать единственно реальным, и лишь тогда можно вступить в особую сферу фиаб, написанных Гоцци. В подробностях сказки у него изгоняется всякое правдоподобие. «Король-олень»: в кабинете короля мраморный бюст, с которым король собеседует, мраморная голова умеет делать гримасы, одному королю видимые, свои решения по разным поводам он черпает из этих гримас. На смотрины к королю явились 2478 девиц — цифра, терроризирующая своею точностью. Зрителя сбивают с толку метаморфозы действующих лиц, неожиданные и мгновенные. Король Дерамо превращается в оленя, изменник Тарталья на охоте лежит мертвым, он больше не желает возвращаться в собственное тело и отрезает у него голову, после чего он захватывает престол и место неведомо куда исчезнувшего короля. Тот с трудом находит для себя выход из тела оленя, в которое он вселился добровольно. Превращения расшатывают образ действующих лиц, зритель едва отдает себе отчет, кого же из них он имеет перед собой в том или ином эпизоде.
«Ворон» — великая, неимоверная драма братской любви, тоже прокладывающей свой путь через ожесточенные нелепости и нагромождения, из которых составлена фабулами опять-таки великие страсти оттого лишь и заговорили, что приурочены они к немыслимым мирам и дикой — дичайшей сказке. Высота трагедии находится в прямой пропорции к ужасающей вздорности ее предпосылок, она существует за счет этой вздорности, и не иначе.
Знаменитая «Принцесса Турандот», вызывающая, когда она поставлена на сцене, столько веселья, при внимательном рассмотрении та же высокая, патетическая драма.
90
Борьба Турандот с женихами, с Калафом издали подобна истории Брунгильды, что живет за огненным валом и не допускает мужской власти над собою. Воинские схватки между Брунгильдой и женихахми заменяются у Гоцци более деликатными, хотя тоже смерть несущими состязаниями — разгадыванием загадок. Турандот — китайская принцесса, действие происходит в Пекине, главный из соискателей — принц Калаф — пришел неведомо откуда. Китай и Пекин для самого Гоцци и для его зрителей — это фантастические обстоятельства времени и места, страна и город небылиц, как это подобало жанру и стилю «Турандот», трагедии-буффонады.
В фиабах Карло Гоцци присутствует вся двусмысленность романтической иронии. Действительность в них сплошь проблематична, она манит: «Вот я!» и в руки не дается. Высокие драмы, сложившиеся на тонкой почве абсурда и балагана, сами по себе взятые, обладают своеобразной нравственной реальностью, чего, однако, мало, нужна реальность простая, простейшая, бытовая, физическая, иначе героика, самоотречение, страсть все же окажутся мороком в конце концов. По сказочной своей феерической основе драмы эти со всею неизбежностью морок, мечтательство и вымысел. В драмах Гоцци в последний раз падает театральный занавес, великие страсти торжествуют, герои получают свои награды, и все же остается чувство незаконченности, сходное с томлением у романтиков. Чего же недостает? А того, чтобы все эти апофеозы страстей и героизма совершались на самом деле, независимо от маловероятных допущений, сделанных автором в самом начале. У героических побед в драмах Гоцци есть душа, и у них пет тела. Победы эти достигнуты чересчур дорогой ценой. Чем выше заносятся драмы, тем глубже их действие погружается в абсурд. Победы требуют частичного, а порою и полного отказа от разума и от реальностей жизни. Поэтому драмы эти в читателе и в зрителе оставляют мысль и чувство раздраженными, они имеют фабульную развязку и лишены развязки философской, вместо чего удел читателей Гоцци одно алкание. Судьбу читателя можно отделить от судьбы зрителя, ибо условиями театральной постановки вносится известная умиротворенность. Сам Гоцци доверил свои фиабы импровизированной итальянской комедии, театру масок, на котором актеры не совсем люди, хотя и играющие заправских людей, поэтому с самого начала реальность с них не спрашивается.
91
Еще дальше идет театр кукол, которому очень впору разыгрывать фиабы Гоцци. Об этом можно найти у Э.-Т.-А. Гофмана в диалоге «Страдания одного директора театра», подсказывающем, что от Гоцци до кукол всего только один шаг. Куклы сразу же исключают из театрального зрелища целую огромную стихию жизни, так радикально не может поступить комедия масок, сколько бы ни старалась. Куклы избавлены от собственного тела, и вместе с тем театр кукол избавлен ото всего, что с телом связано, от материальности быта, от его физиологии, от физиологии нравов. У кукол нет тела, у них есть только платье и голос. Поэтому если кукольный театр и вводит на сцену какую-либо физиологию и материальность, то в сочетании с действующими лицами и особой их субстанцией всякая физиология обстановки становится шуткой и забавой. Куклы готовят обед, — копечно, игрушечный, пищевода у кукол не предполагается. Куклы любят друг друга, — конечно, любовью, в которую не замешано что-либо плотское. Болезни и физические страдания у кукол одна сплошная фикция. Совсем иное дело душевные раны у них. Кукольный театр — чистейший театр душ. Куклы живы одними своими голосами, лирическими душами иначе говоря. Нет театра, который был бы лиричнее по главной своей сути, чем театр кукольный. Фиабам Гоцци недостает реальностей тела, а реальности души в нем налицо. Когда фиабы попадают на кукольную сцену, то здесь от них требуют одних только реальностей душевнолирических, и они на требования такого рода отвечают сполна. На сцене воцаряется внутренняя гармония, которая в тексте фиаб только предмет искания.
Шеллинг писал, что в искусстве дается синтез живого и мертвого132. В художественном образе бесконечное отдается под власть конечного, безграничное содержание подчиняется диктатуре формы, все призвание которой в том, чтобы ограничивать. Художественный образ, по Шеллингу, это жизнь, содержание — жизнь, выдерживающее натиск формы — смерти. Одно из призваний романтической иронии — противиться смерти, сохранять внутренний трепет художественного образа, покамест можно.
К концу стоит сказать об одном из проявлений романтической иронии, мало отмеченном у историков литературы. Тик издал старинную пародную книгу «Heymonskinder»133. В старинных авантюрах, в старинных образах вольности и молодечества содержалось еще что-то говоря-
92
щее современному читателю. Но Тик вовсе не собирался приблизить старинную книгу к современному дню, насколько сама книга это позволяла. Намеренно он не очистил ее от архаизмов, сохранил за героями ребяческую грубость нравов, наивность их проделок, прямоугольность их психологии: в этой охране архаизмов ирония Тика. Старинная книга должна проделать долгий путь к современникам, Тик дает только первоначальную стадию этого пути, как если бы это был весь путь целиком. Романтики и здесь не верят в законченность образа. Не к чему проделывать весь путь до конца, достаточно бросить взгляд вдоль него и угадать, к чему же он приведет. Тик предумышленно не дорисовывает, не дописывает, пусть это попытаемся сделать мы сами. Романтический автор не желает превращать свое произведение в вещь среди других вещей. Законченность, дописанность и придала бы произведению видимость вещи. В книге Людвига Тика как она есть все неспокойно, все движется навстречу нам, все есть не вещь, а направление, направленность, предвосхищенная и не достигнутая цель. Если вы подумаете, что вам вручили законченное произведение, то оно только тихо посмеется над вами, напомнит, что есть на свете романтическая ирония.
Романтики в своих разборах литературного наследия античности, французского классицизма, Шекспира и других поэтов Ренессанса не выходили за черту драматургии. И Аристофан, и Менандр, и Еврипид, и Мольер, и Расин, и сам Шекспир, по их приговору, искреннему, конечно, трижды величайший, — все это была драма, каноничнейший изо всех родов литературы. Этим новшества романтиков не исчерпывались. Они обратились к литературе, самый род которой в ту пору казался если не предосудительным, то уж наверное проблематическим. В их художественной программе едва ли не преобладающее значение получил роман134. Они были его последовательными апологетами, а он в апологиях нуждался, невзирая на огромные его достижения в последние два века до романтиков. Испания, Франция, Англия, да и сама Германия, наконец, могли ко времени романтиков указать па высокие образцы романа. Художественная практика романа была обильна победами, по временам блистательными. И все же эстетические санкции для нее все еще оставались
93
зыбкими. Могли признавать и признавали тот или другой роман произведением первоклассным, и все же самый род романа по суду знатоков едва ли смел притязать на степень творчества, обладающего настоящей эстетической высотой. В Просвещении живучи были нормы Ренессанса и классицизма, по которым сочинители поэм и трагедий считались персонами вельможного значения, а авторы романов — черной костью. Окончательные санкции для себя роман получил в кругу романтиков, необычайно возвысивших его литературный престиж. Общеизвестны заслуги романтиков в области защиты и прославления фольклора, — это они дали лучшие собрания народных сказок и легенд (братья Гримм), это они свели в одну книгу песенное богатство немецкого народа («Волшебный рог мальчика» — песенный сборник Арнима и Брентано). О более широкой их заслуге, как защитников популярной, всем известной и всеми читаемой литературы, никогда и нигде не говорится. Они возвысили сказку и песню — все это так. Вероятно, еще важнее было, что они укрепили для современников и потомства репутацию нового европейского романа. Песня и сказка существовали как остатки более древних культур внутри культуры нового времени, роман же был выражением самой этой культуры. По-своему роман тоже является фольклором — более общего значения, чем фольклор в обычном смысле этого термина. Роман разделял судьбу фольклора в том отношении, что тоже был любим и едва был признан. Но в роман вошел богатейший исторический опыт новых веков, который фольклор не в силах был освоить. И роман был преисполнен будущего, которое доброй своей частью фольклору было заказано. Уже сама эта привязанность людей поантичной культуры к роману оценивалась у романтиков как важный признак. Роман у всех в руках, все его читают или слушают, одни его читают вслух другим, — значит, он отвечает глубоким потребностям новых веков. Непризнанность романа отчасти следовала из того, что он был запущен, художественно заброшен; отчасти непризнанность сама же и была причиной его порою весьма ощутимой художественной малосостоятелыюсти. Романтики вовсе не собирались утверждать роман в его зачастую убогом виде, в каком его предъявляли ежегодно на лейпцигской книжной ярмарке. Они хотели найти его живую душу, социальную и эстетическую, и развязать ее свободную жизнь, какой она была дана или как о ней можно было догадаться по
94
традициям жанра. Повсеместная любовь к роману говорила, что душа присутствует там, хотя не всегда явственная и неискаженная. Они стремились к той же поэтизации в отношении романа, как это было с комизмом и юмором вообще, с комедийным и драматическим театром. Новалис писал: «Могут наступить такие минуты, когда буквари и компендии покажутся нам явлениями поэзии»135. Почему и как поэзия должна зашевелиться в этих книгах, мне кажется, понять нетрудно. Эти книги — необходимость, спрос на них заложен в реальнейшей жизни, поэтому они достойны, чтобы поэзия испытала свою власть над ними.
Роман приобретал так медленно и трудно эстетический авторитет по той причине, что его не знала классическая античность и появился он только в эллинистический период. Романтики хотели быть идеологами культуры новоевропейских народов в ее своеобразности и характерности. К роману они проявляли внимание уже потому, что он им представлялся верховным художественным созданием именно этой культуры, средоточием духовных энергий, именно ей и свойственных. Август Шлегель уже в своих берлинских чтениях заговорил о первенстве романа в современной художественной культуре. «Итак, роман будет трактован не как всего только последнее слово или возрождение в современной поэзии, но как нечто в ней первенствующее. Это род ее, который может представлять ее в качестве целого. Ведь ясно, что великие наши современные драматические поэты, и даже вся драматургия наша по форме своей должны быть судимы согласно принципам романа»136. «Романы должны нам дать понимание современной сцены, и, не колеблясь, можно утверждать, что люди, не умеющие найтись в композициях Сервантеса, не угадывающие их безграничной глубины, мало имеют надежды постичь также и Шекспира»137. Итак, по Августу Шлегелю, имеет место своеобразная романизация литературы нового времени, роман, будучи отдельным жанром, однако же проникает во все явления литературной жизни, так или иначе занося в них порождаемые им духовные силы и влияния138.
Необходим длительный экскурс в историю романа, позволяющий разобраться в знаменательных явлениях этой истории. Нельзя довольствоваться пересказом концепций и мнений романтиков, относящихся к роману, нужно
95
найти резоны для этих мнений и концепций, если резоны существовали на самом деле. Пусть это потребует немалых отступлений в сторону, все равно от них нельзя отказываться, если сама задача небезразлична.
Хотя роман по душе своей и природе и принадлежит новому времени, все же подступы к нему, высоко назидательные, дает поздняя античность. О том, какими красками может заиграть история романа, начатая с античности и продолженная в новое время, показали работы М. М. Бахтина139, в которых, впрочем, основной интерес и конечные цели совсем другие, чем в настоящей книге.
Античность хорошее начало, когда ищут, что есть роман, ибо роман, ей еще принадлежа, выходит из нее — истекает из нее, тут же по выходе становится чем-то иным, не античным, и может быть пойман в этих своих не предвиденных античностью свойствах, первостепенно показательных для него в дальнейшем.
Август Шлегель, как и младший брат его, как и Шеллинг, много размышлявший о коренных различиях между античностью и новыми народами — о типологии культур, как принято у наших современников именовать эту проблематику, — утверждает, что античность была поэзией обладания — «Poesie des Besitzes»140. Собственно, поэзия обладания, поэзия наслаждения и пользования, — другое имя для пластического стиля, как говорится о нем у того же Августа Шлегеля и в том же его сочинении. Мраморный мир — тот, где идея и пафос обладания выражены с совершенной ясностью. Но и в литературе чистое описание, классическая идиллия в особенности, тоже кажутся вполне подвластными идее обладания. В описании, в идиллии поэт останавливает жизнь, чтобы она не предалась каким-либо собственным, внутри ее лежащим интересам, забыв о читателе, о созерцателе, которые притязают на абсолютную полноту внимания к ним: все, что есть в описываемом предмете, все это только для них и ради них. Едва в литературу вторгается действие, поэзия обладания поставлена на испытание, кажется, что с нею состязается враждебный ей принцип.
Но большая литература античного мира существовала вовсе не по нормам обладания — героический эпос, трагедия. И тут и там вся суть в действовании, в приближении к целям через упорную и длительную борьбу. Нужна оговорка самого существенного значения. Так оно и есть,
96
античный мир признавал действование и борьбу, но только в двух исключительных, высящихся над остальными формах — либо это была воинская практика завоевания, самозащиты, либо это была практика политическая. Когда у Гомера кончаются битвы, то наступает пора острова Итаки, и здесь всё есть поэзия обладания: и стада Одиссея, и дым над его очагом, и холсты Пенелопы. Античность ведала действование с его исторической, общеродовой стороны, в его высоких блеске и праздничности. Но чтобы обыкновенная жизнь обыкновенных людей рассматривалась как область приложения сил, не только как нечто обладаемое, по и еще как добываемое, с усилием взятое, этого классическая античность почти не знала. Это было открытием, выпавшим па долю уже позднеантичной литературы — на долю эллинистического романа. В «Одиссее» Гомера все это было чуть-чуть намечено, без разработки вглубь и вширь. Эллинистический роман — муж ищет по всему свету свою пропавшую жену — сюжет, по своей завязке и по своему развертыванию заранее исключенный в эпосе. Для эпоса такой сюжет само ничтожество. В эллинистическом романе исчезла недоступная черта между историями во множественном числе и историей, одной-единственной, — родовой, племенной, общеполисной. Эти множественные истории обыкновенных людей, преследующих обыкновенные цели, в романе впервые заслужили, чтобы следили за ними, наблюдали и изучали их. Истории эти по-своему полны событий, внутри себя текучи, переменчивы, имеют собственную жизнь и собственную силу жизни. Роман, как правило, истории людей не исторических, жителей, обитателей сельской местности или же городской. Всего примечательнее, что они не записаны ни в сословии богов, ни в сословии героев, и тем не менее стоят того, чтобы рассказывали о них самих, об их делах и похождениях. Маленькие множественные истории впервые соперничают с большой всеобщей. Именно маленькие истории, раскрывающиеся в социальной зауряд-среде, придают действованию значение всеобщей силы, приписывают ему первозаконность, чего-то всегда и всюду для всех неизбежного.
Эллинистический роман по своим предпосылкам и завязкам та же поэзия обладания. Все начато со вступительных положений счастья — зачастую полного, полнейшего. Действующим лицам поначалу и делать нечего, все уже им дано, они обладатели с преизбытком. Обыкновен-
97
но за их спиной богатый, состоятельный род, есть у них имущество, знатность, красота, юность. На время — на долгое время, покамест длится роман, — они теряют все это, разлучены друг с другом — муж с женой, жених с невестой, влюбленный с любимой, — остаются, так сказать, а то и в самом деле, наги и босы, их бросает из края в край, обстоятельства к ним беспощадны, они познают бедствие за бедствием, на их свободу, на их любовь покушаются одни, другие, третьи, четвертые. Роман описывает круг. В конце концов все утраченное восстанавливается, разлученные снова вместе, над ними горит радуга. Есть впечатление, что весь роман как бы дважды рассказан, — сначала по ключу «поэзия обладания», а затем по совсем другому, более доступному людям нового времени. Эллинистический роман как бы переводит одну эстетику на язык другой, в которой эта первая лучше сохранится. Перевод не есть отказ от подлинника. К своей первоначальной эстетике — эстетике обладания — роман возвращается, она главенствует, как главенствовала, приобретя новую силу и живучесть. С большими или меньшими отклонениями это ход «Антийи и Габрокома» Ксенофонта Эфесского, «Эфиоппки» Гелиодора, истории «Левкиппы и Клитофонта» Ахилла Татия, «Херея и Каллиройи», сочиненной Харитоном, «Дафниса и Хлоп» Лонга. Быть может, положение яснее в знаменитом романе Лонга — по своим основам он откровеннейшая идиллия, описание детского счастья на полях и лугах. На время в фабулу вводятся мотивы, губительные для полевой идиллии, — война, разбой, господский деспотизм. Дафнис должен завоевать свою Хлою, ничего нельзя получпть без трудов — при всей доброте и попустительстве со стороны природы. Это и есть второй ключ, которым работает эллинистический роман, ключ борьбы, усилий, заслуги и выслуги. Действование, труды оказываются жизненной неизбежностью. Эллинистические авторы ищут для своих романов вторую систему ценностей. Поэзия обладания — она хороша, но, быть может, устарела, или же она накануне того. В твоих руках оставляется все, что ты имеешь и имел. Но подтверди свои права делами, борьбой, старанием. Родовое, унаследованное сначала завоюй, дай ему вторую силу чего-то лично тобой добытого, с усилием взятого, а не полученного в дар141.
«Антийя и Габроком», роман Ксенофонта Эфесского: свадьба прекраснейшего Габрокома и прекраснейшей Антийи, которым дано все, чего могли бы они пожелать: и
98
почет в городе, и богатство, и знатное родство. Однако обоим суждено пройти тяжкую науку разлук, скитаний, рабства и плена; терпением, мужеством, настойчивостью каждый из них через чужие моря и земли пробивается наконец к другому. Нежная Антийя познала величайшие страхи и величайшее унижение. Ее держали во рву с двумя страшными псами, и ей туда давали воду и хлеб, чтобы она и псы кормились. Героев продавали в рабство, и продавали не однажды. Они страдали от произвола господ, от ложных обвинений. Габрокома распинали на кресте, и чудом он остался жив. В Таренте Антийю продают в публичный дом. То же самое в истории Аполлония Тирского: пираты сбывают в публичный дом Тарсию. Господа познают участь и невзгоды рабов. Но этот вывод мал. В эллинистическом романе получили впервые место более обобщенные мотивы современной демократии. Герои сбрасывают с себя оболочку родовой знати не затем, чтобы войти в другую, худшую оболочку раба, доступпого всем и каждому с торгов. Герои этих романов, очутившись в большом мире, вне родовой опеки, более не аристократы и не рабы также — им всегда удается отделаться от рабства, в которое их завели обстоятельства. Они люди как таковые, свободные не в античном, классическом смысле привилегированных граждан полиса, но в смысле, который придали этому понятию новоевропейские народы. Свободные — предоставленные самим себе, собственным силам и собственной инициативе.
Трагический роман не только изображает борьбу за жизнь — он делает эту борьбу для своих читателей главенствующим интересом, они переживают и сопереживают ее. Это интерес всеобщий, неизбежный, не для одних только поденщиков — для всех и каждого, кто бы они ни были. Борьба за жизнь — всеобщая, всечеловеческая задача, от решения которой никто не увольняется. Ее нельзя изолировать, приписать одпнм, чтобы избавить от нее других. Во всех романах герои добиваются своего, но обязаны они всегда самим себе, своей стойкости, верности, энергии, уму, таланту, красоте. Эрвин Роде, автор не устаревшего и до сих пор исследования о греческом романе, написанного около ста лет тому назад, считает важнейшей идеологической силой его случай, τνχη и очень основательно противопоставляет случай иному понятию — права142. Мы бы сказали: где господствовало право, — родовое право, где господствовали институты
99
рабовладельческого общества, там власть перешла к случаю. Право служило немногим. Каждому дозволено надеяться, что случай сыграет в его пользу. Человек, свободный в новом смысле, и царство свободной случайности превосходно дополняют друг друга, они в гармонии родства. Европейский Ренессанс поклонялся случаю как демократическому божеству, он в этом облике своем постоянно присутствует в новеллах Бокаччо, например. В природу случая еще едва углублялись тогда, и мрачные ее стороны почти не коснулись сознания. У романтической эпохи отношение к случаю двоилось. Случай — друг и благовеститель, и он же черная роковая сила.
В эллинистическом романе человеку милостью богов даны дом, семья, состояние, гражданство в городской общине. И все это он должен приобрести заново, как бы получить в перечислении н а иную валюту. Милость богов, предков, родовое наследие — это было. Приходит власть совсем иных ценностей и порядков. Эллинистический роман ведет к новому, неизвестному в классической античности воззрению. Обыденная жизнь и обыденное достояние обыденных людей есть всего только итог их собственных повседневных усилий. Царство обладания не само по себе существует, но созидается. В основе обладаемых вещей лежит деятельность — практика, πραξις, в греческом смысле этого слова. Роман превращает царство вещей в царство практики, труда, подвигов, совершаемых ежедневно. Уже в эллинистическом романе прорисовывается генеральное содержание романа как такового — творимая жизпь, шаг за шагом творимая, хотя она и знает дикие встряски, скачки и потрясения. Сквозь все свои необычайные приключения Антийя и Габроком, Теаген и Хариклея, Левкиппа и Клитофонт, Херей и Каллиройя добиваются все того же, строят свой возврат к потерянному, строят свой дом, свою семью — строят или заново отстраивают. Надо заново воссоздать свою обыденную жизнь, отпятую у них надолго и, как могло в иных обстоятельствах казаться, отнятую навсегда. Необычайные похождения должны снова вернуть героев романа к обыкновенной жизни греческого полиса под родительской крышей, где-нибудь в Сиракузах, а может быть, в Эфесе. Уже по первоистокам романа можно предвосхитить двойственность его, раскрывшуюся в будущем. Роман недаром пишется прозой, — он про обыкновенное, если хотите, он о деле, о деловом. Ему позднее стали
100
придавать документальную форму, чтобы увеличить впечатление дельности и деловитости. От романа — от прозы романа — менее чем от других родов литературы ждут поэтических переживаний: он оповестит, он укажет, он наставит, ради того он и пишется. Даниэль Дефо в свои книги включал инструкции, как бороться с чумой или как остерегаться карманных воров. Но поэтических переживаний от романа ждут еще настоятельнее, чем ото всей литературы в целом взятой. Роман затрагивает первоосновы, и если им бывает свойственна поэзия, то она тогда приобретает универсальность, от первооснов проникает во все решительно сферы жизни. Роман — поприще свободы, и для героев его и для автора, а через свободу он дает выходы в странные, непривычные творческие миры. Причем выходы надолго, ибо роман — жанр длительный, его иллюзии не те кратковременные, на которые способны стихи, рассказы, даже драмы. Термины «роман» и «романтизм» очень часто соседствовали, их обменивали местами143. В своей истории роман клонится и в одну сторону и в другую, равновесие сторон больше являлось идеалом, чем положением, достигнутым на деле. То роман бывал подавлен собственными прозаичностями, то уносился к «вымыслам чудесным». Роман бывал и романичен и антироманичен. У немцев роман был мифом и сказкой «Гейнриха фон Офтердингена», и у них же он был собранием депеш, отчетов, протоколов в каком-нибудь «Вольфе Фенрисе», финансовой хронике Ферсхофена — «деловом романе», как его назвали бы в наши дни. Труд жизни, труд ради обыденного — на этом основан в конце концов и эллинистический роман, это же в более открытом и явственном виде определяет в его лучших чертах роман более поздних веков и наций. Отсюда ясным становится особое пристрастие романтиков к этому виду литературы. Ему по преимуществу история доверила самую ценимую изо всех ценностей, известных романтикам: творимую жизнь. Сразу ли это бывает воспринято, или же требует каких-то вспомогательных средств, по именпо в творимой жизни суть и достоинство романа, соответственно своим первоначалам развившегося. Творимая жизнь в европейском романе сплошь да рядом закрыта бытом и его вещами, но своим призванием романтики считали отделить одно от другого, творимая жизнь была для них внутри романа тем романическим, что требовало для себя простора и свободы дыхания144,
101
В эллинистическом романе все расчеты творятся вновь, даже такая постоянная величина, как пространство, возникает в романе кусок за куском. Каждое новое приключение — новый кусок мира. Приключения, следующие друг за другом, созидают географию в ее всемирных масштабах. Так, в истории Антийи и Габрокома идут друг за другом Эфес, Родос, Тир, Антиохия, Киликия, Таре, Каппадокия, Александрия, Италия. Территория Антийи и Габрокома — весь тогдашний круг земной. Приключения вводят в мир, герои отреклись от своего места — от своей местности — и взамен получают мир во всей его пространности и огромности. Каждый роман начинается как чисто локальная история, — Антийя и Габроком — граждане города Эфеса, завязка судеб Хариклеи и Теагена в Аполлоновых Дельфах, Клитофонт, уроженец Тира, и здесь он впервые узнает Левкиппу, Херей и Каллиройя — из Сиракуз. Даже самая замкнутая по географии своей история Дафниса и Хлои, и та не приурочена во всех своих эпизодах к их родному месту — к Митиленам на Лесбосе. Роман требует разрушения локальной ограниченности. Наивное счастье, обладание и локальная узость даны вместе и утрачиваются тоже вместе. Тут историческая связь, и роман следует за нею. Испытание бывает послано героям из большого мира, без соприкосновений с ним они бы младенчествовали до конца дней своих, не раскрылись бы, не познали бы самих себя. Но справиться с испытанием, противостоять ударам, постигшим их, герои способны при помощи того же большого мира: откуда приходит беда, оттуда же и избавление. Уже в эллинистическую пору для романа неизбежна универсальность, множество действующих людских сил, захват больших пространств, переходы из среды в среду, из храмов и дворцов — к разбойникам, из благоустроенных родительских домов — в вертепы, в тюрьмы, в быт нищих и отверженных. Универсальность романа опять-таки его черта, любезная романтикам и их эстетике. Пожалуй, универсальность они готовы были рассматривать как главнейшую из его заслуг.
В развязке романа герои снова у себя дома, будут ли это Эфес, Тир или Митилены: они получают заново, как и все остальное, свой дом, свой родной город, получают как бы из рук мирового пространства. Мировой океан, продержав их какой-то срок на своих волнах, снова отдает их родным местам и родным жилищам. Родина для
102
них как бы дважды родина, полученная однажды через рождение и потом снова завоеванная страданиями и подвигами.
Естественно, что в этих романах встречается мотив мнимой смерти и после того как бы заново, на других множителях, переигранной жизни. В романе Харитона прекрасную Каллиройю сочли мертвой и пышно и богато ее погребли. Но разбойники разграбили гробницу и разбудили мнимо умершую. После разбойников и начинается вторая, совсем особая жизнь Каллиройи, полная превратностей и странствий. Посреди истории Антийи и Габрокома — такой же эпизод преждевременного погребения героини, избавленной таким образом от брака, к которому хотели принудить ее.
Герои эллинистических романов дважды делают свою жизнь, как бы дважды рождаются, и это самая широкая основа для тех дублирований, для тех переводов с одной системы ценностей на другую, которые имеют здесь место.
Красота тоже ценность, подвергаемая испытанию в эллинистическом романе. Герой прекрасен, и героиня прекрасна. Теаген сходствует с Ахиллом, Хариклея с Андромедой. Но красоте не дано абсолютного значения, она радует людей, насыщает их очи, и она же побуждает их к насилию и убийствам. Красота в человеческой среде вызывает вожделение, всюду находятся охотники ее залучить, властвовать над нею, превратить ее в исключительную собственность, отделив ее от общения с другими. Красота рождает темные чувства, она омрачает души, нехитрые и ясные до встречи с нею. Сколько угодно эпизодов, когда красота губит, и редки эпизоды, когда бы красота спасала кого-либо. Может показаться, что по страницам этих древних романов уже пробежали тени Манон или Кармен и что здесь уже предсказана красота как повод к разбою и падению. Замечательно, что в романах этих красота сама себя защитить и отстоять не может. Нужны другие, более простые и, быть может, не всегда блестящие человеческие свойства в помощь ей. Нужны верность, стойкость, храбрость, терпение, выносливость, наконец — нужны уловки ума, чтобы отклонить Домогательства и не допустить себя до черной измены, до предательства в любви, к которому тебя вынуждают твои спасители и сопутствующие им обстоятельства. В романах престиж красоты сохраняется при условии, что происходит
103
секуляризация красоты, утрачивается единственность ее и исключительность в мире идеальном.
Пафос эллинистического романа уже тот самый — он в бесконечном изменении живой жизни, в движении ее внутренних сил. Что это так, мы можем судить по некоторым внешним признакам. Внутреннее движение романа непрерывно орнаментируется, покрыто «арабесками», если прибегнуть к термину, который полюбился Фридриху Шлегелю в пору написания «Разговора о поэзии» и включенного в него «Письма о романе»145. Сюжет бежит, делая петли и петельки, не переставая добавлять все новые. Тот или иной эпизод вовсе не связан с предыдущими логически, нет никакой необходимости, чтобы он появился, и все же он возникает, и после того возникают и прочие и прочие, тоже не из потребностей действия как такового, а скорее из желания украсить и разукрасить это сквозное действие романа. Конечно, всегда возможны споры, тот или иной эпизод родился информации и логического развития ради пли же по соображениям арабеска и орнамента. Как бы то ни было, осложнения сюжета, крючки и закорючки в его ходе, несомненно, могут иметь орнаментальный смысл, что не исключает и другого смысла, чисто прагматического. В орнаменте, хотя он зачастую принимает и самые абстрактные формы, тем не менее таится некоторый лиризм. Орнаментируют любимое и ценимое, покрывают узорами личное оружие, с которым никогда не расстаются, предметы обихода, которые духовно срослись с человеком и всегда перед его глазами. Орнаментация и то, к чему она относится, верный показатель, что установились новые художественные культы и с ними новая эстетика. Орнаментация есть знамение приятия и одобрения. Многообразная и неустанная орнаментация сюжета в эллинистическом романе — свидетельство того, как привержены к несомому им содержанию, к труду жизни, к человеку в его действенном расцвете, как дорожат, как наслаждаются и одним и другим. Орнаментация в этом смысле перешла и в роман европейского Ренессанса, она бросается в глаза в «Персилесе» Сервантеса, написанном по следам «Эфиопики» Гелиодора, она по-своему присутствует и в «Дон Кихоте», где к тому же многочисленные вставные истории, отовсюду наплывающие, второстепенные персонажи еще по-особому орнаментируют основной сюжет, — их роль и в этом, помимо других ролей, на них возложенных. Орнаментации по-своему и
104
очень неловко добивается в «Люцинде» Фридрих Шлегель, ревнитель традиций Сервантеса в романтизме. Снова скажу о том, как нелегко отличимо орнаментальное от неорнаментального. Не сам рассказ, а отношение к рассказанному выражается через орнаментацию. Эпизод может быть дан прагматически, ради сообщения о факте, он может служить для характеристики, и одновременно он может явиться мотивом орнамента. В гротескной графике, в карикатуре эта совместность значений ясна: перед вами подробность персонажа, его лица, его внешности, а заодно это и суд над ним.
При всех свойственных ему предчувствиях и предвосхищениях эллинистический роман все же далек от романа новоевропейского. Этот все предоставляет свободной практике жизни, все из нее почерпает, она для него основной и единственный язык. В эллинистическом романе она не более как второй язык, ценности полиса и родовой аристократии в конце концов сохраняют присущую им силу, они не заменяются ничем, их всего лишь подтверждают заново. Цели и ценности в эллинистическом романе остаются незыблемы. Как в «Одиссее» Гомера, главенствующий мотив в этих романах возвращение, — к тому, что было, что не могли удержать, что потеряли и к чему верпулпсь после великих трудов и поисков. Герои как бы догоняют самих себя. Они брошены в море трудов и приключений, они познают стихию жизни во всей ее игре, и доброй к ним и безжалостной. Нет примеров, чтобы в этом море, чтобы на этом рынке случая кто-либо установил для себя связи надолго, иашел бы друга, жену, общественное положение, богатство. В романе Харитона чужестранец Дионисий женится на героине романа Каллиройе, случайно найденной его людьми, но брак этот обставлен множеством оговорок, оказывается наполовину обманом, и сын, которого рождает Каллиройя, — это сын, зачатый не Дионисием, а законным, первым и, собственно, единственным ее мужем Хереем. В конце концов брак с Дионисием отменяется. В эллинистических романах тот муж и та жена, которых повенчали их родители, они-то и будут когда-то приведены друг к другу, сколько бы разлук ни предназначала им судьба. Все может колебаться в этих романах, кроме целей и идеалов. И в этом коренное отличие эллинистического романа от романа нового времени, где все захвачено колебанием, где творятся заново и дела и идеалы, где цели сменяются, приобретают новую высоту или новую
105
точность. В существенном контрасте с античностью стоит, например, роман о Мейстере у Гете. В немецком романе герой долго и упорно создает себе биографию художника, хочет стать и на время становится актером. К эпилогу всей своей истории Мейстер приходит как человек совсем иного идеала и призвания, он хирург по профессии и по убеждениям. Если выйти за пределы романного жанра, то у Гете есть пример еще сильнейший — история Фауста, в том и состоящая, что меняются именно идеалы, ведущие за собой человека. Эллинистический роман по фабулам своим многообразен чрезвычайно, он знает крайности и крайности, его волнует анархия случая, и все-таки в последнем своем смысле он формально строг, он закрыт — пластичен, как выражались романтики. Закрытость, твердость, выправленность сообщаются ему этими консерватизмом и стабилизованностью идеалов, жизненных целей. А роман нового времени «бесконечен» в силу обратного — идеалы, ценности, цели в нем не закрывают горизонта, они прозрачны, проницаемы, за одними идеалами угадываются другие, высшего порядка, движение, по существу, нигде и ничем не заканчивается, в настоящем ее смысле последняя инстанция отсутствует — или, вернее, она бесконечно отодвигается. Разумеется, лучший пример романа с бесконечной перспективой — классический русский роман, пришедший к жизни после античности, и после Ренессанса, и после романтиков с их доктринами романа как жанра. У Августа Шлегеля, говорившего об античной «поэзии обладания», антитезою служило «томление» (Sehnsucht), присущее новому времени146. Новый роман действительно знал «томление». Уходящий горизонт был его томлением, переживанием и свойством, которых не видела античная культура ни в классические, ни в последующие за классическими времена.
Идея и мотив возвращения господствуют в композиции эллинистических романов. Основной ее закон — симметрия, то в крупном, то в малом, то в самых мелких мелочи. Весь уклад эллинистического романа в целом стоит под знаком симметрии, поэтому не диво, если она проявляет себя в частностях и в частностях частностей. Завязка и развязка перекликаются, почти повторяют друг друга, герои возвращаются в свой город и в свой дом, — так сказывается закон симметрии наиболее общим образом. Вещи превратились в дела: были вещи, а потом повелась длительная и тяжкая, с колеблющимся успехом
106
борьба за эти вещи, они растворились в ней. В развязке дела опять стали вещами, борьба вернула героям их положение, их имущество, они опять в том материальном окружении, к которому были приучены. Говоря языком романтической эстетики, от пластического они снова перешли к пластическому, выполнив характерный для пластического мира закон симметрии.
В главных свох линиях само повествование как таковое в этих романах движется симметрически. Герой и героиня волею злых обстоятельств расстаются надолго, они попадают в разные страны, их носит по разным морям, выбрасывает на разные континенты. Но история каждого из них множеством частностей уподоблена истории другого. Тирский богач Апсирт вожделеет к Антийе, его дочь Манто влюбляется в Габрокома и преследует Габрокома. Оба они в плену, в рабстве, смущают своей красотой поставленных над ними господ и подвергаются каждый гонениям, ибо не отвечают на любовные искательства. Симметрия при всех переменах сохраняет исходное положение. При сходстве судеб Антийи и Габрокома они, даже разлученные, по внутреннему смыслу остаются вместе, в их разлуку как бы заранее уже заложены их будущее свидание и окончательное соединение.
В романе о Дафнисе и Хлое, в котором мотивы разлуки имеют второстепенное значение, истории героев с самого начала по множеству частностей симметричны друг другу. Здесь симметрия как бы делает из двух жизней одну, дает осязаемость и наглядность теме любви, взаимной предназначенности, ослабляет или даже устраняет неопределенность в сюжете, исключает сколько-нибудь заметную роль для третьего лица или для третьих лиц вообще. В этом также заметная особенность эллинистического романа. В новом романе нельзя предугадать, какое значение приобретет впервые появившийся неизвестный еще персонаж, как н насколько, кем и чем он выдвинется. Пусть солдат надеется, что станет маршалом — женихом, мужем самой замечательной женщины, богачом, властителем людей, зиамепптостью. Арена романа открыта для всех. В эллинистическом романе действующих лиц великое множество, они мелькают и мелькают, и, что всего важнее, — ни один из них не завоевывает Для себя настоящей роли: длительное значение могут иметь только герои, названные уже в заглавии, — Дафнис и Хлоя, например, или Антийя и Габроком, да изредка
107
еще кое-какие персонажи, с самого начала приданные им в провожатые, чаще всего их челядницы. Остальные — это случайные люди, как бы дорожные знакомые, которых забывают, как только пройдена дорога или часть дороги. В эллинистическом романе значат только свои люди, взятые из устойчивого родового мира, прочие — это люди времен испытания, а не люди времени, когда сила за нормой. В новом романе то, что было испытанием для греков, стало чем-то естественным и постоянным, действование человека в мире и связь его по действованию с остальными людьми есть основное и главное содержание жизни. Поэтому и оценка людей и правила их допуска в роман решительно изменились. Даже примериваясь по всей очевидности к роману воспитания, к роману одной-единственной личности, Фридрих Шлегель высказывался против подавления в романе одним персонажем всех остальных, необходимы равные возможности для всех. «Это не утонченный, а грубый эгоизм, когда в романе все персонажи вращаются вокруг одного, как планеты вокруг солнца, и этот один становится любимчиком автора, зеркалом и льстецом восхищенного читателя. Как цивилизованный человек умеет быть не только целью, но и средством для себя и для других, так и в цивилизованном произведении все должны служить и как цель, и как средство одновременно. Устройство должно быть республиканским, при этом всегда дозволяется, чтобы одни играли активную роль, другие пассивную»147. Фридрих Шлегель предъявляет к роману требования, которые как бы сами собой выводятся из условий внутреннего уклада нового времени, с установившейся в нем широтой человеческих прав.
Итак, в эллинистическом романе, как в некоем производящем чреве, заключен роман будущих эпох. Почти все нужное уже присутствует в этом романе, и однако же ему не дают эмансипации, не выводят его вовне, чтобы он там пользовался благами самостоятельности.
Исходная причина ясна: эллинистический роман весь в предвосхищениях культуры нового времени, и все же он принадлежит культуре античного рабовладельческого общества, которая, позволив ему взять от чуждого ей, тем не менее не отпускала его от себя. Античная культура не могла дать законченных безусловных санкций человеческой деятельности как первооснове жпзни. Наслаждение жизнью, «поэзия обладания» могли только оговорочно поступиться своими правами. Роман новых народов — лето-
108
пись жизнестроительства, и наслаждение для этого романа вторично включенный момент, наслаждение бывает найдено в самом жизнестроительстве, а не где-либо в стороне от него. Нужно неизбежно обратиться к вопросам труда и его роли в культуре античного общества, надеясь, что именно так мы будем наведены на причину всех причин. Через философию и эстетику романтики держали узкую и специальную связь с миром труда; через художественную практику романа эта связь у них несравненно полнее и шире. Через роман она устанавливалась сама собою, она диктовалась самой историей романа.
Разумеется, дело не в том, чтобы искать прямых отражений трудовых процессов и результатов их в античном искусстве, да и в каком-либо ином, если нужно определить, как расценивался и что значил там или здесь человеческий труд. Об античности нам хорошо известно, что производительный труд трактовался очень низко и гибельно для этого общества в целом. Труд был достояннем рабов, и это позорило его в глазах свободных граждан. В той же книге о греческом романе Эрвин Роде говорит о том, как изгоняли греки труд из своих утопий148, — в утопии Феопомпа земля приносит урожаи без плуга и без быков за плугом, без посева149. В стране гипербореев снимаются две жатвы в год150. Рабство входило в труд как внутренний его признак. Рабский труд — бездуховный, безличный, по приказу и указу, без инициативы того, кто трудится. Из рабского труда начисто исключена игра, в свободном труде носительница эстетики, — игра, чрезмерно ценимая у романтиков.
Труд имеет в культуре значение великой парадигмы. Пусть нам и не даны в искусстве прямые изображения труда и трудов, важны не изображения, важны не отражения, важны влияния, хотя бы и косвенные, хотя бы и преломленные.
Если труд признан как основополагающая ценность, то и множество других явлении, подобных и родственных ему, склоняющихся и спрягающихся по его образцу, получают допуск в культуру, в искусство, санкционируются в них. Помимо того, и характер этих явлении, закон их будет меняться в зависимости от того, предпослан ли им труд в качестве первого феномена и первой ценности в общественной жизни. Так, признанность творчества и самый характер его, качественный состав его, стиль зависят от того, насколько признан труд, его первообразец. Были
109
культуры, где производительный труд не ставился ни во что, но изящные искусства пользовались правами. Это были права хрупкие, ломкие, непозволительно переутонченные, изысканные и сверхизысканные. Уже в древнейших культурах мы находим небывалую изысканность, и ей незачем удивляться, она прямое следствие древнейшего общественного строя. Когда апология творчества поддержана апологией труда, идет по ее следам, исходит из труда как из своей парадигмы, то все предстает в другом, более прочном смысле: в творчестве, которому примером служит труд, ощутимо нечто насущное, люди требуют, чтобы насущное, существенное были там, творчество тогда есть хлеб духовный, а не собрание лакомств и забав. Античная культура не знала могучей парадигмы труда, лишена была поэтому демократичности в нашем понимании. Европейский классицизм пользовался этими слабыми ее сторонами. Парадигма труда, будь она в кругозоре античности, дала бы полное развитие и античному роману, поддержала бы концепцию жизни как борьбы, ведущейся свободными людьми, уже в нем наметившуюся и все же не добившуюся полного к ней доверия. Это суждено было сделать новоевропейским народам, чья социальная практика пошла своими путями, чуждыми античности. Новоевропейское общество стояло на крепостных и крепостничестве, как античное на рабе и рабстве. Крепостной не знал той степени подавленности и обезличения, которую испытал античный раб. Он пользовался относительной свободой. В отличие от античного раба, он был собственником на орудия производства, вел свое частное хозяйство, основанное на личном труде151. Новые народы не имели причин презирать столь решительно, как античные, сферу, героем которой был материальный труд. И в этом состояли первые залоги культуры, обладающей большей широтой духа, чем культура греков и римлян. Разумеется, нужны были века, чтобы эти задатки новой культуры сказались. Но они сказались.
Нужны были века, чтобы полусвобода средневекового крестьянина развилась до свободы, как ее понимал и как ее отстаивал человек нового времени, — до личной свободы всех и каждого. У этой свободы сохранилась общенародная подпочва. Речь шла не о свободе как о привилегии, но о свободе как о праве. Эмансипация личности и эмансипация жизненной практики в ее общенародных объемах, — эти две цели ставились наравне. Два этих яв-
110
ления почти тождественны друг другу, и оба они воодушевляли роман нового времени, пафос и интерес которого в повседневном творчестве жизни, в свободной выработке всеми и каждым условий собственного существования. Роман требовал, чтобы личности была предоставлена свобода движения по жизни, свобода связей, а она чего-нибудь стоила, если и те, с кем связи устанавливались, тоже были свободны. Мы видели, что античный роман весьма ограничивал поле допустимых связей, в новом романе по принципу своему безграничных.
Уже была речь об особо доверительном, интимистском отношении к природе, к материальному миру, к дарам его, об отношении, складывавшемся в Европе под влиянием массовой трудовой собственности, борьбы за нее и отдельных ее завоеваний. Мы находим это отношение повсюду в искусстве, и, разумеется, также и в новом романе, в его ландшафтах, натюрмортах, в описательных частях, а главное — в общей его атмосфере. Люди хотят жить в мире, как в своем доме, куда они вошли по праву, как законные владельцы, не как наймиты или арендаторы.
Новый роман — тот же роман античности, избавленный от опоясаний, которыми античность окружала его, не желая предоставить ему самостоятельность и право всем своим содержанием прямо, без оговорок влиться в жизнь культуры. Роман нового времени имеет за собой многие непредвзятости и предпосылки демократического порядка, он истинно народен по своему духу и происхождению. В этом свидетельство неувядаемости романа как жанра вопреки всем ведущимся вокруг него толкам и кривотолкам. Когда-то Гегель назвал роман буржуазной эпопеей. Это было не только остроумием, это было у Гегеля и строго историческим определением. Вместе с тем это было предсказанием исчезновения романа в какие-то не совсем еще ясные исторические сроки, ибо нет признаков, чтобы Гегель считал буржуазность долговременной категорией. Точка зрения, по которой роман есть орган буржуазности, исторически несостоятельна, и будь она верна, очень трудно было бы обосновать дальнейшую жизнь романа за чертою буржуазного общества и его культуры. В эпоху эллинизма впервые обозначился современный роман вовсе не по причине какой-либо буржуазности, усвоенной этой эпохой. Античная рабовладельческая демократия находилась в кризисе, она учуяла необходимость расширения своих основ и пошла навстречу такому расширению, — я
111
думаю, это и дало почву эллинистическому роману. Далее роман развился в сторону демократизма в новом его типе, развился со свободой, античности неведомой, и это наполнило его. Полусвободный крестьянин средневековых обществ через Французскую революцию развернулся в свободного собственника и труженика земли, и поэтому современники революции могли охватить единым взглядом весь путь культуры, строившейся на этом крестьянине, и пройденный новыми народами, — путь от начала его к его концу. Конечно, роман познал на себе власть буржуазных отношений и буржуазного сознания. Но то были не основы его, то был лишь период его истории. Буржуазность вошла в роман и могла быть из него удалена, чего и домогались романтики. Они хотели освободить его первопринципы от всех наносов буржуазности, — освободить творимую жизнь, она же поэзия нового времени, заложенная хотя бы в своем идеале на самостоятельности и самодеятельности общественного человека. Новалис: «Роман должен до конца превратиться в поэзию»152. И далее: «...В важном ли, в неважном ли, но мы живем в огромном романе. Созерцание событий вокруг нас. Романтическая ориентация, обсуждение человеческой жизни и способ обращения с нею»153.
Мысль о творимой жизни, столь часто, как в песках, затерянная в буржуазной литературе, — она-то и позволяла осуществить замысел Новалиса и превратить роман в универсальное явление поэзии.
Август Шлегель объяснил, что такое романтическая поэзия, — это поэзия главенствующих наций новой Европы154. Впрочем, на том, что сюда входят одни главенствующие, он не настаивал. Его высказывание относится ко времени, когда романтики были приветливы ко всем народам мира и никого не собирались исключить из мировой культуры. Определение Августа Шлегеля подразумевает многонациональный характер культуры нового времени, в противоположность античности, которая видела в не-греках и в не-римлянах, в называемых тогда варварскими, народах, только запасы для рабства и для наемничества. У романтиков один из положительных признаков нового времени в том, что за каждой нацией признается право на собственную индивидуальность. Им думалось, что европейские нации недостаточно развили это право, и уже рано из среды романтиков — из сочинений Фридриха Шлегеля — слышны жалобы, что европейские нации
112
чересчур похожи друг на друга155. Здесь Фридрих Шлегель высказывает любопытную мысль, что характеры европейских наций оживились вместе с возвышением третьего сословия, социальное принесло новую кровь национальному, подстрекнуло к более высокой активности. В новом столетии наука и поэзия романтиков обратились на поиски национального своеобразия за пределами Европы — в культурах Азии по преимуществу. Важный пример был дан книгой Фридриха Шлегеля «О языке и мудрости древних индийцев» (1808).
В словах старшего Шлегеля о романтизме как о поэзии новоевропейских поантичных народов содержится истина. Лучше сказать: романтизм — жизненные и поэтические ценности нового времени, разработанные этими народами, из чего не следует, что они единственно и исключительно обладали и обладают правами на них. Поэтому нужна бы большая точность в формуле Августа Шлегеля. Важнейшее вовсе не в этнической окраске этой культуры, а в пройденном ею историческом опыте, отнюдь не закрытом для кого-либо.
Романтики младших поколений, из школы Гейдельберга и из швабской школы, охотно ссылались на фольклор как на свою основу. Фольклор — явление слишком специальное. Романтизм в целом следовал за культурой большего богатства и многообразия, письменной и бесписьменной, дававшей простор тем же силам, в фольклоре сжатым и ограниченным. Романтизм следовал за культурой Европы производительной, трудовой, и крестьянской и городской, строящей и дома из камня, и дома из бревен. Ориентацией романтикам служил не один фольклор, но и вся долговременная демократическая традиция, куда и фольклор был включен в качестве одной из действующих сил, нисколько не отменяющей всего иного. Романтики не всегда отчетливо знали, где их ориентация. Впрочем, дела это не меняло. Ориентация действовала через них, независимо от их знания или незнания, в чем она. Собственно, и романтическая школа — осознание давно сложившихся ценностей в эпоху, когда подошел срок для дознания, когда «стало видно далеко во все концы света». Романтики сами о себе считали, что они глашатаи уже давно вошедшего в жизнь, давно лежащего в ней, что они заново открывают уже открытое. Называемое ими романтизмом, по их же мнению, было создано задолго до чих. Оно извлечено ими из творений Данте, Шекспира,
113
Кальдерона, Сервантеса, Гете, даже из античности; анализ нового времени позволяет увидеть родственное ему и в античном мире, если действовать в направлении, обратном классицизму. Как тот искал античность в новом времени и подчинял ей новое время, так романтики ищут новое время в античности, никаким догматам его не подвергая и предоставляя ему всяческую волю. Высказывания Людвига Тика: «Когда от меня требуют, чтобы я дал определение романтизма, то для меня это непосильно. Я не знаю никакого различия между поэтическим и романтическим»156. «Но поэзия есть и всегда остается поэзией, она все та же, называйте ее как хотите, классической или романтической. Уже сама по себе она романтическая, и нет иной поэзии, нежели романтическая. Указать на различия я не могу»157 «Многие современные поэты объявили себя романтиками, другие старались создавать поэзию антиромантическую. И те и другие все равно романтики, если только они в самом деле поэты. Так называемая поэзия современных противников романтизма есть не что иное, как отсутствие поэзии»158.
Примерно пять веков европейского развития — 1300—1800, пережитые с точки зрения одного великого пятилетия, 1789—1794 — вот что такое романтизм.
Можно утверждать, что известная формула для романтизма, предложенная Фридрихом Шлегелем, — поэзия поэзии, «Poesie der Poesie», имеет этот смысл — поэзии, идущей по следам другой поэзии, возводящей в новую степень поэзию, уже осуществленную в веках. Наконец, и чрезвычайный расцвет у романтиков литературной теории и эстетики объясняется тем же: они не создавали, они осмысляли, они трактовали и перетрактовывали уже сделанное до них, поэтому эстетика так часто у них вытесняла живую работу художника, толкование искусства в прошлом, практику его на сегодня. В раннем романтизме особенно сильна эта угроза перехода художественной литературы в философию и в филологию. Братья Шлегели, философы и филологи, спорят по своему значению с поэтами, с Новалисом и Тиком. Поэты создавали свое, филологи совершали, быть может, нечто большее, пересоздавали в романтическом смысле Шекспира и Сервантеса, извлекали из Ренессанса скрытые его звучаппя.
Нужно отметить еще одну особенность романтизма в понимании самих романтиков. Он никогда не был для них
114
отдельным течением, одной только эпохой, как готика, барокко, классицизм. Он содержался для них во многих эпохах, в множестве течений, в самой истории он не был выделен, поэтому выделить его опять-таки составляло задачу, возложенную на филологов и теоретиков из их среды.
«Дон Кихот» Сервантеса был тем новоевропейским романом, где для романтиков были выражены верховные ценности последних веков. Людвиг Тик в 1799 г. дал новый перевод романа Сервантеса без выкидок, без сокращений, во всей красе полного текста. Тиковский «Дон Кихот» был событием, едва ли не равным Шекспиру в переводах Августа Шлегеля. Немецкая литература его сохранила. «Дон Кихот» в переводе Тика — это тот самый, с которым совершил свое известное путешествие Томас Манн159.
Романтики ценили и второй роман Сервантеса, «темноцветный Персилес», как отзывается о нем Фридрих Шлегель160, не однажды поминающий его. В этом отзыве сказывается обычай романтиков каждое художественное произведение рассматривать как некую личность, авторы — это особые «характеры», поэтому к ним пишутся «характеристики», и их произведения тоже «характеры», каждое в отдельности и по-своему, каждое имеющее свой собственный цвет. Любовь романтиков к «Персилесу», внутренне близкому к эллинистическому роману, устанавливает знаменательные историко-литературные связи. Однако же в «Дон Кихоте» они могли обрести и все то, чем пленял «Персилес», но в более свойственной современным вкусам обработке. Тут была и более обольстительная, свободно льющаяся жизнь, тут была и более утонченная универсальность, чем в «Персилесе», где весь мир представлен был через путаницу произвольно сменяющих друг друга путешествий. Оба Шлегеля написали по небольшой статье о тиковском «Дон Кихоте», и статьи эти богаты мыслями и впечатлениями. Август Шлегель говорит о стихии игры, которой полон роман Сервантеса. Жизни предоставлена ее свобода, события возникают из множества источников, без взаимного понукания по закону причин и сразу же за ними наступающих следствий, у событий есть общая глубокая основа, каждое обладает собственным своим развитием и не ведет ни к чему дальнейшему, не служит только вспомоществованием и исходным условием для какого-то другого. Нет ничего похожего в композиции «Дон Кихота»
115
на пошлые эпилоги бюргерских романов, на заключительные свадьбы или на что-либо иное, одного утешительного с ними смысла. По характеристике Августа Шлегеля: «Дон Кихот» — роман с открытыми горизонтами, не прибегающий к бюргерскому приему заслонять их бытом и его малыми интересами, которые выдаются за большие». Особо сказано о таланте разнообразия, свойственном Серваптесу. «Хотя Сервантесу и приходится многое из характерного для поведения главных действующих лиц воспроизводить заново, он тем не менее находит для себя выход в бесконечных вариациях, как если бы он был изощренным музыкантом»161. Фридрих Шлегель трактует «Дон Кихота» как высочайший идеал современной прозы, единственный, который в новом времени можно сопоставить с античной прозой Тацита, Демосфена или Платона. Он тоже восхваляет в «Дон Кихоте» многообразие стиля, которым автор пользуется, как если бы то были массы красок и света. В стиле романа и благородство, и игривость, и острейшее остроумие, и умение вдаваться в сладкую детскую настроенность. В романе этом «музыка жизни» — «Musik des Lebens», как выражается Фридрих Шлегель, — в нем мы находим фантазии, фантастическую орнаментику, сложившуюся под музыку жизни. «Давайте забудем популярное писательство французов и англичан и устремимся за этими образцами », — таков заключительный призыв статьи162.
В романе Сервантеса можно найти сколько угодно резонов для романтических откликов на него. Он переполнен жизнью, как они хотели того, в нем и материальная, торгующая, промышляющая, крестьянствующая Испания и Испания изысканных нравов, аристократических забав и увеселений. Роман обладает как бы высотной композицией. Вставные истории, такие, как история Марселы и Хризостома, погибшего от любви к Марселе, такие, как крест-на-крест любовная история Карденьо — Лусинды, Фернандо — Доротеи или история бежавшего от мавров капитана с его мавританкой, придают роману высоту настроения. Это витающие эпизоды, полуприкреплепные к земле с ее обыкновениями, о них уже шла речь, как об эпизодах о двух измерениях, сообщающих роману, в котором они соучаствуют, особую легкость. У Сервантеса все в романе материально воплощено, обладает резкой индивидуальностью. Это Сервантес в «Персилесе» доходил иногда до самой изощренной характеристики в обрисовке людей, и это в «Персилесе» он говорит: «Я сам видел, как один
116
человек содрогался, когда при нем резали редьку, на моих глазах одни человек встал с почетного места при виде маслин, которые ему клали на тарелку». Вместе с тем у Сервантеса налицо философская обобщенность и воздушность композиции. Он и воплощает и развоплощает, а потом он сызнова воплощает развоплощенное накануне. Высокое у него вторгается в заурядное, но и заурядное в высокое, с конечным перевесом у высокого. Нет ничего более проникнутого грубейшей житейской прозой, чем тот трактир, где доводится на время сойтись чуть ли не всем персонажам романа, и вульгарным и возвышенно-прекрасным. Трактир, постоялый двор суть коммерческие заведения, лишенные малейшей идеальности. Однако же и им ниспослана своя поэзия. Постоялый двор — пристанище для случая, для τνχη, одушевлявшего античные романы. Здесь могут сойтись люди, которых ничто и никогда не свело бы вместе, не поставило бы лицом к лицу. Трактир — судьба, трактир — провидение. У трактирщика-наживалы, мошенника первой руки, за столом удивительные гости, четыре влюбленные пары, прибывшие из разных концов, четверо прекрасных кавалеров и четыре прекрасные дамы; одна пара прибывает прямо из Мавритании, в захолустном заведении загораются краски Африки и баснословной любви. В трактире принимаются великодушные решения и поворачиваются в лучшую сторону судьбы тех, кто был еще недавно несчастен.
«Музыка жизни», о которой говорит Фридрих Шлегель, доброю долей создается относительной свободой всех действующих лиц, а их очень много: по подсчету К. Н. Державина, в романе выводятся шестьсот шестьдесят девять фигур163. Каждый занят своим делом, и худо ли, хорошо ли, оно ведется, каждый по-своему полон им, будут ли это погонщики мулов, будут ли это крестьяне из деревни Санчо или же сам хозяин постоялого двора со всеми к нему примкнувшими. Сервантес изобразил массовую Испанию, умеющую соблюдать свою жизнерадостность и под владычеством деспотических монархов, и под сыском инквизиции, и под угрозой близкого материального и государственного развала. Испания Сервантеса — не погибающая даже в условиях гибели, признаки которой уже проступают. Люди у Сервантеса живут если не легко, то, уж без сомнения, охотно. Льющаяся, через все умеющая пройти жизнь, прыгающая по судьбам человеков, как неиссякаемые ручьи с камня на камень, и давала повод Шлегелю
117
слышать в романе Сервантеса вечный наигрыш и вечный напев. Сервантес по временам освобождает поток жизни от каких-либо обусловленностей его для того, чтобы он лежал перед нами весь как есть, до конца преданный собственной своей природе. Нужно заметить различие между первым томом романа и томом вторым. В первом томе все представлено через Дон Кихота и Санчо Пансу, все идет от них. Они зрители, и мир — их зрелище. Во втором томе, где описано, как над ними обоими потешался герцогский двор, положение меняется. Не Дон Кихот и Санчо Панса смотрят, а на них обоих смотрят, зрители стали лицедеями, зрители сами превратились в материал для зрелища. Этот радикальный поворот в романе и служит тому, что жизнь, сама по себе взятая, как бы выплескивается за скобки, в которые она была заключена. Жизнь абсолютна, а созерцающие жизнь существа более чем относительны и их точки зрения тоже.
Никем и ничем не смущаемая и не ограниченная жизнь, воспринимаемая нами в романе, — это и есть соответственный ожиданиям романтиков мир прекрасных возможностей, лежащий где-то в глубине всего изображенного, дающий ему измерение вглубь, помимо измерения ввысь, которым роман уже владеет. Фон возможностей решительно отличает новый роман от эллинистического, у которого отсутствует порыв в историческую даль, и что дано, то и дано. В романе Сервантеса за Испанией современной угадывается более долговременная жизнь народа, способная сказаться разными степенями явственности и внятности.
Если в романе где-либо появляются черты застылости, то они тут же смываются и застылость становится средством для вящей демонстрации вечно неспокойной жизни. Это можно наблюдать и в самой художественной манере романа: по временам Дои Кихот и Санчо Панса слишком похожи на самих себя. Оба чересчур стилизованы, один на своем Росинанте, другой на своем осле. Оба порою кажутся собственными эмблемами, приближаются к предельным понятиям самих себя и такими переходят в изобразительное искусство, остро памятные у Домье, у Пикассо. Но у Сервантеса стилизация то настигнет человека, его образ, то отпустит их. У Сервантеса жизнь проникает из мира изображаемого в самый способ изображения, здесь тоже подвергаясь закону приливов и отливов. Стилизация — род аскетизма внутри искусства, отчет перед одной-единственной инстанцией, перед обобщающим интеллек
118
том. Как в жизненной практике, так и в творчестве есть свой аскетизм, и даже во многих разновидностях. Фигуры Дон Кихота и Санчо Пансы порой оскудевают, и в них остается только существенное, без добавлений, оскудевают и мертвеют, а потом оживают снова. У обоих появляется непоследовательность самой живой жизни, даже Росинант, эта схема всех конских схем, несколько выбивается из предписанной ему роли, а осел Санчо Пансы, как будто бы навеки спаянный, стилизованный с ним в одно, позволяет себя украсть и вольный пребывает без своего навеки ему предназначенного хозяина. Образы романа Сервантеса, предстающие перед нами как чистые креатуры познающего разума, начинают самобытно шевелиться, и тогда онн уже творения самой природы. В стилизациях Сервантеса творчество человека далеко вклинивается в природу вещей и дает повод думать, что оно властно и над жизнью, и над смертью, что действительность вне человека и без человека нейтральна. Но происходит флуктуация, действительность приливает со всей свойственной ей силой и творчество познает свои границы, свою истинную свободу, состоящую в прислушивании к действительности, в уловлении ее влияннй.
В романе Сервантеса господствует строй вещей и существ, именовавшийся у романтиков органическим, и понятие органического пересекается с понятием живописного стиля, прокламированного романтиками: разница в том, что понятие органического подразумевает не одну эстетику, но и отношения, идущие в глубь природы социального мира и его морали. В романтической философии организм, органичность — это идеи-фавориты. Они тоже в истории романтизма знали и высоту и падение. В своем высоком варианте они восходили к культуре Ренессанса. Идея органического развития применительно к обществу и культуре получила разработку у Шлейермахера, который вместе с другими ранними романтиками под органическим обществом разумел общество, подобное большому современному, со всем его настоящим и — что еще важнее — будущим. У ранних романтиков органическое строение общества предполагало свободу человеческой личности, суть общества как организма в этом его сочетании с индивидуальной свободой и независимостью. В позднем романтизме идея общественного организма опустилась до уровня так называемой «исторической школы» права, усматривающей начала органические по преимуществу во-
119
всем, что осталось в Германии и Европе глубоко захолустного, провинциального, неустранимо архаичного. О личной свободе здесь не было ни полслова. Органичность сводилась к связыванию человека — сословными, цеховыми корпорациями, церковью и государством, связыванием свобода вытеснялась начисто. Органическое развитие по этим поздним воззрениям, собственно, равно было прозябанию, похвала прозябанию слышна была и у поэтов Гейдельбергского круга и особенно у поэтов «швабской школы», у ортодоксальнейшего из «швабов» Юстина Кернера, пожалуй, всего слышнее. Нужны были недоразумения и разочарования, связанные с органическим учением в его высоком варианте, для того чтобы швабские концепции могли приобрести влияние.
Ренессанс, а после него и старшие романтики были очарованы великими масштабами общества нового времени, богатством его внутренних отношений и связей. Они видели его жизнь как великое целое и поздравляли себя, что принадлежат к нему. У них смешивались два понятия, и это давало повод к многочисленным иллюзиям. Целое они соблазнялись принять за целостность. Общество нового времени, конечно, существовало как целое, необычайное и грандиозное. Но оно все более превращалось в буржуазное общество, никакой целостностью не обладающее. Оно складывалось в целое сквозь систему неизбежных для него антагонизмов. Целостность лежала в его возможностях и отсутствовала в его наличной действительности. Великие умы Ренессанса, Шекспир и Сервантес, уже прозревали это. Иллюзия целостности и служила основанием для органических концепций общественной жизни, прошедших в новоевропейский роман, а также и в драму, — недаром романтики уподобляли новые романы и драму друг другу. Но у Шекспира драма развилась в трагедию, исключающую идеи общественной гармонии. Сервантес же очень своеобразно выразил свой скепсис к обществу как к организму. У него появляется отдельно поставленная этическая тема. Сам Дон Кихот Ламанчский — великий моралист со своей, особой темой морали. При воззрении на общество как на организм нет нужды в обособлении морали, само существование внутри этого общества и по его заветам высокоморально, всякую специальную мораль оно упраздняет заранее. В романе Сервантеса органическая концепция, конечно, присутствует, без нее роман был бы лишен своей красоты и праздничности. Концепция ор-
120
ганичности определяет главных героев романа, они ее знамя, демонстративные ее носители. Дон Кихот и Санчо Панса — как бы двуединый персонаж, один в двух различениях, при всем своем несходстве оба они нужны друг другу, в каждом продолжение и восполнение другого. Оба они выражают приметно, незабываемо, учительно, как связаны люди в человечестве, как каждому живому существу уготовлен ответ на его запросы в ком-то другом, известном ему или неизвестном. Дон Кихот и Санчо Панса, друзья-товарищи, нашли друг друга, они образ для тысяч, для миллионов, только вышедших на поиски, где, когда и кто может им откликнуться. И все же органическая концепция у Сервантеса заметно пошатнулась. Где же социальная гармония, если налицо и каторжники в цепях, и любовь за деньги, и женитьба, подобная женитьбе деревенского богача Камачо, собственно говоря, купившего себе невесту. Процветают всякие виды социального неравенства и насилия, работодатель избивает мальчика Андреса, посмевшего потребовать свою заработную плату. Быть может, самые разрушительные относительно социальных иллюзий эпизоды — это все те, в которых описывается пребывание Дон Кихота и Санчо Пансы при герцогском дворе. И герцог и его слуги — это непременная при богатстве и знатности грубость нравов и жестокость. Бедняги Дон Кихот и Санчо Панса подвергаются отвратительным издевательствам, забава двора — в глумлении над ними. Лучшие душевные качества обоих, сознательное желание добра и высокого содержания жизни у Дон Кихота, инстинкт добра у Санчо Пансы. Они-то и предлог для глумлений. Главные лица, на которых как бы опочила идея органического строения человеческого мира, оба в этом мире осмеяны и поруганы.
У Сервантеса нерешенное отношение к своему герою: захолустный ли это чудак, или же великий современный ум, что надо записать за ним — помешательство или геройство и святость. Тут отражаются колебания более общего свойства. Обладает ли современное общество стройностью органического развития, или же не обладает, есть ли нужда в «выпрямлении правды», которым занят герой романа, или же это никому не нужное любительство, фантасмагории, подсказанные старыми книгами, чтением рыцарских романов164. Нет ответа, кто несет заботу об этике и праве, — государство, общество, а может быть, всецело и единственно отдельный человек, возложивший на себя эту
121
заботу, рассчитанную на его добрую волю, на его благородство, если не чудачество.
Примечательно, что романтики, апологеты Сервантеса и его романа, совсем не заметили в романе этической темы. Они говорят о чем угодно, только не о ней. И вовсе не потому, что бы они были антагонистами морали. Нет, они утописты, и идея общественного организма, в которой усомнился реалист Сервантес, для них возрождается со всей еще недавней ее наивностью. Они отринули насильственную этику Канта, Шиллера, Фихте, веруя в этику естественную, диктуемую пз самих недр природы. Для них органическое строение мира и общества — залог неизбежности для жизни этических норм, отсутствие причин и поводов колебать или нарушать их. Поэтому они совсем не выделяют в романе Сервантеса ни Дон Кихота вместе с Санчо Пансой, ни Дон Кихота, самого по себе взятого. Для них Дон Кихот утоплен в той же музыке жизни как отдельная личность, он весь входит в органические мировые связи. Роман Сервантеса отлично проверяет миропонимание ранних романтиков; истолкование ими «Дон Кихота» — это они сами. Поэтому так много у них сказано о музыке жизни и ничего — о ее неустройствах. Зато этическую тему в романе Сервантеса полностью оценил Генрих Гейне в своем введении к «Дон Кихоту». Здесь очень много отзвуков романтических восприятий этого романа и трактовок его, но преобладание трактовки этической над всеми остальными делает опыт Гейне оригинальнейшим событием в истории освоения «Дон Кихота». Этическая трактовка — уход от романтизма.
Это же относится и к сверхэтической трактовке, к такой, какую дал роману Сервантеса Унамуно, пожелавший увидеть в Сервантесе высшую святость и мудрость, а самый роман толковавший как испанское Евангелпе, как некий сверхновый завет.
Так называемый плутовской роман (novela picaresca) прямых откликов у романтиков не получил, из чего нельзя сделать выводов, будто он прошел для них бесследно. Этот вид романа был чрезвычайно влиятелен в буржуазной литературе, это было своеобразное живописание «грязной практики», характерной для буржуазного общества, явный или тайпый прототип многих буржуазных романов, где как будто бы соблюдались приличия и жизнь проходила в опрятных формах. Novela picaresca, как известно, пошла из Испании, «Ласарильо с Тормеса» и «Гусман де Аль-
122
фараче» — классика этого жанра. Здесь загрязнилось самое лучшее и самое святое, что есть в романе, — самый поток жизни, идущий по путям фабулы, ибо фабула в novela picaresca — история нескончаемых низостей и подлостей, обманов и подлогов, разрушений, производимых в жизни других на благо и процветание собственной. Подорвано главное в романе как жанре — пафос и поэзия жизнестроительства. Picaro ничего не строит, он только портит и грабит. Порча и воровство идут со всех сторон, в трактирах кормят тухлыми блюдами, на дорогах сидят нищие с поддельными язвами, мужья без стыда и очень деловито торгуют собственными женами. Обман и кривда проникают даже в царство вещей, в натюрморт плутовского обмана. Вещи — и они принуждаются к тому, чтобы лгать и прикидываться. Хозяин Ласарильо, нищий идальго, кутается в свой дворянский плащ, чтобы скрыть свою худую одежду, сундук хозяина того же Ласарильо весь в дырках — Ласарильо утверждает, будто туда наведываются мыши, и так ему удобнее красть из сундука хозяйский хлеб. Материальные вещи, к тому же искалеченные и обезображенные, диктаторствуют в этих романах над людьми. Власть вещей — тема и стилистический мотив буржуазного романа, в novela picaresca представлены гиперболически. Весьма вероятно, что гротеск и трагедия этой власти у Арнима, у Гофмана сложились не без воздействия произведений плутовского жанра. У Арнима отдельные влияния novela picaresca несомненны, во всем, что относится к частому у него изображению погрязания людей в материальные интересы, плененности людей низшими потребностями жпзни. В лучшем его произведении, в «Изабелле Египетской», ясно различима струя, идущая от плутовского жапра. В плутовских романах освещение самое трезвенное, сцены величайшего безобразия трактуются с полнейшим хладнокровием, как должное и неизбежное. У романтиков сходные эпизоды превращаются в фантастику, в сатиру или полусатиру, нередко перемешанную с мраком и угнетенностью.
Живость и энергию придают плутовскому роману обыкновенно сами picaro. Этот жанр не обладал бы никакой художественной привлекательностью, не будь в нем picaro с их неистощимой находчивостью и инициативой. Теснимые и преследуемые, они всяческими неправдами вырубают себе в жизни участок некой свободы. Им дан какой-то талант к существованию, и, собственно, через
123
него и образуется дружелюбная связь читателя с ними, с самим романом, который им посвящен.
В позднем своем сочинении «История древней и новой литературы» Фридрих Шлегель вдается в рассмотрение того, как возможен роман в современном прозаическом мире, — авторы романов, чтобы найти живой материал для них, ищут, нет ли в этом мире «отверстия» — (irgend eine Öffnung) — пусть это будут дорожные приключения, или поединки, или разбойничья банда, или похищения, или же быт бродячих актеров. И тут Фридрих Шлегель дает полусерьезное-полушутливое определение, в чем состоит романтика в таких романах — она совпадает с понятием аптиполицейского, «des Polizeiwidrigen». Приводится мнение одного философа (Фихте, по-видимому), что при полицейском режиме, доведенном до совершенства, для романов больше нет места: стоит себе представить замкнутое торговое государство, где к паспорту путешествующего приложены его подробная биография и верный его портрет. При таких условиях действительная жизнь не способна дать что-либо пригодное для написания романа165.
Замечательно, что Фридрих Шлегель даже и в темный свой период считает непременным условием романа свободу человеческой личности, а регламентированный до конца строй общества и государства он признает для романа убийственным. В иенский свой период Фридрих Шлегель верил, что свобода для всех и каждого уже при дверях. Теперь же он высказывает ироническую мысль об «отверстиях», — свободы нет нигде, разве что в преступном или полупреступном мире, персонажи которого пробуравили выходы только для себя. Идея «отверстий» почти прямо связана с плутовским романом, — если и возможен еще роман, то плутовской или близкий к нему. О бродячих актерах, о театральном романе старого французского писателя Скаррона Фридриху Шлегелю напомнил «Мейстер» Гете в некоторых своих эпизодах.
В литературе, предшествовавшей романтикам, и в литературе, окружавшей их, существовали произведения, более близкие к подлинной и поэтической природе романа, чем novela picaresca и вся его многочисленная по всем европейским странам родня. Семейно-психологический роман XVIII века, особенно в английских его разновидностях, стоит в традициях романа-жизнестроительства. Английский роман мог предъявить хорошие образцы чисто-
124
ты, хотя и он даже в этих лучших образцах не свободен был от вульгарных привнесений, от густой и примитивно откровенной подчас буржуазности: история человека и его семьи заслонялась историей его собственности, путей и способов ее приумножения. Веком позже эту тенденцию сатирически представил Диккенс, когда он превратил историю одной семьи в историю одной фирмы, одной вывески если угодно — «Домби и сын».
Нигде о старом семейном романе лучше не сказано, чем у Дидро в его «Похвале Ричардсону», написанной в 1762-м — через год после смерти английского романиста166. Дидро был человеком с чужого берега, однако ценимым у романтиков, и в его высказываниях о месте романа содержатся некоторые соответствия их собственным теориям и вкусам. О чтении романа он говорит как о пребывании в зоне счастья, он читает Ричардсона и сетует, что счастья с минуты на минуту остается еще на одну страницу меньше. Оно в нашем читательском соучастии в чужой жизни, в том, как течет она. По Дидро, все для нас значительно, если мы входим в его становление, если нами прочувствован самый процесс созидания явлений и вещей. Дело не в последних двадцати страницах романа, дело в медленном пути, который приводит к ним. Ричардсон — великий поэт подробностей. Дидро оправдывает у Ричардсона его длинноты — они необходимы. «Вы корите его за них, вы забыли, каких трудов, забот, какого движения требует самое малое предприятие, пусть это будет завершение судебного процесса, заключение брака, примирение сторон. Думайте об этих деталях что вам угодно, но они интересны для меня, если они правдивы, если ими ознаменовываются страсти, если через них видны характеры». Художественная иллюзия держится множеством маленьких вещей — «C’est à cette multitude de petites choses que tient Tillusion». Если передавать мысль Дидро в понятиях, более близких к романтикам, то нужно бы сказать, что «маленькие вещи» и есть сила, вводящая нас в творящую стихию жизни.
Дидро дал всеобъемлющее определение романа нового времени. В рассказывании о том, как делается жизнь людей, как ведутся их дела, судебные и несудебные, как подготовляются и совершаются их браки, как они сами входят в общество, — во всем этом рассказывании и заключено существо романа.
125
«Маленькие вещи» снимают резкость деления на повседневный быт и события. Новое, удивительное, чрезвычайное накопляется, просачивается, распределяется по всему ходу жизни, так же понимают новое и романтпки. У Тика есть произведения в этом смысле программные — повесть «Петер Леберехт», драма «Снпяя борода», где сказочная эссенция дана всего несколькими каплями и они растворены в бытовой семейной хронике. Талант автора — в умении находить новость, где она не анонсируется, приходит запросто. Наступающий день, если вдуматься в него, есть новость; лицо, прибавленное к уже известным нам, опять-таки новость. Все равномерно пронизано новым и обновлением, весь текст романа ими окроплен, всюду их росинки. Надо ловить новое с самого его зарождения. Все другое, всякий другой — вот уже начало новости. Тайный и тихий блеск необыденного в обыденном — в этом оправдание романа, и с особенной ясностью у романтиков. Новое наступает не как судорога, не как повод ко всеобщему замешательству, а исподволь. Новое волнует повседневность, новое дается на каждый день. Дидро услышал простую мелодию счастья в бытовом романе, загроможденном дидактикой и чрезмерностями психологического анализа. Эта мелодия была для романтиков искомым, они хотели добраться до нее, в традиционном романе устраняя все, что ей препятствовало, что губило ее. Им помогал пример Гете как автора романов. Они хотели в романе воссоздать самоизживание жизни, ее самообновление, скрытое, а по временам и явственное. При таком строе романа сюжет в нем прост, как это можно наблюдать везде, да и весь роман прост по стилю своему.
К характеристике раннеромантических вкусов могут послужить высказывания зрелого Новалиса по поводу новой книги Людвига Тика: «Фантазии Тика я читал. Там что-то слишком много красивостей, могло бы быть меньше. Смысл часто получает для себя питание только за счет слов. Я начинаю любить трезвое, но воистину ведущее вперед и плодотворное» (письмо к Каролнне от 20 янв. 1799)167 Декларация Новалиса относится к художественной прозе, это специальные к ней требования, которые первыми же выполнял сам Новалис. В конце концов в пору зрелости выполнял их и тот же Людвиг Тик. Называя стнль «Люцинды» Фридриха Шлегеля коринфским, свой собственный Новалис называл дорическим или даже бюргерским. «Сейчас я вступил в период бюргер-
126
ского строительного искусства. Я так близок к полдню, что тени, отбрасываемые предметами, стали по величине равны самим предметам, и, таким образом, творения моей фантазии соответствуют действительному миру» (письмо к Каролине от 27 февр. 1799)168. Главное в том, как движутся через роман величины психологические и лирические. Нельзя отвлекать внимание от них. По определению Новалиса, роман — это жизнь, представленная в виде книги: «ein Leben als Buch»169. Следовательно, сюжетные ухищрения в романе, по Новалису, не предполагаются. Фридрих Шлегель уделяет особое внимание биографиям и автобиографиям, по всей вероятности имея в виду прояснение законов романа. По Фридриху Шлегелю, роман делается из простейшего и ближайшего материала — из авторского жизненного опыта: на каждый период жизни — по новому роману, автор стал новым человеком — вот и настоящий повод писать роман170. Этим намеренно скромным немецким представлениям о романе противостоят разве что романы Э.-Т.-А. Гофмана, иными своими свойствами приближенные к романам английских и французских романтиков.
На поверхности своей проза немецких романистов и проза английских, французских в особенности, в корне враждебны друг другу, и не сразу можно понять, почему и то, и другое, и третье зовется одним и тем же именем романтизма. Если же исходить не из внешности явлений, а из их художественного смысла, то удаленное одно от другого в последнем счете оказывается родственным.
В романах Вальтера Скотта, Купера, Гюго, Сю,
127
этот общий эффект жизни, ни одной из фабул до конца не вбираемый. При извилистости фабул и при множестве их рождается общемузыкальное впечатление, родственное тому, что дает простое фабульно неосложненное повествование. И тут и там цель одна — передать самоизлияние жизни, до глубины заставить нас ощутить его вполне. Лирико-психологическпй роман немецких романтиков и гиперболически-сюжетный французов служат одному замыслу. Это лики очень разные того же самого, единого. Есть единый романтизм, французский ли это будет, или немецкий, хотя единство это далеко не всегда сразу же для нас доступно.
Наибольшее влияние у немецких романтиков имел роман того
типа, что получил название «воспитательного», «образовательного» — («Bildungsr
О романе воспитания написано много, и еще будут писать о нем. Едва освещенным остался только главный пункт — в чем его поэтическое содержание и поэтическая ценность. А они совсем простые. Роман воспитания — сообщение о том, как обновился мир еще на одного человека — героя романа. Еще человек вступил в жизнь, и это обновление мира более глубокое, чем если бы основалось еще одно состояние, еще кто-то добился положения в об-
128
ществе, открыли еще одну фирму, еще одну контору. Мир громаден, и один человек — это очень немного. В показаниях воспитательного романа не так, его дело — прояснить значительность всякого человеческого лица, впервые явившегося в мир.
Воспитательный роман дает через историю индивидуума историю рода. Индивидуум представлен без какой-либо стабилизации под явления, его окружающие, он дан во всей своей самобытности. Об «Ученических годах Мейстера» Фридрих Шлегель говорит, что здесь ничему другому не учат, как существованию, как поведению, соответственно правилам, нами самими поставленным и нашей собственной неизмепной природой»173. Эта вполне личная история по второму счету есть также и история чего-то противоположного — история рода, общества, нации. История Мейстера — история Германии времен молодого и зрелого Гете. Фридрих Шлегель говорит, что в душе Мейстера заключено предчувствие жизни всего мира — «die Vorempfindung der ganzen Welt» — и что оно разовьется в целую картину174.
История рода (gens, gentis) очищается в воспитательном романе через историю индивидуума, обновляется, юнеет через нее. Возможна и такая формула: промывка филогенеза через онтогенез, иначе говоря — освежение, омоложение, поэтизация родовой истории, ее путей и стадий через историю индивидуума, который совершенно по-своему повторяет эту старую и устаревшую историю. Когда проходит история индивидуума, то каждое ее звено — это те же звенья истории рода, как бы впервые переживаемые, и мы как бы заново находимся в ожидании, что же дальше последует. Ставшее неподвижным приобретает снова внутреннюю подвижность. Уже давно перешедшим за собственную зрелость, оно в онтогенезе снова косвенным отражением переживает собственные детство, отрочество, юность. Онтогенез дает живое прочувствование всего, уже давно залегшего в филогенезе. Род может завершать свою историю, индивидуум всегда начинает ее с начала. Юность Германии кончилась, когда Гете выпустил своего «Мейстера». В истории Мейстера юность восстановилась.
У романтиков — Новалиса, Тика, Эйхендорфа, Мерике — на всем, на основном и на побочном, повсюду в воспитательном романе печать лирики. Сам главенствующий герой вступает в роман как некое лирическое событие. Он
129
малая величина, которой дано лирическими силами оставить свой след в жизни величин огромных, всемирных. Что такое лирическая сила, что она может, об этом сказано лучше, чем у всех мировых поэтов в стихах Лермонтова. «Ночевала тучка золотая» — это стихи о том, как все преобразуется в мире материальном, как сдвигаются все его качества, как всему в нем приходится преобразиться, когда он представлен в лирических измерениях. Их приносит бродячая тучка. Маленькая, минутная, она всесильна. Едва она коснулась его, великан-утес становится мал, слаб и податлив, громадность и века больше не помогают ему, он внушает сострадание. У Лермонтова, и в этом связь его с романтиками, довольпо одной капли лиризма, и мир весь перерождается, весь не тот. У старых романтиков эту весть лиризма несут и это действие его производят герои воспитательных романов, зачастую люди не великие, но заражающие мир своею юностью. Конечно, лирика вступает в роман и на других путях, этот же путь через главного героя в романе главный и весьма подобает внутреннему его укладу.
Роман был центральным жанром среди канонизованных у романтиков, но не единственным. Они не брезговали ничем, что обладало живостью для современников. Фридрих Шлегель: «С романтической точки зрения любые разновидности поэзии, даже самые эксцентрические и уродливые, имеют свою ценность в качестве материалов и подготовки к универсальному творчеству, если только в них что-либо содержится, если только они оригинальны»175. В статье о Боккаччо у Фридриха Шлегеля ведется защита анекдота, литературных пустяков, мелочей, ибо и к ним можно приложить талант и мастерство176. Этим как бы предваряются многие художественные опыты Арнима, Э.-Т.-А. Гофмана, Клейста. Клейст попросту писал маленькие рассказы-анекдоты, и даже в «Нищенке из Локарно» сквозь трагическое великолепие проступает основа — анекдот, с чрезвычайным искусством изложенный. Искусство романтики ставили выше форм искусства, они не допускали, что есть такие формы и разновидности, которые не поддались бы ему, могли бы ему противиться, смущать его своей враждой, подвергать сомнению его универсальность. Фридрих Шлегель писал, что в поэзии нет отделов, нет размежеваний и отмежеваний, есть единый «универсум» поэзии: «...В универсуме поэзии ничто не
130
пребывает в покое, все находится в становлении и движется гармонически...»177
Бок о бок с романом романтики разнообразно и широко разрабатывали жанр новеллы, тоже характерный для художественной культуры нового времени. В Германии романтизм — период наивысшего цветения новеллы.
В романе романтики стремились восстановить его первоприроду. Несколько иначе они обходились с новеллой: мы у романтиков находим новеллу и в ее канонических очертаниях, но чаще всего они от новеллы в этом ее виде отступают. Новелла как таковая имела слишком узкое основание, каноническая ее форма довольно легко исчерпывалась, поэтому на ней и не настаивали.
Новелла — детище итальянского Ренессанса, через Боккаччо и других итальянцев его вестница. Новелла — это рассказанная новость, защита любви к новостям. Она разрушала средневековый консерватизм и воспитывала вкус и волю к обновлению — человека и всего вокруг него лежащего. По новелле, жизнь не та, какой мы ее предполагаем, как нас уверяли и учили. Где была безвыходность, там вдруг возникает выход. Проламываются плоскости, и в плоскости обнаруживается глубина. Где над нами низко нависало, там появляется негаданная высота. В новелле существенна была не информация о событиях и происшествиях, а наша пораженность ими. Каноническая новелла — жанр, не ради информации созданный, но возбуждающий эмоции. После средневекового традиционализма, после его навыков доверять только установленному, веками сложившемуся, только его и чтить, нужны были дерзкие сюжеты новеллы, их разрушительная работа, нужны были их молнии, чтобы пересоздать мир, былые авторитеты которого поникли.
Каноническая новелла строится на сопоставлении начала и конца178. Начинается тезисом, кончается антитезисом, что-то было в силе и потеряло силу, что-то принимали за действительность, и оно всего лишь казалось ею. Новелла держится на ощущениях, которые вызывает этот переход и поворот. Ей дороги не столько новые факты, сколько сам эффект новизны. Она сокращает всячески информацию, иногда почти выбрасывает ее, нужна краткость расстояния между завязкой и развязкой, иначе эффект поворота будет рассеян.
Каноническая новелла была жанром исторически необходимым и, однако же, временным. Она достигла
131
совершенства у одного Боккаччо, а после Боккаччо она существует на вторых ролях. Новелла в себе концентрировала ценности, которые распространились более чем широко по всему искусству Ренессанса и последующих веков. Новое и новизна стали ценностью общепризнанной. И тогда новелла отслужила. Нет надобности содержать в одном месте находимое повсюду. Сама новизна в качестве новизны больше не нуждалась в отдельной защите. Как вездесущая и непременная окраска новизна вошла в литературу и отныне ценилась не сама по себе, а по связи своей с содержаниями жизни, с их каждый раз иной индивидуальностью.
Судьбу всякого жанра можно понять, зная, кто его соседи, кто занимал и занимает место с ним по смежности. Когда жанр в силе, то он исключает своих соседей, они в тени и не смеют чересчур к нему приблизиться. Роман при своем сложении был окружен другими жанрами, обладавшими разными степенями родства с ним. Вокруг романа, в окрестностях его, держались книги путешествий, мемуары, биографии, автобиографии — недаром Фридрих Шлегель вспоминал эти жанры по поводу романа. Но роман сложившийся потеснил всех этих былых родичей, друзей и пособников своих, они продолжали свою жизнь, но где-то далеко за краем художественной литературы, без места и значения в ней.
То же самое относится к новелле. Нужно помнить, что́ погранично жанру ее. А тут могут быть силы различного значения и калибра. Великодержавный сосед новеллы — роман. Мелкодержавные силы: сказка, анекдот, фабльо, шванк, притча и прочее, из категории, называемой немецкими филологами einfache Formen — простые формы.
Покамест жанр классичен, его способность исключать не угасает. Новелла Боккаччо со всей категоричностью исключает сказку, притчу, анекдот. Зачем Боккаччо сказка, у него чудеса лежат в самой реальной повседневности и питаются ее средствами, и ею же держатся. Притча отодвинута, ибо цель в эмотивном воздействии, а не в дидактике. Анекдот слишком мелок, новость, которую он приносит, малоактивна.
После Боккаччо другой великий новеллист Европы Сервантес. Заслуги его новелл известны, но жанр новеллы у него, несомненно, разрыхляется, и сразу же можно увидеть, как начинаются вторжения с его границ — вторжения соседних сил. «Высокородная судомойка» — что это,
132
новелла или сказка? То же самое «Английская испанка», «Цыганочка». Многие новеллы Сервантеса — маленькие романы. Роман слишком могучий сосед новеллы, чтобы уйти из-под его влияния.
«Прокуратор», новелла Гете, — образец канонической новеллы у немцев. «Прокуратор» написан по принципу остроумного поворота — «eine geistreiche Wendung», как это называл сам Гете.
В этом повороте — диалектика, подчиняющая себе всю новеллу целиком, что и придает новелле классичность.
В новеллистике романтиков многое восходит к классике, к примеру Гете, но Сервантес в ней действеннее, чем традиции Боккаччо. Гофман написал продолжение одной из новелл Сервантеса. Клейст собирался свои новеллы, как у Сервантеса, назвать общим именем — «Назидательные». Таковы простые свидетельства связей с Сервантесом. Как у Сервантеса, новелла романтиков — Шамиссо, Гофмана, Клейста — тяготеет в сторону маленького романа. Во всяком случае, у романтиков жанры новеллы, повести, рассказа малоразличимы. И что в особенности отмечает новеллу романтиков — это ее связь со сказкой, начавшаяся еще у Тика. Они были привержены к сказке фольклорной и литературной, сочиняли собственные сказки, как Брентано, например, и вводили сказку как элемент иной раз преобладающий в свои новеллы и повести. Сожительство новеллы и сказки имело свои внутренние основания. Новелла охотно идет навстречу эксцентрике, а та может развиться до фантастики, и тогда есть повод для союза со сказкой. При этом новелла не изменяет своей реалистической природы, фантастика вмещается в нее на правах странной игры, которая взялась из почвы реальных отношений, нередко из быта самого заурядного, — так у Шамиссо, так у Гофмана.
Нужно сказать еще об одном популярном жанре литературы, который не был обойден романтиками. На этот раз следует коснуться снова литературы драматической, так называемой мещанской драмы. Хорошо известно, как неутомимо враждовали с нею романтики, сколько стрел было послано в Коцебу и в Ифлянда, как их передразнивали и осмеивали. А все-таки романтики сделали опыт освоить для себя и мещанскую драму. Под красками «Драмы судьбы» нередко можно узнать интерьеры мещанской драмы, так уже у Людвига Тика в его «Расставании» («Der Abschied»), так в знаменитой драме Захарии
133
Вернера «Двадцать четвертое февраля», в более поздних стандартных «драмах судьбы» у Мюльнера и у Хоувальда. Здесь та же теснота домашне-семейных условий, те же четыре стены мещанского жилища, которые как бы двинулись все сразу на персонажей, чтобы им никуда не уйти. Вместо умеренной игры интересов появляются страсти, крайние решения, крайние поступки, убогий и педантический бытовой детерминизм мещанской драмы превращается в чудовищный фатум. Как бы то ни было, романтики упразднили безнадежную прозаичность мещанской драмы, и если они не заменили ее подлинной поэзией, то поэзию отрицательную — ужаса и невероятных потрясений — они все-таки вселили в этот жанр. На плечах противника, не уважаемой, но имевшей за собой публику и житейское правдоподобие мещанской драмы, они ворвались в драму судьбы, мрачную, по временам не чуждую духа поэзии. Конечно, драма судьбы у романтиков сводила счеты не с одним только мещанским миром, нашедшим для себя прибежище в мещанской драме. Тема судьбы была в ней не в пример шире, чем судьба мещанской семьи и мещанского имущества. У Клейста, у Грильпарцера драма судьбы далека от мещанской драмы, на некоторых же своих линиях она вступает с мещанской драмой в близкие, хотя и полемические отношения, что у романтиков не было нечаянностью и случайностью. Романтики выполняли свою большую программу — подчинить романтизму, обратить в его сторону все жизнеспособные явления современной цивилизации, ее художественной практики, а что было сомнительным, то сделать несомненным. Поэтому они не упустили и мещанскую драму, то здесь, то там пробовали они изменить ее художественный ранг — опыт скрытный, необъявленный, только долгое время спустя, на уже сложившемся фоне литературной истории, поддающийся осознанию.
В историю раннего романтизма входят два небольших романа, несколько посторонних концепциям романа у романтиков, да и самой практике романа у них же. Один из них «Люцинда» (1799) написан тем самым Фридрихом Шлегелем, который так часто и подробно развивал теорию романа, — в «Люцинде» он едва воспользовался ею179. У него почти нет связей с мировой традицией романа, к которой он в качестве теоретика так часто обра-
134
щался. Боготворимый им Сервантес подсказал ему только имя для героини — вспомним вставную историю Карденио и Лусинды из «Дон Кихота».
«Люцинда» Фридриха Шлегеля по жанру своему роман, который впоследствии стали называть «проблемным». Жанр этот не был принят у романтиков, не любивших выделения проблем из художественной стихии, к тому же подозрительно смотревших на проблемы как таковые, ибо проблема есть частность, есть специализация; ни тому, ни другому романтики не сочувствовали, привычные к цельности взгляда на вещи, подчиняющего себе проблемы, взятые в отдельности.
Роман Фридриха Шлегеля вызывал мало одобрения и у современников, и у потомства. Даже Шлейермахер, написавший в защиту Фридриха Шлегеля, своего друга, «Доверительные письма о Люцинде», даже и он говорил о художественных несовершенствах романа, о том, как роману этому недостает внешнего мира180. Изобразительности роман Фридриха Шлегеля начисто лишен. Он писал о романах Жан-Поля Рихтера, нечаянно пророчествуя, в какой манере будет написана «Люцинда». По его словам, Жан-Поль «почти не снисходит изображать своих персонажей; довольно, что он мыслит их и по временам делает к ним меткие комментарии»181. То же самое в «Люцинде». Персонажи обозначены, истолкованы, но живым художественным способом перед читателем не возникают. Вероятно, способ этот не был доступен Фридриху Шлегелю, ни в одном из своих сочинений он не обнаружил, что владеет хотя бы отчасти изобразительной силой. Хотя Фридрих Шлегель очень неохотно допускал, что дарованиям его положены какие-либо границы, все же он не взялся бы за «Люцинду», не будь у него заранее чувства, что он располагает средствами совсем особыми, которых требует этот совсем особый роман. «Люцинда» — роман проблемный и утопический, роман об идеальной семье, которой еще нигде нет и которая только проектируется и декретируется. Фридрих Шлегель сочинил роман на бытовые темы, — семья, супружество, супружеская любовь, — но безбытный, бесподражательный по своей природе, и такой роман был ему по силам. Вместо людей и вещей Фридрих Шлегель наполняет свой роман дифирамбами, рапсодиями на темы женщин и любви, сшивает его из лоскутьев лирики и философии. Здесь те же гиперболы Французской революции, но отнесенные к быту, к бытовым и личным
135
отношениям. Люциида — художница, свободная женщина, вступившая в супружество с Юлием, художником тоже, — тут был ее собственный выбор, без малейшего давления среды и обстоятельств. В этом браке есть все, что положено, ожидается потомство, но брак стоит на духовном и телесном влечении, и другого закона над собой не признает. Семья, о которой говорится в «Люцинде», — «республиканская», с полным равенством обеих сторон, семье этой предшествует эмансипация женщин, провозглашенная в революционной Франции. Парижские женские клубы 1791 года, хотя и несколько издалека, обосновали нравы и поведение героини этого романа.
Для современников немалое значение имела и автобиографичность этого романа. Они без труда узнавали в герое романа самого Фридриха Шлегеля, а в героине — подругу его Доротею Фейт, жену берлинского банкира, мать двоих сыновей, покинувшую свой дом и последовавшую за Фридрихом Шлегелем, как велели ей страсть и потребность в духовной жизни, — банкир был духовно беден, а Фридрих был духовно богат. История Фридриха Шлегеля и Доротеи была на виду у всего Берлина и подымала интерес к «Люцинде». Документальность и сенсационность добавляли роману краски, не полученные им от автора.
Роману Шлегеля свойственна особая манера осуществлять свои идейные темы. Думаю, что здесь сказались главные духовные привязанности автора, верность его принципам органического развития. Каждая такая тема в «Люцинде» разрабатывается, как если бы она была единственной, без предварительной оглядки на темы соседние и сопричастные ей. В этом источник многих недоразумений, вызванных романом. Немецких бюргеров ужасала эротическая откровенность в этом романе, совершенно небывалая в литературе немецкой. Упоминаются «широкие бедра» Люцинды, освещенные красноватым светом. Есть и другие подробности, которыми автор дразнил бюргеров, уже говорилось у нас о наплывах термидорианской чувственности, автором романа принятых весьма дружелюбно. Шиллер, имевший свои счеты с Фридрихом Шлегелем, в письме к Гете отозвался о «Люцинде» с отвращением, сказал, что это все «бесформенная смесь», одним из элементов которой является «дерзкий французский роман» — по всей видимости, подразумевался роман Луве де Кувре или Шодерло де Лакло182, У самого Фридриха
136
Шлегеля о Луве де Кувре, о его
«Фоблазе» можно было прочитать в критических фрагментах очень сочувственные
строки183. При всем том Фридрих Шлегель эротическим
писателем, конечно, не был. Разрабатывая эротическую тему, он извлекает из нее
все, что там находит, обращается с ней как с особой индивидуальностью, которой
нельзя отказать в ее правах. Всякий организм, а следовательно, и органический
свод идей, требует свободы для своих частей. Каждая часть обладает своей свободой,
а целое слагается как состязание свобод, как укладывание их в нечто единое.
Есть свободные части, и есть над ними возвысившееся целое, части эти имеют и
собственную жизнь и жизнь согласно целому. В этом двойном свете Фридрих Шлегель
и хотел бы предъявить нам свой роман. В его романе эросу отпущена его законная
доля. Но нисколько не забыта доля, и гораздо большая, положенная духовной
любви. Супружество Люцинды и
То же самое по поводу похвалы праздности, хорошо известных страниц, содержащихся в «Люципде». Против бюргерского утилитаризма Фридрих Шлегель пишет эту похвалу, придавая ей некоторый скандальный оттенок, как это было и с похвалой эросу. Покойный В. М. Фриче сурово отнесся к защите праздности и зачислил Фридриха Шлегеля в идеологи феодализма: это феодализм позволял себе лентяйствовать, и производственные мощности при феодализме пропадали зря. Тут забывалось, что в «Люцинде» прославляется не только праздность, но и гражданский брак, но и гражданское равенство женщин, никак не согласуемое с феодализмом. В этом все дело. Фридрих Шлегель дает отдельным мотивам своей мысли, своего романа самостоятельное развитие, и только во-вторых им предстоит сочетаться с мотивами иного характера. Соединение мотивов совершается с трудностями, оно требует энергии — энергии жизни, без которой нет ничего органического, ничего, могущего себя оправдать как подлинное органическое целое, одаренное жизнью и воспитанное борьбою жизненных тенденций друг с другом. Пусть в его романе отсутствуют картины, законченные изобразительные
137
эпизоды. Зато внутреннюю циркуляцию жизни, рисунок сил и внутренний драматизм их встреч, сведение их в одно единое роман сохранил, и это закрепило за ним место в литературе. Свою манеру в этом романе сам Фридрих Шлегель, вероятно, определил бы как сопряжение парадоксов — можно развить мысль эту и далее: парадоксы, сопрягаясь по мере того, как побеждается их сопротивление, уже более не парадоксы, а хорошие, честные истины.
Второй роман, требующий обособленного рассмотрения, — роман «Флорентин», написанный самой Доротеей, главным лицом в «Люцинде» (1801)184*. Доротее Шлегель, по первому замужеству Фейт, довелось побывать и героиней одного романа, и автором другого.
Ее роман, как и «Люцинда», написан под близкими воздействиями революции. Пафос его — отречение от устаревших форм жизни, потерявших силу над душами. Все прежнее — теснота и узость, роман призывает к всемерному расширению жизненных возможностей, они волнуются, как море в сценической коробке, нарисованное на задней кулисе. Герой — существо безбытное, полное неопределенности. Биография его с большими пробелами, отца он не знал, а мать хотела отдать его в монахи, чтобы он замаливал ее грешную жизнь. Но он себя отстоял и стал существовать по-своему. Служил в войсках, скитался, задумал переселиться в Новый свет, который тем хорош был для него, что неизвестен. Новое и неизвестное всегда соблазняло его. Флорентин гостит в замке графа Шварненберга, которому он спас жизнь на охоте. Дружбу ведет он с дочерью графа Юлианой и с Эдуардом, ее женихом. В усадьбе он скучает. Вскользь указано, что между Флорентином и Юлианой завязались особые отношения и что Эдуард понимает это. В день свадьбы, которая будет сыграна, как назначено, Флорентин покидает усадьбу. В душе его все в брожении и все неясно. Он не мог бы объяснить, почему и от чего ой бежит. Романтический автор не берется, как прежние романисты, изымать из души персонажа все, что там содержится, как если бы то был почтовый ящик. Персонаж сам за себя живет, и автор не покушается заменить душу персонажа авторским разбором ее, как это любили делать писатели XVIII века. Вероятно,
138
Флорентин боится развития отношений с Юлианой, боится потерять свободу, поэтому и бежит. Все это, впрочем, гадателыю. А есть и негадательное — у Флорентина не готов к свадьбе костюм, он не может явиться на свадьбу одетый как следовало бы. Нарочно у романтического автора бесспорная мотивировка самая ничтожная. Только ничтожное можно знать наверное.
На внезапном отъезде Флорентина роман обрывается. Сама Доротея Шлегель в слове от автора говорит о необычности своего замысла, она начинает роман свадьбой, другие свадьбой кончают. «Я спрашиваю... что же будет с человеком, которого зовете вы своим героем? — Дело ясное, герой романа должен жениться или умереть. Жениться? — Но можно ли на этом успокоиться? Разве из примера Юлианы и Эдуарда не видим мы, что тут-то именно начинаются смятение и страдания» (240).
Роман XVIII века — у Филдинга, у Смолетта, даже у Гете — знал обыкновенно все ту же фатальную развязку — вхождение героя или героев в жизненный уклад, независимый от них и обязательный для них. У старого романа в отношении героя была своя перекличка с романтиками: герой был ценен для него, покамест в его истории содержалось нечто индивидуальное. Как только герой примыкал к «всеобщей истории», как только он входил в типовую роль, предрешенную для него бытовым, моральноправовым строем времени, интерес к герою тотчас же исчерпывался. В старом романе сама индивидуальность героя была чем-то временным: молодость, неопытность, иногда неправильное рождение, сделанные ошибки, — все это препятствовало, чтобы герой с первых же шагов вошел в свой бытовой тип, и так возникал повод к роману. К иному стремились романтики, они требовали от героя индивидуальности не только на каникулярный период его биографии, покамест он еще не принял наследства или не приступил к своей пожизненной профессии. Романтическому герою поручалось до конца действовать самостоятельно, не подчиняясь жизни как она сложилась без него, но подвергаться испытаниям новой.
В роман Доротеи Шлегель заглядывают даль и перспектива. Сюжету не указан какой-либо хорошо различимый предел со стороны будущего, которое уходит в бесконечность. Рохман, говорит Доротея Шлегель, не нуждается в заключении более значительном, чем то, какое бывает у хорошего, ясного дня (240).
139
Сохранились наброски, и притом выразительные, романа, задуманного другой женщиной — главной женщиной раннеромантического круга, Каролиной. У этого романа, ненаписанного, заметное внутреннее сходство с романом, написанным Доротеей: и тут и там предполагается духовное движение в будущее, и будущее это без берегов, в нем ничего не предусмотрено. О героине говорится в набросках Каролины: «По инстинкту своему она лишена предрассудков. В ней пробуждаются раздумья, предоставленная самой себе, стоит она у ворот бытия, все богатство которого зашевелилось в ней...»185.
В начале XIX столетия выясняется для романтизма несостоятельность, частичная, а то и полная, его уже как будто бы наладившихся путей. Иенское содружество распадается. Оно держалось разностью людей, в него входивших, полезными трениями между одними и другими. За короткий промежуток времени люди иенского круга унифицируются, в содружестве исчезает внутренняя жизнь, вырабатывается малоподвижное единство убеждений и вкусов. Это изнутри действовавшие мотивы разрушения, еще важнее были мотивы, приносимые извне. Романтическая идеология достигла единообразия, и оно не отвечало больше требованиям истории, которая шла быстро, не оглядываясь.
Если соотносить романтизм с историческими событиями, то возвышение Наполеона — это и есть кризис романтизма. Позднее, с 20-х годов, Наполеон стал вдохновением людей искусства. Гейне писал «Гренадеров», Шуман музыку к ним, а потом и Рихард Вагнер. Наполеоновская легенда владычествовала. Для современников своих Наполеон выполнял совсем иное призвание — гонителя искусств и разрушителя. Живой Наполеон не совмещался с романтизмом. Как известно, император французов был классиком по вкусам. Он преследовал своеволие и мечтательность, презирал «идеологов». От окружающих требовал классической дисциплины и пресекал самобытность. Привилегию на романтизм он сохранил для самого себя, он был единственным романтиком среди хорошо им вышколенных классиков в театре, при дворе и в армии. С годами классические заслоны отпали, окружение, созданное для себя Наполеоном, рассеялось, и Наполеон со своей собственной, единоличной романтикой стал хорошо виден
140
романтике позднего призыва: зрелому Байрону, Стендалю, Беранже, Гейне, у нас — Пушкину и Лермонтову. Он был ненавистен своей современнице госпоже де Сталь, которую он выслал из Франции. Байрон, Стендаль отрицали его или были критичны к нему, живому, и оценили Наполеона после Святой Елены и его гибели. Он прошел через сравнение двух родов. Его при жизни сравнивали с Французской революцией, которой он нанес последние удары, и он терял в этом сравнении. Посмертно его сравнивали с реставрацией, последовавшей за ним. Он представлялся уже не губителем революционной вольности, а деятелем, исполненным ею, исчезал перерыв между революцией и Наполеоном, в нем видели ее прямое продолжение, нарушенное только Ватерлоо и конгрессами держав-победительниц.
Германия эпохи возникновения романтизма жила в добрых духовных контактах с освободившейся от старого режима Францией, невзирая на то, что немецкие правительства воевали против нее. Мы знаем, что Каролина желала побед французскому оружию. Гельдерлин восхищался молодым Наполеоном Бонапартом, полководцем революции. Но прошли годы, и в Германию проникает проза, а с нею и узость, а с нею и уныние внутренней жизни, воцарившейся во Франции после Термидора и Директории. Немцы больше не паломничают во Францию, они только совершают туда поездки по деловому поводу. В начале 90-х годов Париж посетили восторженные немецкие гости Мерк, Архенгольц, капельмейстер Рейхардт. Старику просветителю Кампе померещились во встречных французах героические древние эллины А былой энтузиаст Франции, Фридрих Шлегель, побывав в Париже в 1833 году, пишет: «Повсюду царствует дух пошлости, отлично развитой и разработанной, проникнувшей то больше, то меньше во все науки и искусства»187. «В человеческих делах господствующие принципы — барыш, ростовщичество, всем они управляют и всюду выносят последнее решение»188. Юный Клейст, тогда еще поклонник просветительской философии, пишет из Парижа тоскующие письма, — из своего окна он видит бледно-серый город, с грифельными крышами, с дымовыми трубами, в котором человека забывают, едва он завернул за угол. Парижан называет он актерами, обманывающими друг друга, делая вид, что они не замечают этого189. «Человеческая жизнь, — пишет Клейст, — это вещь, существующая в Па-
141
риже в 800 000 экземпляров»190. «Два антипода не могут быть более чужды и незнакомы друг другу, чем двое соседей по дому в Париже»191. Клейст имеет дело с Парижем, вполне сложившимся буржуазным городом, великим скоплением разъединенных. И много лет спустя Клеменс Брентано, описывая Париж 1827 года, почти повторяет наблюдения и сетования Клейста. Он говорит о той же «великой картине эгоизма» и о той же замкнутости людей в самих себя. «У каждого только собственный интерес в уме, как на улице номер дома, к которому он спешит»192.
Французские войны в Европе, сначала освободительные, а потом, при Наполеоне, откровенно захватнические, принесли романтикам самые решительные разочарования. Франция, откуда шли свет и братство, превратилась в злого врага. Немцы были предоставлены собственным правительствам, местному старому режиму, да еще и теми приходилось дорожить под угрозой иноземной интервенции. В начале века мы наблюдаем у немцев остывание иллюзий, возвращение к старым, дореволюционным нормам отсталости и посредственности. Это видно и по биографиям романтиков. Кончилась пора, когда люди превосходили самих себя, когда они стояли на волне, поднявшей их высоко. С новой силой заговорили в них классовые, сословные и местные интересы. Новалис снова стал фон Гарденбергом, сыном своих отцов, и омрачил свою литературную деятельность сочинением весьма сомнительного политического трактата. Тик опять погрузился в мещанский и бюргерский Берлин, откуда он сам вышел. Философская мысль Шеллинга все больше шла на снижения. Он терял власть над умами, ожесточался по этому поводу, и это еще вернее вело к упадку его дарования. Август Шлегель, после долгих скитаний, с 1820 года профессор в Бонне, где среди его слушателей — молодые люди, в будущем неприязненные ему и его направлению. В годы 1819—1820 занятия у него посещает Генрих Гейне, тогда начинающий поэт, а в мае — августе дальнего года 1836-го слушает у него курс по элегиям Проперция совсем еще юный Карл Маркс193. Университетская наука не до конца приняла Августа Шлегеля в свою среду, он не стал строгим ученым специалистом, одним из тех, кто приходил на смену романтическому дилетанству и романтической универсальности. На старости лет Август Шлегель был чужд и университету и вольному литера-
142
турному движению, которое совершалось вокруг него.
Высшими знаками почета он, однако, пользовался. Он доживал с иллюзиями, будто живет по-былому, окруженный людьми, верящими в него194. Печальнее всего была судьба младшего Шлегеля, Фридриха. Революционные парадоксы он сменяет на католическую и монархическую ортодоксию. В 1808 году демонстративно принимает католичество, а затем пристраивается к венской государственной машине, служит, хотя и с оттенком самостоятельности, князю Меттерниху и его политике. В юности он жил необузданной жизнью духа. В меттерниховский период он невоздержанно лелеет собственную плоть; все, кто с ним встречается, отмечают его сибаритство, его упитанность капуцина, вялость его в разговорах о литературе и его оживление, едва разговор касается католической церкви, дома Габсбургов и радостей стола. В последний раз с литературными речами Фридрих Шлегель выступил в меттерниховской Вене зимой 1812 года,— в императорском дворце, перед блистательным собранием, перед 39 князьями, тут присутствовавшими, он читал свой курс литературы древней и новой195. Надо отдать ему справедливость, время от времени перед этой публикой он позволял себе дерзости, хотя в остальном старался не отступать от гармонии с нею.
Концы обоих Шлегелей, как и концы многих из романтиков, уже не лежат в истории романтизма, и если католико-меттерниховский конец Фридриха Шлегеля, например, все же хотят вписать в эту историю, то ее непозволительно искажают. Впрочем, и в зарубежной науке такие опыты проделываются все реже196.
Романтизм жил связью национальных почв со всемирным опытом, с «универсумом», как это называли романтики. Когда эта связь слабеет, романтическое движение идет к упадку, исчезает «универсальная прогрессивная поэзия», в лучшие годы романтизма призванная к жизни Фридрихом Шлегелем. Вопреки излюбленным теориям немецких националистов, романтизм не был созданием единственно немецкой нации, экспортированным потом и в другие страны Европы. Странным образом эту теорию поддерживали и за пределами Германии — опять-таки во Франции подвизались литераторы, с пафосом и ученостью доказывавшие, насколько романтизм несвязуем с латинским духом, — следовательно, во Франции он мыслим только как подброшенный, как навязанный со стороны197.
143
История литературы открывает, насколько независимо друг от друга возникали романтические течения в странах Европы и насколько они все же сходствуют в главнейших чертах, а зачастую и в чертах вторичных, и даже мельче того. Самое же серьезное опровержение немецкой исключительности в романтизме содержится в том, что сам немецкий романтизм стал беднеть и свертываться, превращаясь в романтизм только немецкий, только местный, обращенный к самому себе. Романтизм первых двух десятилетий XIX века дал Германии замечательных художников. Успехами своими они были обязаны частичному повороту к действительности как она есть, — об этом еще предстоит сказать подробно. Неуспехами — тому обстоятельству, что действительность была тогдашней, немецкой, захолустной, сравнительно с другими европейскими странами, ушедшими вперед. Немцы очень любят Эйхендорфа, некоторых поэтов швабской школы; как местные люди, они любят в них местное, провинциальность этих поэтов по-особому сближает немцев с ними. За пределами Германии эти поэты звучат очень глухо, несмотря на всю их поэтическую доступность. А труднодоступный, но столь же немецкий, как и сверхнемецкий, Гельдерлин растет из года в год в своей мировой славе.
Романтизм уже в пору иенского своего цветения таил в себе сознание предстоящих ему трудностей. Ранние романтики были триумфаторами, которым не чужд был страх за свои триумфы. Ведь неизбежным было возвращение к исторической действительности, нельзя было не опасаться, чего и как она потребует. Нужно помнить, что тема действительности в самый разгар романтизма существовала через романтическую иронию. По-своему, по другому она владела романтическим эллинизмом Гельдерлина, трактовавшим воцарение романтических норм прекрасного в материальном мире, — это была утопия плоти, не одного только духа в его отрешенности. Поэтика развоплощения никогда не представлялась романтикам в качестве последнего и заключительного действия. Она осмыслялась как предварительная мера, как нечто временное, «провизорное». Фридрих Шлегель ввел это слово «провизорный», он говорил о «провизорной» философии например, о каких-то на некий срок допускаемых учениях198. Точно так же предполагалась и «провизорная» литература. Развоплощенпе — действие промежуточное. Старая плоть сбрасывается, подавленные ею, скрытые ею возмож-
144
ности жизни выходят к свету сознания в ожидании, что они облекутся в лучшую плоть, которая им лучше придется. Новое воплощение было не только предположительным, оно было необходимостью. Романтизм как бы решился на извлечение пз культуры нового времени ее сердца — оно лежало в сочинениях романтиков как на ладони, и этот весь его одинокий трепет был ненадолго, надо было не слишком медля вернуть сердце откуда его взяли. В самой природе романтизма лежала его кратковременность. В своих самых высших проявлениях он свелся к нескольким недолгим вспышкам, а затем начиналась ловля отблесков, ловля воспоминаний. Что-то похожее на общую судьбу романтизма потом разыгралось в истории Ансельма — поэта, героя повести Э.-Т.-А. Гофмана «Золотой горшок». Ему на мгновение в городском саду блеснула золотая змея Серпентина, блеснули ее синие глаза, а потом он ловит и не вылавливает в реке какие-то соблазнительные и лживые отсвечивания. Свой поэтический опыт романтики должны были закрепить, он нуждался в социальном теле, в социальной действительности, которая не отказывалась бы его воспринять. И тут начинались величайшие мучения для романтиков, ибо социальная и политическая история развивалась с возрастающей враждебностью, о гармонии с нею они и мыслить не могли. Чистое содержание нельзя было оставлять в его чистоте и неприкосновености. Нужна была для него материальная основа, свет требовал свечи, а свеча — подсвечника, нельзя же было, как делали это у Людвига Тика жители Шильды, доставлять свет в мешках, чтобы осветить темное помещение; Самую суть сути терзаний романтиков прекрасно понимал Бальзак. Он рассказал о художнике, который годами готовил свой «неведомый шедевр», создавал чистейший образ волнения жизни, без углов, без контуров, без всех условностей фиксации. Когда шедевр был предъявлен, то им оказался пустой, незаписанный холст. У Бальзака художника звали Френгофер, — фамилия, происходящая не то из Нидерландов, не то из Германии — Фрауенгофер. Содержание без формы, поэзия, отрекшаяся от реальностей, от жизненных характерностей, по Бальзаку — германская идея, она приводит к пустому холсту, к белой странице, художнику без картины, к писателю без книги.
Еще в самом конце XVIII века к романтикам, как думали они, подоспела помощь. Это был Шлейермахер с его «Речами о религии» (1799)199. Шлейермахер — фигура
145
двоякого значения. Он был человеком из другого быта, чем прочие романтики. По профессии теолог, проповедник из берлинского Charite, позднее популярный в Берлине церковный оратор, он свои «Речи» нес из этих консисторско-богословских кругов в круг романтических литераторов. С точки зрения лютеранской церкви, он был автором чрезвычайно смелым, чуть ли не отрицателем религии. Ортодоксальных теологов «Речи» его возмущали, для них они были бунтом и ниспровержением. Совсем иное действие они производили в среде романтиков. Тут они поддерживали совсем иные настроения, не либеральные, но регрессивные, они не разрушали религию и религиозность, но закладывали для них первые камни.
Шлейермахер, как и все ранние романтики, как Шеллинг в особенности, тяготел к пантеистическому миропониманию. Он наносил урон христианской ортодоксии, толкуя догматы ее в духе пантеизма. Что же касается романтиков, то он по-своему возвращал их к церкви, объясняя им, что их пантеистические убеждения ни в чем не расходятся с христианством. Не следует думать, будто Шлейермахер вел двойную игру. Двойственное впечатление его «Речей» нисколько не зависело от него самого, от его человеческой личности. Двойственность его «Речей» происходила от их философского замысла. Сам же он был деятелем честным и искренним, либеральным на протяжении всей своей довольно долгой жизни. Молодой Гейне писал о нем в «Письмах из Берлина» (1822): «Этому человеку стоит только скинуть свое черное церковное одеяние, и перед нами окажется священнослужитель истины»200.
Романтизм, который распространился на все области культуры, в лице Шлейермахера завоевал и теологию. Но что было успехом в теологии, то для светского романтизма было поражением.
Шлейермахер в своих «Речах» объявляет настоящим предметом религии не бога теологов, но романтический «универсум», природу, соединенную с человечеством. Религиозное чувство, по Шлейермахеру, — это чувство связи индивидуума с коллективной жизнью. Чудо это — универсальная жизнь, явленная нам в индивидуальном образе. Христос —один из «гениев человечества», он «посредник», связующий заурядного человека с огромною вселенною вокруг него. Религиозные формы и догмы в «Речах» отбрасываются. В каждом индивидууме религиозные чувства рождаются каждый раз заново и по-своему. Даже соб-
146
ственное, уже пережитое чувство для индивидуума не указ, оно всегда появляется в его собственном внутреннем опыте, как если бы это было впервые. Консисторское начальство потребовало от Шлейермахера унять свой мирской пыл по меньшей мере в терминологии, и в новом издании «Речей», где писалось «универсум», там опять писался «бог», а слово «созерцание» заменилось «набожным чувством»201.
Иенские романтики читали не со светской, левой стороны его сочинения, а с правой, богословской. Для теологов у Шлейермахера религия обмирщалась, у романтиков через Шлейермахера мирское становилось религиозным. Весь романтизм превращался в некое вероисповедание. Романтики не сразу поддались «Речам», но один за другим стали поддаваться и Фридрих Шлегель, и Доротея, и Новалис. Так, довольно скоро Доротея сообщала в письме о иенских друзьях: «Христианство здесь в повестке дня»202. Через Шлейермахера романтики переходили к некоторой неопределенной религиозности, в отвлеченно-философском духе. Для многих из них это было началом строго конфессионального поворота, дверью в церковь и в церковность. Для Фридриха Шлегеля в особенности, а совместно с ним и для Доротеи, еще недавно отзывавшейся о религиозном поветрии в ее кругу не слишком сочувственно.
Шлейермахер принес иенским романтикам мнимое освобождение от забот и трудностей, для них непосильных. Если все, что они называли романтизмом, есть религия, то отпадает труд и отпадают мучения реализаций романтизма, внедрения романтических ценностей в действительность. Религия — внутренний акт, довольно того, что романтики носят романтизм в самих себе, нет больше надобности водворять его во внешнем мире, романтическим чувством и романтическим содержанием, молитвой к «универсуму», молитвой, как понимал ее Шлейермахер, все начинается и все кончается, романтизм есть дело духовное, состояние души и духа, не имеющее нужды в согласии со внешним миром. Обращение в сторону Шлейермахера, казавшееся тихим событием, одним из других таких же тихих, на самом деле вносило в романтику изменения самого решительного свойства, служило переходом к совсем иной стадии внутреннего ее развития.
Недавно еще Фридрих Шлегель объявлял в одном из фрагментов журнала «Атенеум»: «Революционная воля
147
к основанию на земле царства божия является нервом в прогрессе культуры и кладет начало современной истории. Все, не имеющее отношения к царству божию в современной истории — только подробность»203. В этой тираде весь пафос раннего романтизма: царство божие не в небесах, не в туманностях идеала, а осуществленное на земле, в реальных отношениях людей, слава и счастье, спустившиеся к людям, реализованные через них, ими, в их делах. После Шлейермахера все это меняется. Не нужно земли, не нужно реализации, навсегда останемся в развоплощенном мире, будем оберегать его, сделаем из него культ. О «провизорности», о переходе от низших форм воплощения к высшим позволено далее не хлопотать. Отказ от реализации узаконивается, получает высшие философские санкции. Создавалось впечатление, что именно в этом отказе состояло новое торжество романтизма. На самом же деле следует разобраться не в этом торжестве, которого не было, а в том, что же осталось от положительных программ романтизма после ложного этого торжества, обладавшего, всеми чертами бесспорного и величайшего поражения.
Ранний романтизм стремился к большим поэтическим формам, к роману со всесветным содержанием, если не к эпопее, к развернутым театральным зрелищам, к многоэпизодным драмам, к феериям и к мистериям. В дальнейшем задача этого рода все чаще вызывала у романтиков сомнение. Искусство, преобразующее внешний мир, овладевающее им целиком в романтически-абсолютном смысле, не удается романтикам. Требуется пересмотр самих основ такого искусства, который все откладывается и наконец происходит. Положительный «абсолютный» романтизм волею исторических судеб все более сводится к чистой лирике — к лирической поэме, к роману, к песне. Так было не в одной Германии. Преобразование объективного мира под знаком едино-прекрасного, задуманное романтизмом, остановилось уже на первых опытах. Романтики столкнулись с тем многозначительным явлением, что возможности одной общественной формации реализуются в другой, возможности буржуазного общества, которыми они были захвачены, реализуются, как показывал ход истории, не в самом этом обществе, но за пределами его. Возможности питали прекрасное, без них прекрасное как сила действительной жизни умирало. Мечта не превращалась в предметный мир, как романтики того ожидали, она осталась в человеке, ее значение свелось к раскрытию внутренней
148
его жизни, к глубокому
свидетельствованиго о ней. Хотя это и было гораздо меньше космических надежд и
ожиданий романтизма, но и эти приобретения следует оценивать никак не ниже их
цены. Уже само раскрытие мечты было духовным завоеванием. Человек осмеливался
узнать, что лежит на дне его воли, прояснялась вся глубина его желаний, какого
он хочет счастья, в чем этот рай, носимый им, как велик объем потребностей и
требований, неотделимых от его личности, как велика область, которая из них
сложилась. В обыденные времена подпочва и еще подпочва человеческой души
оставались неизвестными, содержание их неразвитым. Романтический лиризм — новое
развитие человека, познание его души, свободное от будничности, от прозаических
ограничений. Романтизм решился осветить и те стороны души, на которые нет
спроса извне, которым не дано работать в ими отвергнутых условиях. «Есть целый
мир в душе твоей», говорится у Тютчева, — целый мир, на который незаслуженно наложена
печать и который рвется участвовать в жизни и действовать в ней. Романтпзм
познал до него едва ведомые звучания и отзвуки в человеческой душе, сквозь
обычное в ней достиг до необычного. Все это не было одиноким достоянием
отдельных поэтов, на это наводила поэтическая эцоха. Так было повсюду, так было
и у нас в России. На лирику ушло все, что-надеялись собрать на других полях и
чего не собрали там, отсюда богатство романтической лирики. В ней претворялось
многое, что первоначально казалось чуждым ей, иной раз она играет и поигрывает
какими-то подарками каких-то заморских гостей, в ней присутствует своеобразная
душевная экзотика, сразу ее отличающая от лирики, увидевшей свот под напутствия
другого рода. Лирика Лермонтова не есть его личный произвол, хотя она вся и
проникнута его личностью. Ее душевный колорит, ее состав определились ходом и
русской и мировой истории, художественным развитием и России, и Европы.
Лермонтов вспоминается как один из прекраснейших лириков романтической эпохи,
способный на заветные и странные романтические слова, на небывалую поэтическую
силу желаний. Немецкая романтическая лирика дала Гельдерлина, Брентано, Эйхендорфа,
Вильг. Мюллера, Уланда, Ленау, Мерине, Гейне, который тоже отчасти к ней принадлежит.
У Гейне мы читаем знаменательнейшие для романтизма строки о лирической душе: «В
ее глубинах много жемчужных дремлет див» (перевод
149
Жемчужные дива[2] — это и есть сказочность, внутренняя экзотичность лирики у романтиков.
Правдоподобным кажется мнение, что эпос и драма у романтиков были только обещанием, а исполнение все целиком лежит в лирической поэзии. Однако же романтики отказались только от ранних форм эпоса и драмы, принятых у них, а не от драмы и эпоса как таковых. Ранние формы: романтики верили, что максимальное романтическое содержание, царство возможностей придет и к максимальному воплощению. Они рассчитывали на искусство без оговорок положительное. Все это должно было наступить сразу же. Ранние романтики были по особому избалованным поколением, они не умели и не хотели ждать, их воспитали на том, что все желаемое тут же и будет получено, что с ними держат союз высшие мировые силы. След нетерпеливости и максимализма в романтической философии — уже в общих, первоосновных ее положениях. У Шеллинга его философия тождества предполагает полное слияние всего, что есть в субъекте, с бытием объекта, — слияние безостаточное. То же самое у Новалиса, — человек всегда возвращается к себе домой, он в мире уже находится дома, куда бы он ни ушел, он всегда пришел. Всюду расчет на абсолютное завоевание мира человеком, и при этом самое скорое. Неудачи романтиков в драме и в эпосе вызваны их стремлением весь идеал уложить в мир как он есть, и тут же и сейчас же. Можно думать, с этим связана и романтическая ирония, — и она ставит себе эту цель абсолютного покорения действительности, — «укрощения строптивой». Ирония — в постоянных поисках действительности, с которой бы идеал, не давая остатков, совпал, но именно это условие неисполнимо, действительность все ускользает, строптивая укрощению не поддается.
Между тем романтики снова и снова возвращались к миру как он есть, от которого они на время отошли, рассчитывая вернуться к нему с победою. Мир как он есть в его наличном виде, мир сегодняшний, каков бы он ни был, обладал величайшей властью над людьми, он был их ареной, здесь лежали их интересы, отсюда происходили живейшие их страсти. Романтический мир возможностей способен был жить и развиваться только через актуальный мир. Как же они могли связаться один с другим? Только через коренной поворот в самом романтизме. Построить романтическое содержание как некое бытие, чего романтики с таким неуспехом добивались, было безнадежной
150
утопией. Мир возможностей ни сам собой держаться не способен, ни облечься в тело, которое точнейшим образом отвечало бы ему. Его призвание было совсем иным. Нужно было отказаться от притязаний на роль бытия и перейти к более скромной роли критерия, мерила бытия. Это и было предуказано историей. Мир возможностей связывался с миром как он есть в качестве критерия, с ним соотнесенного. Либо лирика и лиризм, либо связь романтических содержаний с миром как он есть на правах критерия к нему — других решений не предвиделось. Романтические возможности в роли критерия —- это было единственное решение и наилучшее, если оставалась в стороне лирическая поэзия. Да и лирическая поэзия в конце концов не была безотносительной к внешнему миру, косвенно она предъявляла требования к нему, критика же состояла в прямых требованиях, выраженных зримо и активно. Нельзя было найти более глубокий и более естественный критерий для мира в его наличном состоянии, чем собственные его же, в нем заключенные возможности. Это был критерий внутренний и подлинно индивидуальный, соприсущий явлениям, к которым он прилагался. С великими торможениями, весьма непоследовательно и незавершенно позднейшие романтики выходили на этот путь — обращения романтизма в орудие критики. Они не искали, как прежде было, бесконечной творческой жизни, органических связей между людьми, воздуха, света, бесконечных далей развития личности в их открытом виде, во образе воочию. Они стали все это спрашивать косвенно с дурного, несовершенного, ограничивающего всякое развитие, ограничивающего человека, в нем живущего, мира как он есть. При том, разумеется, уже не ждали больше, что ответ на критические требования будет дан незамедлительно, сегодня или завтра. Предполагалось, что ответ этот или ответы будут рассрочены надолго, что между требованиями и выполнением их ляжет историческое время. Не сразу же идеал вступает в силу, а если вступает, то через длительную и многотрудную борьбу за него. Тут нужна была измененная психология, отличная от той, что владела романтиками. Нужны были спокойствие и выносливость, малодоступные недавним энтузиастам. Нужны были точная работа, внимание и изучение, непривычные для них. Иными словами, романтизм второй и третьей плеяды, романтизм гейдельбергский отчасти, романтизм Клейста и Гофмана в особенности стал приближаться к тому направле-
151
нию в литературе, которое у нас принято называть критическим реализмом в его классических формах. Замечательно, что сам критерий в этой критике состоял не из отвлеченных прозаических понятий. Он-то по преимуществу и был поэзией, в него вошли возможности современной жизни, ее потаенная, ею самою неявленная поэтичность. Критика вела к новой выразительности, неразлучной отныне с миром как он есть. Музыка, как называли романтики стихию творящей жизни, подходила к самой границе антимузыкальных, самодовлеющих, желающих сохранить свою нетронутость вещей бюргерского быта или старонемецкого бюрократического государства, уцелевшего, невзирая на Французскую революцию, и постылая проза в контрасте с музыкой приобретала небывалую резкость физиономий. О творчестве Э.-Т.-А. Гофмана можно было бы утверждать, что оно сводится к великой коллизии между музыкой и бюрократически-бюргерским строем жизни. Этот быт, освещенный музыкой, становится насквозь виден, видны по-новому все его шероховатости и впадины, все его узлы, узелки и узелочки. Сам по себе рассеянный, разбросанный, в освещении музыкой он собирается в некое единое характернейшее лицо. Есть одна-единая, едино-выразительная Германия Э.-Т.-А. Гофмана, как есть Франция Бальзака, как есть Россия Гоголя.
Не нужно думать, что критическое направление в искусстве состоит в зарисовывании современной жизни, к которому прибавлены отрицательные суждения о ней. Так и случалось, когда искусство исчезало и оставалась одна критика. Если же искусство сохранялось как искусство, то критика означала новый художественный язык, новую осязаемость предмета, обострение его контуров, пограничное зачастую с комедийностыо или полукомедийностью, с гротеском и бурлеском.
Романтики все искали синтезов и синтезов, они не замечали, что через них совершается великий анализ: возможности нового времени отделяются от его реальностей, увеличиваются в своих масштабах, так как, отдельно живущие, они не подвержены обычным стеснениям, развиваются до некой естественной гиперболы. Анализ превращал возможности не только в критерий, но еще и в сознательный, сознанием усиленный критерий. Возможное и действительное уже больше не поддавались по старинному слиянию их в одно-единое, малоразличимое. После романтиков возросло участие интеллекта в критике, обще-
152
ства и времени, как ее проводила художественная литература, критика стала более рельефной, выразительность изображаемого удвоилась, утроилась. Романтики собрали огромнейший материал об огромном мире возможностей, который стоит в тылу мира как он есть, и тем позади стоящим миром после них стали судить мир, обращенный лицом к сегодняшнему человечеству. Они собрали материал веков, чтобы этим материалом судить свой век — один только, зато главнейший для них и для современников. Выполненное они судили с точки зрения обещанного, выданное, явленное — с точки зрения залогов, полученных ими, внешнее — с точки зрения внутреннего, побуждающего и вдохновляющего. Сущность суда и судимое находились во внутреннем нерасторжимом единстве друг с другом.
Такую же роль получили их разыскания по истории эстетической мысли, по истории искусства и литературы. Либо все это превращалось в собрание академических знаний, в теорию ради теории, в историю ради истории, либо все это становилось иском к современной художественной культуре, от нее требовали уровней Шекспира и Сервантеса, Данте и Гете, от нее ждали во имя старых имен борьбы со слабостями, проникавшими в нее, и умения идти к великим целям. Нагруженные наследием многих столетий хотели совершить переход в девятнадцатое, новое столетие. Так, Шеллинг в своей статье «Данте в философском отношении»204 проповедовал «Божественную комедию» с ее трехчастным делением, ад, чистилище, рай, как образец для всякой эпохи, стремящейся к поэтическому самосознанию во всей его полноте, — вероятно, в косвенных отражениях эти призывы дошли и до нашего Гоголя, сказавшись на его великой поэме в прозе.
В романтизме завязывается большое критическое искусство реализма XIX века. Этому не всегда уделялось должное внимание в западной науке о романтизме, да и у нас тоже. Очень много писалось о том, что в романтизме видны начала более поздних течений в искусстве — импрессионизма, символизма, натурализма, экспрессионизма205. Все это справедливо. В романтизме причудливо мелькнули предвосхищения художественного опыта, казалось бы доступного только нашему столетию или же его кануну; не так давно писалось, что и беспредметная живопись восходит к традициям романтизма206. И все же гораздо важнее, что романтизм без собственного ведома подготовил самое сильное из художественных течений
153
прошлого — классический реализм XIX века. Важнее близость расстояний от Э.-Т.-А. Гофмана до Бальзака, Диккенса, Гоголя и Достоевского, чем его же близость, а в сущности, далекость, в отношении к Мейринку или к Перуцу, например.
В романтизме содержались, то в намеках, а то в более обстоятельном виде, предугадывания сделанного в искусстве двух последующих веков. В этом была своя историческая закономерность, так и должно было быть, соответственно характеру эпохи, породившей романтизм. Романтизм, воодушевленный Французской революцией, стянул в единый узел художественные достижения предшествующих веков, и он же как ее же детище дал первые витки искусству, которому еще предстояло завоевывать для себя поприще.
Ленин говорил о революции во Франции и о XIX веке: «...Она недаром называется великой. ...весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии, интересам которой они служили, хотя они этого и не сознавали, прикрываясь словами о свободе, равенстве и братстве»207. С этим высказыванием Ленина можно сопоставить известные его положения о том, как развивается познание. В конспекте Гегелевых лекций по истории философии Ленин записывал: «Сравнение истории философии с кругом — „у этого круга по краям огромное количество кругов"...». К этому месту Ленин сделал примечание: «Очень глубокое верное сравнение!! Каждый оттенок мысли = круг на великом круге (спирали) развития человеческой мысли вообще»208.
К истории литературы тоже применима идея развития по спирали. XIX век, принимающий идейное наследие Французской революции, развивает по спирали и свою художественную литературу, при этом первый круг ее — романтизм, начавший свою историю еще в истекшем веке и оттуда перешедший в девятнадцатый. В этом круге находится и романтизм Германии. Характеристика немецкого романтизма — одно из введений в историю художественной жизни последних двух веков, напутствие к ней и известное ее предвосхищение. Не надо искать отклика и продолжения совершенного в романтизме Германии не-
154
пременно в литературе той же Германии и только. Сопоставительное изучение имеет права на свободу переходов от национальной литературы к другой национальной, даже если это переходы и не в порядке простой хропологической последовательности или же синхронные. Существует разная рельефность выраженности отдельных моментов в мировой истории литературы. Я думаю, что есть черты в романтизме, которые у немцев представлены были сильнее, чем, например, во Франции. Идя от Шатобриана и госпожи де Сталь к Бальзаку, мы приобретаем очень малое, а движение к Бальзаку от немцев, от Э.-Т.-А. Гофмана, даже от Клейста, даже от Арнима, от раннеромантических теорий в Германии, несомненно, обогатит наше понимание, чем и кем был Бальзак. Если же искать, что в самой Германии продолжает Э.-Т.-А. Гофмана или Клейста, то показания окажутся очень бедными, разорванными. От Клейста что-то сохранилось в Граббе — как свидетельство известного падения, конечно, как свидетельство истощения этой традиции, наступившего довольно вскоре, и это при всех достоинствах и при той особой дикой силе, присущей Граббе. Мир возможностей, сама идея которого с такой полнотой развита у немецких романтиков, в качестве критерия мира в его актуальном образе, с наибольшей очевидностью и плодотворностью действует у Бальзака, в сериях его «Человеческой комедии». Бальзак — наивысшее торжество романтики как орудия критики современных реальностей.
Позднейшие немецкие романтики приблизились к критическому реализму и не соединились с ним по множеству мотивов. Им препятствовала вовсе не какая-либо недостаточность их критических позиций, критикой и гиперкритикой относительно своей современности романтики располагали в избытке. Для критического реализма нужны были не только критика па одной из сторон, нужны были положительные силы на другой, на критикуемой, и именно этим бедна была Германия. Революция ничего не изменила в отсталой, убогой, по-прежнему раздробленной Германии, изнывающей под управлением своих князей и поставленных ими у власти бюрократов, штатских, полицейских и военных. Когда выработанные романтизмом критерии применялись к этому миру — к этим забытым богом и историей миркам, то происходило взаиморазрушение сторон. Освещенные критикой, призрачные эти мирки окончательно теряли реальность, — получался реа-
155
лизм без реальностей. Но и сама критика, сами романтические содержания, положенные в ее основу, тоже заражались ирреальностью своего предмета. Критика должна найти нечто положительное в своем предмете, чтобы обладать здравостью, чтобы не казаться призрачной претензией, потусторонней силой, чтобы не получалось, как шутят у Достоевского: тень каретника чистит тенью щетки тень кареты. Взаимное подрывание сторон имеет место у романтиков Гейдельберга, чаще всего у Арнима, не избежал этого и Э.-Т.-А. Гофман. Такое взаиморазрушение сторон можно было наблюдать уже в романтической иронии. Но там оно входило в предварительный расчет, оно-то и было иронией, актом ее. У романтиков последующей формации взаиморазрушенпе получалось чаще всего против их же воли и замысла, если и возникало сходство с иронией, то не авторы хотели его, а сами обстоятельства его навязывали. Авторы и не думали играть, а с ними играли, игра шла против них, и они бывали биты.
Само по себе обильное изображение предметов предметного мира еще ни в коей мере не дает гарантий художественного реализма. Суть в том, какая смысловая и духовная сила заложена в них, способна ли она противиться беспредметным силам, представленным тут же. Это хорошо показывает романтическая живопись. Каспар-Давид Фридрих написал женщину в окне. Писана женщина со спины, видна с затылка ее прическа, видно ее длинное, почти прямыми складками ниспадающее платье. Очень точно выписаны подоконник, на который она опирается, вся рама окна. Смысл картины — в бессилии всех этих подробностей сравнительно с облаками, которые видны сквозь стекла, сравнительно с пространством, которое лежит за окном, не написаны, а скорее намечены зеленые деревья в саду; чуть тронутые художником, они в своей живости сильнее всей мертвой древесины, здесь, внутри комнаты, потраченной плотниками и столярами. Душа героини в этой правильно устроенной, геометрически расчерченной комнате отсутствует, она вся обращена к свободному пространству вовне. Комната писана тяжело — коричневыми красками, за окном краски легкие и бледные, вся же значительность у них. В картине этой пространство как таковое поедает опредмеченное пространство, торжествует над ним.
Более резок пример картины Керстинга, ученика Фридриха, — «Человек за письменным столом»209. Карти-
156
на заставлена вся сплошь бытовыми вещами и реалиями, старательно выписанными, с мелкими подробностями. Стол под грузом бумаг, со статуэтками, в нем множество ящиков. Человек у стола посажен спиной к зрителям. По всей видимости, он личность вполне деловая и реалистическая, голова толстая, спина толстая, посадка тяжелая, он охоч к своему письмоводству. Прямо перед зрителем запертая дверь, комната закупоренная, без воздуха, беззвучная. Только зеркало, полуспущенное со стены, — оно звучит. Оно пустое, ничего не отражает, в нем пространство во всей своей наготе, пространство, лишенное вещей. В пустом этом зеркале наибольшая сила картины. Пространство льется из зеркала и топит эту прозу вещей, жилья и будничной работы. В картине как бы происходит борьба идеального пространства с пространством заселенным, заставленным, и безобразное попирает образное, бытовое и вещественное. Одна маленькая вещь побеждает большие вещи и человека, которому они служат.
Не одни только национальные условия препятствовали немецким романтикам расстаться с абстракциями. Немцы существовали, окруженные явлениями общеевропейского характера, и тогда, в начале нового века, отсюда тоже исходило противодействие свободному, широкому художественному реализму. Тут-то и складывалось отдаленно похожее, а все же и непохожее на позднейший натурализм, на одно из течений, от которых пошел к концу XIX столетия очевидный художественный упадок.
Романтизм колебался между двумя обобщениями величайшего масштаба. Одно из них — социальные, культурные, человеческие, эстетические возможности нового времени, по которым, как казалось, вместе с революцией и обществом, ею порожденным, наступил срок расплаты.
Другое обобщение по содержанию своему было противоположным. Новое общество, пришедшее к господству, общество буржуазное, являлось заключительным словом, самой высокой формой, последним итогом классовых отношений вообще, как они известны из истории. Романтики начала XIX века еще не видели и едва могли видеть, что буржуазное общество еще не есть последняя развязка. Скорее всего им казалось, что оно воздвигнулось как непроницаемая стена, о которую разобьют свои головы недавние энтузиасты. После этой стены больше ничего не будет, бывшее до нее она без жалости отменяет. Счастливым возможностям не пробиться сквозь нее — вера и страх
157
этой веры, что наступившему царству не будет конца, лежат в основе романтического натурализма. Та же социальная метафизика более чем через полстолетия произвела натурализм Золя и золяистов. Однако велики различия между романтизмом и золяизмом. «Ругон-Маккары» строились на аксиоме, что современное общество — манифестация сил самой природы, что оно заложено в теле человека, что кровь наследственности, передающаяся от поколения к поколению, поддерживает его. Романтики были очень далеки от биологического воззрения на судьбы и законы общества. Они не сходили никогда с почвы истории, пребывали историками от начала до конца. Их антиисторизм сложился на почве самого же историзма, как своеобразная избыточность его. Они охватили общим взглядом и античность, и средневековье, и предысторию нового времени, и, наконец, итог итогов — общество капитализма. Как они искали еще недавно оптимистических начал истории, расковывания человеческой личности в ней, расковывания творчества, так сейчас они искали и находили повсюду предвестия рабства, насилия, производимого над человеком материальными отношениями, его подчиненности им, его униженности и безволия перед ними. Одно романтическое обобщение указывало на историю как на царство возрастающей свободы, бесконечного развития, бесконечного творчества человека, его спросов и запросов, другое обобщение толковало историю как рост худших сил, направленных против человеческой личности и ее владычества. Опыты создать критический реализм в искусстве гасли едва возникшие. Критика лишена была надежд, что требования, выставленные ею, восприняты будут когда-либо хотя бы самой малой мерой. Тенденции к натурализму были для опытов действенной критики смертельны.
К своеобразному натурализму шла и философская мысль. Юность Шеллинга кончилась с новыми и мрачными идеями, с которыми он вступал в свой зрелый период. Есть общность мысли в таких произведениях Шеллинга, как философский диалог «Бруно» (1802), трактат «Философия и религия» (1804), трактат «Разыскания о человеческой свободе» (1809). В диалоге «Бруно» все уже предначертано. Шеллинг здесь впервые учит об отпадении лучшего, прекрасного романтического мира от мира в пространстве и времени. Высший и прекрасный мир существует только в неразвернутом виде, в зародышевом со-
158
стоянии, «где общее и особенное, род и индивидуум абсолютно едины, как в образах богов»210. Шеллинг любил сравнивать отношение абсолютного мира к действительному с отношением точки к кругу: точка — круг с нулевым радиусом, с тождеством центра и периферии211. В мировой душе, по учению Шеллинга, весь мир уже предобразован, хотя и не увидел еще света. Есть еще другая аналогия, соответствующая обычной склонности Шеллинга рассматривать мир как художественное произведение212. Абсолют — замысел, как он живет в сознании художника, в своей смутности, но зато и в полноте, утрачиваемой, когда замысел разрешился и перешел в произведение искусства. По собственному пониманию Шеллинга, высшее совершенство в безжизненной жизни, в сне и в застылости, в воздержании от движения и развития, в слитности и неразличимости действенных сторон жизни. Мир во всем избытке своих образов покоится под единой общей оболочкой, где все образы вместе, неотделимые друг от друга213.
Чем далее писал Шеллинг и передумывал свою систему, тем яснее становилось, что для него всякое раскрытие абсолюта, переход возможностей в действительность есть нисхождение, черный упадок. Он объявляет об отпадении — мир отпал от бога, — это была формула для эволюции, проделанной им самим и его друзьями-романтиками. Мир зажил своей пореволюционной буржуазной жизнью, — в этом состояло отпадение, романтический энтузиазм оставлен был на самого себя, — это означало, что бог и абсолют пребывают отныне в единстве, вне мира людей и страстей людских. В трактате о человеческой свободе, во многом весьма замечательном, Шеллинг все же продолжает те же мысли. Материальный мир, если верить Шеллингу, затемнен гибельными силами, материя — среда распада, в человеке воскресает «древний хаос», здесь, кажется, впервые в романтизме идея «хаоса» преподана в отрицательном смысле. Материальный мир — область перехода, испытаний и соблазнов, преодолев которые можно возвыситься до состояния, достойного человека, — чисто духовного. Бывший романтик выдает себя в Шеллинге там, где в трактате говорится о роли и значении человеческой личности, ее свободы. В личности, как от этого и теперь не отказывается Шеллинг, весь пафос земного, вся «острота жизни» — по его памятному слову214,
159
Пособником и отцом натуралистической мысли оказался немецкий философ (Philosophus teutonicus) Якоб Бёме, которого из XVII века в свой вызвал Людвиг Тик, впервые его открывший, а потом увлекший им и Новалиса и Шеллинга215. Романтики, искавшие для себя опор в фольклоре, не ограничивались одной поэзией. Якоб Бёме был необычайным явлением — фольклорным философом, народная культура в нем возвысилась до отвлеченной мысли, до первоосновных проблем сознания и бытия. Бёме стоит на перепутьях от Ренессанса к барокко, у него сохранились еще все краски ренессансной философии природы, но он уплывает также и в мистику и в теологию барочных писателей. В философии Бёме угадываются исторические события, предпосланные ей: разгром крестьянской революции XVI века и бедствия Германии, перенесшей Тридцатилетнюю войну216. Позднеромантическая философия, тоже сложившаяся после обвала великих надежд, узнавала в размышлениях Бёме себя и свои разочарования. Он тоже учил об отпадении мира от абсолюта, о великих благах и красотах, которые все остались у абсолюта, о земной жизни, из которой ушло божеское великолепие — «der göttliche Роmр». Особо впечатляло романтиков учение Бёме о зле и силе зла, о тьме, без которой нет света и в которой коренится свет. Шеллинг времен «разысканий о свободе» преподносил своим читателям учение, родственное Бёме и его «Авроре». Не следует Якоба Бёме ограничивать одной Германией. Он нечто означал и для Колриджа, английского романтика217, в нем содержались симптомы того, что вскоре стали именовать «мировой скорбью». Дело идет именно о симптомах, Байрон создавал свою поэму всемирного упадка «Тьма» без Бёме, однако же в духе Бёме. Интерес к Бёме существовал и за чертою романтизма. О философии Бёме есть важные страницы у Гегеля, впрочем, писавшего о нем осторожно после восторженного приема, оказанного Бёме у романтиков218. О Бёме прекрасно написал Герцен — «Письма об изучении природы». Наконец, о Бёме мы находим очень важные строки у молодого Маркса219.
Романтический натурализм как явление художественной литературы себя ознаменовал в
«страшных» жанрах ее, — в страшном
романе, который именовали также и готическим и черным, и, помимо романа, еще и в «драме судьбы», которая тоже могла бы
называться страшной, черной,
готической. Драма ли это, роман ли, всюду пред-
160
посылка страшного жанра — страшный мир, по-страшному устроенный, неодолимый в своей бесчеловечности, лежащий во зле, неустранимость которого доказывается повседневным опытом. В страшном мире испорчена также и природа, под виселицами подымается из земли альраун, урод, полурастение, полузверь, несущий людям соблазны и пагубу души, он сам — безобразная пародия на одушевленность, на связь разных царств мира и природы друг с другом. Альраун появился у Арнима, и тени его прошли по страницам Э.-.Т.-А. Гофмана. Он еще до Бодлера и без эстетики, приданной ему Бодлером, цветок мирового зла по символическому своему значению.
Страшный мир страшен тем, что он окончательно сложился, не обещая движения, перемен. Собственно, это мир, в котором история кончилась, просветы кончились, мир без окон и без дверей, со сплошными стенами.
Фридрих Шлегель в своей «Трансцендентальной философии» писал, что мир в его целом есть некая индивидульность. Это одна из первостепенно важных романтических идей. Она богата многообразнейшими следствиями. Мы находим ее у Шеллинга, у Новалиса, она составляла едва ли не общее достояние раннего романтизма. Если мир — индивидуальность, то он не закончен, и у человека есть призвание внутри мира, он — пособник его развития в дальнейшем, как выражался Фрпдрпх Шлегель: человек — пособник богов, «der Gehilfe der Götter»220 О незаконченности мира сказано и в одном из фрагментов Новалиса221. Мир, понятый натуралистически, — мир завершенный, все исполнилось и даже давно исполнилось, человек с деятельностью его стал ненужностью. В остановившемся мире все люди лишние, всем вынесен приговор бездеятельности и вымирания. А сам мир как целое, потерявший собственную личность, стал механизмом, геометрическим построением, исключающим жизнь и душу. У романтиков от идеи мира, этой всеобъемлющей личности, зависело выдвижение на первые планы феномена жизни как таковой, зависел их историзм. Одно лишь понятие закономерности не могло породить историзма. Историзм в соединении закономерности с непредвиденным, а оно состоится, если некая личность, некий индивидуальный принцип заложен в основу всемирной жизни, в этом принципе бьется непредвиденность, «произвол», как называли ее романтики. В эстетике к принципу мира как единой личности восходила романтическая тенденция к «ка-
161
приччо» — к «большому капризу» и к «малым капризам» у Людвига Тика, Брентано, Э.-Т.-А. Гофмана. Действительная связь тем, мотивов, смыслов могла быть и иной, но такова она была в представлениях самих романтиков, — речь идет об их миропонимании, не о реальных связях в реальном мире. Так или иначе, в этом мире без внутреннего движения мы узнаем страшный мир романтиков, как бы его первоначертание.
В авторах страшного жанра угадываются современники империи
Наполеона, снова подхватившей казалось бы оборвавшиеся традиции, восстановившей
трон, окружившей его новой и старой аристократией, заключившей с папским Римом
конкордат. Империя Наполеона была возвращением к пройденному, реставрацией до
реставрации, потом пришла и сама реставрация. Была видимость, что все
захлопывалось, закрывалось, заделывалось навеки и в жизни политической, и в
жизни социальной. Поколение страшного жанра, люди, увидевшие торжество
буржуазной собственности, которая подвела под себя прежние виды собственности и
эксплуатации, известные из истории, показав таким образом, что она не преходит,
но только развивается до апогея и до абсолюта. Страшный роман уже к концу XVIII века сложился в Англии,
откуда и пришел к немцам.
162
нены его кошельком. Они не узнали его, но само неузнаванне символично: где интересы денег, там кончаются интересы человеческие, там нет лиц, нет родства, нет чувства, нет морали. Сын поместился в родительском доме за тоненькой деревянной перегородкой, в чем опять-таки содержится символика, — он так близко, так досягаем для узнания, но до него досягает нож. Этот нож как бы сам идет в руки, напрашивается, чтобы его пустили в ход. Убийство заложено в обстановке драмы, в ее колорите нужды и ожесточения нужды.
Отмечу связь драмы Захарии Вернера с драмой Альбера Камю «Недоразумение» («Le malentendn», 1944), кажется, упущенную в критике. Камю дал свои вариации к Захарии Вернеру. В дни Камю называемое у Вернера «судьбой» получило наименование «абсурда». Через Камю виднеется одна из генеалогий «драматургии абсурда», после Камю и других широко распространившейся. Разумеется, оба эти явления — «драма судьбы» и «драма абсурда» — далеки от подробного тождества друг с другом.
После опытов Новалиса и Тика одарить душой все, какие есть, вещи на свете литература поворачивается в другую сторону, она отнимает души, где они предполагались, все, что представлялось поэтическим, морально приемлемым, человечески достойным, разоблачается как маскировка, тонкая, а скорее грубая комедия, сплошная ложь и лживость. Так в книге 1804 года «Ночные бдения Боиавентуры», в одной из первых книг, с которых можно датировать омрачение романтизма222. У Захарии Вернера все вещи, какими пользуются люди, заряжены отрицательной жизнью, не люди ими распоряжаются, а они людьми, так будет еще и с преувеличениями и в «драмах судьбы». Платен, пародпровавший своих по «драме судьбы» предшественников, уловил эти мотивы, дав своей драме название «Роковая вилка» (1826). И в книге Бонавентуры и у драматургов «судьбы» как бы усилена еще сравнительно с обычным материальность вещей, удвоена, утроена их огрубленность, и одновременно в них вселяется злобная, злостная активность. У Бонавентуры и люди, и положения, и вещи переходят в свою противоположность. Поэт вешается на своем чердаке — некрасивая смерть профессионального ревнителя красоты. Превращения вещей, попутные и крайне выразительные: шнур, которым перевязана была рукопись поэта, вернувшаяся от издателя, отвергнувшего ее, — он-то и послужил петлей. Шнур
163
сопровождает его в двух путешествиях — от издателя на чердак и с чердака в христианское небо. Рукописная трагедия, посланная поэтом, превращается в его собственную трагедию взаправду. К явлениям как бы прибавляется реальности, и это неразлучно с гибелью. В том же эпизоде книги о бдениях говорится, что этот переход от иллюзии к реальностям, к бдениям от сновидений совершается насильственно, сходно с тем, как Карл Великий обращал язычников, — он делал это мечом223.
Небезразлично, что у романтиков страшный жанр писался часто на исторические темы. Так, к феодальному прошлому тяготеют драмы Клейста, связанные разной мерой прочности с этим жанром, а у Э.-Т.-А. Гофмана «Майорат» — «готическая» повесть — дает нечто сходное с историческим обозрением, действие, происходящее в настоящем, в современности, постоянно углубляется в историческое прошлое. Это хорошо показывает, что страшный жанр происходит из истории. Натурализм, антиисторизм жанра распускается из самой истории, опыт истории, обобщенно-историческое созерцаиее попадают под неподвижный знак, многообразное в них толкуется как единообразное, творчество — как отсутствие творчества, жизнь — как остановка жизни, прошлое преобладает над настоящим. Ни сам Золя, ни золяисты не отправлялись за подкреплениями для натурализма в историю, они делали экскурсы в биографию персонажа, в биографию семьи и никогда — в биографию общества, не тревожили исторических эпох, не восстанавливали исторические отношения, как тому подавали пример старые романтики в своих произведениях «черного жанра». Э.-Т.-А. Гофман — один из малопристрастных к историческому прошлому романтиков, и все же «Майорат» уходит у него в живописание прошлого, в характеристику его. В «Майорате» из настоящего в прошлое тянутся имущественные интересы, и обратно, из прошлого в настоящее, старые феодальные бароны увявли в нечистых помыслах, в деловых пптрпгах, в борьбе за материальное преобладание, соблазняющей их на преступления и убийства. В большом романе Э.-Т.-А. Гофмана «Эликсиры дьявола» развернута пространная генеалогия греха, от поколения к поколению. Наследуется не кровь предков, их биологический статус, как это будет у Золя, а наследуются их действпя, их образ действия. Сделанное в одном поколении до мелких черт предопределяет, что станут делать в другом. Разумеется, в генеа-
164
логиях этого направления уже копится материал для перехода к генеалогиям золяистским, к идеям и мотивам биологической наследственности, но перехода нет, он только угрожает издали. За антиисторическим миром у романтиков все еще лежит исторический, откуда он явился, все еще лежит стихия движения и творчества, оттенившая его, указавшая по контрасту на его неподвижность. С этой стихией не было порвано даже и там, где все походило измену ей.
Романтический натурализм, уравнивавший свою современность с Ренессансом, со средневековьем, не пощадил и античности. В ней уже не искали убежища от современных зол, ее хотели изобразить как их первоисточник. Бывший энтузиаст античности Фридрих Шлегель, когда позднее касался ее, то подчеркивал уже не республику у греков, а рабовладение.
Первоомрачитель романтических идеалов Бонавентура трактует античность без малейшего пиетета к ней. Олимп, где собраны были пресветлые боги, у него забыт. Образ античности у него современный музей, где собраны мраморные калеки, битые, переломанные античные статуи. Языческая материальная Эллада у Бопавентуры дана тоже материально — в образе материального разрушения и деградации224.
Варваризация Эллады — в античных драмах Клейста, в «Амфитрионе», в «Пентесилее», и это другой полюс его же античной драмы «Амфитрион», где сделана попытка внести в жизнь Эллады мотивы христианства и христианской мистики.
В начале 40-х годов запоздалый эпигон романтизма Вильгельм
фон Шютц сочинил трактат о католицизме, будто бы им найденном у древних
трагиков, у Аристотеля, их истолкователя. Он называл это «моментами откровения»
(«M
Литература XIX века унаследовала от романтиков их черные миры. Признаки черных миров можно найти и у великих реалистов, у Бальзака и даже у ясного Стендаля, у ясного Проспера Мериме. Наследовались не одни эти миры, но и весь путь романтиков, по которому они к ним пришли, а на этих путях романтического историзма антиисторизм черных жанров был не больше, чем частностью, временным явлением, и в историзме лежали силы, которые, по-новому обращенные, способны были преодолеть натуралистичность и метафизику литературы
165
ужасов и мрака. Романтика несла духовную болезнь, и она же несла средства лечения от нее. Для литературы XIX века, да и века двадцатого, важным делом было овладение не частностями романтизма, а всем, что было в нем задумано, всеми его перипетиями, всеми высокими точками его развития. Стоило только разбудить скрывшийся за антиисторизмом предпосланный ему историзм и изменить тип его работы, сравнительно с ортодоксально романтическим.
Романтизм на поздних своих стадиях то в одном, то в другом, то здесь, то там попадал в застой. Но застой не мог возникать из существа романтизма, апологетического в отношении творчества и творческой жизни. Поэтому сила обновления для боровшихся с романтическим застоем так часто лежала в самом романтизме же. Романтизм сам же помогал уйти от временного, «провизорного», узкими условиями обусловленного в нем и соединиться с той его энергией, которая нужна была всем направлениям, сменявшим его в истории художественной культуры.
Писавший под псевдонимом Новалиса Фридрих фон Гарденберг родился в 1772 году в Нижней Саксонии, в стародворянской семье, скромной и в истории себя деяниями не ознаменовавшей. Но один исторический деятель, занявший заметное место в делах Германии начала XIX века, приходился Новалису близкой родней — это был Карл-Август фон Гарденберг, канцлер прусского государства, известный реформами, проведенными им. Ближайшая среда едва ли могла радовать Новалиса. Факты его биографии, иконография людей, окружающих его с детства, снимки с мест и зданий, с которыми он был связан, вряд ли способны объяснить, откуда и как возник в нем романтический энтузиазм и что именно внушало ему видеть мир в красоте и в сиянии. На снимках мы наблюдаем старые замки, прикосновенные к биографии Новалиса, а вернее — плохо приспособленные для жилья дома, ничем не примечательные, называвшиеся замками, как хочется заподозрить, только по той причине, что ремонт не производился в них целыми столетпямп. Люди в этих жилищах могли только подвергаться заболеваниям и томиться, теряли индивидуальность, если и были намеки на нее. Они начинали все это уже в семье, а продолжали в обществе и государстве, из которых первое было иерархическим, а второе вдобавок еще и полицейским. В семье Гарденбергов царила тяжелая скука, ибо отец был религиозным человеком — геригутером, строго наблюдавшим, чтобы в доме не заводилось легкомыслие. Новалис всячески уклонялся от общения с сектой геригутеров, к которым семья старалась его прилучить. Сыновья и дочери рождались непрерывно, мать Новалиса произвела одиннадцать детей. Его отец, взирая на свое потомство, должен был испытывать чувство разрежения собственной личности, вошедшей в этих одиннадцать, а бедная его мать, как это и водилось с женщинами тогда, занималась только детьми. Дети как рождались, так и умирали, один за другим. В многодетных домах они не имели гарантии на прочность, присмотр был недостаточен, болезни и несчастные случаи их уносили. Когда мать Новалиса находилась при смерти, то к тому времени из всего ее потомства
167
жив был только один, он-то и сидел у ее одра. Женщины, подобные матери Новалиса, безгласные и вечно запуганные служанки собственных мужей да и всего своего семейства, едва ли могли подсказать будущему романтику его идеальных героинь, его женопоклонничество. Романтизм возникал не из местных, ближайших условий, а из общемирового состояния, как любили выражаться романтики и современники их. Только общемировыми духовными силами романтикам дано было извлечь из окружающего их убожества, из домашней и социальной, из немецкой «мизеры» нечто достойное людей мысли и художественного вдохновения. Так было со всеми, так было и с Новалисом, первоначальные обстоятельства биографии которого были как будто краше, чем у остальных.
Помимо прочего, надо еще принять к сведению, в каких тесных географических границах проходила жизнь Новалиса. Он всегда отправлялся в странствования свои из городишка Вайсенфельса, куда и возвращался, ибо туда перебрались его родители. Вайсенфельс насчитывал 3800 жителей. В новейшей книге о Новалисе очерчена территория, с которой он был связан и за пределы которой никогда не выезжал. Это всего только была Средняя Германия, между Гарцем и Тюрингенским лесом, Рудными горами и Эльбой1.
Отец Новалиса, в известных случаях склонный к свободомыслию, все же решительно опротестовал замысел этого своего сына вступить в брак с девицей бюргерского происхождения. Нужен был отрыв от убеждений родительского дома, нужна была самостоятельность с его стороны, чтобы предаться всеми внутренними силами, как это с ним и случилось, духовному влиянию Французской революции. Его старший друг и позднее первый его биограф Целестин-Август Юст рассказывает, что Новалис был способен в разговорах восхищаться последовательностью Робеспьера и защищать политику террора2. Конечно, Новалис якобинцем не был и быть не мог, но, как мы видим из показаний Юста, характерные влечения к якобинству у него наблюдались. Он шутя грозил варфоломеевской ночью деспотизму и тюрьмам, а Фридриха Шлегеля звал совместно с ним заняться политическими поджогами3. Ни один из ранних романтиков не пережил в тех же масштабах, что Новалис, культурные и философские утопии Французской революции. Лучшие годы своей очень недолгой жизни Новалис провел в постоянном идейном
168
опьянении. Выразителен его псевдоним: Novalis — возделыватель целины. Сильнее кого-либо он веровал, что все на свете начинается сначала, и приходит время чудес. Новалисом владело чувство, что высшие сущности приблизились к нему без усилий с его стороны, даром и ничего от него не требуя, что тайны мира одна за другой стали открываться перед ним, что наступило время ответов, которых люди ждали веками и которые пришли все сразу вместе. Новалис не делал разницы между гипотезой и доказанной истиной, всякая гипотеза уже одним своим зарождением казалась ему сопричисленной к миру истин, достойной места в «райском саду идей» («Ideenparadis»), в собрании философских его фрагментов4. В стихах 1798 года Новалис прославлял гипотезу. Гипотезы — сети, кто их закинул, тому будет улов, и разве не с помощью гипотезы была открыта сама Америка5.
Новалис много и торопливо учился. По диплому юрист, он стал самостоятельно изучать философию, притом усерднейшим образом. Философским вождем для него надолго стал Фихте, тот самый Фихте, который в раннюю свою пору был как бы стипендиатом склонного к благотворительству Гарденберга-старшего, отца Новалиса: тот вместе с одной дамой, хозяйкой поместья, откуда происходил Фихте, оказывал ему материальную помощь, необходимую, чтобы продолжать учение6. Парадоксы эпохи: Гарденберг-старший был для Фихте добрым господином, а сам Фихте стал строгим господином и учителем для Гарденберга-сына. Зависимые люди дворянских домов становились духовной властью над молодым поколением из тех же домов, слуги делались пророками. Занятия философией сопутствовали Новалису по всей жизни. Одновременно он осваивал науку за наукой — математику, химию, физиологию, медицину, геологию, горное дело во всех его подробностях. Одна из лучших частей наследия Новалиса — это его фрагменты, в которых затронуты все отрасли знания, кроме названных еще и история, и история литературы, и лингвистика с поэтикой включительно. Впечатление от этих фрагментов — энтузиазм и страшная спешка. Новалис подобен открывателю золотой жилы, который не теряя времени хочет от нее получить, что только та в себе содержит. О чем бы ни писал и ни размышлял Новалис, всегда он кажется застигнутым внезапным счастьем — счастьем неожиданных угадок и разгадок, которые только успевай записывать.
169
Он как бы секретарствует самому себе. Его роль составлять мемориалы и свидетельствовать, по поводу всего остального он вправе быть беззаботным. Науки, помимо философского своего содержания, выполняли для Новалиса еще особую роль, сходную с ролью искусства. Его теснила бедность домов и городов Германии. Каждая наново изученная наука помогала избавлению от этой бедности. Науки были важны не только как анализ и толкование уже известного через практический опыт. Пожалуй, еще важнее было, что каждая из них сама давала опыт, еще неведомый, вводила в новые зоны предметного мира. Новалис переходил от науки к науке, как бы путешествуя из страны в страну, каждый раз обладающую иными пейзажами. История ли, минералогия ли, медицина ли — все это были новые отделы видимого мира, своеобразие которых захватывало Новалиса.
Новалис вошел в историю литературы в некоем за столетие с лишним устоявшемся образе, очень стильном, но и малоправдоподобном. В нем хотели видеть героя отрешенности, звездного романтика, не замешанного в дела быта и эпохи. Этот образ сложился усилиями писавших о Новалисе: Карлейля, Генриха Гейне, наконец Метерлинка7. Ученые исследователи не ссылаются ни на одного, ни на другого, ни на третьего, но в статьях, монографиях, диссертациях всегда виден след либо одного bз них, либо всех троих вместе — сложившийся образ направил мысль, которая вырабатывалась позднее, как водится — без сознания этих связей своих с ним. Труднее всего было расстаться с очень острыми и талантливыми стилизациями Гейне, который отождествил Новалиса с его туберкулезом. Если верить Гейне, то Новалис, действительно умерший от туберкулеза в 1801 году, как бы нашел себя в этой болезни, нарочно для себя ее заказал. Между тем Новалис сколько мог боролся с нею, и его краткая, переполненная деятельностью, штудиями всякого рода жизнь была» очень мало похожа на покорное умирание, как оно описано у Гейне.
У мемуаристов-современников мы читаем о совсем другом Новалисе — очень светлом, очень веселом, по-моцартовски одаренном, без труда и с удивительной быстротой проникающем в любую область, счастливом и удачливом во всех трудах, которые доводилось ему брать на себя. Он был мастером тех малых форм человеческого общения, теорию которых дзложил в. особом трактате Шлейермахер,
170
форм, получивших развитие в иенском романтическом кругу. Умел быть другом людей по-разному окрашенных — и философа Фридриха Шлегеля, и поэта Тика, и старого Юста, ревностно служившего по горному делу, и даже его старой жены. Был прекрасным собеседником, отлично танцевал на маленьких балах, отлично лазил по горам. Таким образом, в реальном Новалисе почти ничего не остается от анахорета под одинокой звездой, от человека, которого лучше всего рассматривать в сообществе мистиков старых веков, Рейсбрука Удивительного, например, как к этому склоняет нас Метерлинк. В нем жило великое философское спокойствие, им полны его произведения, но в них же присутствует общительность, тихое веселье романтических первооткрытий и романтического энтузиазма.
Невесте Новалиса Софи Кюн историки литературы издавна приписывают очень важную роль и в его духовном развитии и в творчестве. Сам Новалис дал повод к этому. Он не переставал поминать и оплакивать эту девочку, умершую в возрасте пятнадцати лет после неудачно сделанной операции. Очень соблазнительна стилизация: больной Новалис полюбил больную Софи Кюн, по смерти ее не мог расстаться с тенью ее и все лелеял этот призрак. Мы сейчас по собранным документам знаем: Софи Кюн была решительно ничем не примечательна, она была обыкновеннейшее дитя, к тому же воспитанное грубой средой; в доме, где она жила, царило грубое веселье, отчим был настоящий немецкий помещик, за столом велись гусарские разговоры, шутили и развлекались тоже по-гусарски8. Сохранились ее записки к Новалису, не блещущие грамотностью. Она могла пленить Новалиса именно тем, что кажется наиболее странным в истории этой любви, — возрастом. Когда Новалис впервые встретился с нею, ей было только тринадцать. Напрасно биографы ссылаются на тогдашний обычай заключать ранние браки. Над Новалисом имел силу вовсе не обычай, Новалис нашел в Софи Кюн столь ценимую им поэзию «утреннего часа», поэзию младенствующего и первичного. Софи Кюн так мало сознавала еще, что не отдалилась от младенца с раскрытыми провидящими очами, которого уложил в траву Рунге, изображая в своей картине, как начинается утро. Ранняя смерть сохранила в Софи незапятнанность бытом и прозой. Рассуждения о влиянии Софи на Новалиса малоосновательны, потому что Софи сама была созданием этой
171
поэзии, Новалис отметил Софи, избрал ее, потому что она соответствовала законам его поэтического миропонимания, заранее была предопределена к роли героини написанного им прозой и стихами.
Любовь к Софи Кюн подтверждает репутацию Новалиса, романтика, живущего над миром. Есть в его биографии данные совсем иного порядка. Он стремился не только к знаниям, но к знаниям практического свойства. Юст, дивившийся быстроте, с которой Новалис постигал всякую новую для него науку, говорит и о серьезности ученых занятий его9. Новалпс учился основательно, ибо имел в виду практическое применение приобретенных знаний. От ученого слова он хотел идти к жизненному делу. С зимы 1797 года Новалис проходит горные науки в горной академии Фрейберга, слушает знаменитого геолога Абрагама-Готтлоба Вернера, которого под многозначительным именем Учитель вывел позднее в «Учениках в Саисе». Вернер был ученым-практиком, умевшим именно через практику внести в свою науку элементы поэзии. Вернер учил распознаванию ископаемых по внешним признакам, и прежде всего и более всего по цвету. В минералогии Вернера забушевали краски, которыми так скудна была культура XVIII века, — бушевание это вошло в нее не через искусство, но, как ни удивительно, через классификацию явлений, принятую в одной из наук. Думаем, что именно с этой стороны живописной своей минералогии, утонченностью созерцания и наблюдения стал дорог Новалису Вернер. Других сторон в науке Вернера, равнодушия его ко всему концептуальному, его эмпиризма Новалис одобрять не мог. Эмпиризм был приемлем в меру своей утонченности и переутонченностп, компенсировавших недостаток теории10.
После фрейбергской академии начинается практическая работа Новалиса, в некотором роде горного инженера, если пользоваться понятиями, близкими нам. Он связан был с соляными промыслами в Тюрингии, с лета 1799 он асессор в Вайсенфельсе, при солеварнях курфюрста Саксонского. Через год он добивается довольно высокой должности по тюрингенской горно-промышленной округе.
Философ Вильгельм Дильтей, автор известной работы о Новалисе, писал о Германии того времени: «Движению в естественных науках не шли навстречу ни индустрия, ни потребность в открытиях, ни торговый класс, который бы следил за родственным ему в науках элементом»11. Со-
172
всем иное показывает Жорес, более сведущий в делах экономических и социальных, — о Саксонии того времени мы у него читаем: мануфактуры Саксонии процветали, несмотря на бедствия, перенесенные в Семилетнюю войну. К концу века Саксония по части применения машин состязалась с самой Англией12. Новалис был активным участником этих успехов Саксонии.
Новая промышленность внушала Новалпсу многие из самых смелых его философско-утопических идей, так значительна она для него была. Он вынашивал свою философию «магического идеализма», утопию абсолютной власти человека в мире духовном и материальном, Новалис мечтал о беспредельном совершенствовании человеческого тела, о великом переустройстве человека как физиологического существа. По Новалису, человек впал в косность относительно собственной физиологии, заснул, без оснований к тому считая, что с ней покончено, изменений в ней больше не предвидится; на деле же настало время его разбудить. Новалис: «Наше тело, наше человеческое существо спят еще глубоким сном»13, «Наши органы чувств — высшие животные. Из них возникает еще более высокий вид животного существования»14, «Чем одареннее человек, чем больше в нем культуры, тем индивидуальнее его органы, к примеру глаза его, руки, пальцы и т. д. »15, «Есть только один храм в мире, и это человеческое тело. Мы касаемся неба, когда дотрагиваемся до человеческого тела»16, «Человек — это солнце, органы чувств — его планеты»17. К искусству Новалис присматривался еще и с особой точки зрения — старался дать себе отчет, как развиваются через искусство органы чувств — слух через музыку или зрение через живопись18. «До сих пор были у нас только гении в особом роде, но духу нашему надлежит сполна стать гениальным»19. Нужно одухотворить физические чувства человека, нужно дать его органам новую, небывалую восприимчивость, нужно сделать гениальной человеческую физиологию.
Интерес Новалиса к эволюции, к эволютивным способностям человеческих органов не был интересом случайным. О том же писали очень трезвые немецкие тогдашние публицисты, старавшиеся обдумать, что же несет с собою современная индустрия, как она изменяет душу и тело людей. Юстус Мезер обсуждал, какие нужны усилия, чтобы привить ребенку уменье выделывать швейные иглы — это столь же трудная задача, как стоявшая перед Нико-
173
лини, когда тот воспитывал детей для своих акробатических пантомим. Если вы хотите подготовить музыканта, то здесь нужна особая культура слуха, движений пальцев, рук. Современная индустрия тоже по-своему требует виртуозов20. Хорошо известный романтикам Георг Форстер в сочинении 1791 года писал о том, как нелегко обучить крестьян-земледельцев с их грубыми руками прясть тонкую шерсть. Это занятие гораздо доступнее крестьянству, занятому в скотоводстве, выделывающему сыры и масло. Руки у этих ловчее, пальцы сохраняют свою гибкость21. О том, что нужна особая культура работающих рук, что без нее нет ремесла, об этом писал и поздний Гете («Страннические годы Вильгельма Мейстера», III кн., гл. 12). Что у Новалиса может быть принято за фантазии и праздномыслие, то на деле пришло к нему из мира практики, причем какой — производственной, индустриальной в их самых современных формах. По Юстусу Мезеру, по Форстеру, наконец и по второму «Мейстеру» можно точнее судить, о чем реальном шла речь в реальном мире. Хотели подготовить людей, человеческие руки для эксплуатации в ее самоновейшем виде, крестьянина готовили к роли пролетария. В этих фактах нового унижения человека Новалис провидел, однако, возможности его чрезвычайного возвышения. Он возводит в огромную гиперболу эти возможности, блеснувшие ему, гипербола освобождает факты ото всего порочащего их социального контекста, от всего, что контекстом этим и омертвлялось и подавлялось. Таков романтизм у Новалиса: явления жизни рассматриваются под знаком оптимизма их развития, в гиперболе этого развития, пережигающей все дурное и двусмысленное, с чем эти явления сопряжены сегодня и что должно отпасть завтра.
Новалис безвременно скончался в 1801 году, его помянули не одни Шлегели и Тик. Его помянул также горный советник Хойн (Heun): «О, вы не знаете, кого мы в нем потеряли!»22 Советника, сказавшего эти слова, нисколько не касались поэзия и философия, он оплакивал потерю, понесенную саксонскими мануфактурами.
Не надо видеть в Новалисе только астрального поэта, влюбленного в Софи Кюн и ее могилу. Не надо видеть в нем только саксонского солевара. Романтизм Новалиса в объединении и той и другой тенденции, пусть бы оно порой представлялось странностью и парадоксом. Поздний романтик из швабской школы Юстин Кернер, ближе
174
познакомившись с биографией Новалиса, писал другу своему Уланду, что принадлежность Новалиса к соляному ведомству совершенно ужасна («das ist entsetzlich») и что поэтический образ Новалиса для него разрушился23. Кернер придерживался романтизма в его банальнейшем и пустейшем варианте. Романтизм Новалиса был универсален, включая в себя и повседневность, и отвлеченнейшие высокие интересы. Новалис высоко чтил Якоба Бёме и его философию космической жизни, что не препятствовало ему советовать брату Эразму читать Франклина — трезвейшего автора, наставника по части практических бюргерских дел и всяческой житейской прозы24.
А. В. Луначарский был едва ли не первым, кто оценил значение для облика Новалиса связей его с миром материальной практики. С особым смыслом он пменует его «горнодел Гарденберг»25.
Пафос раннего романтизма, как провозглашал это друг Новалиса Фридрих Шлегель, состоял в посюсторонности идеала, высшей жизни хотели на земле и сейчас, хотели ее во всем и повсюду. Поэтому нельзя было пренебрегать земными интересами, необходимо было в них войти, жить ими, вникнуть в них, необходимо было приуготовить материальное тело для духа и смысла романтики, тело, в которое она могла бы вернуться и повести тогда более полное существование, чем в томившей ее отрешенности. Какие-нибудь швабы о полноте жизни уже и не помышляли.
Незаконченная философская повесть «Ученики в Саисе», писавшаяся в 1798—1799 годах, предваряет очень многое в главном произведении Новалиса, в его романе воспитания «Генрих фон Офтердинген»26. В повести темы и интересы совсем иные, она разрабатывает более широкий фон, в который роман воспитания целиком включается, сами же специальные мотивы романа, отдельно взятые, в повести не звучат.
Повесть Новалиса посвящена природе. Ее предмет — природа, как она живет в глубине цивилизации, как и чем с нею обменивается. Нужны были современные Новалпсу исторические сдвиги, чтобы природа стала для мысли и для искусства особым, в той или иной мере обособленным предметом. В классицизме подразумевалось, что природа раз и навсегда подчинилась цивилизации, может существовать и существует только ее попущением и только в формах, тою предписанных. Промышленный переворот в Англии и великая революция во Франции показали,
175
что между цивилизацией и природой ничего не решено навечно, отношения между ними могут меняться, это две величины, находящиеся в процессе друг с другом, а не одна, неразличимо и до конца времен впаянная в другую — природа, впаянная в культуру, как это виделось классикам и просветителям. Массовая трудовая собственность и новая техника труда, шедшие из Франции, из Англии, изменили положение человека в мире природы, природа практически освобождалась от старых форм, навязанных ей цивилизацией, и Новалис вместе с другими романтиками подхватил это дело освобождения, хотел вести его дальше уже обозначившихся пределов, хотел для него небывалого размаха. Человек доселе был чужаком и насильником природе. Нужно было примирить его с нею, сблизить обе стороны, дать им связь любви и взаимопонимания.
В повести очень решительно говорится о проступках и прегрешениях культуры относительно природы, о разрушительных действиях культуры, лишающих природу ее самобытности и своеобразия — свободы. Описан бунт вещей, собранных в естествоведческом музее. Восставшие вещи — предвосхищение тем Э.-Т.-А. Гофмана и Метерлиика. Вещи возмущаются, как варварски с ними поступают, вырывают их из обычных для них связей, не хотят прислушаться к внутренней музыке природы, трактуют вещи, как если бы каждая ничего не знала о каждой другой, не участвовала бы вместе с нею в единой, общей жизни. Само понятие вещи и вещей для романтика предосудительно. Строго говоря, отдельная вещь — ошибка и обман. Воистину есть только единый поток творимой жизни.
В повести слышны философские голоса — это те интерпретации природы, которые Новалис отвергает и сквозь которые нужно прорваться к правде о ней. Уже в древности существовал утилитарный взгляд на природу: природа — гигантская кухня, кладовая, где хранятся припасы. Или же свои тезисы провозглашает злая, агрессивная философия ученого эксперимента, безжалостная к живой природе, — философия пыток и принуждения, направленных на живую жизнь. Надо вести с природой долгую, хорошо обдуманную, истребительную войну, надо применить к ней медленно действующие отравляющие вещества. Кто-то третий в повести, очень похожий по своим воззрениям на Фихте, тоже прокламирует беспощадность в отношении природы на свой особый манер: нужно предъявить к ней этические требования, нужно предоставить
176
разуму всю полноту власти над ней. Общая настроенность повести враждебна этим тезисам в духе Фихте. Поэма Новалиса — апология романтической чувственности, той самой, что была завоевана романтиками вопреки Фихте и против него. В повести сказано: «Мысль — это только сны ощущения, умершее чувство, бледно-серость, потускневшая жизнь»27 Следовательно, нельзя во имя мысли как таковой опровергать ценность ощущений, в которых она же и содержится, но в более живом и богатом виде.
В повесть об учениках в Саисе вставлена история Гиацинта и Розенблютхен. Оба они были юные, жили по соседству через улицу и любили друг друга. Гиацинта обуяла философская тоска, и он вышел на поиски, — хотел найти матерь всех вещей, от встречных узнавал дорогу и пришел наконец в Саис. Он поднял покрывало богини и нашел под покрывалом свою Розенблютхен, которая бросилась к нему в объятия. Такова мировая разгадка. Ответ надо искать в самом близком. Гиацинт пустился в долгое путешествие, а ответ находился в доме напротив, где простаивала по вечерам у окна Розенблютхен. Сама Розенблютхен, любовь между нею и Гиацинтом — это и есть раскрытие мировой тайны. Познание равно Эросу, познание — любовное наитие, проникновение души в познаваемый предмет, слияние с ним. Розенблютхен заняла в Саисе место богини, суть мира — в этой девушке. «Душа мира», по поводу которой философствовал Шеллинг, в повести Новалиса трактуется как девичья, как женская душа, доброта и любовь заложены в мировую основу. Культ женщины и женского начала, установившийся в романтическом кругу как явление быта и обихода, стал со временем одним из романтических принципов миросозерцания.
Сказка о Гиацинте написана с юмором, с грацией, с затеями. По игривости и усиленной наивности своей она предопределяет в будущем манеру Андерсена. Все подробности в ней вызолочены, все смеются, все упрощены, как если бы она была писана для самых маленьких. Задумчивый уединившийся Гиацинт высказывает в лесу перед пернатыми и его другими обитателями свои анахоретские глупости. Белка, мартышка, попугай, снегирь — все старались его развлечь и рассеять. Гусь рассказывал сказки, ручей журчал свою балладу, большой толстый камень выделывал козлиные прыжки. Кошки поглядывали, как Гиацинт и его возлюбленная в вечерний час млеют у своих окон, и хихикали по этому поводу. Когда Гиацинт отправ-
177
ляется на поклон Изиде, у него дружелюбные попутчики — ручей, полчища цветов, которые двинулись по той же дороге. В подробностях своих и отдельными сценами все очень похоже на волшебную комическую оперу или же на шуточную балетную импровизацию, быть может для детского театра сочиненную.
История Гиацинта вставлена в середину повести, и она же эпилог для повести, предполагаемый, заранее подготовленный. Однако в морально-философском отношении общая идиллическая развязка в духе истории Гиацинта еще не близка.
Моральные силы, заложенные в истории Гиацинта, должны совершить долгий путь, прежде чем настанет их торжество, в пути их ждет противодействие социальных институтов, враждебного им образа жпзни, враждебных идей, таких, как воинствующий утилитаризм или рационализм, например. Уже в самом центре, в истории Гиацинта, нам дано предвкушение развязки, повесть имеет сердцевину, которая, разрастаясь в борьбе с чуждыми ей влияниями и направлениями, заполняет духовным своим содержанием всю повесть целиком — от края и до края. Маленькая история Гиацинта пророчит, что будет найдено в большой истории учеников в Саисе, и там появятся идеи женственности, властвующей над миром до познания, которое есть любовь. Повесть Новалиса построена по образцу всего живого: все уже заранее заложено в сердцевине, в эмбрионе, в семени и распускается, борясь с препятствиями, поставленными извне, поборая их внутренней своей энергией. Можно бы говорить об особой биокомпозиции у Новалиса, в его романе тоже все пойдет концентрическими кругами, переходами с малого радиуса на большой: сердцевина романа — сказка Клингзора, но и весь роман-сказка Клингзора, которая по-особому распространяется вширь и по-особому уходит вглубь. Новалис сравнивал работу поэта с актом рождения: «Творить поэзию — это рождать. Всякое поэтическое произведение должно уподобляться живому индивидууму»28. Искусство и содержание свое и форму заимствует у творимой жизни. По ее образцам создается красота в искусстве. Поэт компонует свои произведения как жизни свои, у отдельных элементов и мотивов художественного произведения как бы животно-растительная связь друг с другом, красота предуказана типами и навыками органической жизни.
178
Новалис идет от различений и от еще различений к интеграции и к еще интеграции. В начале повести даны прихотливые поэтические перечни вещей природы: фигуры, начертания, находимые на крыльях птиц, на яичной скорлупе, в облаках, на снегу, в кристаллах и в горных породах, на льду, в расположении железных опилок вокруг магнита. Далее, через страницу, следуют камни, цветы, жуки, морские раковины, люди и животные, кристаллы. Все это говорится по поводу человека, «любившего сводить чужаков друг с другом». В этих перечнях исчезают обычные связи от вещи к вещи, от узоров на льду к вееру из железных опилок прямых переходов нет, нужна особая энергия собирания, чтобы этот рассыпавшийся на отдельные серии и предметы мир возник как целое, нужен постоянный прилив вдохновения жизни к центру, к сердцевине, нужны их постоянные обогащения, если хотят услышать симфонию мира в целом — «die Welt als Symphonie», как выражается Новалис в этой повести. У Новалиса, и так у других ранних романтиков, единство мира питается борьбой с силами разъединения. «Наш дух — это сила, связующая несходное с несходным»29.
В конце повести сказано, где и у кого можно встретить самое глубокое понимание природы: в мастерских художников и у людей материального труда —..у ремесленников, землепашцев, корабельщиков, скотоводов, шахтеров. Практика искусства и практика труда дают нам самое верное, точное и утонченное познание вещей природы, дружбу с ними, любовное к ним отношение — эрос, в истории Гиацинта уже заранее объявленный силой и вдохновением познающих. В иных эпизодах труд и искусство объединяются в одно, — говорится о древних статуях, в которых светится, насколько их созидатели понимали камень («die Steinwelt»), понимали его как обрабатывающие. Этот камень статуй духовно подчиняет себе стоящих перед ним созерцателей, они сами каменеют, и до самого сердца. Обнаженность в статуе камня, из которого она сделана, это и связь с природой, откуда добыли камень, и связь с материальным трудом, с ремеслом, без расчета на которые скульптор не может делать своего дела. Всюду проглядывает любимая мысль Новалиса, что искусство — это внедрение человека в природу и обратное внедрение природы в него, новая изощренность средств человеческого познания.
179
Эпизодами, посвященными искусству и труду, Новалис очень приближается к своему «Офтердпнгену». Роман «Гейнрих фон Офтердинген», тоже оставшийся незаконченным, писался с конца 1799 года30. Первую часть Новалис успел довершить, вторая сохранилась кусками связного текста и в отдельных отрывках, в программных записях; существенны также сообщения Тика, пересказавшего по разговорам с Новалпсом и по оставшимся его бумагам, как предполагалось вести роман в дальнейшем.
Для «Офтердингена» весьма важны соотношения его с «Годами учения Вильгельма Мейстера». Сохранились многочисленные отклики Новалиса на роман Гете. Сначала они были восторженные, потом восторженность гаснет и уступает место малодружелюбной критике и полемике. И все же, вопреки всем инвективам Новалиса, роман о Мейстере имел сильнейшее побудительное значение для него, без «Мейстера» роман Новалиса не родился бы.
«Мейстер» по особенностям замысла был романом весьма оригинальным, без прямых предшественников, но именно эта оригинальность крепчайшим образом связывала его с традициями европейского романа в их самых общих мотивах. Гете понимал проблематику воспитания личности материальнее, чем его старший соревнователь по жанру «романа воспитания» Виланд, автор «Агатона», с которого обыкновенно историю жанра и принято начинать. Тот размышлял о политико-философском воспитании своего героя, Гете начинает с более простых и первоосновных предметов: сперва он хотел выяснить, что будет делать его герой в жизни, и лишь рядом с этим — как и о чем он станет думать. Главный вопрос для Мейстера — выбор профессии. Кажется, Гете первым в мировой литературе дал ход и формулу этой теме. Конечно, во всех прежних романах люди принадлежали каждый к какой-либо профессии, это был один из их неопускаемых признаков, однако до Гете профессия нигде не трактовалась как особая тема, к тому же как первостепенная, включающая в себя решающие интересы жизни. Воспитание личности у Гете в первую голову сводится к поискам, чем же она будет занята, где ее место в жизни — место в системе общественного труда. В европейском романе, который держался интересами и пафосом жизнестроительства, темы общественного труда и профессии как бы предсуществовали, рано или поздно они должны были проявить себя, выйти наружу, как в романе Гете это и случилось.
180
Гете не собирался писать сухие трудовые биографии своих современников, он искал поэтической окраски для своего романа воспитания и нашел поэзию в той относительной свободе, которую мог предоставить своему герою, — это была свобода в ее небогатых размерах, в ее ограничениях, предуказанных официальным обществом. Человек может найти свободу в своей профессии и через нее — в мире труда и культуры, если с профессией его связывает призвание. Нужна живая вода призвания, нужны брызги ее, нужны и самому человеку, и его делу и вещам, на которые дело обращено. В первоначальном варианте роман Гете именовался «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» — призвание, посланничество, миссия — Sendung. Эти понятия как бы прогудели в заглавии. Призвание соединяет самое заветное, что носит в себе человек, с внешним для него миром профессий и работ, через призвание в самом общем может сказать о себе самое личное и оправдать всю ценность своего участия в этом мире общего — «объективного». У Гете люди достигают своих высот и целей собственным своим ростом изнутри, и именно это движение изнутри мы находим как генеральную тенденцию в романе Новалиса. Офтердингену снится голубой цветок, и весь роман стоит под знаком голубого цвета, Новалис хотел всему роману придать некое единое голубое освещение. У себя он отмечал: «Характер колоритов. Все голубое в моем романе»31. «Пусть книга моя, рассказывая о любых событиях, держится на тех же цветовых тонах, напоминает всюду о голубом цветке»32. Символика голубого цветка — символика того же самораскрытия по внутреннему закону, изнутри предопределенного, идущего из глубипы личности, вбирающего в себя все ее содержание. Офтердинген в пещере отшельника видит в книге, написанной на непонятном языке — не то латинском, не то итальянском, — изображения свое собственное и людей, близких ему, видит, что в книгу попали неведомо откуда и знакомые лица, и незнакомые — лица из будущего, вероятно. Эта предрешенность у Новалиса не означает фатализма, нет, это вольный дух Офтердингена: все, что с ним происходило и что произойдет, заложено в нем самом, в заложенном — его предстоящий путь, его поведение. В заложенном — он сам. Свобода у романтиков ведь и состоит в самосуществовании, в следовании своим задаткам и возможностям. Так и Мейстер у Гете — он сам строит, образовывает, воспитывает себя. Нет ничего продиктован-
181
ного другими, по крайней мере на первых, важнейших стадиях, пройденных им.
Свои жизненные цели Мейстер находит, вырабатывает заранее, он не знает, к чему он призван в жизни. Призвание, оно же свобода, следовательно, и путь к призванию должен быть свободный путь. Ошибки Мейстера не в том, что он знает правило и сбивается от него в сторону. В ошибках скрывается его искание истины, она приходит через ошибки, отсюда и теория аббата, что пусть будет позволено ошибаться до конца, тогда мы и будем приведены к настоящему решению. Подлинную свою любовь Мейстер тоже находит не сразу. Натали оказалась ею; Марианна, Филина, графиня, Миньон, Тереза — все они только поиски Натали, разные степени приближения к ней. Самое сильное чувство до встречи с Натали — прелестная графиня. Со временем узнается, что графиня — родная сестра Натали, поэтому она и была для Мейстера последним самым близким приближением к ней. У Гете ничто не рисуется сразу, все только вырисовывается: человек, его призвание, чувства тоже. При всех разногласиях романтиков с Гете они разрабатывают тот же принцип: писать по законам самой жизни, вести рассказ, как она сама ведется, шаг за шагом, волна за волной, по внутренним, медлительно открывающимся мотивам, сначала глухим, темным, даже загадочным и только после многих опытов яснеющим.
Роман Новалиса весь находится под властью лирической стихии, как это будет в романах и других романтиков. У Гете начало всему положено человеком, уже вошедшим, хотя и неотчетливо, в область характера и формы. Новалис трактует своего героя, начиная с самого смутного периода, когда все в нем есть лирическая душа и ничто еще не получило даже самых приблизительных характерных очертаний, не очерствело в них. Офтердинген, сновидец и мечтатель, весь открытый впечатлениям, наплывающим на него, исподволь его воспитующим. Если рассматривать роман воспитания как филогенез, представленный через онтогенез, как историю всех, историю рода, повторенную, заново воспроизведенную через историю кого-то одного-единственного, то произведение Новалиса, подтверждающее такой способ рассмотрения, в то же время полно всяческого своеобразия. Узел всего в последовательно лирической интерпретации главного лица. История Офтердингена — история того, как вступает в мир новая,
182
еще не бывшая в нем душа и как мир проходит сквозь эту душу, как он ласково ее воспитывает: душа лирична, и мир тоже лиричен в своем способе обращаться с нею. Мир, окружающий нового пришельца, — это мир филогенеза, мир в итогах родового развития, каковы они на сегодняшний день, обретшие личину и притязания догматов, вещей непререкаемых. Догмат не способен выдержать очную ставку с лирической душой, он вынужден уступить ей, уподобиться ей, пойти навстречу ее требованиям. Душа есть движение, изменчивость, индивидуальность, душа есть жнзнь как таковая. Догмат, вещь — и то, и другое — безличие и смерть. Лицом к лицу с догматом, с вещью, она воскрешает в них жизнь, если та когда-либо в них была и остановилась. Новая душа, еще всецело верная своей природе, вселяясь в мир, будит его, возвращает его к богатству внутреннего движения. Романтики верили в революционизирующую роль человеческой души. Душа для них была первоисточником и хранительницей всего живого, неповторимого, всякой творящей силы. Пусть перед ней лежит мир каменный, как камень Гром, она и его одолеет. Поэтому таким жестоким парадоксом прозвучало название одной из великих книг европейской романтической эпохи — «Мертвые души». Вероятно, традиция прав души и душевности у Новалиса восходит к реформации, к раннему протестантизму, в особенности к пиетизму отцовского дома, где по крайней мере в принципе тоже исповедовалось противостояние индивидуальной души миру в его всеобщности, в его авторитарности, где испрашивалась в отношении всего ее санкция, где писание должно было пройти сквозь личное восприятие и каждый овладевал текстами не через церковь, а собственным усилием и пониманием. Лютер, собственно, лишил догматы значения, но так как догматы все же сохранили силу, то в этом ложь его реформы. Протестантизм и протестантские секты цавно утратили к XVIII веку связь с живыми тенденциями истории, если она была у них когда-либо. Ко времени Новалиса здесь установилось сплошное царство духовного насилия и скуки — одного из худших видов насилия. Если в поэзию Новалиса и замешан пиетизм, то в самом претворенном образе его и в великом удалении от первоисточников, как это было и с идеями мировой женственности, также весьма отодвинувшимися от первоисточника своего, от жеиского бытового мира, от жен и невест, встречавшихся Новалису в бюргерских и дворянских домах.
183
В романе Новалиса трактуется глубоко-первичная эпоха в истории Германии, XVIII век, когда заложены были начала немецкой национальной культуры в ее современном виде и появились еще туманные, первые зачаточные намеки на культуру Возрождения. По Новалису, чем глубже мы погружаемся в первичное, тем ближе мы к будущему. В первичном лежит вся полнота времен, следовательно, и будущее самое отдаленное тоже там лежит. Роман Новалиса и созерцание давно минувшего и угадывание того, что предстоит, причем н то и другое связаны.
Роман воспитания сам по себе полон музыки становления. Герой романа образуется, и мир для него тоже образуется впервые. Хаос снова жив и присутствует за каждым явлением мира, в тылу вещей, казалось бы незыблемо установившихся. Разлитая по всему роману лирика свидетельствует о впавшей в активность первостихии, которую в повести об учениках в Саисе Новалис уподоблял первозданной влаге, как трактовал ее Фалес, ионический философ.
Движение, обретенное миром, когда к миру приблизился новый человек, Гейнрих фон Офтердинген, предвосхищает общее его движение, эпохальное, начинающееся где-то в XVI столетии. Обновление, как оно намечается в пределах личной биографии, позволяет предугадать великое обновление национального и сверхнацнонального порядка. Взятое и выраженное несравненно скромнее, нечто похожее есть и у Гете. В «Театральном призвании Вильгельма Мейстера» — первом варианте «Ученических годов» — духовная биография героя представлена на фоне событий, происходивших в немецкой национальной культуре XVIII века. Мейстер косвенный, незаметный участник созидаемого тогда впервые нехмецкого национального театра33, Гете касается ие всей немецкой культуры, но ограничивает себя одной лишь отраслью.
Офтердинген — историческое имя, миннезингер, о котором кроме имени известно только, что он, по легенде, участвовал в состязании певцов в Вартбурге. Новалис избрал героя, с которым он вступал в область исторической жизни, ничем себя не связывая в ней34.
Роман Новалиса полон лирических песен, по песне на каждого героя, — крестоносцы поют свою, женщина с Востока — свою, есть песня у певца в атлантической сказке, есть две песни у рудокопа, Клингзор поет хвалу вину. Есть песни и в «Мейстере» Гете. Там они вставные номе-
184
ра, одни их исполняют, другие слушают. У Новалиса поющий не артист, не исполнитель, спетая им песня — это он сам, он поет и превращается в песню, песня — его лирическая душа, его лирическая сущность, песня чуть ли не отменяет его в качестве персонажа, после песни нет особой надобности в его личном присутствии, песня его всего вместила, она же и заместила его. Так как песня дана каждому, то через песни перекликаются друг с другом, роднятся, в известном смысле отождествляются друг с другом. В одном из фрагментов Новалиса сказано: «Лирическое стихотворение — хор в драме жизни, или — мира. Лирические поэты — хор, который очаровывает и в котором смешались юность и старость, уменье радоваться, уменье принимать участие во всем происходящем и уменье быть мудрым»35. Отдельные песни в романе Новалиса спеваются в общий хор, под звучания которого качаются выведенные в романе фигуры и рассказанные в нем эпизоды. Общая стихия жизни, — «музыка», как ее именовали романтики, — сквозь песни, как сквозь окна, заглядывает в роман. Надо писательствовать, как если бы ты был композитором, — говорится в одном из фрагментов НовалисаЗ6. Поэт Клингзор наставляет своего ученика Офтердингена: хаос в каждом поэтическом произведении должен просвечивать сквозь покровы правильности и порядка37. В романе Новалиса мы и наблюдаем, как по временам, то здесь, то там просвечивает хаос.
Новалис постоянно прибегает к симплификации — так назвал бы я его методу. Он устраняет все, что усложняло мир и жизнь, все привычные опосредствования. Остаются одни простые или даже простейшие величины, простейшим образом примыкающие друг к другу. В слоге своего романа Новалис держится образцов речевого примитива, упрощенного синтаксиса, следует манере, которою сказываются сказки: Гейне, чтобы воссоздать общее впечатление, оставляемое прозой Новалиса, прицитировал подряд первые абзацы романа, — в сущности, первые попавшиеся строки, ибо дело не в том или ином эпизоде, в той или иной странице или строке, а в свойствах, присущих подряд всей стилистике «Офтердингена». Упрощенная речь сообщает всему содержанию романа некую преднамеренную стилизованную простоту, она погружает весь роман в атмосферу этой простоты, на простоту настраивает, к простоте готовит. У Новалиса расцеплены явления и предметы, еще недавно трудно и условно соединявшиеся одни с
185
другими. В этом новом своем образе мир не исключает перемен и трансформаций. Прежние сцепления больше не принудительны. Законы и правила заведомо пошатнулись. Мир потерял свою недавнюю застылость и приблизился к творческому состоянию. В романе Новалиса растаяли бытовые условности и барьеры. Люди легко знакомятся друг с другом, не задумываясь входят в чужие дома, где их отлично встречают, — кажется, что все дома стоят открытыми, люди легко сближаются, приятельствуют, роднятся, Офтердинген с удивительной быстротой сделался вхож в дом Клингзора и стал женихом его дочери. Одно из выражений симплификации — доступность того, что по статусу быта вовсе не является доступным. Более обобщенное ее выражение в том, что повсюду заговорили элементы, и отдельные явления больше не хотят строиться, как это им предписывают законы порядка и иерархии. Элементарное отныне хочет быть заметным, сознает свое значение и теснит те силы жизни, что еще недавно закрывали собою всё, кого угодно и что угодно подчиняли себе и превращали в незначащие величины. В атлантической сказке описано, как молодой поэт и ученый, живущий уединенно в стороне от столицы, принимает у себя в доме заблудившуюся в лесу красавицу принцессу и приносит ей кувшин с молоком. В этом эпизоде — поэт, принцесса и глиняный кувшин между ними, кувшин, вдвинувшийся в среду, где замечать его не принято. На состязании певцов присутствует король, перед королем певец и принцесса, пришедшая неузнанной, принцесса держит на руках ребенка, дитя, родившееся у нее от певца. Внимание сосредоточено не на блестящем сборище вокруг трона, а на никем не знаемом младенце, над которым зареял орел — королевский любимец. Орел опускается и надевает на локоны младенца золотую повязку. Младенец, натуральное существо, стал центром парадной картины, заполненной персонажами, далекими от всякой натуральности, и орел коронует именно его, ничем не украшенного, пребывающего во всей бедности естества.
Офтердинген — сын плотника. Волшебные сны снятся ему под утро среди отцовских стружек, под звук уже работающей с утра отцовской пилы. Новалис не боится соседства сна о голубом цветке и всей поэзии его с бытом честного ремесленника и с самим ремеслом. Как все романтики, он не сомневался в родстве труда материального с трудом духовным, с искусством и поэзией. Материаль-
186
ный труд растворился в явлениях духовного творчества. Симплификация у Новалиса в том и состоит, что прежде поглощенные простые и простейшие величины опять выходят на волю и ничто не препятствует их участию в новых, более высоких, соединениях, новых сравнительно с теми, в которых они участвовали еще недавно.
Восемнадцатый век «Офтердингена» был временем городов, достаточно развитой торговли и денежного оборота, ремесла во многих его высоких отраслях. Такова область итогов и сложившихся форм. Все это не получает места в романе, дано иное: пути и процессы, приводившие к итогам, а заодно и все побочные обстоятельства, о которых слова неизвестно, важны они или неважны, побочное и главное существуют наравне, главное еще не отобрано. Сквозь историю Офтердингена история его среды пройдена заново. Такая метода рассказывания очень близка симплификации, порою почти сливается с нею. Новалис отодвигает итоги, и тем самым величины, позднее в них вошедшие и ими погашенные, приобретают свободу движения, одна за другою пробуждаются подавленные возможности. Жизнь в ее прозаических бюргерских формах и итогах вовсе не была прозаична на всем своем течении, которое им предшествовало.
Офтердинген ведет в дороге разговоры с купцами. Цель и смысл купечества — барыш. Но купцы говорят совсем не о барышах. От купцов Новалиса веет духом народной книги о Фортунате и о его сыновьях. Они прежде всего прочего люди бывалые, люди дальних странствий и волшебных авантюр, в их прозаическом деле есть своя примесь поэзии, что такое поэт и поэзия — Офтердинген узнает впервые из атлантической сказки, услышанной им от нпх. Гаманн, один из предшественников романтизма, говорил, что в обмене может содержаться поэзия, в торговле уже нет ее. В обмен прямо входят живые потребности, качества вещей, он связан с конкретным человеком. Торговля ото всего этого отрывается, превращает в абстракции и потребности, и вещи, и самого человека. Так и у Новалиса. Его купцы, собственно, не торговцы, а пособники обмена, который совершается между людьми и в который вовлечены сохраняющие свою качественную природу вещи. Подоснова торговли еще близка к поэзии, сама же торговля поэзии враждебна. Явление поэтично, художественно, покамест не получило законченности, покамест оно всего лишь подходит к ней.
187
В пятой главе старый рудокоп говорит о золоте, которое ему доводилось добывать в своей шахте: золоту стали оказывать почет, когда оно засияло на коронах королей, на утвари и на реликвиях, когда из него стали изготовлять монеты, украшенные изображениями, высоко ценимые, бережно хранимые, добившиеся власти над миром и руководства им. Деньги в описании Новалиса стали почти неузнаваемы. В этом описании почти изъята их едкая прозаическая функция, то, что на них продают и покупают, оставлено в тени, монеты едва ли не описаны как безобиднейшие медали, ценимые за художественную чеканку.
Рассказ о работе рудников ведется так, как если бы к ней не имели никакого отношения предпринимательство и торговля. Рассказано, чем были произведения горной промышленности, какой путь они проходили до того, как становились товарами. Созидание рассказано, окончательная социальная форма, придаваемая ему, в рассказе устранена.
Пятая глава со старым рудокопом поражала уже современников Новалиса. Именовавший Новалиса поэтическим нигилистом, по причине абстрактности и воздушности писаний его, Жан-Поль Рихтер хвалил пятую главу, ибо в ней присутствовали осязаемые вещи39. Затронут был материальный мир, мало того — Новалис умел дать ему поэтическое освещение, захватив черный материальный труд на тех его стадиях, когда он еще не черен, но прекрасен, когда он творчество и рынок еще не успел спрофанировать его.
В той же пятой главе находим решительное высказывание против частной собственности: «Природа не желает превращаться в исключительную собственность кого-то одного-единствеииого»40. Далее частная собственность названа ядом, который губит. Первое условие поэзии труда — опустить скобки частной собственности, в которые заключили труд.
В романе Новалиса велико значение диалогов не деловых, не бытовых, но философских41. Все персонажи судят, обобщают, нечто проповедуют и исповедуют. Можно бы считать, что в романе один симпозиум в духе платоновских меняется другим в том же духе, и столы, поставленные для философских трапез, никогда не убираются. У Гете в «Мейстере» тоже немало диалогов, но у реалиста Гете диалоги даны как бы в интерлюдиях фабулы, ведутся разговоры о бюргерстве и о дворянстве, о современном
188
театре и о Шекспире, но тем временем отдельно от них актеры готовят свои спектакли, Мелина или Серло заняты своим театральным бизнесом, затеваются любовные интриги, стучат по ступенькам каблучки Филины, как от огня бегущей от всяких мудрствований. У Гете диалоги часть живого быта, и далеко не важнейшая. Главное для Гете — дела и поведение людей, их нравы и обычаи. У Новалиса нет даже простого равноправия речей и дел, речи первенствуют. Более того — люди и их дела видны по премуществу сквозь речи, которыми они обмениваются, сквозь их диалоги, у Новалиса все философствуют — купцы, женщина с Востока, старик рудокоп, старик отшельник в своей пещере, поэт Клингзор. Новалис сам, планируя свои будущие романы, заранее делает расчет на диалоги. У него есть запись, где одеа за другой названы темы задуманных романов, а все завершается наказом, который автор обращает к самому себе: «Очень много разговоров в романе»42.
Философские диалоги у Новалиса — орудие развоплощения, действующее с не меньшей верностью, чем лирическая поэтика романа и поэтика симплификации. «Поэзия растворяет чуждое бытие в своем собственном», — писал Новалис43. Философский диалог, по Новалису, тоже великий растворитель. По его определению, философствовать — все равно что выводить предмет из флегмы и придавать ему силу жизни44. По другому определению Новалиса: философствовать — это превращать предмет в эфирное тело, одухотворять его, делать легче воздуха45. В романе Новалиса персонажи почти ничего не сообщают о самих себе и о своих личных делах. Они преподносят самих себя в заранее обобщенном образе. Женщина с Востока, жертва и пленница крестоносцев, вместо того чтобы рассказывать собственную свою историю, осуждает войну и проповедует мир, она растворяет себя, свою личность в философствовании о войне и мире. Старый рудокоп очень наглядно рассказывает о своих шахтах и о добывании благородных металлов, но наглядность эта все-таки притушена, ибо весь рассказ проходит сквозь среду рассуждений о том, что такое труд под землей и чего он требует от человека. Каждый персонаж у Новалиса еще заодно и мыслитель, что входит в стиль персонажа, пополняет и завершает стиль, в котором персонаж написан. Если сравнивать способ общаться у персонажей Новалиса с симпозиумом у Платона, то вот еще другое срав-
189
нение, тоже заимствованное из древнего мира: сами персонажи похожи на изображения людей в древнем Египте с насаженными на их плечи преувеличенными головами. У персонажей Новалиса слишком много головы, избытка духовности, способности к слову соотносительно с обыденностью.
Люди, вещи, события, освещенные философским стилем, теряют упорство и упрямство, догматичность, свойственные экземплярам, индивидуумам, отдельно взятым, в той или иной степени пребывающим в изоляции. В философски обобщенном образе своем они становятся только узловыми пунктами, стоят на переходе от одной стадии развития к другой. В обобщенном образе расплавились индивидуальные явления прошлого и настоящего, в этом расплаве так же содержится индивидуализированный мир, каким он будет выглядеть завтра. Философский стиль способствует плавкости и ковкости мира реальностей, он придает им качества, превыше всего ценимые романтиком Новалисом. Новалис говорит о превращении реальностей в тела эфирные и воздушные, то есть в податливые на изменения, не замкпутые в навсегда им предуказанный контур.
Офтердинген, герой Новалиса, хочет найти свое призвание и утвердиться в нем. Все встречные — это люди разных занятий, он беседует с ними, допытывается, что они обрели в недрах своей профессии, как и почему веруют в нее, а веруют они все, ибо они люди призванные. Офтердинген вступает в среду профессий и призваний, поучительную для него. Купцы — это призвание, горнорабочий — тоже, отшельник по призванию ученый, историк, философ, крестоносцы — призванные воины, Клингзор — поэт, певец. Новалис открывает свою поэзию в каждой профессии, будет ли это солдат, купец или рудокоп. Между всеми человеческими занятиями есть перекличка, все они крест-накрест соответствуют друг другу. По поводу речей рудокопа можно было бы сказать, что они объясняют поэтику горного ремесла, а речи поэта Клингзора объясняют, в чем состоит ремесло поэта. Лампочка, с какой рудокоп спускается в шахты, является и простым оптическим образом и символом — спуск в шахту — это и движение познания в глубину природы, рудничная лампа — свет исследующей мысли. Практическое действие по совместительству также и духовный акт, поэзия духовной жизни. Когда же изображается поэт Клингзор, то не за-
190
быты аксессуары старинных цехов, ибо поэты тоже образуют цех по-своему. Сам Клннгзор, гений и волшебник, заодно и цеховой мастер, а его отношения к Офтердингену имитируют заурядные отношения между мастером и подмастерьем. Женитьба Офтердингена на Матильде — типовое явление в быту цехов: самый лучший из подмастерьев получает в жены дочь мастера, как если бы то была награда, заслуженная им, и мастер находит в нем своего прямого наследника. В новелле Э.-Т.-А. Гофмана «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» все строится именно на этих мотивах состязания подмастерьев вокруг дочери мастера, с той разницей, что мастер Мартин — бочар, а у Новалиса Клингзор — поэт и певец. Знаменательно, однако, что оба эти персонажа параллельны друг другу по роли и положению. Офтердинген, будущий поэт, собственно, и не должен остановиться на какой-то одной из профессий, присмотревшись к каждой; ему положено все профессии и призвания вобрать в себя, ибо, по представлениям Новалиса, все сливаются в одно в призвании поэта. Какая-то своя, частная поэзия присуща всякой профессии в отдельности, и это всего лишь первоматериал для профессии поэта, универсальнейшей и всесодержащей. По Новалису, поэт — главное лицо среди действующих на всех поприщах, он ведет за собой целую армию, должен познать все виды оружия, которыми она пользуется, воспитать себя для роли предводителя или же, если сравнить его с дирижером — с капельмейстером, как сказал бы сам Новалис, то с таким, который знает, как обращаться со всеми инструментами своего оркестра.
У мира в целом есть своя единая задача, как полагает Новалис, и ради нее подняты все труды человечества.
Роман об Офтердингене строится подобно повести об учениках в Сайсе. В средоточии романа мы находим сказку Клингзора46, по назначению своему сходную с историей Гиацинта. Сказка Клингзора содержит смысл всего романа в сжатом виде. По сказке Клингзора видно, чем и как должен был закончиться этот недоделанный роман. Сказка Клингзора в кратком виде развивает все смысловые мотивы романа и предвосхищает их развязку. Роман растет из сказки Клингзора, идет «путем зерна». Тут та же биокомпозиция, что и в «Учениках в Саисе», как говорилось уже.
Сказка Клингзора даже по своему жанру обладает предуказующим значением. Она указывает, как и во что
191
переродится роман Новалиса в жанровом отношении: он станет романом-сказкой. Сказка Клингзора прокламирует войну с поэтически бесплодным современным миром и возвращение к миру чудес. Мир как таковой нужно превратить в страну чудес — в Джинистан, и только сказка способна охватить его в этом образе. У Новалиса записано в качестве конечного пункта программы: регенерация — возрождение рая. К этому и зовет сказка Клингзора.
В сказке Клингзора спасут мир Эрос и Фабель — басня, поэтический вымысел. Они разбудят Фрейю, душу мира, и растопят ледяное царство Арктура. Царство Арктура — это всеобщая злая околдованность. Перед королевским дворцом застыл фонтан, вокруг льды и холод, владычество материи в ее оцепенении. Кончается самозванное царение Писца, персонажа под аллегорическим знаком. Писец — это человек счета и учета, беспощадного рационализма, он формалист, законник, бюрократ по природе и по корням своим. Свержение Писца — конец гнета, начало свободы. Героиня сказки Клингзора носит имя Джинистан. Райская страна тоже называется Джинистан — женским именем. Как в философской повести Новалиса, так и в романе мир идет к сказке, к торжеству женского начала. В сказке Клингзора душа мира Фрейя, у мира женская душа.
Если мировая жизнь направлена к сказке, то последовательность требует, чтобы людей вел за собою поэт. Отсюда и высота, на какую Новалис поставил поэта, и отсюда его упреки Гете, в чьем романе искусству и художникам предоставлена весьма скромная роль. Новалис, столь восхищавшийся вначале «Мейстером», со временем стал называть роман Кандидом, направленным против поэзии47. Гете разрушил поэзию, как Вольтер в «Кандиде» — философию оптимизма.
Как в философской повести, так и в романе Новалиса счастливая развязка предвидится в немалом отдалении. На земле имеют силу зло и тьма, и против них люди должны вести долгую борьбу, в которой поэзия будет воодушевлять их. Сама природа, по Новалису, больна и темна. Нужно врачевать ее, нужно воспитывать ее. «Воспитание земли» намечено в одном из фрагментов — Bildung der Erde48. Человека воспитывают с тем, чтобы он и сам стал воспитателем — занял место среди воспитателей земли. Воспитание личности, по Новалису, предусматривает, что
192
личность, пройдя его, свободно, как указывает ей призвание, присоединится к вековой традиции «воспитания земли», коллективного труда человечества, обращенного на землю, на богатства природы, на строительство культуры средствами, добытыми из этого богатства. «Нужно всю сушу рассматривать как поместье и брать уроки у экономической науки»49. В набросках к «Ученикам в Саисе» дважды записана тема: «мессия природы»50. «Человек — мессия природы» — таков афоризм, взятый из фрагментов51. По сохранившимся страницам второй части романа, задуманной Новалисом и как целое оставшейся ненаписанной, такова последняя и высшая роль Офтердингена: ему суждено быть мессией природы, избавляющим от зла, вошедшего в нее. Сын плотника воспитывается как поэт, а затем призвание его растет, поэт становится пророком, магом, спасителем огрубевшего, забывшего о духовности человеческого мира. Время от времени в роман прорываются мотивы впавшего в ночь, одичавшего естества, встречаются в романе строки — предвестники памятного нам по Баратынскому, который произведений Новалиса не знал, и по Тютчеву, который, несомненно, знал их. Баратынский: «Дикая порфира древних лет» — как бы обобщенная поэтическая формула для строк романа о древнейшем периоде земли, по которой ходили свирепые звери и люди, что были лучше их52, о древнейшем господстве ненависти и варварства53. В текстах Новалиса есть несколько близких соответствий стихотворениям Тютчева. Стихотворение «О чем ты воешь, ветр ночной», — строка «Про древний хаос про родимый»... Параллельное этому у Новалиса о грозах в природе сегодняшнего дня, о землетрясениях, как о слабых отголосках ужасающих родовых мук в первозданной природе54. Или же в черновиках второй части «Офтердингена» тютчевские слова (для нас тютчевские) «ужасы древней ночи» («alle Schrecken der alter Nacht»)55. У Новалиса вслед за этим идет речь о небе, которое, кажется, больше никогда не просветлеет, об уничтоженной лазури, о тусклом медно-красном цвете на черно-сером фоне. Сквозь это, говорится в романе, иной раз просверкают губительные лучи, и с злобным смехом прокатывается гром... Упомянуты ад с его страхами, власть, которую получили над нами злые духи. Все это названо у Новалиса пережитком древней, до человеческого существования, природы56. Три стихотворения Тютчева звучат для нас в этом отрывке: «День и ночь», строка:
193
«И бездна нам обнажена с своими страхами и снами» — это во-первых, во-вторых «Не остывшая от зною», и, в-третьих, «Ночное небо так угрюмо», — строка о демонах глухонемых здесь всего важнее. Когда мы встречаем совпадения, иногда поразительные, у Тютчева с Новалисом, то нельзя все же спешить с выводами. Тютчев — поэт слишком сильный и самостоятельный, чтобы допустить в этих случаях простые заимствования. Нужно бы вообще пореже говорить о заимствованиях и влияниях. Объяснения такого рода всегда унизительны для влияемой стороны. Нас заставляют думать, что один поэт находится в подчинении у другого. На деле же совпадения и сходства только свидетельство, что оба поэта подчиняются третьей силе, большей, чем они оба, — общей для них поэтической культуре. Совпадения не более как признак этой сопринадлежности, один поэт может входить в общую культуру через другого, но проводник поэта не есть владыка над ним. Переклички Тютчева с Новалисом или с каким-либо иным из деятелей западного романтизма говорят только о том, что те или иные черты в Тютчеве не случайны, что русский поэт — активнейший участник великой всемирной культуры романтизма.
Темные силы космоса у Новалиса — отзвуки концепций Якоба Бёме, которым он был увлечен. Якоб Бёме учил, что абсолютный дух ради самосознания вызывает к жизни свой противообраз — материальную природу. Противообраз отпадает от праобраза, от духовных сил, ведет самостоятельное существование, и оно-то и является первоисточником зла, воцарившегося на земле. До этого пункта, до идеи отпавшей природы и следовали за Бёме романтические натуралисты, метафизики мирового зла. Натурализм укрепился в романтической среде уже после Новалиса, сам Новалис не был ему подвластен. Он активно воспринял и дальнейшие положения Якоба Бёме, к которым натуралисты были равнодушны. Бёме учил, что отпадение природы — акт временный и мир снова соберемся воедино. Роман Новалиса предвидит этот выход из состояния ада и тьмы, отпавшая природа, как видим, ждет своего мессию.
Офтердинген призван одолеть «ночные стороны» природы («Nachtseiten der Natur»), как их стали называть в последующем поколении романтиков. Ночные стороны — борьба, дисгармония, владычество непонятных сил, человеческие страдания, болезни и смерть. В философской по-
194
вести Новалиса содержится сентенция: природа — мельница смерти. Борьба со смертью должна была оказаться преобладающим содержанием второй части романа. Романтический максимализм Новалиса не довольствовался реформами социальных отношений, глубокими изменениями в культуре, он требовал радикальных перемен космического и биологического характера. Ради этих перемен и был призван в мир мессия природы. Во вторую часть романа вошли на активных ролях идеи «магического идеализма», как Новалис именовал его, философского учения, которое Новалис развивал в своих фрагментах самостоятельно. Пафос магического идеализма — полное, безоговорочное человековластие в мире. Из фрагментов Новалиса: «все непроизвольное нужно обратить в произвольное»57. «Мы одновременно находимся внутри природы и вне ее»58. Этот афоризм особо знаменателен. Находиться вне природы — значит управлять ею, неограниченно распоряжаться ею, как того хотел для человеческого «я» Фихте в своих наукоучениях. Новалис надеялся соединить Фихте с Шеллингом: власть над природой он хотел бы соединить с преданностью природе, с любовью и нежностью, с самым дружественным пребыванием в ее среде. Более того — власть должна была следовать из любви, не являясь деспотизмом, как у Фихте, а возникая из проникновенного познания, из соучастия в жизни природы и из всей полноты сочувствия к ней. К этому у Новалиса и сводилось совмещение позиции изнутри с позицией извне. Опять-таки предание себя стихийному, непроизвольному должно было служить предпосылкой для подчинения его нашей власти и произволу.
А. В. Луначарский пишет: «Новалис вырабатывает свою образную философию, которую называет ”магическим идеализмом“. При всей удаленности ее от нашего научного материализма, надо отметить в ней такие черты, как огромную любовь к природе, стремление ее постичь и покорить. Горнодел Гарденберг сказывается в этом стремлении окунуться в тайны природы, которые он считает, однако, нисколько не недоступными уму человека, познать силы природы, которые он считает созданными для того, чтобы служить познавшему себя человеку. Если в его философию часто вкрапливается богословие, даже христианские мысли, то неизменно он возвращается от них к пантеизму в духе Спинозы, с прибавкой признания
195
огромной роли, которую в мире играют мысли и воля человека»59.
Во второй части романа развертывается мир, где торжествуют сказка, сверхутопия, магический идеализм, мир по ту сторону смерти — смерть побеждена, и представлены странные, малопонятные утренние сумерки иного царства. Здесь даны концы всех вещей и того, что, по Новалису, приходит после концов. В ином царстве даны разгадки многих загадок реального мира. Символическое, идущее из обыкновенного мира, в этом сверхмире расшифровывается, и притом неожиданно наглядным способом.
Для Новалиса общественное родовое «я» человека не менее могучий источник поэзии, чем личное «я», нередко ослабленное своими извивами и причудами. Связь Гейнриха с родовой жизнью, с традицией общества, с чужим сознанием нередко дана как платоновское «воспоминание». Гейнрих не узнает новые для него вещи, но «помнит» их, в его личном сознании их не было, но помнит он их сознанием родовым, где они всегда присутствовали. Платоновский «анамнесис» становится у Новалиса художественным образом, способом осязаемо передать неосязаемые внутренние отношения. Точно так же мотив палингенезиса, вторичного рождения, должен служить целях художественной осязаемости и зримости. Уже в первом вещем сне Гейнриху снится, что он умирал и снова возвращается к жизни; это значит, что жизнь, которую он ведет, уже не первая, он явился в мир из глубины родовой жизни, от которой никому не дано окончательно отделиться, если бы даже хотеть этого. Когда Гейнрих говорит, что у него отец в Эйзенахе, ему отвечают в ином царстве: у тебя много родителей60. Это опять-таки физический образ, через который рисуются незримые родовые связи. Общая жизнь людей передана также мотивом превращения. Матильда — она же Циана, она же Восточная женщина. Матильда — умершая жена Офтердингена, дочь Клингзора. По Новалису, любовь — общение, породнение не только с тем, кого любишь, но через него и со множеством других. Гейнрих энтузиастически любил Матильду, через нее, косвенно, он был связан с многими женщинами. Эти подразумеваемые женщины в ином царстве выходят на свет одна за другой, символика реализуется, расшифровывается, разменивается на отдельные образы, в обыкновенной жизни сжатые в одни. В наброске ко второй части есть и такая запись: «триединая девушка» — «dreieiniges Mäd-
196
chen»61. Этот образ нужен Новалису, чтобы ознаменовать женское существо, которое живет не одной своей узкой, отдельной жизнью. Единство личности не исключает плюрализма внутри нее. Если угодно, Матильда, она же Циана, она же Восточная женщина, и может быть принята за эту триединую. В тех же набросках ко второй части: «Деления единой индивидуальности на множество лиц»62.
Превращения объединяют мир человеческий с миром природы. Гейнрих в приступе скорби, вторично потеряв Матильду, превращается в камень, потом в звенящее дерево, потом в позолоченного барашка, которого приносят в жертву, и тогда он снова человек. Камень, дерево, барашек — все это выпущенные наружу образы природы, сошедшиеся в одном человеческом образе, сошедшиеся до неразличимости и различимые сейчас. В сообщении, которое сделал Тик о том, что ему было известно по второй части «Офтердингена», заметное место занимает странная и дикая песня, которую хором поют мертвецы и которая разносится из могил по всему кладбищу. Песня эта задумана как свидетельство победы над смертью. Мертвецы поют, как счастливы и довольны они в своих могилах, какое у них сладкое и пиршественное существование. Гейнрих является в иное царство как воскреситель мертвых. В романе Новалиса есть некоторые черты сходства с своеобразным философствованием Николая Федоровича Федорова, у которого тоже в великую картину общечеловеческого труда над матерью-землей включено безумное учение о воскрешении мертвых и политическая экономия мешается с мистикой загробной жизни. Офтердинген упраздняет смерть, изгоняет из мира страхи и страдания, нужду и зло. Он совершает переворот, изменяющий весь мировой климат: упраздняет смену времен года, все они бракосочетаются друг с другом, и он разрушает солнечное царство. Иначе говоря, он упраздняет время, избавляет мир от власти времени. Против желания Новалиса вневременность и бессмертие не кажутся в его романе завидным приобретением для человечества. Упразднить время и даровать бессмертие — то же самое, что отнять у жизни жизнь, лишить жизнь ее активности, остроты, характерности и энергии. Вневременность — снятие у жизни границ, после чего она теряет способность сосредоточиваться, усиливаться в тех или иных своих точках, впадает в бесформенность и посредственность. Недаром все лица второй части романа ходят не спеша,
197
становятся вялыми, тенеобразными существами, бескровными и бесталанными. Что Новалису кажется радостью бессмертья, то на деле есть не что иное, как повторная смерть и вторичное умерщвление. Новалис хотел завершить свой роман сказкой бессмертия — получилась зимняя сказка бессмертия. XVIII век любил счастливые окончания в романах. Новалис своему роману придал сверхокончание и сверхсчастливое, как он полагал. Он наградил своих героев бессмертием, последовал за ними за черту жизни. И в бессмертии они потеряли все — потеряли самих себя, в заключительной части личности их поредели, и все конкретности вокруг них поредели тоже. Предполагалось преодоление смерти, роман же Новалиса свелся к преодолению жизни, как, впрочем, у него и значится в его фрагментах по другому поводу — «Überwindung des Lebens»63.
1799—1800 годы — время, когда сочинялись «Гимны к ночи». Тогда же, в 1799 году, положено было начало и «Духовным песням»64. И то и другое произведения стоят за кулисами «Офтердингена», в них собрано все, что темнит роман Новалиса, что клонит его в худшую сторону. Особенно близки «Гимны» и «Песни» ко второй части романа. При любых оговорках нельзя не увидеть, что в «Офтердингене» преобладает пафос земной жизни и земных трудов, что даже путешествие в иное царство предпринято из желания устроить делам земным небывалый апофеоз. «Гимны» и «Духовные песни» в лучшем случае безразличны к земному делу, а то и прямо враждебны ему. В них славится не бессмертие, но смерть — ночь. В «Гимнах» объявляется, что смерть — истинная сущность жизни, а ночь — истинная сущность дня. Человек глубже дня и всего дневного, человек старше дня, корни человека ночные, из ночи он приходит и в ночь уходит. «Песни» и «Гимны» затронуты недоброй метафизикой «Офтердингена», недобрыми ее тенденциями.
В центре «Гимнов к ночи» — могила умершей возлюбленной. Биография Новалиса указывает, что это могила Софи Кюн. Имя героини «Гимнов» в тексте не названо.
Новалис любил символы и шифры и постоянно прибегал к ним. Но символы предполагают, что вначале был некоторый образ, и символ только особая интерпретация его. «Ночь» Новалиса по самой сути нечто безликое, без
198
брежное, непредставимое, непроглядное. Чтобы выразить «Ночь», помогает самый жанр гимнов. Гимн, молитва по древнейшим традициям обращены к несуществующим предметам. Предмета нет, но есть преклонение перед ним, есть молящие руки, протянутые к нему, есть особое молитвенное вожделение, есть заклятия, отнесенные к предмету культа, и, все вместе взятые, создают иллюзию, будто он существует и воочию присутствует. Гимны — это зов, vocativus, звательный падеж, и зов настраивает думать, что кто-то отозвался или вот-вот готов отозваться. Жест, на кого-то направленный, зов, кого-то призывающий, зрителями, слушателями дорисовываются, ему мерещится сам живой повод к жесту и к зову, независимо от того, был он или не был взаправду. Сначала культ, а после того боги, предмет культа. Культ сам созидает свой предмет.
Если ночь и дана у Новалиса как некий образ, то весь он строится на духовных эмоциях, проникающих друг в друга. «Ночь» у Новалиса — родительница дня, день содержится в недрах ее, она по-матерински носит его: «sie trägt dich mütterlich» — таково обращение ко дню от имени ночи. День деловит, прозаичен, он раздробляет человечество на отдельные особи, из которых каждая полна отдельных своих забот. Ночь — время тихих самосозерцаний, ночь — время Эроса, для Новалиса она полна эротических идей и ассоциаций. Она есть царство «священного сна», самозабвения. Люди в гимнах — «чудесные чужеземцы, с задумчивыми глазами, с зыбкой походкой, с устами, которые звучат»65. Люди изображаются, как если бы они были впервые увидены существом, которое само не общается с ними и не успело узнать о них что-нибудь дурное. Ночь у Новалиса — и покой, и Эрос, и единение человечества, и уход в другое бытие, отказ от суетности. В себе я чувствую, говорится в «Гимнах», конец занятости — конец деловитости — «der Geschäftigkeit Ende»66. Новалис в «Гимнах» хочет переоценить все ценности дня, дел его и культуры. «Гимны» полны прямой и скрытой полемики. По сути, Новалис задумал мрачное предприятие — он старается приучить, приохотить человека к ночи и к смерти, ради чего пускается в эвфемизмы особого рода. В «Гимнах» по видимости есть отклики известным трактатам Лессинга и Гердера, оба под тем же заглавием «О том, как древние изображали смерть». И Лессинг и Гердер писали об эвфемизмах, которых держалась
199
античная пластика, имея дело со смертью и с умершими. По Лессингу, когда вместо «он умер» говорят «он ушел туда, где многие» и когда в мраморе вместо смерти представляют сон, то и здесь и там эвфемизмы, в одном случае словесный, в другом — пластический. Сходное говорит и Гердер: юноша с опрокинутым факелом — скульптурный эвфемизм смерти, как «сон», «брачное ложе гроба», уход «туда, где многие». И Лессинг и Гердер сочувствовали эллинской культуре, эллинскому пониманию смерти как ужаса и безобразия. Античные эвфемизмы создавались, чтобы вытеснить само представление о ней, заместить его более благородными образами, ослабить эмоциональный удар. По-иному строятся эвфемизмы Новалиса. Он не вытесняет мрачный образ, скорее он придает ему новую энергию, старается сколько может вызвать чувство, будто мрак могильный есть величайшее из благ. Отец ночного жанра, англичанин Юнг, автор пуританской поэмы «Ночные думы», которую Новалис незадолго до «Гимнов» перелистывал67, тоже пытался создать новое отношение к смерти. Язык, образы, изнанка помыслов у Юнга поразительно материальны и буржуазны. Юнг пишет: «К богу, моему утешителю и сокровищу, я прибегаю, как скупец к золоту, когда кругом все спят»68. Юнг трактует земную жизнь с полным ей одобрением, ей, по Юнгу, недостает только одного качества — вечности, она отпускается нам только на срок; будь здесь условия вечной аренды, Юнг и не помыслил бы предаваться ламентациям. Раз смерть неизбежна, то что же делать — научимся глядеть ей в глаза, будем по-мужски встречать ее. Любопытно, что Юнга любили не одни сентименталисты; такие люди, как Мирабо, Демулен, Робеспьер, были его благодарными читателями69. Из этих грубоватых, жестковатых условий жанра, созданного Юнгом, Новалис почти целиком выпадает. Своеобразный реализм ужаса, свойственный Юнгу, Новалису совершенно чужд. Он стремится раскрасить ужасы в приветливые цвета, усластить их, и он пишет в «Гимнах»: «Небесная смерть, на свадебное пиршество сзывает смерть, мы потеряли наше пристрастие к чужбине, мы хотим домой»70. «Смертью мы впервые исцеляемся», — сказано в одном месте71. Насильственно разрушается привычный образ смерти, насильственно ему придается положительная ценность. Или же о царстве смерти говорится, что со всей полнотой жизни волнуется там безбрежное море72. Новалис идет на отвратительные
200
смещения образов нежных и цветущих с мраком и сыростью могилы. Его эвфемизмы притязают на то, чтобы изменить не одно только восприятие предмета, но и самую природу его. Обычный эвфемизм — «эллинский», защищенный Гердером и Лессингом, есть фигура условная: предмет нехорош, но дадим ему хорошее имя, благоприятствующее ему. Новалис же ставит себе целью сам предмет из нехорошего превратить в хороший, на деле — в прекрасно-отвратительный, сочетая друг с другом в едином художественном образе тление и расцвет.
В «Гимнах к ночи» развита некая, отныне характерная для Новалиса философия истории. Точкой исхода служат «Боги Греции», написанные Шиллером в прославление античной культуры, языческой, чувственной, создавшей прекрасные мифы и прекрасную поэзию. Новалис в ранние свои годы задумывал «Апологию Шиллера»73, где собирался защитить «Богов Греции» от литераторов, воинствующих христиан, враждебных этому произведению. В «Гимнах» Новалис судит иначе. Античность по неизбежности и по справедливости исчезла навсегда, наступила новая эра, христианская, с противоположным античности миропониманием, обесценивающим древних богов и древнюю культуру. Душа мира укрылась в душах людей, переселилась в высокие покои этих душ. Перестали воздавать внешние почести свету, наступило царение ночи. Христианство и религия ночи у Новалиса отождествляются, в таком отождествлении Новалис, по всей вероятности, не усматривал для христианства чего-либо оскорбительного, скорее он думал, что оно укрепляет и возвышает христианство.
В «Гимнах к ночи» весьма различимо воздействие Шлейермахера и его «Речей»74. Как для прочих иенских романтиков, так и для Новалиса христианство, как выразилась Доротея Фейт, попало в повестку дня. «Гимны к ночи» — свидетельство губительных перемен в романтизме, начавшихся вместе с «Речами». Смысл «Гимнов»: не нужно больше воплощений, не нужно языческой философии и эстетики, так высоко ставивших именно воплощенность, именно реализацию, да еще окончательную, всего, что покамест пребывает только как замысел и возможность. Развоплощение сперва оценивалось как только полпути, проделанных искусством. Здесь, в «Гимнах к ночи», объявлено, что оно и есть весь путь, что оно конец и цель, достигнутая истина. Если спросят, каково
201
же последнее толкование «ночи» Новалиса, то надо бы сказать: развоплощенный мир — это и есть ночь, ради которой Новалис сочинил свои «Гимны». В «Гимнах к ночи» весь романтизм целиком опущен на дно, укрыт в ночь, трактован как стихия, которую надо оберегать от соприкосновений с действительностью. Оставлена мысль, что весь внешний социально-исторический мир способен измениться сообразно зародившимся внутри него движениям и течениям, сообразно развившимся внутренним возможностям своим. Именуя новую эпоху «христианской», Новалис и романтики тем самым давали санкцию на вечное ее несовершенство, на вечное томление присущих ей сил, на их всегдашнюю неразработанность. «Ночь» — безобразная стихия, антипластическая — становилась для Новалиса символом вечного состояния жизни и культуры нового времени.
В «Духовных песнях» Новалиса романтизм отрекается от лучших прав своих и уступает место христианству. «Лучший мир» здесь едва-едва напоминает о прежних романтических помыслах и желаниях, он заселен образами христианского мира, взятыми в их церковной традиции. Лишь изредка за христианским мифом возникает романтический смысл — взывание к Христу становится взыванием к всемирной жизненной силе, к творческой природе, ожидается, что Христос придет к людям в могучих ливнях, в разлившихся потоках, в огне и в грозе. Его младенческое лицо проглядывает из трав, из камней, из моря, из потоков света. Как у Шлейермахера, так и у Новалиса христианство сочетается с пантеизмом. Общение с Христом уподобляется слиянию личности со вселенскими началами, в христианское причастие вносится смысл отождествления души человека с материальным миром вокруг него, церковное, спиритуалистическое представлено в смешении с плотским и даже грубо-языческим75. Основная же настроенность в «Духовных песнях » — пиетистская, нестерпимо елейная, автор исповедуется в собственной своей великой слабости и молит о заступничестве, об усыновлении свыше. В стихах, обращенных к богоматери, содержится просьба о том, чтобы и он, поэт, был взят в опеку вместе с божественным младенцем, чтобы богоматерь и на поэта распространила свое материнство. «Духовные песни» — усыпление романтического мира. Биограф Новалиса, не замечая, насколько его сообщения компрометируют Новалиса как поэта, рас-
202
сказывает, в каких условиях слагались эти «Песни». В Саксонии властями был брошен клич сочинить новый протестантский молитвослов. Очевидно, этот призыв следует сопоставить с работой Новалиса над «Духовными песнями». Многие его «Песни» вошли позднее в официальные сборники церковных песнопений. Новалис угадал, что нужно церкви, прихожанам церкви и правительству76. Один из биографов рассказывает, что отец Новалиса, старый гернгутер, услышал в церкви своей секты духовную песню, которая его потрясла. После он узнал, что песню сочинил его покойный сын77. Так состоялось посмертное духовное воссоединение сына с отцом. Новалис любил образ возвращения домой. На этот раз он в более точном смысле вернулся домой, в ветхий дом своего отца и предков.
Все же и в опытах своих вновь соединиться с религией и церковью Новалис то и дело выпадал из условий ортодоксии, романтик в нем не мог уйти от самого себя. Как романтик, он хотел все делать наново и по-своему. Так же и в религии. Забывая, что традиционность составляет ее существо, Новалис собирался ни больше и ни меньше как сочинить собственное свое Евангелие или даже Евангелия — число множественное78. Он слишком новатор, чтобы довольствоваться Евангелием в его прежнем виде. Тут же он спрашивает не без наивности: разве уже непременно Евангелие должно идти к нам из истории, как оно историей дано, и разве мы обязаны отказываться от заново написанного Евангелия в будущем? Новалис предполагает своеобразную редакционную коллегию для пересозданного Евангелия. Это будут он сам, да Тик, да Шлегель, да Шлейермахер. Особо значительных различий между подготовкой Евангелия на новых основах и изданием, например, журнала «Атенеум» он, надо думать, не ощущает. У него есть проект, чудовищный для всякого ортодокса: экспериментального вероучения79, или уж попросту экспериментальной религии80. Новалис носился с проектом современной Библии81, правда, по всем признакам весьма похожей на энциклопедию особого рода, на книгу книг, где бы сочетались друг с другом художественная литература, наука и модернизованная мифология82.
Так или иначе, был ли Новалис в делах религии строго верующим, или не был им, так или иначе он уже не мог с известных пор вернуть себе свободу от религиозных
203
влияний, соблюдать относительно религии нейтральность светского поэта и философа. Связь с религией поддерживалась переменами в политических воззрениях Новалиса. Недавний якобинец и республиканец стал обращаться за помощью к давно устаревшим политическим авторитетам, к монархии, к ее установлениям, давно развалившимся, теряющим доверие или уже потерявшим его. В 1798 году Новалис пишет статью «Вера и любовь, или Король и королева», поводом для которой было появление на прусском престоле нового короля, Фридриха-Вильгельма III. Новалис приветствовал и короля и жену его, королеву Луизу, и не очень понимал, что творит. На молодое царствование он возлагал совершенно фантастические надежды, при молодом короле ждал от прусской монархии республиканских мероприятий. Читая иные абзацы его статьи, можно подумать, что в Пруссии произошла великая демократическая революция, между тем как в Пруссии всего только место одного самодержца заступил из той же династии другой, женатый на женщине с привлекательной внешностью, — королева Луиза умела нравиться своим подданным.
Другое политическое выступление Новалиса — статья 1799 года под названием «Христианство или Европа»83. Статья эта была принята в иенском кругу с некоторой растерянностью, ее предполагали печатать в романтическом журнале «Атенеум» рядом с прямо противоположным ей по направлению «Эпикурейским исповеданием» Шеллинга, затем по совету Гете не напечатали вовсе84. Мрачно-ретроградные новые идеи их друга застигли тогда романтиков врасплох. К сходным идеям, да еще и худшего порядка, пришли и многие из них, но позднее Новалиса. Как это бывало в истории, максималист или даже сверхмаксималист Новалис, чаявший увидеть новую землю и новое небо, в конце концов согласился на безнадежно скомпрометированные реальности политической и духовной жизни. Падение Новалиса произошло с непостижимой для его сподвижников быстротой. Романтический максималист упал прежде всех, и падение его было достаточно глубоким. Статья Новалиса позднее воодушевляла идеологов феодализма и реставрации. Ни то, ни другое еще не получило в Новалисе прямого правозащитника, но в статье своей Новалис подготовил доводы для самых черных сил послереволюционной Европы. Напрасно писалось, что политическая теория Новалиса несерьезна, что она
204
«сказка»85, — уже и тогда, и после политики старого режима отлично умели делать дела и со сказкой. В статье своей Новалис по преимуществу выступает в интересах католицизма и его церкви. Раздел статьи, где описано счастливое, идиллическое средневековье, подчинившее все силы общества, — это раздел исторический. В части современной ничего не сказано о восстановлении феодальных институтов, но для церкви в современном мире как он есть Новалис требует того же, что и в средние века, преобладающего положения. Церковь, религия — главные руководители духовной жизни современной Европы. Церковь, надеется Новалис, будет стушевывать жизненные противоречия, вносить гармонию туда, где без нее дисгармония, она должна обуздать и буржуазный корыстный дух и эгоистические распри современных обществ. Новалиса как немца волновали в конце века предстоящие столкновения народов, он опасался интервенции Бонапартовой Франции, и умиротворение для него опять-таки могло произойти только через церковь и христианство. Духовное объединение народов, разделенных ныне враждой, — одна из главных миссий религии по Новалису, романтический универсализм у него превращался в универсализм католической церкви: мир существует снова как единое целое, под главенством церковных кафедр. Жизнь культуры, по Новалису, тоже должна направляться церковью и верой. И рассудочность и утилитаризм, раздробленность и прозаичность современного мира Новалис намерен преодолеть средствами религиозно-мистического миропонимания. На том, что творчество и познание у современников лишены глубины и цельности, ибо современники отказались от религии и от церковности, Новалис в своей статье особенно настаивает. Вся статья Новалиса проникнута нежеланием действия, борьбы, все Новалис хочет решать келейно, и потому он по любому поводу проповедует руководство церкви. В статье содержатся отступнические тирады о Французской революции и совершенно неожиданные под его пером похвалы инквизиции, иезуитам. В 1799 году все это могло казаться забавным парадоксом, и все это вскоре стало самым печальным явлением политической действительности; и, например, Фридрих Шлегель, на многие годы переживший Новалиса, в бытность свою писателем и публицистом меттерниховской Австрии, уже не шутя, а со всей деловитостью, какая требуется от
205
политического дельца, защищал один за другим тезисы «Христианства или Европы».
«Гимны к ночи», «Духовные песни», политические трактаты для самого Новалиса являлись сочинениями, в которых предлагались средства спасти романтизм, теснимый буржуазной диктатурой, Термидором, Наполеоном. Если «Гимны» и «Песни» — это романтизм, то настолько притихнувший, ушедший в самого себя, что едва ли можно обнаружить его присутствие. Средства защиты уничтожают самый предмет и цель защиты. То же самое можно сказать о политических трактатах. Церковь должна, по Новалису, дать то, в чем отказывает общество, дать романтическую целостность и романтический универсализм. Новалис закрывал глаза на всю несовместимость романтического духа с церковностью, на весь абсурд проектов и замыслов сдать романтизм на хранение церковникам или прусскому государству, не менее, чем те, враждебному романтической культуре. Романтизм по глубочайшему существу своему требует свободы — свободы дыхания и свободного общения с воздухом, а Новалис укутывал романтизм и пеленал, держа его под плащом ночи, берег под чехлами мистики и религиозной философии. Как говорил об этом Александр Блок, католицизм стал могилой для романтиков, в их жизни произошла трагедия — «они сорвались в пропасть старой церкви»86. Новалис сорвался первым, как видим.
До нас дошли поздние высказывания Новалиса, из которых следует, что под конец жизни он остывал к своему романтическому призванию. Так, он пишет в одном письме (к Рахели Юст): писательство для него побочное дело, главное — практическая жизнь. «Я рассматриваю свое писательство как образовательное средство — я учусь тщательно обдумывать и разрабатывать тот или иной предмет, — вот и все, чего я добиваюсь». Далее в том же письме: «Для законченного воспитания нужно пройти через многие ступени. Нужно побывать гофмейстером, профессором, ремесленником, как и писателем. Даже и служить слугой, и в этом я вреда не вижу»87.
В письме к Каролине в 1799 году он пишет, что весь сейчас ушел в технику, ибо годы ученья для него кончились и бюргерская жизнь со всеми ее к нему запросами подступает все ближе88. В письме к своему учителю Вернеру от 28 апреля 1800 года Новалис пишет замечательные строки о том, что он на этот раз нашел в шахтах и
206
в соляных копях: работа здесь в высшей степени тяжелая, грязная и вредная для здоровья. Среди этих людей самое обычное явление накожные болезни и ревматизмы89. Зрелый Новалис усмотрел изнанку пятой главы своего «Офтердингена», строки, написанные к Вернеру, рушат практические основы романтизма, служат особым антикомментарием к главе романа, посвященной горному делу и старому рудокопу.
Вместо романтики труда Новалис находит голую эксплуатацию труда. Под самый конец своей жизни Новалис приобрел необычную для него трезвость. Он воспринимал вещи в том их прозаизме, который он еще недавно не прощал никому, не мог простить самому Гете. Протрезвление Новалиса и мистика «Гимнов», «Песен», трактатов идут рядом. Отсюда можно заключить, что Новалис отдает романтику под покровительство церкви и мертвых сил истории, уничтожающих ее по очень ясным, хотя для него самого скрытым причинам. Романтизм усыпленный, омертвевший в лучшем случае мог вызывать к себе равнодушие. Мы видим, что равнодушие это овладевало и самим Новалисом. Вера в католическую церковь и в старый режим была оборотной стороной его безверия в отношении романтизма. Он стоял как будто бы на верной страже, служил романтизму по-прежнему, на самом же деле он уже успел отречься от него. Романтизм если еще и жил в нем, то столь пониженной жизнью, что потерял силу избирать друзей и устранять врагов, — врагам он предавался не задумываясь.
Людвиг Тик (1773—1853) — сын состоятельного и не чуждого книге и театру канатного мастера, который не препятствовал влечению сына к тем же предметам. Он родился в Берлине, там же окончил гимназию и, естественно, с ранних лет подвергнулся многосторонним влияниям этого города просветителей. В среде романтиков просветительская культура в своих типовых явлениях никого не коснулась столь близко, как Людвига Тика. Он воспринял в равной мере и ее благородный освободительный пафос и ее подозрительность в отношении всякого пафоса, ее скептический юмор. Чуть ли не с гимназической скамьи Тик становится профессиональным литератором — в этом состояло его отличие от других романтиков старшей плеяды: ни для кого из них литература не составляла каждодневного занятия, никто из них не полагался на нее одну. Тик остался в литературе на всю жизнь, он не уходил из нее ни на академическую кафедру, ни в канцелярию, как это случалось с романтиками, ни в церковность, как это водилось и в старшем и в младшем поколении. И его триумфы были литературными, и его падения тоже происходили в литературе. В его комедии «Принц Цербино», когда комедия в полном ходу, герой ее хочет выскочить из текста, из спектакля. У самого Тика подобных настроений не бывало, литература была для него естественной и непреложной сферой обитания. Тик был замечательным, первокласснейшим художественным чтецом. На его чтения драматических произведений собиралась многочисленная публика, слушавшая его восторженно. По отзывам современников, он таил в себе величайшего из актеров, какого только могли тогда помыслить на подмостках. Соблазну актерства он, однако, не поддался, и актерство только косвенно, литературно нашло у него свое выражение в особом протеизме, в даре неожиданных метаморфоз литературной манеры, в умении проникаться любым персонажем и любым положением, свойственными ему.
Первое посвящение в литературу — посвящение довольно вульгарного свойства — Тик получил от своих гимназических учителей, в частности — от одного из них,
308
Рамбаха, ремесленного литератора, без устали сочинявшего романы и драмы на обывательскую потребу. Рамбах очень рано оценил способности Тика и бесстыдно их эксплуатировал. Тик по заказу Рамбаха писал к его романам самые ответственные части — развязки: например, к роману «Железная маска», одному из шедевров Рамбаха, писание эпилога было поручено юному Тику, которому Рамбах уже тогда верил больше, чем самому себе.
Просветительская идеология в основах своих растревожила Тика глубоко и надолго. При всех переменах, сквозь которые Тик прошел, для него не терял значения общий рисунок действительности и ее сил, усвоенный им от просветительского века. Рисунок этот таков: мир есть поприще интересов, выгод и польз, человек надежен, покамест ожидаемое от него совпадает с личной его пользой, покамест личный интерес и миссия, возложенная на человека, не пререкаются друг с другом. В интересе лежит естество человека. Великодушие, милосердие, любовь, героизм осуществляются, если нет драматической коллизии между ними и этим человеческим естеством, если возможно между ними соглашение. Элементарная игра интересов против интересов, конечно, не исчерпывала для Тика содержание дел человеческих. Но он никогда не забывал о ней как о некой первооснове, что совмещалось у него с существенными, напряженными попытками подняться над нею.
Одно из лучших произведений молодого Тика — драма в трех актах «Алла-Моддин» (1790—1791)1. Она еще далека от романтизма, в ней есть нечто шиллеровское, один из персонажей, Вальмон, благородством образа мыслей и поведения очень близок маркизу Позе, к тому же по-особому здесь, напоминая драму о Дон Карлосе, проводится испанская тема. Действие происходит на Южных островах, где испанцы под руку с инквизицией, действуют как колонизаторы. Туземный король Алла-Моддин брошен ими со своей семьей в тюрьму, они требуют от него обращения в христианство, предполагая, что подданных своих он заставит за ним последовать. На защиту Алла-Моддина выступает Вальмон, старый друг его и покровитель, а вместе с Вальмоном и новый губернатор колонии, приехавший из Европы во главе целой эскадры. Драма Тика замечательна не только темой цветных народов и колониального угнетения, замечательна она и внутренним ходом событий. Люди делают добро, и им не верят; всего важнее, что сами они не убеждены в правильности своих действий;
209
быть может, нужно бы карать и казнить там, где они благотворят и милуют. Сам новый наместник, прибывший на острова как спаситель Алла-Моддина, сомневается, стоит ли Алла-Моддин доверия. Все островитяне прибыли на шлюпках со своими луками и стрелами, чтобы отбить короля у испанцев, и Алла-Моддину стоит немалых усилий успокоить подданных, внушить им, что от испанцев ему не будет вреда. Решающие сцены происходят на фоне всенародного возбуждения, воинской готовности островитян отстоять своего короля оружием и подозрительности испанцев, нет ли тайного сговора между королем и всем этим разъяренным воинством. В драме все получает благую развязку, сила добра и дружбы доказана, однако же ей приходится преодолеть очень колючие предпосылки, на которых держатся обыденные нравственные отношения. Героическое и патетическое действие этой драмы постоянно висит на волоске, в лучших своих качествах оно вот-вот способно развалиться, в этой сомнительности возвышенного, в трудностях, через которые оно идет, и состоит драматическое напряжение «Алла-Моддина».
Любопытны среди произведений раннего Тика два, написанных в жестокой и мрачной манере, — восточная повесть «Абдалла» (1792), полная диковатой фантастики, описывающая преступления и убийства, и драма «Карл фон Бернек» (1793—1795), в которой на фабулу Эдипа положена фабула Гамлета, чем достигаются густейшие зловещие эффекты: герой мстит за своего отца, вернувшегося из крестовых походов, убитого матерью и любовником матери. Все это сходствует с историей Агамемнона, который был убит Клитемнестрой и Эгисфом, когда вернулся победителем из-под Трои. Но в драме Тика царит шекспировский колорит, очень важна обстановка замка Бернек на диком севере, вторящего по краскам своим замку Эльсинор.
«Абдалла», «Карл фон Бернек» — довольно ранняя репетиция страшных жанров, которые вскоре станут очень важной частью романтической поэтики. В ранних опытах Тик еще очень далек от этих жанров в законченном их осмыслении. Литературное развитие аналогично развитию речи. Люди употребляют слова, зачастую не отдавая себе отчета, что слова эти по сути своей значат. Слова курсируют и в одном направлении, и в другом, а занятость этих слов смыслом, наполненность их бывает очень невелика, да и смысл может быть совсем не тот. И ребенок и взрос-
210
лый пользуются одним и тем же словарем, и, конечно, осмысляет его каждый но своему. Лишь со временем значение слова, каким пользуется говорящий, достигает зенита, в слове появляется настоящее его содержание, и слово разверзается на свою истинную глубину. Так же и с литературой. Тик в первых своих опытах культивирует страшные жанры страшного ради, он добивается необыденных эмоций какой угодно ценой. Впоследствии в развитом романтическом искусстве страшным подрывается прекрасное, страшное ограничивает, а то и сводит на нет красоту. В предромантический период происходит совсем иное: страшное — оно-то и есть поэзия, «тайный ужас» вносит поэтическую значительность в среду, где господствуют проза и прозаизм. Поэзия замка Бернек — во мраках этого замка, в устрашающих подробностях его быта и пейзажа.
«Замок Отранто», знаменитый роман Гораса Уолпола (1764), стал первоначалом так называемых романов ужаса — «готических романов», образовавших впоследствии могучую отрасль позднеромантической литературы. В издаваемой Николаи «Всеобщей немецкой библиотеке» за 1770 год появилась рецензия на немецкий перевод «Замка Отранто», и там этот роман рассматривался как произведение в забавном роде, как повестушка в духе «Прекрасной Мелюзины», как одна из фейных сказок2. С такой неполноты значения и восприятия начиналась история этого столь влиятельного в дальнейшем страшного жанра, со временем приведшего к «Эликсирам дьявола» и «Мельмоту-скитальцу». Людвиг Тик приступил к сочинительству страшных историй отчасти в угоду Рамбаху, отчасти по собственному вкусу, не угадывая, однако, чем эта литература вскоре станет для него самого.
Хотя просветители и выказывали совершенное неуважение к новорожденному страшному, готическому жанру, однако же он со второй половины того же просветительного века стал все чаще подавать признаки жизни, и, по свидетельству этого жанра, что-то в просветительстве тронулось. Были и другие признаки заколебавшейся просветительской культуры. Молодой Тик сотрудничал у Николаи — берлинского критика, публициста и книгоиздателя, одного из генеральных шефов Просвещения в Германии. По его заказу Тик сочинял рассказы и повести во славу здравого рассудка, служения бюргерским добродетелям и пользам. Все же и сам ортодоксальнейший Николаи был
211
задет модными повериями века. Тик рассказывал о своем первом визите к Николаи — он застал этого худощавого господина в беседе с сыном его Карлом и с литератором Бернгарди. Их разговор показался Тику странным, он не сразу разобрался, что они говорят по ролям из драмы Шиллера: Николаи — от имени короля Филиппа, сын его — за дона Карлоса, Бернгарди — за маркиза Позу. Такие импровизации уже завелись тогда в Берлине3. Итак, в просветительском Берлине, вне всякого романтизма и без него, мы можем отметить два романтических предвосхищения: пристрастие к страшному и охота смешивать игру с действительностью — игра в игру, как вскоре это будет принято в комедиях того же Тика, ставших образцом романтической иронии на театре.
Большой роман Тика «Вильям Ловелль» (1793—1796), по мнению иных, самое значительное из его созданий4. Так, по крайней мере, считал Фридрих Шлегель5. В «Ловелле» Тик крупным образом рассчитывается с просветительской культурой, причем «Ловелль» написан с соблюдением форм и правил, обязательных на многих течениях просветительства, оценивавшихся там как самый безупречный художественный реализм. В романе о Ловелле через эти же, им же излюбленные формы просветительство компрометируется, а реализм известного типа именно как реализм терпит непоправимое поражение. Реализм в романе Тика гибнет, так сказать, у себя на дому, подобно герцогу Кларенсу, утопленному дома в бочке с мальвазией.
Тик придерживается документальности, которую так любили реализма ради его предшественники в искусстве романа. Роман — эпистолярный, а что бывает достовернее письма, оно пишется по следам события, в нем исповедуется сам зачинщик, все его мотивы на виду. Но в эпистолярном романе письма идут не только от одного лица к другому, пишущих письма множество, адресатов тоже, мы знаем, и чего хотел и что задумал такой-то, но возле него другие люди — возле, а то и вдали, — ему нисколько не известные, и их помыслы активно враждебны стремлениям и целям этого персонажа, с которого начались наши знакомства в среде Вильяма Ловелля. Старик Бертон ведет процесс против старика Ловелля — отца Вильяма Ловелля. Все надежды Ловелля-старшего отнесены к наня-
212
тому им адвокату Джексону. Через перекрестные письма Ловелля-старшего к адвокату и обратно, от Бертона к тому же адвокату, мы знаем, какая интрига затеялась, какой отвратительный заговор сложился. Бертон закупил адвоката, действующего от имени его противника. Старик Ловелль совершенно прав в этом деле, у адвоката Джексона оказались на руках все доказательства этой правоты, расписки в уплате денег за имение, тех самых денег, которые безосновательно Бертон требует со старого Ловелля. Но Джексон все эти документы передал — перепродал — Бертону. Сношения Джексона с Бертоном происходят за спиной у Ловелля, мы посвящены в каждую подробность их, сам же Ловелль ничего о них не подозревает, ему совершенно непонятно, почему же его дело проиграно. До поры до времени старый Ловелль мог быть уверенным, что все идет как надо, читателю же было известно, что старик со всех сторон подкопан, предан, что его будто бы пособники — его опаснейшие враги. В освещении перекрестных переписок старый Ловелль со своим спокойствием, а затем и со своими недоумениями был жалок, казался призраком, существом без основания, без почвы. Нельзя получить права на реальность в силу одного своего личного присутствия, нужна опора в других людях. В романе этом все другие, ближайшие персонажи не укрепляют положение старого Ловелля, но делают его проблематическим.
Эпистолярный роман как бы парцеллирует мир. Каждый из участников романа всякий раз заключен в своем письме как в своей парцелле, обрабатывает личный свой участок, границы которого однажды были строго указаны. Но мы видим: не он и не кто-то другой, третий, четвертый дает ключ ко всему, в романе происходящему. Из примера старого Ловелля следует, что человеку неведомо даже, откуда получают направление собственные его дела. Личная его инициатива — одно, а направление — это совсем другое.
Сам Вильям Ловелль-младший напрасно воображает, что он строит собственную жизнь, как он хочет. По чужим письмам нам известна закулисная сторона биографии Вильяма Ловелля, неизвестная ему самому. Он действует под чужими внушениями, тайно его направляют, тайно ему заказывают, как вести себя, что думать, что чувствовать. Он окружен более сложной и более изощренной интригой, чем это было с его отцом. Там вмешиваются только в дела, в денежные отношения Ловелля-старшего.
213
Здесь происходит вмешательство в самое жизнь, Ловеллю-младшему заказывают его собственную личность, практику его души и совести. За кулисами поступков Ловелля стоит мрачная и отпетая личность Андреа Козимо с его пособниками. Он овладевает Ловеллем изнутри, как бы внедряется в него. Мир Ловелля-младшего — это воля Андреа Козимо и представление того же Андреа Козимо. Происходит нечто странное и страшное — первое лицо становится моральным, внутренним образом — третьим, живет, мыслит, чувствует от имени кого-то извне стоящего, переходит на чужое моральное иждивение. При всем том Ловеллю сохранена иллюзия, будто он существует самостоятельно. Ловелль кичлив, он не сомневается в своем владычестве над жизнью, тогда как есть владыка над самим Ловеллем.
Тик извлек бесчисленные моральные и эстетические эффекты из эпистолярного романа. Этот роман способен создавать обостреннейшее чувство свободы и автономии отдельного лица, остающегося внутри письма наедине с самим собою и с жизнью вокруг. Но он же показывает, что автономия кого-то одного, параллельная автономии множества других, по сути дела опасна, а то и гибельна для этого одиночки. Старинный эпистолярный роман с его множественностью индивидуальных судеб и историй, собственно, является прообразом романа в формах, господствовавших еще недавно, в довоенный период, в Европе и в Америке: романа Жюля Ромена и Дос-Пассоса, романа, который Жюль Ромен называл «полифоническим», ибо он имел множество центров, не подчиняясь ни одному из них, отказываясь от какого-либо единого сюжета, от сколько-нибудь строгой внешней организации, от композиционной обобщенности. В известных отношениях «полифонический» роман в сравнении с эпистолярным XVIII века явился формой регрессивной, ибо он порой восторженно-наивно трактовал хаотичность современной жизни художественно увлеченный ею, а старый роман писем уже под пером Ричардсона, а в особенности у Шодерло де Лакло, автора «Опасных связей», был настроен не в пример строже, не поддавался сомнительным ценностям и умел обнаружить всю незащищенность личности, предоставленной самой себе, незаметно для нее самой становящейся чьей-то добычей. Эти мотивы и получили сильнейшее развитие в романе Людвига Тика. Подобно всем романтикам, Тик — универсалист, для него не может лежать ответ о тайнах мира в судьбе отдельной личности, замкнувшейся
214
в самой себе. Он ищет выхода к целостной жизни, и его не может дать простое сопоставление одного личного мирка с другим таким же, как бы ни накоплялись эти сопоставления. Целостная жизнь не может быть составлена, а история Ловелля-старшего, да еще история Ловелля-младшего, да еще история Бертона, Бальдера, Мортимера, старого слуги Вилли, Карла Вильмонта, Амелии Вильмонт, графини Блэнвиль, итальянца Розы и еще и еще других, все вместе взятые остаются все-таки составленным миром, со швами между отделами его, между единицею и единицею. Все дело в том, с чем входит в мир каждый из этих людей, что он взял с собой. Они несут в себе очень малое, и в этом-то беда. Под осознанное или неосознанное критическое освещение попадает принцип интереса, под знаком которого с юности воспитывался Тик. Каждый из персонажей взял из мира, из мировой жизни какие-то ничтожные отдельные частицы, соответственно своим интересам, то преобладающим, а то лишь важным в данный час и в данную минуту. У кого интерес денег, имущественных приобретений, материального устройства, а у кого интерес любовной интриги, развлечений и удовольствий. Каждый что-то наметил для себя, равнодушный или враждебный ко всему остальному, каждому нужен мир от сих до сих, а все прочее либо навсегда, либо покамест область вещей, для него не существующих. В жизни современников царствуют абстракции. Тик-романтик по каждому случаю разоблачает это наличие абстракций. Вырывать из жизни клочья на личную потребу — ведь это и есть практическая абстракция, профанация жизни в ее целостном виде. В «Вильяме Ловелле» у Тика осуществляется глубокая ирония. Вокруг богатство жизни, а люди воображают, что в этом их удача, и в каждом своем жизненном акте упускают его, не знают о нем, не ведают. Эти мелкие хищники живут среди богатейших, всеобещающих миров как последние нищие. Они думают, что насыщаются, в действительности это голодание. Романтики проповедовали бесконечность жизни, из чего следовала и некая бесконечность в отношениях к ней всех живущих, бесконечность — целостность, уменье связывать себя со множеством сторон ее, уменье и желание во все входить, независимо от того, лежит ли та или иная вещь в кругу самоявственных личных интересов. Великий повод к иронии: к бесконечной жизни проявляется, говоря языком романтики, конечное отношение, от неисчерпаемого отделываются
215
одним глотком. Личный интерес краток и короток, он почти поддается подсчету. Против тезиса об интересе как о проявлении самой природы романтики держатся воззрения, по которому интерес возникает вопреки ее требованиям, он сама неестественность, — уйти в личный интерес — уйти от природы как таковой, очутиться вне ее, интерес был и есть абстракция, — уже поэтому он с живой природой говорит не в один голос.
Андреа Козимо, первофилософствующий в этом романе, наставник Ловелля и многих других, объясняет, что есть человеческая душа и чему ее можно уподобить: по его словам, душа — ангел, заключенный в темницу. С телом своим она так же мало связана, как преступник с тем городом, где его держат в тюрьме. Ведь кто же поверит, что в этом городе ради преступника были созданы улицы его, ворота и башни6*. Нечто сходное еще незадолго до того написал сам Вильям Ловеллы «Разве мир не есть великое узилище, где все мы сидим, как злосчастные узники, и со страхом поджидаем, когда же будет смертный приговор» (кн. VII, письмо 11),
И тут и там образы и метафоры, которые должны выразить, насколько мир, в котором человек обитает, остается чужд ему. В своем обыкновенном мире человек всему остается посторонним, свое — оно же и чужое, чуждое. Человек только помещается в этом мире, не соединяясь с ним внутренне, не живя в нем доподлинно, не живя им и через него. Нет слитности с миром, нет с ним родства. Ловелль всячески пользуется этим миром, Андреа Козимо учит его наслаждаться жизнью, ничем себя не ограничивая, да и в нем самом инстинкт наслаждения никогда не ослабевает. А все-таки и Андреа и сам Ловелль считают, что они значатся не в своем собственном городе. Они берут от жизни что могут, а сами не тратятся, их души участвуют мало или даже совсем не участвуют в их собственной жизнедеятельности. Их жизнь, собственно, остается не пережитой ими самими. Ирония здесь такова: люди якобы находятся внутри мира, а на деле они вне его, еще не перешагнувшие порога.
Тут нужно сказать об одной важнейшей особенности поэтики романтиков, о том, как понимают они художественную реальность. Для них настоящая, полная реаль-
216
лость только пережитая реальность, всеми силами души освоенная и прочувствованная, взятая нами иначе, всего лишь со стороны каких-то с умыслом избранных признаков, она есть беглый феномен, она сбивается на тень скользящую.
Виднее всего это в восприятии нами чужой человеческой личности. Для Ловелля едва ли не полная недоступность чужое «я», чужая одушевленность. Он неспособен, да и не хочет, вселиться в чужую жизнь и в чужое сознание, с него довольно внешних соприкосновений с ними. Другие существуют перед ним не более и не иначе, как в меру его собственной в них заинтересованности, эта женщина — его любовница или будет ею, а тот — его соперник, одни годятся в помощники для задуманных им планов, другие окажутся препятствием, и — все. Ловеллю нужны инструменты, которыми могут быть достигнуты поставленные им цели, все значение человека в том, служит он таким инструментом или не служит. Поймите человека внутренним актом, или же он никогда не оживет для вас. Природа требует того же. Романтики, как известно, одухотворяли природу, они изображали ее как последовательные анимисты, и это часто трактуется как романтическая фантастика. По их же настоящему замыслу все обстояло совсем иначе, в анимизации для них лежали средства возвысить значение природы как реальности. Проникнутая и освоенная человеческим переживанием, она впервые получила глубокую связь с реальностью и с истиной. Анимизация как бы усиливала действительность действительного.
Особая сцена в романе — сцена оплакивания старого Вилли, слуги Ловелля, в смерти которого Ловелль косвенно виновен. Ловелль вначале плачет над Вилли вместе с другими. Но он вскоре устает от слез, все ему становится ненавистно, и с великим равнодушием он озирается вокруг. Теперь его занимает совсем другое: он хочет рассчитать, долго ли еще все эти люди будут терзаться и скорбеть. Ему любопытно наблюдать, как к ним возвращаются их обыденные косность и бесчувствие. Они ему кажутся беспомощными механизмами, которых дергают грубыми нитками, они приводятся в движение по заранее предписанным правилам и потом снова переходят в состояние покоя… «Никто не показался мне живым, — записывает Ловелль, — и, холодно настроенный, вернулся я в свою комнату, нисколько не убежденный, что Вилли и на самом деле скончался» (кн. XVIII, письмо 21).
217
Весь эпизод — разительный пример того, как велика роль восчувствований, участия и соучастия в нашем восприятии и в наших оценках действительности. Ловелль исключил чувство, исключил соучастие, и что было реальностью смерти и плача о покойнике, все это превратилось в один грубый фантом. Какие-то люди при помощи правильно действующих приспособлений выжимают из себя слезы, и все это проделывается чуть ли не по часам. Ловелль не считает для себя обязательным наравне с ними предаваться тому же занятию. Он не верил в жизнь живых, он не верит в смерть, она для него почти комедия — заключительная, после комедии жизни.
В «Ловелле» появляется фатальный для романтиков мотив марионетки, которому предстоит будущность, зловещая в конце концов, хотя марионетка несет с собой и комизм. Ловелль пишет приятелю своему Розе: «Жизнь — самое смешное и самое забавное, что только можно представить себе. Люди резвятся и постукивают, как марионетки, ими управляют, дергая за толстую проволоку, а они твердят о свободной воле» (кн. IV, письмо 46). Мы видим по сцене оплакивания, как возникает мотив марионетки — мир, перед нами лежащий, мы больше не наделяем жизнью, жизнь внутри нас и жизнь, вне нас находящаяся, больше не питают друг друга, и тогда все одушевленное не может подняться над значением механизма, управляемой марионетки, куклы. Эпистолярный роман хорошо выражает эти отношения. Когда мы переходим от письма к письму и узнаем, как одни персонажи исподволь распоряжаются другими, мнящими в своих письмах, что они-то и определяют жизнь вокруг, то для нас растет отчуждение между персонажами, и казавшийся человеком превращается в чью-то куклу. Мало того — растет и отчуждение между читателем и всеми персонажами, вместе взятыми, читатель знает о них все или очень многое, а они не знают ничего, они с каких-то пор жертвы читательского всеприсутствия и читательской осведомленности.
В романе, где отношения персонажей к миру и друг к другу абстрактны, сухи, незаполненны, исчезает всякая глубина жизни, «музыка жизни», как говорили романтики о «Дон Кихоте» Сервантеса и что они считали существом настоящего романа. Нет единого волнения, которое, бесконечно разнообразясь, шло бы от страницы к странице, как в том романе всех романов, нет органических связей между явлениями, между людьми. Говоря языком романти-
218
ков — нет любви, если понимать под любовью эту полноту связей человека с человеком, эту способность одного восполнять другого, по примеру главных действующих лиц у Сервантеса — Дон Кихота и Санчо Пансы, образующих некое слитное существо, при всей свободе жить и развиваться, предоставленной каждому из них. Любовь это и полнота связей с природой, с культурой, со всем человеческим окружением. Тик в «Ловелле» рисует мир, устроенный по принципу совершенно противоположному, но его аналитический роман взыскует о романе-поэме, который был бы подобен творению Сервантеса. Довольно настойчиво исследователь Людвига Тика Марианна Тальман, неравнодушная к модным терминам, применяет к нему и к романтикам один из них, она говорит о наличии у Тика темы и принципа лабиринта7. Согласимся на этот термин, но заявим тогда, что от романа-лабиринта Тик стремится к роману-гармонии.
Мотив любви, очень важный в романтической эстетике и этике, отчасти шел против этических идей Канта, Фихте и Шиллера. Этическое отношение в концепциях предшественников было и осталось тоже абстракцией, оно было выделенным из прочих связей жизни, предшественники создали добрую абстракцию — абстракцию добра в борьбе с жестокими абстракциями, господствовавшими в общественном быту. Эти добрые абстракции были бессильны, мораль требовала, чтобы войти в силу, союза с другими мотивами жизни, — это очень хорошо понимал уже Шиллер в своих культурно-философских сочинениях, и это стало направляющей идеей у романтиков. Они прокламировали любовь — добро, поддержанное человеческими инстинктами и влечениями, добро, не устраняющее чувственность и радость, единомысленное с ними.
В «Ловелле» Тика отсутствует звенящая, праздничная атмосфера, свойственная другим повествовательным произведениям романтиков, свойственная роману Сервантеса, создаваемая вставленными в прозу стихами и песнями. В угрюмом раннем тиковском романе вставные стихи — это мрачная исповедь Ловелля-солипсиста, отчасти похожая на стихи, которые писал у нас молодой Сологуб.
Ловелль считает себя до поры до времени единственно живым и действительным во всем человеческом царстве. Он легко идет на преступления, ибо убить человека, отравить, заколоть, устроить поджог — для него только техническая проблема. В этом романе уже намечена мрачная
219
связь индивидуализма с преступностью, связь, психологию которой много позднее разовьют романы Бальзака, а более всего Достоевского.
Ловелль наказан внутренним образом. Он, отрицающий реальность других, кончает тем, что утрачивает чувство собственной реальности. Ловелль пишет в письме к Роза: «А я-то кто такой? Что это за существо, высказывающееся изнутри меня? Кто тот непостижимый, управляющий движениями моих членов? Часто собственная моя рука кажется мне рукою, принадлежащею кому-то другому. На днях я испугался, когда задумался о чем-то и вдруг почувствовал собственную мою холодную руку на моем разгоряченном лбу» (кн. V, письмо 8).
В этом романе во всех направлениях играет романтическая ирония. Всюду подстановка — ожидается одно, под него подставляется неожиданное, вместо органического — механическое, вместо личного — безличное, вместо живого — мертвое, вместо подлинного — сделанное; куда, казалось бы, пришла бесконечная свобода, там все попали в черную неволю. Мировая ирония играет людьми, и кто-то один пытается овладеть ею. Сам Ловелль тоже среди пытающихся, но как будто бы больше всего возможностей у старого Андреа Козимо, который из своего угла правит и Ловеллем и другими. Но мы узнаем, что такое мировое владычество Андреа Козимо — это жалкое шарлатанство. Роза пишет из Тиволи письмо Ловеллю, где рассказывает, какой мистический балаган разыграл вчера ночью Андреа: скрывая свое лицо, с потайным фонарем в руках, молча, без единого слова, не называя себя, он заблудившегося Роза вывел к городу, а на прощанье наконец обнаружил себя. Роза увидел мертвое лицо с искривленными губами, со всеми чертами Андреа. Тот вдруг исчез и через несколько минут, как ни в чем не бывало, приветствовал Розу у входа в его жилище — в качестве обыкновенного Андреа Козимо, дивя и ужасая своим двоением (кн. VI, письмо 10). Кончина этого человека, который хотел уверить, что может все, более чем заурядна, и описание кончины Андреа снимает с него все прижизненные маски (кн. X, письмо 14).
Господство над мировой иронией не дано никому. Для этого господства нужца иная природа, чем человеческая, а Андреа Козимо только притворялся, будто обладает ею. У Гофмана в «Эликсирах дьявола» мировой иронией недаром владеет не кто иной, как сам дьявол собственной
220
персоной, и в этом тоже содержится ирония особого порядка. Когда действует отдельный человек, когда из практики людей ускользнул мир как целое, то какая же возможна речь о власти человека над миром. Предпосылка же романа о Ловелле общепросветительская: парцеллированный атомистический мир, как целое себя потерявший. Это же предпосылка иронии и игры иронии: потерянное целое каждый раз мстит за себя, злорадствует в каждой частности.
Приближение «Ловелля» к миру и мирам романтизма не только в его ориентации на иронию. В нем своеобразно и глухо звучит другая романтическая тема — творящего хаоса. За пределами мира, каков он сегодня, темная еще область производящих сил — ночь, за проходящими реальностями дня — реальность ночи, более устойчивая, хранящая запасы будущего. Если роман о Ловелле все же обладает некоторой глубиной, то это глубина ночи, присутствующая в дневных явлениях, — сами по себе явления эти в романе о Ловелле лишены ее, и об этом уже было сказано. О своем чувстве ночи Ловелль пишет: «...Вокруг меня нависла природа, как ковры, затканные изображениями странных историй» (кн. VI, письмо 8). Или в другом месте: «Все видимое нависает вокруг нас, подобное коврам с мерцающими красками и с фигурными изображениями... За коврами находится область, населенная снами и бредом, никто не смеет приподнять ковры и заглянуть за кулисы» (кн. VI, письмо 9). По поводу этих строк «Ловелля» можно вспомнить стихотворение Ф. Тютчева «День и ночь»:
На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов...
................................
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами...
У Тика в «Ловелле» в этом отличие от обычных для Просвещения романов — там быт и нравы изображались установленными от века и навек. В «Ловелле» те же нравы, тот же быт даны как бы в своем последнем заострении, а за кулисами этого романа стенает хаос, призванный все это перемыть и переделать. Даже самое, казалось бы, бесспорное в психологии людей — и то в «Ловелле» проблематично и шатко. Как будто бы нет ничего более категоричного, чем инстинкт самосохранения, однако же
221
в «Ловелле» и он не всегда верен самому себе. Ловелль пишет, как в наших снах нам снится самая головокружительная высота и как нам неудержимо хочется стремглав свергнуться оттуда вниз (кн. VÜI, письмо 28). Тик пред варяет тему Эдгара По — тему «демона извращенности (the Imp of the Perverse), причем у Тика по крайней мере эта извращенность не что иное, как яркое знаменье, насколько нравственный мир человека способен к решительным переворотам, к проверке своих первооснов. Вильям Ловелль обращается с приветствием к ночи, к хаосу: «Твоим содействием я велик, я свободен, тогда как в мире упорядоченном я пребываю в рабстве» (кн. III, письмо 22). Упорядоченный мир Ловелля, как мы помним, лжеупорядоченный, индивидуалистический.
Сочиняя «Ловелля», Тик имел в виду роман любопытнейшего французского писателя Ретифа де ля Бретонна «Развращенный крестьянин» (Retif de la Bretonne, Le paysan perverti, 1776). Ретиф излагает историю молодого крестьянина Эдмона, попавшего из деревни в Париж и там ставшего учеником живописца. Он познает парижскую жизнь во всей ее безнравственности, какие бы то ни было принципы поведения он отвергает как смешной провинциализм, проповедует правило «все дозволено»; чтобы приучить себя к недобродетели, он почти насилует жену своего наставника, хорошую и милую женщину, по-матерински его опекавшую; женщины у него сменяют женщин, прихотью случая он едва не становится любовником собственной сестры, тоже прибывшей из деревни и занявшейся в Париже проституцией.
История Ловелля по многим мотивам своим перекликается с историей Эдмона. По своему строению, по составу действующих лиц роман о Ловелле и роман Ретифа сходствуют. Как у Тика, так и у Ретифа за кулисами событий стоит некий теоретик зла — хозяин зла, проповедник и критик имморализма. У Ретифа Года д’Аррас соответствует по роли своей и внутреннему образу таковскому Андреа Козимо, а оба они в мировой литературе предшественники одного из крупнейших адвокатов дьявола — бальзаковского Вотрена. Разрушение духовное — особое амплуа, которое в истории западного романа вырабатывалось этими тремя, не считая еще и других персонажей, одних задач и одного оружия с ними.
Ретифа считают предшественником Бальзака. С не меньшим основанием можно считать его и предшествен-
222
ником Золя. Можно у него найти и предчувствие самоновейших идей, мод и вкусов, известных в современном зарубежье. Эдмон кончает особым сладострастием грязи и нищеты. Ряженный в уличного бродягу, он встречается неузнанный со своими приятельницами из общества. Эдмону хочется сбросить с себя последнее бремя человеческого достоинства и приличия. Настроения подобного рода совсем еще недавно получили в Европе и в Америке знамя, а чтобы их закрепить, выработались специальные термины. Но Ретиф, с другой стороны, весь под воздействием своей эпохи, падения и разложения старого режима. Роман его строится на борьбе двух мотивов, деревни и города. Ретиф надеется, что нравы, им изображенные, — это всего лишь город и его особые условия. Как руссоист, он верит в деревню и в спасение, которое придет из нее. У Тика трактовка несравненно обобщеннее, у него картина буржуазной цивилизации во всей ее широте, невзирая на то, город ли это, или деревня, Лондон ли, Рим ли или же, наконец, Париж. В мрачных частностях Ретиф идет через века и достигает наших дней. Тик, в частностях менее актуальный, создает, однако, резко обобщенную трагедию возникшего и возникающего общества в Европе.
Роман «Странствования Франца Штернбальда» (1798)8* — внутренняя антитеза «Ловеллю», после романа бед и нравственной гибели роман вдохновения и счастья. Все же и в «Штернбальде» в конце концов жизнь покоится на бюргерском эгоизме и на бюргерской пользе, снять ее с этих основ Тику не удается. «Штернбальд» во многих отношениях аналогия к «Офтердингену» Новалиса. Эти романы друг друга проясняют. Франц Штернбальд — немецкий художник из города Нюрнберга, ученик Альбрехта Дюрера. Он держит путь в Италию, куда и прибывает наконец. Роман о Штернбальде — прославление Ренессанса и его культуры, сначала в местных его, немецких формах, а потом во всемирных, находимых в Риме, куда Штернбальд является вскоре после смерти Рафаэля, когда все вокруг наполнено этим именем. «Штернбальд» — косвенное свидетельство, что и «Офтердинген» Новалиса тяготеет в сторону Ренессанса. «Офтердинген» не есть похвала средневековью и его ортодоксии, как часто пишут об этом. «Офтердинген» недаром лежит на
223
параллелях к «Штернбальду», средневековье у Новалиса не более как пролог к последующим цветущим эпохам.
Существенное отличие Тика от Новалиса совсем в ином. Тик не обладал даром своего друга Новалиса строить философские утопии, вот почему в его романе основы жизни оказались не затронутыми духом романтической реформы. Крестьяне и ремесленники у Тика работают как работали, купцы и промышленники наживаются, и посреди этих ординарных дел и интересов располагается художество — посреди обыкновеннейшей повседневности художники ставят свои шатры. Именно поэтому в тиковском романе художники испытывают нравственные недомогания, они чувствуют, что их окружение к ним равнодушно, а то и презрительно, а то и враждебно. Штернбальд посещает родную деревню, и ясно, что здесь он чужой человек, за званым обедом у одного фабриканта в незнакомом городе он улавливает, до чего он здесь неуместен со своим энтузиазмом художества, до чего не до художества всем этим гостям, хорошо одетым и хорошо воспитанным. Общаясь с этими людьми, можно усомниться в самом существовании прекрасных искусств, не только в их престиже. Когда изображается мир сквозь восприятие Штернбальда, то можно понять, что существо вещей не входит в него. Как в учении Канта есть «вещи в себе» и есть явления, равнодушные друг к другу, так и здесь. Первоприрода вещей и искусства не сообщаются внутренне, искусство ограничивает себя расцвеченной поверхностью всего сущего и глубже того не проникает, художественный образ не может, да и не хочет говорить еще о каких-либо истинах, кроме той, о которой мы через него узнаем непосредственно. Новалис учил, что чем поэтичнее, тем ближе к правде. Новалис: «Поэзия есть воистину абсолютная реальность. В этом зерно всей моей философии. Чем поэтичнее, тем истиннее» («Je poetischer, je wahrer»)9. Тик же боится чрезмерностей познания, всякое приближение к истине и к правде есть потеря поэзии. Она держится у Тика отдаленностью от правды и неопределенностью. Франц идет с другом своим Себастианом через поле ранним летним утром, красноватый свет дрожит на стеблях, утренний ветерок касается их и клонит их. Уже у Тика появляется хрупкая красота, за которую каждую минуту опасается художник,— красота произведений Мерике в далеком будущем. Дети света и ветра в полевом пейзаже Тика — кто они такие? Это хлеб
224
наш насущный, с которым прихотливая эта красота тоже связана прихотливо. Художник у Тика — неустойчивое существо, непрочно сидит в мире то, что питает его мысль и чувство, нет санкций ни ему самому, ни его способу понимать вещи, ни его произведениям, он мнителен, переменчив, равно податлив на радость и па печаль. Слабость искусства в мире людей, по Тику, в том, что оно чересчур обращено к себе же самому, чересчур занято собою же, поэтому так легко все за кругом искусства стоящие предоставляют его собственной участи, позволяют ему погибать и уничтожаться. У Новалиса поэты — это Клингзор и Офтердинген, слагающие стихи и песни. Но поэты, художники — это и солдаты, это и ученый в своей келье и рудокоп со своим рудничным фонарем. Беда же Тнка в исключительности поэзии и искусства. Художники — это живописцы, и только, все остальные совсем не художники. Поэтому о художническом преобразовании жизни в духе Новалиса в «Штернбальде» нет речи. Сама природа изображаемых вещей остается неизменной, хотя эстетическое кружение в окрестностях их идет не переставая. Весь роман о Штернбальде затоплен пейзажами, описаниями восходов и закатов, дрожаний утреннего и вечернего света, но Август Шлегель и в особенности Каролина, а потом и Гете корили Тика за эту его невоздержанную пейзажную живопись в романе. Особым образом Тик увеличил приток света в свой роман. Весь роман пронизан вставными стихами и песнями, подчас очень длинными, обыкновенно рассчитанными на усиленную звучность, с подчеркнутой инструментовкой, с тройными рифмами. После глухого и темного романа о Ловелле это присутствие многочисленных стиховых строк в «Штернбальде», эти стиховые массы, следующие друг за другом с небольшими перерывами, особо заметны глазу и слуху. Поэта Рудольфа Флорестана упрекают, почему в его стихах нет заключительной части. Тот стоит на своем: лирическое переживание не должно иметь точно обозначенных границ. Пусть оно будет открытым, пусть оно иссякает капля за каплей. «Разве на всякой прогулке вы сразу же помышляете, как вы станете возвращаться? Ведь это гораздо красивее, когда мелодия все медленнее и медленнее затихает, чем если водопад шумит непрестанно и соловей не в силах умолкнуть» (279).
Стихи, вставленные в прозаический текст, делают его насквозь прозрачным. «Штернбальд» похож на здание, где
225
весь фасад и вся задняя стена в сплошных окнах, окно в окно, а за этими задними окнами лежит серебряное озеро, которое все как бы вливается в них, светом все здесь переполнено, ничто не способно противиться свету.
Роман о Штернбальде идет все расширяясь. У Штернбальда множатся друзья, он путешествует и живет среди поэтов, скульпторов, живописцев, у него в дороге веселые любовные приключения. В Риме его ждет счастливое завершение любви, тянувшейся с детства через всю жизнь. Италия Возрождения — это безмерно расширенное Возрождение, как оно ему было известно еще по Нюрнбергу и по мастерской Альбрехта Дюрера. В Италии Франц наслаждается высоким общением с необычайными людьми, у него радости разговоров, вина, пиров. И все же, как бы ни раздвигался круг Франца Штернбальда-жнвописца, это все тот же круг эстетики и эстетической культуры, лежащей внутри великого круга реальностей жпзни, безотносительного к нему. Тик может прибавпть к одному искусству еще другое искусство, но проблема для двух искусств вместе взятых та же самая, какая существовала только для одного из них в отдельности. Если смешиваются вода и вино, то вода по этому случаю в вино не превратится, между водой и вином сохраняется прежняя рознь. Францу Штернбальду кажется, что, рисуя пейзаж с лунным светом, он в него врисовывал еще и соловьиное пение (176). Будь это на самом деле, то внутри искусства свершилось бы еще одно чудо, ничего не меняющее в отношениях искусства к внехудожественному миру.
Блпже к итальянскому расцвету Франца Штернбальда излагается примечательный эпизод. Рассказано о ночной работе в кузнице. Вокруг нее черные скалы, зелень неузнаваемая. Кузница освещена огнем и рдеющим железом, рабочие с молотами в руках во всех движениях своих подобны колеблющимся теням, живущим сами по себе, потоки плавящейся руды бросают свет на все это. Художники видят это зрелище и восхищаются. Они вспоминают о циклопах из древнего мифа, ковавших оружие для Марса или Ахиллеса (362, 363). К моменту наивысшего напряжения в романе его эстетического начала, на пути к Флоренции и Риму, в роман включен и эпизод трудовой действительности, тоже взятой в ее как бы чрезмерном виде. Но и здесь, как мы наблюдаем, противолежащая эстетике повседневность, проза внутренним образом не преодолевается, как это происходило, например, в
226
горной главе романа Новалпса. У Тика поэтичен не самый труд, но его зрительный образ — оптический феномен, в который превращаются трудовые действия. Кажется, что это похоже на «Арсенал» Леонардо. Но нет: Леонардо передает всю дьявольщину ковки орудия, ковки смерти. У Тика же совершенно безразлично, что куют, кто кует, любопытно лишь одно — как это выглядит.
Две больших феерических драмы Людвига Тика «Жизнь и смерть святой Генофефы» (1799)10 и «Император Октавиан» (1801—1803, публикация в 1804)11, сочиненные вслед повествованиям народных книг, являют нам апофеотику романтизма, какой она представлялась их автору. В особенности это относится к «Октавиаиу», где романтизм в раннем его, «нежном» облике трактуется с беспримерной шпротой и прославлен в последний раз. «Генофефа» в качестве программного романтического произведения повреждена религиозными влияниями, под которые на время подпал и Тик после «Речей» Шлейермахера. Никогда, ни у кого, пожалуй, нельзя найти столь несомненных, как у Тика, показаний, что религия вторглась в романтизм извне, что по первоприроде своей он ее чуждался. Тик вопреки заданию, которое он ставил себе, сбился в этой драме с религиозной ортодоксии и против намерений своих пребыл верным другом другой ортодоксии — романтической.
История пфальцграфини Генофефы такова: муж ее Зигфрид уходит с набранными им войсками иа войну против исламитов, свой замок и Генофефу он поручает юному Голо, который тайно влюблен в нее и, оставшись с нею в замке без господина, начинает домогаться от нее ответного чувства. Ответа нет, Голо злобствует против отвергающей его любовь и страшится, как поступит с ним после его возвращения граф. Он возводит ложное обвинение, будто графиня изменила графу со смотрителем замка Драго. Через какой-то срок Голо получает распоряжение от графа казнить обоих. Брошенная сперва в башпю, Генофефа там рождает Зигфриду сына. Не пришедшую в себя, ее передают в руки палачей. Повеление о казни не выполняется, палачи сжалились над нею и оставили ее бродить с младенцем на руках по дикому лесу, куда они завели ее.
227
Тик не каноничен в трактовке темы Голо. Клеветник, насильник, он, нисколько не украшенпый, тем не менее трактован лирически. Прекрасная, печальная песня Голо, то всеми строфами своими, то отрывчатая, разбитая, едва узнаваемая, соответственная меняющимся душевным состояниям, плывет через всю драму и заставляет не только судить его, но и задуматься над ним. Голо неповинен в чувстве к Генофефе, оно сильнее его самого, оно сама природа. Недаром песня Голо слышна в поле и по взгорьям, душа Голо вся в этой песне, а она как бы ропот и жалоба естественного мира, что лежит окрест. Очень важная минута в драме — признание, сделанное Генофефой перед старухой Гертрудой: воспитанная в монастыре, Генофефа считала себя Христовой невестой, жених небесный являлся ей во сне, и когда граф Зигфрид взял ее из монастыря и привез в свой замок, то юноша, который бросился тут же им навстречу, показался ей дивно сходным с этим ее монастырским сновидением. Юноша был Голо. Есть скрытая предназначенность Голо и Генофефы друг для друга, само естество так хотело бы, но в человеческом мире все запуталось, неудержимая любовь, и святость, и обязанности брака и семьи, от основания ей посторонние, ибо Генофефу за графа Зигфрида, не спрашивая, выдали ее родные. Она умеет до самого конца оставаться вернейшей женой, но Голо это стоило трагедии, а ей несчастья. Подлинное содержание этого произведения — судьба стихийного чувства, непризнанного в обществе людей, погубленного ими, но и их самих погубившего. Если же говорить о содержании официальном, то оно не в пример проще: драма о том, как один нечестивец хотел посягнуть на некую благочестивую женщину, жену его господина.
Голо объясняет няньке своей Гертруде, чего он хочет: возможного, оно же и невозможное12. Чувство Голо к Генофефе по непреложности своей имеет правоту и святость, а по господствующим понятиям оно есть кощунство и возмутительная дерзость. Для Тика, романтического поэта, любовь не может явиться преступлением против духа, в любви он видит духовность особого рода, самую прекрасную и самую утонченную, — любовь, по Тику, цветение естественного мира, из глубпны его идущая одухотворенность. Своеобразие драмы Тика — в ее наполненности ландшафтами и предметами культуры. По Тику, при-
229
рода тоже человек, а этот, вольно или невольно, тоже природа. Предметы культуры опять-таки природа на ее путях к человеку. Тик прибегает к своеобразной методе. В его драме мало оголенных вещей, материальность здесь как бы приодета. Она дается через чьи-то слова, переводится в человеческую речь. В самом начале драмы угольщик и слуга осматривают капеллу, увиденное там названо словами, вещественное как бы оттаяло в словах, утратило часть своей вещественности. Далее пастухи в поле рассказывают друг другу, что они видят вдали: Голо на его скакуне с треплющимся на ветру султаном.
В более поздней сцене обитатели замка осматривают мавританскую саблю, отобранную у врага и присланную графом с войны. Сабля налицо, но Вольф рассказывает, какая она, какие рубины и бриллианты у нее на рукояти, какого цвета они. Метода Тика в драме родственна Новалису в его романе, где тоже предметы предметного мира равномерно растворяются в диалогах, но Тик не разделяет с диалогами Новалиса их философской тенденции. Тик не ищет философского слова, с него довольно духовности, присущей слову обыкновенному.
Надо думать, фабула святой Генофефы прельстила Тика своими эпизодами, где рассказано о жизни Генофефы с ее младенцем в диких лесах. Графиня питается кореньями и травами. Ее детеныша вскармливает лань. Волк приносит к ней в зубах овечью шкуру, чтобы она могла укутать его. Природа полна благодеяний. В глубине своей природа не ведает вражды и борьбы. Мальчик подрастает и ездит верхом на волке, зайцы бегут за ними вслед, птицы садятся к нему на голову и на руки. Лесное чудо более похоже на пантеизм, чем на каноническое христианство. Впрочем, у Шлейермахера, к которому Тик тогда был близок, христианство сочеталось с пантеизмом, выражало себя в образах его и понятиях.
В драме Тика весьма ощутимы мотивы космоса, мирового единства и мировой неделимости. В этой весьма обширной драме нигде не рвется время и не рвется пространство. Граф Зигфрид со своими воинами ушел на войну с неверными. После военных сцен опять дается замок Зигфрида, с теми, кто остался дома. Всячески прочувствовано, что это «вдовствующий замок» — без хозяина. Дается как бы ответ: заглянем, что делается без нас, и вот пространство, где нас нет, и где следы наши еще совсем не затерты. Отсутствующие как бы присутствуют в
229
этой сцене, связь пространств не нарушается. В той же сцене говорится о кровавых отсветах в облаках, это дальнодействие битв, которые ведет Зигфрид с сарацинами, это единое время, охватывающее великие дела там и мирное сидение у домашнего очага здесь.
Еще в 1798 году Тик опубликовал за шесть лет до того им написанную маленькую драму в прозе «Расставание»13. Она выдержана в манере тогдашних мещанских драм, но в ней содержится и нечто способное обещать будущие драмы-феерии. В ней три действующих лица, Карл Валлер и Луиза, его жена, а третье лицо до поры до времени всего лишь портрет на стене. Человек, на портрете изображенный, тоже потом появляется в качестве реального персонажа. Валлеры как будто бы все, чего хотят, имеют, перед зрителем тесная, сжатая со всех сторон идиллия домашней жизни, счастье, хотя и застойное счастье. Когда же возникает третий, до того известный только по портрету, все благополучие немедленно разрушается, ибо это мнимоумерший Рамштейн, бывшая любовь Луизы, и прежние чувства возрождаются с обеих сторон. Происходит колебание горизонтов и масштабов драмы, что важнее, чем перемены в фабуле. Валлеры жили локальной жизнью, в собственном своем семейном доме, ото всех и ото всего отрезанные, прошлое, будущее, люди вокруг — все для них стало нейтральным. С появлением Рамштейна в драму ворвалось, как живая сила, прошлое, оно расшевелило настоящее, оно внесло движение и связало этих в счастье своем увядающих людей с миром, который больше их двоих. Прошлое еще недавно было мертвым, согнанное все целиком в один настенный портрет, а сейчас оно разбушевалось. Время — сознание единого, сплошными волнами идущего времени — вошло в мещанскую драму и отменило ее прозаизм, убожество и узость ее, обычай ее помещаться со своими событиями между одной датой и другой, закрываясь таким образом от движения жизни во всей его громадности.
Драма «Расставание», как и всякая другая драма, как и всякое художественное произведение, единую и неделимую жизнь выражает, как если бы она была делима, через отдельные ее куски и эпизоды. Обычно художник соблюдает спокойствие относительно того, что лежит между этими эпизодами, лишь бы оно в меру надобности угадывалось. На жизнь в ее сплошном виде он только указал, и этого довольно. По-иному в драме Людвига Тика. Весь
230
пафос драмы, чтобы восстановить жизнь, всю, как она идет без перерывов, за барьерами всяких литературных и театральных условностей, — всю сплошную, безусловную жизнь, в виду которой убывают, а то и вовсе сходят на нет притязания отдельных эпизодов, ее представляющих. В мещанскую бытовую драму, по жанру и стилю своему условнейшую из условных, проникает абсолютная жизнь — в этом художественный смысл «Расставания». Контраст с реальностями быта вносит в ощущение абсолютной жизни остроту, а свободу абсолютная жпзнь приобретает, когда реальности эти устраняются, как в «Генофефе» или в «Октавиане».
Хотя «Святая Генофефа» в стиле, в поэтике и предваряет «Октавиана», но «Октавиан» превосходит ее масштабами действия и взят в совсем ином ключе. В «Октавиане» все идет к наилучшему, и эпилог его — сплошное бесконечное ликование. В «Генофефе» есть своя эпоха и своя специальная историческая тема, — все движется вокруг борьбы европейского Запада с сарацинами. «Октавиан» переливается за край каких-либо специальных образа и темы. В «Октавиане» тоже идет борьба между исламистским Востоком и христианской Европой, но что это — средневековье? Нет. Античность? Тоже нет. Октавпан — римский император, но он сражается с неверными под стенами христианского Парижа, где правит благочестивый король Дагобер. На Париж нагрянул с полчищами восточных союзников султан вавилонский, а Дагоберу пособляют все западные короли. Одни из действующих лиц — парижане, туземцы, другие пришли из Святой земли, из Римской империи, из стран, никому не ведомых. В «Генофефе» есть очерченный исторический момент, действие приурочено к замку пфальцграфа Зигфрида или же к окрестностям замка. В «Октавиане» на сцене кипит чуть ли не вся как есть история Земли в полном ее составе, действие происходит на суше, на море, в пустыне, в городах, в Европе и на Востоке, осуществляется призыв Новалиса писать «исторические драмы, где охвачены целые нации и всемирная история»14.
Как во французской народной книге, по которой написана эта драма, так и в самой драме отсутствуют географические препятствия, далекие страны придвинуты совсем близко друг к другу. Нет препятствий и во времени. Ничто в истории не умирает, древний Рим жив по сию пору, и древнеримский император со своими сыновьями Флоренсом
231
и Лео принимает прямое участие в событиях христианского средневековья; различия забыты, даже то, что Октавиан и его сподвижники другой веры, — и это забыто. Сплошное время и сплошное пространство, до которых так жадны романтики, — то и другое присутствуют в феерии Тика. Ей нужна универсальность, а это сквозное время, это сквозное пространство составляют для универсальности предварительное условие. Мировые время и пространство заполняют эту драму своим героическим дыханием, и нужно вспомнить слова Августа Шлегеля по поводу романтизма, для которого пространство и время «непостижимые, сверхнатуральные существа», в себе содержащие «нечто божественное»15. Пространство и время без дат, без лимитов в самом деле приобретают в романтической драме характер жизненных сил, особых, первоосновных, несущих на себе богатства, какими только прославлено бытие. Реалистическое искусство трактовало время и пространство точно датированными, классическое искусство — высокообобщенными. В романтизме нет ни того, ни другого, в нем даны единое мировое пространство, где все границы проходимы и единое время, в котором ничто не умирает, все живет и готово принять в свою среду дальнейшую жизнь.
«Октавиан» — драма многофигурная, и Тик радуется на это обилие и на эту разность фигур, выводимых на сцену. Тот самый принцип многонациональности, который так важен в культур-философских трактатах романтиков, он же превращается в драме Тика в непосредственный практический источник художественных ценностей. Зритель может любоваться мирами европейских народов в их сходстве и несходстве, в их живейшей смене одного другим, причем к ним прибавлены и в немалом количестве лица Востока. В «Генофефе» только начинался этот мотив разноликих народов, в «Октавиане» развитый до чрезвычайности. И во всех этих толпах, проходящих по сцене, какое-либо лицо, однажды отмеченное автором, никогда не пропадает потом без вести, пусть роль, ему предоставленная, будет самой маленькой. Например, Антонелла, брошенная в лесу своим возлюбленным. Ее нанимает в кормилицы для младенца Флоренса подобравший его на дороге старый торговец Клеменс. Это, собственно, все об Антонелле. Но в драме она не затеряна. С Клеменсом она попадает в родной ей город Париж, там выходит замуж за Людвига, его приятеля, живет при нем как добрая жена,
232
и под конец мы узнаем о ее смерти. То жесамое крестьянин Хорнвилла, осевший в стране неверных, чья дальнейшая судьба прослежена почти без пропусков, хотя Хорнвилла — персонаж малозначительный. Сыскался и тот солдат, что некогда купил младенца Флоренса у рыцаря, тут же мы узнаем и о рыцаре, отбившем Флоренса у обезьяны, его похитившей.
Роман XVIII века за долг почитал рассказать и досказать историю каждого из персонажей: кто и как устроил свои имущественные дела, между кем и кем заключены были браки, кто, когда и как скончался. Делалось это ради наибольшей достоверности всего романа в целом, ради полноты сведений, убеждавшей в подлинности каждого нз них отдельно взятого.
Разумеется, обстоятельность в драме Тика вызвана не попечением его о документальной правде. Подробности у Тика имеют значение эмоциональное и моральное; это своеобразный авторский уход за персонажем, способ охраны его. Тик заботлив к индивидуальности — к каждой индивидуальности. Заботу эту прокламировал философски Шлейермахер — в «Речах», в «Монологах» в особенности. Она же и у Новалиса-философа и у Новалиса-поэта. Новалис: каждый вправе занять королевский престол — «Аllе Menschen sollen thronfähig sein»16.
В «Октавиане» создается впечатление жизни, льющейся непрестанно, — «избыток жизни», как назвал Тик гораздо позднее одну из своих повестей, «Des Lebens Überfluß». Тик сохранил в своей драме всю живость и весь юмор французской народной книги, из которой он исходил. Август Шлегель в «Берлинских чтениях», в ту пору, когда Тик уже занят был «Октавианом», расхваливал таковский первоисточник, о французском тексте ои говорил, что в нем «господствует на всем его протяжении добрый юмор, что он «обольщает французской веселостью, в сочетании с силой вымысла, весьма беззаботного во всем, что относится к правдоподобию или же к боязливым мотивировкам»17. В драме Тика, как на это давал свои санкции первоисточник, все находится во внешнем и внутреннем движении, всюду господствует относительность, великое становится малым, сильное слабым, прекрасное смешным, и обратно, все опять готово перейти от худшего к лучшему. Можно было бы сказать, что персонажи подчиняются принципу сменяемости, они не пригвождены навсегда к тому же положению, к тем же занятиям, к тому
233
же образу жизни и к тем же мыслям. С принцем Флоренсом, о котором до поры до времени ни он сам, ни окружающие не ведают, что он родной сын императора Октавиана, судьба обращается довольно прихотливо. У него выдающаяся физическая сила — рыцарская, богатырская, и вот из него хотят сделать сподручного при мяснике, приемный отец Клеменс дает ему для опыта первых быков. Мясницкая карьера не получилась; его определяют таскать мешки с деньгами на рынок, где сводный брат его Клауднус сидит за столом менял. Идет как бы комедия значений и относительностей — те же вещи, те же субстанции могут значить и то, и другое, и третье, могут действовать так и этак. Богатырская сила Флоренса — это признак его высокого происхождения и его геройского призвания, она же делает его весьма пригодным работать при мяснике или же служить в носильщиках. Такая же комедия значений и стоимостей распространяется на вокруг лежащее. Флоренс полученных быков выменял на сокола, — плутоватый рыцарь воспользовался его восторгом перед соколом, дома ужасаются этой коммерции Флоренса, обмен действительно чудовищно неравный, но здесь роль играет и другая сторона: для Флоренса с его наследственным инстинктом охоты сокол не только равен самым лучшим быкам, но еще и стоит гораздо большего. Далее Флоренс свой мешок с пятьюстами дукатами выменял на коня, — здесь те же колебания значений, та же игра стоимостей, хозяйственных, рыночных и определенных одной только покупательской потребностью.
Когда война с неверными в разгаре, происходят превращения совсем иного порядка. Судьба вырядила принца и героя Флоренса обыкновенным бюргерским сыном, но вот его приемный отец, старый буржуа города Парижа, становится героем из волшебной сказки. Этот благоразумный п крайне осторожный человек, созданный для дома и прилавка, мирный житель по призванию, пробирается в мусульманский лагерь и выкрадывает знаменитого коня Понтифекса, на котором привык красоваться сам султан вавилонский. Правда, Клеменс действовал буржуазным расчетом и хитростью, а все же его воровство — первоклассный подвиг. У Тика воин ходит в бюргерах, бюргер делается воином, в драме его нет твердых профилей, нет персонажей, определившихся навеки, царство метаморфозы и жизненного волнения ни на чем не успокаивается.
234
«Император Октавиан» — огромное двухчастное произведение, наппсапное в театральной форме и, однако же, ни на какой сцене не мыслимое. Как о более позднем «Кромвеле» Виктора Гюго, об «Октавиане» можно сказать, что он театрален и несценичен, при всех своих театральных достоинствах для постановки непригоден решительно, разве что это был бы спектакль в духе средневековых представлений, рассчитанный на двое суток, а то и на трое. Спрашивается, к чему же нужна была Тику театральная форма? Ответ таков: ради зрелищностп. Всякий театр есть зрелище, но не всякое зрелище есть театр. Тик ппсал «Октавиана» в театральной форме, желая создать особую, зримую литературу. «Октавиан» — литература, обращенная к созерцающему глазу, сценарий, остающийся в пределах литературы, не притязающий, чтобы по тексту его когда-либо разыграли спектакль. У Э.-Т.-А. Гофмана многие повести его, в сущности, принадлежат к жанру сценария, выполнены как сценарии, хотя читатель об этом не предупрежден. Тик разбивкой текста на сцены, отсутствием авторской речи и непрерывностью речей и диалогов персонажей предупреждает, каков жанр его произведения. Сценарная форма делает неизбежным развертывание действия у нас на глазах. Все происходит только в настоящем времени. Отсюда и картинность «Октавиана», он весь в движущихся картинах. Отсюда и чувственная форма, приданная всему произведению. Чувственно-созерцаемы, наглядны не отдельные эпизоды, а, благодаря господствующей здесь сценарности, — все подряд, все сплошь, все пройдено глазом и все доступно глазу, чувственная форма как бы безотлучна при этом произведении. Каких бы тем, людей, событий, обстоятельств ни коснулась фабула, они, как правило, присутствуют, сценарий ставит их перед нашими глазами. Присутствие — именно то, нужное здесь слово. Немецкое «Gegenwart» — очень богатый термин, он сразу означает и настоящее время и присутствие, справедливо сводя эти понятия в одно. Форма сценария сообщает признак присутствия предметам изложения. Чувственный образ, приданный событиям, обязан двум отвлеченным силам — настоящего времени и силе присутствия, наличия. В «Генофефе» тоже действует сценарная форма. Уместнее же говорить о ней по поводу «Октавиана», ибо в «Октавиане» картинность создается по преимуществу ею одной только, а «Генофефа» сама по себе живописна, наполнена ландшафтами, эпизодами восходов и
235
закатов, зорь, огней небесных. Эстетическое впечатление поддерживается в «Генофефе» музыкой, песней. В «Октавиане», как и в «Генофефе», сколько угодно игры метрическими формами, сонетами, октавами, терцинами, произносимыми на сцене, но песни, простой лирической песни здесь не услышишь, метрика снедает музыку. В «Октавиане» главный эстетический эффект держится на чистой театральности, без вспомогательных средств, на особой его театральности без театральных подмостков. Поэтому чувственная стихия в произведении обладает теми именно свойствами, которые и ценили в ней романтики. Чувственность, ниспосланная отвлеченными силами, не могла не отличаться одухотворенностью. Нет густых, сгущенных красок, нет слишком вещественных вещей в нашем кругозоре. Нет ничего слишком навязчивого для нашего взгляда, который постоянно окунается в просторы географические и исторические. В «Октавиане» из пяти чувств активно зрение, и только зрение, самое из них теоретическое. Оптический образ находится на дороге от материальных вещей к миру умопостигаемому. Чувственность в «Октавиане» рассеянная, зрительный образ оставляет нам духовную свободу, но и скрепляет нас с физически переживаемым миром.
Жанр сценария соответствовал художественным и философским запросам ранней романтической драматургии. На переходе от Фихте к Шеллингу у романтиков все тот же замысел: сохранять духовную свободу, войдя, однако, в чувственную стихию. Художественный образ в «Октавиане» покоится в чувственной оболочке, не порабощаясь ею, однако.
Фабула драмы Тика сказочная и орнаментированная. Император Октавпан обрекает на изгнание свою жену Фелицитас, ложно обвиеенную в супружеской пзмепе. С нею двое младенцев сыновей, один со временем получает имя Лео, имя другого Флоренс. После фантастических перипетий Лeo остается прп матери, которая вместе с ним поселяется в Палестине, Флоренс, как об этом уже говорилось, усыновлен одним буржуа города Парижа. Ход драмы тот, что это разбившееся по всему свету семейство Октавиана в конце концов через счастливейшие случайности снова собирается воедино. В фабуле господствует желание симметрии, поэтому и можно называть ее орнаментированной, — у оставшегося без матери Флоренса и у Лео при матери его очень разные судьбы, но это разошедшиеся по-
236
ловины той же семьи, и они должны соединиться, тем более что сохранился центр для них — император Октавиан, по-прежнему правящий в Риме. Из распавшегося целого должно же целое вновь составиться, вернуться к самому себе. Всемирные события, борьба Запада с Востоком способствуют тому, что семья Октавиаиа в конце концов вся опять собрана, все нашли друг друга, все друг друга признали и зажили отныне в великом благообразии.
История Октавпапа, Фелицитас и их сыновей в сжатом виде выражает смысл событий, совершающихся в мире. Всемирная жизнь тоже собирает себя, свои разобщенные части, как это было с семьей Октавиана. Территории с их различиями теряют силу, ибо под стенами Парижа представлены все они, западные и восточные, люди в тюрбанах и без тюрбанов. История человечества больше не знает отделенности друг от друга эр и эпох, так как античный Рим вливается в состав европейского Запада, ведущего борьбу с исламом. В этом «концерте судьбы», вернее — судеб, принимает участие и природа. Я пользуюсь выражением самого Тика: судьба его казалась изумительным концертом, говорится в «Штернбальде» (кн. I, конец главы 8). «Октавиан» обходится без пейзажей, но природа к нему приобщена в качестве действующих сил: то ненадолго через обезьяну, похитившую у Фелицитас младенца, то через сказочного грифона, который уносит этого младенца вместе со львицей, схватившей его, на остров в океане, то надолго, навсегда, через вышесказанпую львицу, повсюду за ним следующую по пятам на правах второй его матери, ибо она вскормила его, от львицы и имя его Лео.
Тик созидает свой единый orbis pictus со скрытым юмором. Он пользуется, как медицина это делает, народными средствами — наивностями, милыми неграмотностями фольклора. Император Октавиан, союзник парижан, осажденный восточными ратями Париж — тут сплошь одни ошибки и анахронизмы. Август Шлегель в «Венских чтениях» защищал анахронизмы18, романтикам в анахронизмах, особенно в фольклорных, мерещилась нечаянная философская глубина, — в анахронизмах угадывалась связь исторических времен, распавшаяся для рассудочного сознания. Тик тоже через анахронизмы, через нарочитую безграмотность выражает попирающую эмпириков идею единого во времени и в пространстве космоса, сам этот образ космоса строится на заведомо наивных представлениях. Мир как целое у Тика освещен тонкою усмешкой.
237
интеллектуальной иронией, он в своей феерической драме не забывает о мире в его рациональном, аналитическом виде. Гундольф написал о Тике: «У Тика ирония служит сводницей между его критическим рассудком и его фантазией поэта»19. Гундольф, мало расположенный к Тику, выражается с намеренной грубоватостью, но мысль его верна: ирония в «Октавиане», например, мирила просветительскую совесть Тика с романтизмом, досконально подтвержденное — с предвосхищаемым и мечтаемым.
Для апофеотпкп романтизма одного только представления мира как единого целого еще недостаточно. Романтизм требовал целостности, — мало того, что времена, пространства, народы смежны друг другу, соприкасаются, — романтикам нужны сопричастность, одухотворенная связь, братство, глубокая общность. Мир, увиденный как целое, позволяет предчувствовать целостность в качестве возможности, заложенной в него. В «Октавиане» бьет час романтического исполнения: великие мировые возможности вступают в силу, всею массою своею переходят в действительность. Столь долго жившие раздельно и враждебно друг другу Восток и Запад в эпилоге «Октавиана» братски сливаются, над драмой воцаряется благовест перекрестных браков, — Флоренс, сын Октавиана, женится на прекрасной Марцебилле, дочери вавилонского султана, Лео женится на Леалии, подружке ее. Запад и Восток отныне единая кровь, единого духа организм.
«Октавиан» Людвига Тика сходствует с шекспировскими «R
Mondbeglänzte Zaubernacht,
Die den Sinn gefangen
hält,
Wundervolle
Märchenwelt,
Steige auf in der alten
Pracht, —
238
Тик взывает к волшебствам лунной ночи, к любви, к великолепию старинной сказки. В понимании романтиков любовь — единое слово, в котором содержится многое. Здесь и телесные страсти, и духовная тоска, духовный голод, здесь и всякое положительное чувство, вызываемое жизнью в мире; авантюрный дух, которым полна его драма об Октавиане, тоже для них дух любви, так как он порождается деятельной любовью к тому, что вдалеке от нас, капризами ее, приступами ее. Авантюра — это и любовь к видимому миру, это и романтическая свобода в нем.
Всего замечательнее, что у романтика война, антагонизмы тоже способны послужить делу любви против их собственной воли. Не будь великой войны, изображенной в драме Тика, не сойдись в битвах народы земли лицом к лицу, не состоялось бы и их великое объединение. И у Лессинга в драме его принят во внимание дух зла, но у просветителя он призрачный, кажущийся, явившийся по недоразумению. У Тика зло есть подлинное зло, и на войне в «Октавиане» льется подлинная кровь. Но эти реальности зла и потерь создают у Тика реальную почву для любви и для счастья любви, для конкретности благ ее. Без отвлечения от одних или других всем мотивам жизни дается здесь исход. В развязке драмы император Октавиан ищет особых примет, которые ему доказали бы, что Лео — действительно сын его. Октавиану объясняют, как близоруко и нечутко он поступает, — приметы, документы мало значат, надо прислушаться к внутреннему голосу, к тому, что нам подсказывает влечение. Если оно отсутствует, то к чему отыскивать родство, узы между людьми создаются любовью, а не рассуждением и отвлеченной нормой. Улики и приметы нужны в официальном обиходе, на поверхности жизни, настоящие же связи между людьми покоятся в ее малоосвещенной и едва доступной глубине. Вразумляет императора Октавиана комик, шут Хорнвилла, лицо менее всего официальное и деловое.
Пять комедий Людвига Тика, написанных в самом конце XVIII века, одна за другой: «Рыцарь Синяя Борода» (1797), «Кот в сапогах» (1797), «Принц Цербино» — продолжение «Кота» (1798), «Мир наизнанку» (1798), «Жизнь и смерть Красной Шапочки» (1800)20.
Все они могли родиться только от примера комедий-сказок Гоцци, хотя и далеко отошли от него. Гоцци
239
дороги были не его фиабы как таковые. Он их ценил как оболочку и защиту для патетических, высоких драм, которые скрывались в них и в своем естественном виде, изложенные на языке реальностей, не вызывали больше доверия. У Тика сказка есть сказка, и она не таит в себе, как то было у Гоцци, трагедию возвышенных страстей и дел. Тик пишет свои театральные фиабы, отстаивая права сказки как таковой, права поэта на вымысел и на импровизацию21.
Комедии Тика последовательно полемичны. Он состоит во вражде с бюргером, с бюргерскими привычками и убеждениями в эстетике. Комедии Тика сплошная неприятность для бюргера, систематическое причинение ему обид и огорчений. Более других романтиков, настойчивее и последовательнее, нежели те, Тик оспаривает притязания бюргерского реализма как единственной доктрины, допускаемой в практике искусства. В комедии «Кот в сапогах»22 на сцену выводится весь театральный партер, мы слышим и узнаем, чего хочет от искусства бюргерский зритель; он требует, чтобы имитировались, притом досконально, знакомые ему предметы. В междудействии «Кота» между первым актом и вторым кто-то из публики расхваливает недавно увиденный спектакль с лошадьми и с гусарами, жаль только, не удалось разобрать, — какого это полка были гусары. Покажите ему настоящих лошадей и точно одетых гусар — вот смысл искусства для бюргера.
В «Коте» человек из партера, Беттихер, постоянно докучает тонкими своими замечаниями по поводу актерской игры — до чего в ней все натурально. И на самом деле существовал такой знаток и ценитель театра под этой фамилией. Тик его не пощадил. В комедии своей Тик инсценировал эпизод за эпизодом сказку о «Коте в сапогах», как она рассказана у Перро. Бедняга Беттихер волей-неволей должен принять это надругательство, согласиться на кота, захватившего подмостки, по Беттихер хочет себя подбодрить, по дороге спектакля ловя разные его тонкости. Кот достает из сумки кроликов за уши, что кроликам всего удобнее, тогда как король прямо хватает их руками. Посмотрите, как кот изобразил свое оцепенение, когда орел сел ему на голову, и посмотрите, как кот поигрывает своей тросточкой. Беттихер — энтузиаст искусства деталей, у романтиков упавшего в цене. Они хорошо знали, насколько оно техничнее и легко поддается выучке. В акте
240
первом сапожник, чтобы сшить сапоги, снимает мерку кота и просит, чтобы тот вобрал когти внутрь, иначе они мешают. Деталь эта правды не прибавляет, она дает обратный эффект и усиливает фантастичность эпизода. Спустя какое-то время кот, которому шьются сапоги, босой и по-прежнему беззаботный, разгуливает по крыше. По господствующей эстетике мещанской драмы искусство сводится к высокой и изощренной технике имитации. В этом разница романтиков и просветителей: у романтиков искусство рождается23, у просветителей оно сделано, оно рукотворно. Тик демонстрирует, насколько техника ненадежна, инстинкт вернее заученностей и приспособлений, технику навязали живой натуре, и та идет своим путем, а техника своим. Актерам натвердили их роли, тем не менее в «Коте» и король, и принцесса ролей своих не выдерживают. Другие актеры попросту забыли, что у них написано в тетрадке. Даже театральная машииерия вдруг отказывает, и театральному машинисту приходится вылезать иа сцену, хотя ему и положено находиться за кулисами в совершеннейшем небытии. В спектакле самый бесспорный успех выпадает на долю безгласных вещей — в эпилоге «Кота» зрители вызывают декорацию, и, чтобы ей предъявиться перед ними, нарочно подымают занавес.
Техничность в спектакле подразумевает аналитический стиль его, строгую расчлененность. По поводу «Кота в сапогах» с прекрасным пониманием дела писал Карлейль: «Грубоватый, веселый юмор царит в этой странной фантасмагории, где и сцена, и зрительный зал, люди и животные, земля и воздух — все перемешано в страшной путанице и где все освещено и согрето румяным огнем настоящего веселья»24. По-особому Тик и в этом спектакле достигает впечатления сплошной жизни, столь ценимого им. Сквозь преграды деланного и сделанного в зрительный зал, занятый бюргерами, устремляется непонятная для них пугающая стихия жизни в ее существе, в сплошном ее виде.
Назначение высокой техники служить иллюзии, а между тем у Тика иллюзия театра и литературы постоянно нарушается и разрушается, техника и является орудием этих разрушений, она создает арену для них. В комедии «Принц Цербино» (конец II акта) — королевская опочивальня, нежный разговор короля и королевы перед сном; как вдруг королева делает королю замечание насчет версификации — он все время говорил труднейшим в
211
версификации размером — гекзаметром, и последний стих у него хромает. Король обижен, королева не умеет ценить спондеи. Короля просят поправить гекзаметр, как если бы дело шло о починке водопровода, который не так работает.
В той же комедии принц ближе к концу впадает в отчаяние, путешествие его не приводит к цели, и он велит крутить спектакль к началу, все эпизоды путешествия повторяются в обратном порядке. Разумеется, именно то обстоятельство, что спектакль есть техника, оно-то и наводит на мысль, что можно обращаться с поставленными на сцене событиями как захочется.
Герой спектакля сознает себя не посреди природы, а внутри технического сооружения, вход в которое и выход из которого зависят от человеческого произвола.
В комедии о Синей Бороде Тик дразнит бюргера самым коварным образом. Он как будто бы идет ему навстречу, и из коротенькой сказки Перро учинена основательная драма в четырех действиях со множеством действующих лиц. Кажется, что Тик только того и ищет, как бы нарушить сказку, и прежде всего обстоятельностью. В комедии о коте кто-то из зрителей, присутствующих на сцене, недоумевает, почему в пьесу вставлена сущая небылица — кот в сапогах, да еще говорящий и по-человечески деловой, а все в пьесе делают вид, будто так оно и должно быть и дивиться тут нечему.
Иначе в комедии о Синей Бороде — сама эта синяя борода
главного персонажа постоянно остается на виду и постоянно обсуждается. Признаки
сказки одновременно и подчеркиваются и всеми средствами ослабляются. Синяя
Борода имеет имя и фамилию — Петер Бернер, что вовсе сказочному персонажу не
положено. У Перро довольно неожиданно к самой развязке выясняется, что у
героини есть сестра и имя сестры —
242
в фабуле ничего не предваряет и идет от внезапности к внезапности. Агнеса еще до брака с Синей Бородой рассказывает, до чего она любопытпа и как хотела бы жить в замке, с ключами в руках бродить из покоя в покой, узнавая, что скрывается в каждом из них. Вопреки всему этому противлению духу и стилю сказки, все совершается, как это предуказано у Перро, драма Тика вся в борьбе со сказкой, которую, однако, она не в состоянии одолеть. Хотят погасить огонь, его засыпают песком — песками мещанской бытовой драмы, а огонь вырывается то здесь, то там, живучий и неугасимый. Это похоже на то, как у Гоголя в «Сорочпнской ярмарке» все опасаются красной свитки, и ничего с ней поделать не могут, красная свитка неистребима, — так здесь неистребим сам главный персонаж, Синяя Борода, со своей фантастической темой, со всеми событиями, за ним следующими. Ирония Тика — в этой великой неподатливости волшебного, сказочного, романтического начала, отвергающего любые попытки приспособить его. Тпк отяжеляет своих персонажей и все же сохраняет им сказочную легкость и непроизвольность в конце концов. Агнеса, у которой дома трое братьев и один из них фихтеанец, все равно испытает судьбу седьмой жены дикого неуча, на ней женившегося, и спасется не иначе, как это дано в сказке. Кажется, все складывалось, чтобы под удар иронии поставить сказку, а общие итоги освещают иронией мещанскую драму, надвинувшуюся на сказку и потерпевшую поражение. Сказка, которая будто бы была предметом иронии, оказалась источником ее.
То же самое в драме о Красной Шапочке, быть может, самом изящном и по юмору самом утонченном из сценических созданий Тика. Тик и здесь исподтишка, временами же весьма явственно, делает попытки разрушить сказку прозаизмами. Семейная группа вокруг героини умножена. Красной Шапочке придан папаша, старый пьяница, которого ноги плохо держат. Самой Красной Шапочке семь лет, но она отличается неудобной наблюдательностью в отношении родных и близких, к тому же очень рассудительна. При всем том она поступает, как велят ей детская отвага и детское любопытство, верная стезя, на которую сказка вывела ее. Смелее всего у Тика трактован волк. В сказке, в басне волку положено красть и убивать. У Тика волк разбойничает по философским мотивам. Мало того, что он обладает законченным мировоззрением, оно
243
к тому же прошло через кризисы и эволюцию. Было время, когда волк веровал в добро и в прогресс, хотел служить «поступательному движению века», как он выражается, ждал водворения на земле братства всех живых существ, но люди умели жестоко его разочаровать, насмерть обидели его подругу и возлюбленную, и с той поры он лютый безбожник, хищник по убеждению, мститель людям, необузданно следующий велениям свирепой своей натуры. Сочиняя для волка столь злободневную тогда идейную биографию, приписывая ему враждебность к недавнему просветительству, к пафосу морали в нем, Тик играет не только антропоморфизмом, но еще и временем, парадоксальным сокращением сказочной перспективы, доведением действующих лиц сказки чуть ли не до очной ставки с нами. И в этой драме Тика прозаизмы, актуальности бессильны уничтожить сказку. Она здесь воцарилась во множестве подробностей, в атмосфере, в пейзаже и поэтому бессмертна. Пейзажи — волшебный лес, через который держит путь к бабушке Красная Шапочка, весь в цветах, в звуках, с птицами, которые поют и разговаривают, с добрым псом, который предостерегает. Когда девочка идет через лес, то единственная проза в этой картине — вареная курица, которую она несет больной бабушке, но и это милая, добрая проза, все остальное живое, веселое и цветистое. В эпилоге бабушка мертва, внучка мертва, волк убит, но сама сказка здравствует, невзирая на художественный метод, который применялся к ней.
В комедиях Тика выводятся коты, волки, собаки. В комедии «Принц Цербино» собака читает в газете объявление о собственной пропаже. Тик изобретает эти фабулы не столько с целью возвеличить зверпный интеллект, сколько ради того, чтобы понизить цену мира человеческого. У Тика мир остается незаконченным, с какой бы стороны в него ни входпть. Граница между миром человеческим и миром животным у Тика все еще не закрылась, бюргеры в партере «Кота в сапогах» напрасно так негодуют, что их хотят занять представлением зоокомедии. Кот на сцене более им сродни, чем они хотели бы думать. Как и они, кот отпетый утилитарист, весь в инстинктах обладания и пользования. Когда он слышпт соловьиное пение, то суть для него не в музыке, а в том, что этой птпчкой можно славно поужинать. Прожорливость и обжорство, начавшись в животном мире, продолжаются в мире человеческом даже в среде коронованных
244
особ. Кот умеет угодить королю, поставляя ему кроликов к обеду. Где кот, там профанация. Она не только в том, что кот осмеливается в своих собственных целях декламировать из Гете «К месяцу». Все его поведение в комедии — профанация. Кот самый наглый и бесцеремонный делец, какого можно только измыслить. Он профанирует даже такой священный институт, как собственность, уже во всяком случае — собственность феодальную. Стоит только проследить, как он сколачивает состояние, да еще огромное, для своего хозяина Готлиба, который отныне именуется маркизом Карабасом. Все его земли, все приобретения — номинальные. Кот превосходно постиг, что родовые земли по сути дела своим владельцам, не сеявшим там и не жавшим, принадлежат только номинально. В 1797 году, когда публиковался «Кот», история маркиза Карабаса на фоне социальных мероприятий Французской революции воспринималась с чрезвычайной живостью. Профанна не только карьера, устроенная котом своему господину, чрезмерно ловок кот и в собственной карьере. В комедии «Принц Цербино» бывшего маркиза Карабаса, он же бывший Готлиб, сын мельника, мы застаем на королевском троне, а бывший кот в сапогах состоит при нем министром. Эту тему профанности, господствующей в современной высокой цивилизации, с великой остротой после Тика разрабатывал Э.-Т.-А. Гофман, который унаследовал от Тика способ ее выражения через образы и символы животного царства.
Незаконченность мира — она же диктует Тику и все особенности той манеры, в которой написаны его комедии. Как в своей космологии и в своей натурфилософии романтики разрушали идею вещи — мира как собрания вещей, так и в эстетике и в поэтике. Художественное произведение для романтиков не имеет признаков и черт, свойственных вещам. Понимание произведений искусства как вещей своего рода входило в канон классицизма, в менее отчетливом виде оно свойственно было и другим школам и стилям. Романтики его решительно не принимали. Они не могли согласиться, что жизнь, люди и множество вещей, нас окружающих, могут быть сведены к вещи одной-единственной — к поэме и картине, к статуе, к храму, к некоему камню, пусть и драгоценному. В «Ловелле» предмет иронии — явления самой жизни. В комедии ее предмет по преимуществу явления искусства, его отрицаемые в романтизме навыки и формы. Ирония комедий
245
Тика на том и стоит, что создается иллюзия, будто вам предложена вещь, драматическое произведение в стольких-то актах, на деле эта пллюзия вещи всесторонне разрушается. Пожалуй, в «Коте в сапогах» поэтика разрушения дана с наибольшим многообразием. Если вещь, то в вещи должен исчезнуть автор. Классицизм наглухо исключает автора, трагедия Расина добивается иллюзии, что автор в ней отсутствует. В комедии Тика вызов содержится уже в том, что автор показывается из-за кулис и смешивается с прочими лицами на сцене. Гораздо существеннее другое: автор не скрыт, потому что фактура комедии зыблемая, нет авторского диктата, нет ничего бесповоротно решенного. Произведение-вещь предполагает, что искусство в нем навсегда отделилось и от автора, и от питающей его жизненной среды. В произведении-вещи всегда происходит изъятие искусства из связей его с миром и с личностью художника. В иронии позиция вечного неизъятия, навсегда сохраняются колебания в самом произведении, не способном уйти от автора и забрать мосты, перекинутые от него к действительному миру — к «природе», к natura rerum. В комедию Тика попадают куски того, что творится за ее кулисами, каждый раз с оговорками не засчитывать их в тексте. В комедии Тика и автор не кончился, и мир за пределами произведения не кончился, и жив зритель, воспринимающий спектакль. Все эти три силы, которые должны бы начисто поглотить произведение-вещь, все они находятся на свободе. Произведение-вещь, равнодушное к автору, тем более равнодушно к зрителю. В качестве чего-то строго предметного оно допускает только одно восприятие, только одно толкование, и тогда что́ ему зритель. А у Тика зритель дается вместе с произведением, он посажен на сцене и смотрит показанный ему с другой, с внутренней, сцены спектакль. В комедии о Коте выводятся дурные зрители, но важно, что зритель воскресает, а вместе с ним свобода суждения и толкования, которой он плачевно не умеет пользоваться, этот зритель, находящийся за первой рампой. Для романтического художника есть только одна реальность — художническое вдохновение, бесконечное общение художника с жизнью, в которое он вовлекается как соучастник и зритель. Все способы овеществить этот внутренний акт относительны и силой догматов не обладают. Комедийная ирония Тика и разрушает эти претензии на непреложность формы. Комедия Тика «Мир наизнанку», вероятно, свое-
247
образнейшая в мировом репертуаре. Кажется, это единственный случай в истории драматургии, когда одна пьеса создается внутри другой пьесы, опровергая и отвергая эту другую. Собрались играть мещанскую драму, а сыграли ее упразднение, изображается маленький домашний хаос театра, из которого должны выплыть новая пьеса и новый спектакль. Некоторые персонажи по ходу действия отправляются обратно в действительность, ибо для целей обновленного искусства они непригодны. Актер, привыкший в старом репертуаре изображать трактирщиков, чуть ли не превращается в реальную бытовую фигуру, в трактирщика на самом деле, ибо нет больше спроса на его амплуа (см. его монолог, акт I, сц. 4). Художественное произведение уже в ходу, а обмен искусства с действительностью отнюдь не прекратился, вопреки общепринятому правилу.
Комедии Тика — произведения по своему смыслу демонстративные25. Достаточно было написать их однажды, не было надобности всегда и всюду разрушать иллюзию по их примеру. После Тика разве только один Клеменс Брентано действовал сходным образом. Можно было, будучи романтиком, писать и после комедий Тика в формах, общепринятых или близких к ним, писать «вещи». Демонстративные произведения говорят не о формах, которые должны всегда и всюду повторяться, но о понимании форм, допускающем любое их многообразие. Согласно романтической иронии, как она выражена в комедиях Тика, всегда и всюду в искусстве под личиною вещи вам дано общение автора с жизнью и через актера — ваше собственное с нею же. Формы могут быть оставлены в их привычном виде, однако же к ним дается новый ключ. Пусть они те же, но пользование ими стало совсем иным, вам открыли глаза на то, что они, собственно, значат. Вы уразумели ту или иную степень их условности.
В действительном мире и после Шеллинговой натурфилософии остались повсюду вещи, тем не менее потерявшие свой прежний абсолютизм. Каждая вещь — затаившийся процесс, временная остановка в нем, его итоги, сложившиеся ненадолго. Мир процессуален, хотя процессы его и не наступают на вас в голом виде. Демонстративные произведения нужны всякой новой школе. Она со временем отказывается — частично — от них. Это не есть измена или же капитуляция. Демонстративные формы сыграли свою роль. Для школы было важно, чтобы стали читать по-новому, а для этого и писалось до времени
247
ошеломительно по-новому. Демонстративные формы учительствуют и внушают, покамест зритель, к которому они обращены, не воспитает в себе самостоятельности и сама собой отпадет надобность в этих формах, и ежели они и тогда сохранятся, то станут назойливыми, и станут помехой для обновившегося через них искусства.
Тик, к которому восходит столь многое в романтизме, был инициатором одной из важнейших в романтизме тем — простой жизни и простого человека. Отчасти с этим связано его тяготение к народному рассказу и к народной сказке, к миру фиаб его комедий, ибо что есть сказка — по природе своей она о той же простой жизни и о простых людях, о детях мельника и о старой бабушке в ожидании обеда, который несет к ней внучка. В сказке всему этому дано волшебное освещение, но романтизм в своих простых темах и за пределами сказки не отказывается от него.
Еще в юношеской драме Тика «Карл фон Бернек», (акт I) появляются неожиданные, негаданные для нее размышления. Меланхолик Карл Бернек говорит о том, как печальны для него прочитанные им героические сказания. Он думает не о героях, не об их славе, а о множестве людей, погибшпх безымянными. Великие дела требуют жертв, он не забывает о жертвах. Без этих безвестных и подсобных людей не было бы героев, не было бы деяний, а этих второстепенных рассматривают как ненужное добавление к жизни мира — «eine unnützliche Zugabe». Они подобны плодам, которые дерево отрясает, когда те созрели.
Настроения эти — защита малых людей, малых дел, малых вещей, всего социально-обесцененного, но обладающего подлинной ценой, — настроения эти хорошо известны из истории английского романтизма. У Колриджа и у его друзей, у деятелей «озерной школы» сложилась целая доктрина пантисократии — учения о равенстве перед лицом бытия всего живого неживого, присущего ему.
Апология простого человека и простой жпзни связана с романтическим универсализмом. Ведь она по смыслу своему и предстает как некоторый универсализм снизу. Простой человек и его дела — это массовая жизнь, из которой все исходит, которая все в себе предсодержит, предвещает и заранее обобщает. Еслн угодно, простой чело-
248
век обосновывает бытие, он существо космическое, из него космос черпает для себя. Поэтому и сказка выводит его почти анонимным и шутки Тика с именами и фамилиями, с семейными подробностями для сказочных персонажей и игра с их космической природой, им не подобает как всему космическому какая-то их особая личная и фамильная отмеченность, у явлений космических есть названия, имен же для них нет.
Главный опыт Людвига Тика о простом человеке — повесть «Петер Леберехт. История без приключений» (1795)26. Написанная рано, она тем не менее ведет к романтизму по одной из его главных дорог.
Петер Леберехт — обыкновеннейший малый, без особых примет и заслуг, со скромнейшими запросами к жизни. Позднее он попадает в герои к Адальберту Шамиссо, будет называться Петер Шлемиль и в потертой кельской куртке пойдет в поисках устройства по Гамбургу с рекомендательным письмом. Петр Леберехт все-таки ждет событий, и когда события как будто подхватывают его, они при соприкосновении с ним неотвратимо разрешаются в ничто. Себя он сравнивает с актером, выучившим свою роль назубок, что нисколько ему не пригодилось, ибо, когда он очутился на подмостках, то оказалось, что сегодня играют совсем другую пьесу. Леберехт едет наниматься в гувернеры в усадьбу к президенту и ожидает найти в нем дворянина с предрассудками, находит же добрейшего и либерального человека. Он узнает, что в доме есть гувернантка, и думает, что увидит мамзель, на деле же перед ним молоденькая немочка с синейшими глазами, в которую он тотчас же по уши влюбляется. Так всегда: ожидается пришествие «типа», чего-то типического, но должное произойти происходит, и ничего типического не было и нет, оно развалилось в приятнейшую, удобнейшую бесформенность. Сам Петер Леберехт тоже нисколько не тип, он другое, он всякий человек, тот, из которого может делаться и делается все на свете, среди прочего и при особой надобности, так же и тип и типы.
И в главном, и в неглавном Петер Леберехт претерпевает события, которые будто бы уже сложились и не способны, однако, получить завершенность. Он собрался наконец жениться на своей синеокой гувернантке, однако невеста в день свадьбы неведомо куда и как исчезает, и все розыски напрасны. Много позднее Петер узнает, что ее похитили.
249
Огорченный, он бродит по лесу со своим охотничьим ружьем, чтобы чем-нибудь запять себя. Нечаянно он попадает в яму, откуда ему не выйти. Но это не разбойничье логово, Петеру Леберехту всегда обеспечена обыденность: он оказался всего-навсего в лисьей яме, и проводит ночь с зайцем и лисицей, которых он там застает. Соседство это против ожидания обладает некоторой прелестью, все они трое каким-то образом сдружились за ночь, и когда отпущенная на волю лисица бежит, она еще разок оборачивается, оглядывается на Петера. Тут, как и всюду, у Петера Леберехта вместо событий — мирное житие, но это не потеря, а приобретение, непредвиденное обаянпе, даже некоторая святость, в окружении Петера все светло и чисто. Можно вспомнить, что пантисократия романтиков была очень добра и внимательна к звериному миру, в идеальное сообщество пантнсократии этот заяц и эта лиса Петера Леберехта были бы приняты как законнейшие пайщики. Петер Леберехт через своих лису и зайца стал причастным к пантисократии, к поэзии, что ей свойственна.
Петер Леберехт узнает о своем происхождении. Оно не только чисто дворянское, оно еще и сверхэксцентрическое: он сын монаха и монахини. Но узнанное ничего не меняет ни в нраве его, ни в судьбе. Как был, так он и пребудет обыкновеннейшей личностью, его обыкновенность неуязвима.
Новый брак Петера — благополучный на этот раз, с милой и простейшей крестьяночкой. Он поселился с ней в деревне. В этом браке Петера, ученого человека, нет никакой с его стороны снисходительности, ничего от сентиментального надрыва. В деревне Петеру живется хорошо и счастливо, на основах искреннего равенства с найденными здесь новыми друзьями. Разве что Мартин, старый крестьянин, гордится цензом Петера, своего зятя. Повесть наполнена и переполнена подробностями. Прежде всего они относятся к психологии. «Я был в нерешительности, покраснеть мне или нет» (ч. I, гл. 4). Характер юмора у Тика в том, что он расширяет область опосредствования, гиперболически удлиняет психологическую минуту, высмеивает акт рефлексии как таковой. Деревенский быт при жене и старом Мартине весь с умышленной тщательностью описан. Самые малые происшествия распадаются на еще меньшие. В чужой деревне мимоездом Петер хочет купить у старухи из окна в трактире стакан
250
с киршвассером, но ничего не вышло, старуха захлопнула окно. Петер просил разменять ему талер, старуха подумала, что он собирается взять вино даром и еще с нее потребовать деньги (ч. II, гл. 5).
В тексте повести у Тика проповедуется интерес к мелочам, его-то он и называет талантом и высказывает опасения, что талант этот читателями утерян (ч. II, гл. 4). Талант в повести о Леберехте действительно в движении мелочей, сменяющих друг друга. У них своя нерассказанная тайна. При всей незначительности их никогда они не тусклы, при всей беззвучности своей обладают скрыто развивающейся мелодией. Через них плывет само бытие. В тихих подробностях повести Людвига Тика, в ее мелочах сквозит величество всех величеств — творимая жизнь в ежедневном ее ходе. У Тика эта генеральная тема романтизма представлена с редкостной явственностью. По всей очевидности, именно обыденность рассказа способствует этому. Нет частностей, которые дерзали бы заслонять генеральное. Оно у Тика обнажено — обнажена творимая и творящая жизнь. Тик здесь не прибегает к излюбленным у романтиков развоплощениям, не делает усилие совсем устранить все частное и специальное. Тик частности и конкретности удерживает, но понижает их значение, сами по себе они становятся ничтожны и поэтому так прозрачны относительно всего идущего через них и за ними стоящего. Бедность их собственного удержания создает особую их пригодность на роль сил связующих, посредствующих и отражающих. Пробуждается ощущение, будто бы творящая жизнь протекает где-то сразу же за кулисами рассказанного. Притом она свободна, никакие формы — ни типические, ни эксцентрические — не теснят ее. Сам Петер Леберехт по нраву своему — это одна только свободно текущая жизнь. У него, собственно, нет поступков, у него есть только поведение.
Малый быт Петера Леберехта и его друзей столь же скрывает игру большой жизни, сколько и открывает ее; мы видим — в конце концов он скорее открывает, и даже только открывает, на всю ее широту и во всей ее свободе. Петер и люди вокруг него очень мало тратятся нравственно и духовно. Угадывается огромная неизрасходованность, и не в том или в ином персонаже, а в жизни человеческой, в целом ее. Невообразимо, чтобы она поглощалась такими пустяками и незначительностями. Тик не делает никаких попыток усилить их цвет и их характерность. Чем легче
251
прикосновения души и жизни к этим эпизодам, тем яснее для нас, что жизпь далеко не вся тут. Возможности жизии — другая генеральная тема романтизма, вошедшая в эту повесть. Возможности жизни и глубина жизни подозреваются, прозреваются, угадываются в этой повести — своеобразнейший юмор Людвига Тика в игре над этой глубиной, в том, как умышленно мало из нее взято и как взятое соотносится с нею, невзятою, сохранившею себя.
В литературе о романтизме и в специальной литературе о Тике эта повесть прошла незамеченной. Над ней тяготел приговор старого Гайма, который похваливал ее, но все-таки расценивал как всего только умело выполненный Тиком заказ книгоиздателя Николаи, берлинского просветителя27. Для верной оценки ее важно было отдавать себе отчет, в чем же существо романтизма, ибо существо это в ней присутствует. Повесть эта умеет передать струение жизни в его поэтической чистоте, в творческом его веселье, то, чем будет одушевлена и вся большая литература XIX века, и Диккенс, и наша русская проза — Тургенев, Л. Толстой, Чехов. Но у великих реалистов оно было воссоздано в своих естественных условиях, тогда как романтики представили его почти экспериментально, желая указать на него, сделать чем-то программным, философски обязующим, составляющим художественный принцип.
Другая повесть о простом человеке — «Достопримечательное жизнеописание его величества Абрагама Тонелли» (1798) 28, одно из оригинальнейших произведений Тика, тоже мало отмеченное в литературе и все же не потонувшее в ней, как это случилось с «Леберехтом». Оно писалось по народной книге, до сей поры не обнаруженной. Были предположения, что указания Тика на источник ложные и книги такой никогда не было. Однако Фарнхаген фон Энзе в письме к Рахели от 13 октября 1858 года подтверждает, что книгу эту он разыскал в Дрездене и прочел ее. По словам Фарнхагена, Тик довольно близко держался ее фабулы29.
Его величество Абрагам Тонеллн — зауряднейший портняжка. Лютые голодовки заставляют его искать пропитания самым фантастическим способом. По счастливой случайности он владеет порошком, который позволяет ему превращаться в любого зверя, в домашнего — это довольно легко, в хищного — это требует усилия. Превра-
252
тившись в зверя, он овладевает его диетой, пользуется средствами питания, тому доступными. Став мастером самых поразительных метаморфоз, он делает карьеру у коронованных особ, которых забавляет этим своим искусством. Ои заседает за одним обеденным столом с царем персидским и с императором турецким. Его ожидают еще немалые перипетии, он опять впадает в нищету, но предается всяким рискованным опытам — «экспериментальной физике», как он это называет, и бывает по временам неслыханно богат. Причудливую свою карьеру ои завершает на престоле государства, именуемого Аромата, в качестве императора этой страны он и сочиняет тогда собственное жизнеописание.
Абрагам Тонелли начинает как простой человек, и по сути он до конца тот же, вопреки своему императорству. Тема простого человека в этой повести приходит к новому развитию, в котором все ее настоящее значение. Простой человек помещен судьбой в совсем не простом мире. У Абрагама Тонелли были самые обыкновенные и неистребимые, однако, потребности, он искал хлеба насущного и ради этого пустился в невообразимые приключения. Куда бы его ни занесли фантастические обстоятельства его биографии, всегда он не забудет рассказать, где и как его кормили. Он становится императором своей Ароматы и по этому поводу делает замечание, что отныне ему обеспечен верный кусок хлеба. В его рассказе сплошной гротеск, смешение дикого и странного с флегматичной, осмотрительной практичностью. Он, что называется, изучил вопрос и сделал твердый вывод — если хочешь обедать ежедневно, то ради этого очень полезно пройти в императоры. Сам язык, которым изъясняется Абрагам Тонелли, — удивительная смесь высокопарности, канцелярщины, которую он и принимает за императорский стиль, с наивнейшими вульгаризмами.
Мир не прост, ибо именно простое, самоочевидное в нем недоступно, исключено из него. Простой человек со своими простыми запросами не имеет в нем места и признания. Самое простое, естественное, реальнейшее дается в нем под мало естественными условиями, для ясного ума трудно постижимыми. Портняжка Абрагам Тонелли очень рано сообразил, что трудом, ремеслом ничего не возьмет для себя в этом мире. Все его успехи, даже самые малые, даются ему через сношение с фантастическими силами.
253
В этой повести наблюдается фатальное падение романтических ценностей, а заодно и снижение романтических требований к миру и к жизни. Уже и речи нет о развитии в реальном мире частных его возможностей. В реальном мире добиваются обыкновеннейших реальностей — хлеба, честной работы, и они-то становятся мечтаемыми предметами. Реальный мир утаил от людей свои реальности, и романтики берут на себя иск по поводу этих реальностей, неведомо куда и как ушедших. В истории немецкого романтизма все это ведет к Э.-Т.-А. Гофману, а по дороге к нему — к писателю, связанному с повестями Тика прямыми связями. Повесть Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля» (1814) по смыслу своему продолжает и «Леберехта», и «Абрагама Тонелли». Герой Шамиссо — всякий человек, добрый, простоватый Ганс, получивший ко времени этой повести широчайшую известность через сказки Гриммов.
Петер Шлемиль домогается немногого — дома под крышей, девушки в белом платье, которая стала бы его женой, спокойных занятий своей ботаникой. Он все это получает такими же небывалыми средствами, как Абрагам Тонелли свою империю. Нужен пакт с нечистой силой — с «серым», нужен кошелек Фортуната, нужно продать собственную тень. После всего этого Петер Шлемиль принят наконец в большом официальном мире, и тут он узнает, что странности для него только начались. Напрасно было бы думать, что мир знатных и богатых, он-то и обладает самой могучей реальностью. Опыт показал другое: именно здесь сплошное царство фикций, мнимостей, нет подлинных людей, нет личностей, нет дел, трудов, заслуг, люди живут отраженным светом своего неизвестно как и почему полученного богатства, своего положения в обществе, произвольно им присвоенного. Всюду формы, ничем не подтвержденные, ложь, пользующаяся репутацией права и правды. Официальная действительность вся как есть — одно-единое царство теней. Петр Шлемиль легко уступил «серому» собственную тень. Добросовестный Шлемиль ни во что не ставил ее, считая ее последним пустяком, и верил в одни только сущности. «Серый» знал, что делает, потребовав именно тень, в официальном мире без тени жить нельзя, тень — аттестат и пропуск, тень — все, и Шлемиль, лишенный тени, с этих пор у «серого» в руках. Коллизия повести Шамиссо — коллизия между Шлемилем, личностью реальной и честною,
254
и средой, по корню своему нечестной и недействительной, населенной призраками — ценностями мнимыми и фальшивым!
Как видим, критическая сила в теме простого человека заключена была немалая. Говоря терминами простой поэтики, человек и его социальный мир находятся друг к другу в отношениях сюжетного оксюморона, простое и ясное окружено непростым и темным. Тема простого человека с истинами, в ней заложенными, в литературе XIX века вышла далеко за черту романтической школы и ее наследников. По-новому она стала плодотворна у Диккенса, а более всего у наших русских писателей.
Тик прежде других романтиков первого призыва приблизился к современной социальной действительности, какой она рисовалась по выходе из Французской революции и ее иллюзий. Тик развивался естественно, он был тот романтик, у которого вещи как они есть то с большей, то с меньшей внятностью всегда присутствовали в сознании. У него была склонность ко всем видам иронии, к заглядыванию в тылы, к тому, что кроется за иллюзиями и таит в себе опасность последнего, решающего слова. Обзор его истории как романтика следует закончить разбором двух его новелл, отчетливо и богато трактующих переход от романтики к жестоким опытам современности, открывшей наконец, что она такое.
Новелла «Руненберг» (написана в 1802, напечатана в 1804) — история человека, отравленного желанием золота30. Герой рассказа — человек, родившийся на равнине, сын трезвого, трудолюбивого земледельца, обуян неким беспокойством, становится охотником, уходит в горы и там, в горном царстве, среди горных пород, он и познает соблазн золота. Художнический пафос Тика не в том, чтобы рассказать о приобретателе и его приобретательстве, он чрезвычайнно далек от того, чтобы писать деловую биографию современного стяжателя. Тика занимает другое: что происходит в человеческой душе, посвятившей себя отныне ложным идеалам, как меняется в ней ее настроенность, во что превращаются самые заветные ее чувства, в каком новом его образе она отныне созерцает мир. Менее всего для Тика важна фабула, он держится музыкалыю-живописного способа изложения. Он изображает, как медленно и фатально искажается душа.
255
допустившая себя до стяжательской страсти. Первая и худшая ее болезнь — узость. Нет больше романтической души, всему открытой, всеотзывчивой. От узости герой идет к новой узости, более жестокой, у него одна цель, одна неподвижная идея — золото и золото. Герой делает попытку вернуться к крестьянской жизни, создать семью, но опять вступает в силу прежнее искушение, и все брошено, на этот раз навсегда. Нет больше связей с близкими, связей с людьми, этот человек весь внутренне потемнел, в нем налицо расположение к преступности. О золоте сказано: золотая кровь — «das güldene Blut». Золото в сродстве с кровопролитием. В человеке становятся активны «ночные стороны души», как их называл философ-шеллингист Шуберт. Герой «Руненберга» кончает полным помрачением ума и внутренним распадом.
В золоте мерещится власть над миром. На деле оно этой власти людям не дает, оно само становится властью над ними и их порабощением. В нем лежит не сила человеческая, а болезнь. Как цель, как ценность оно есть мнимость. Тик в своей повести с великими тонкостями создает впечатление мнимостей, в которые погружается мир, едва только они заводятся в самом человеке. В этой повести все подернуто чем-то кажущимся, обманным. Описан лунный свет в горах, зыблющпйся, колдовской пейзаж, построенный лунным светом; это можно было бы считать предвосхищением будущих ландшафтов Каспара-Давида Фридриха, но здесь присутствует скрытно демонический смысл, Фридриху не свойственный. Описаны особое волхвование светом внутри таинственной башни, игра световых волн, подобная музыке. Тик держится в этой повести системы двуобразности: представленное в одном образе потом перевоплощается в совсем иной, причем делается это на ходу, почти тотчас. Человек, вначале показавшийся незнакомцем, чуть ближе — старик, отец героя. Отвратительная старуха, встреченная в лесу, вдруг потом мелькнула меж деревьев удивительной красавицей. Эта же двуобразность в заключительном эпизоде. Обезумевший герой тащит на себе мешок, в котором, как он полагает, золотые слитки. Мешок развязан, и в нем куски кварца, каменный мусор. Эпизоды повести наполнены сиянием ложных ценностей. В руках красавицы из башни замка Руненберг каменная доска. Красавица — огромная женщина, она отчуждает своей колоссальностью.
256
В мерцающем этом лжепрекрасном мире невозможны верные пропорции, они неслучайно нарушены.
В повести появляются странные персонажи; один встречен ночью в горах, другой гостит у героя повести, когда тот окрестьянивается и живет как трудолюбивый хозяин. В этих мимоидущих, пришлых персонажах нет ничего от определенности и ясности персонажей бытовых, локальных, они незнакомцы, посланцы неверного большого мира, соблазнители, искусители, подстрекатели. На том первом из них лежит лунный свет, тогда в горах дразнивший и манивший.
Повесть «Руненберг» есть возвращение Тика к страшному жанру, сейчас до самой основы своей изменившемуся. В ранней юности Тика то были отдельные эпизоды, отчасти пережитые, отчасти же это были не более как любопытные эстетические экзерсисы. В «Руненберге» нас застает целый страшный мир — мир, а не жанр. Здесь все до самых недр полно тьмы и угрозы. Нарушена жизнь человеческой души и жизнь самой природы — природа оскорблена, ранена этим бросившимся, врезавшимся в нее ради добычи человеком. Тик вернулся к теме оскорбления природы, уже существующей у Новалиса — «Ученики в Саисе». Из земли исторгают с корнем растение, и природа ужасает криком своим, стоном, как будто бы задели рану, и природа подобна живому телу при его последнем содрогании. Тик пользуется символикой Альрауна, придавая ей самое общее значение: мрачное это растение — выражение болезни и зла, в котором лежит природа, ждущая исцеления. Об этой страшной ране, нанесенной природе, о жалобах ее, сотрясающих травы, растения, цветы и деревья, говорится в повести снова, ближе к ее развязке. Человеку не нужна больше в природе ее жизнь, он ее насилует и убивает, он достает неживое из нее — золото и железо. Из Лермонтова мы помним строки:
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь!
Не всегда ясен всемирный романтический контекст этих строк. Романтизм строился на защите органической природы, а здесь описан злой час, наступивший для нее, когда начинают разрушать ее живое тело, не вслушиваясь, что́ природа позволяет людям и чего не позволяет, чему готова помогать и чему она насмерть сопротивляется.
257
Образ страшного мира у Тика крайне выразителен в одной маленькой сказке из драмы «Синяя Борода». Рассказывает ее Мехтильда, домоправительница. Жил-был лесник в густом, густейшем лесу, солнце туда проникало только клочьями, а от звука охотничьих рогов становилось страшно. Дом лесника стоял там, где было глуше всего. Лесник поутру уехал из дому и маленькой дочке наказал никуда не выходить — это был день особый, о котором нужно было помнить и в который нужно было всего опасаться. Девочка наказ забыла и пошла к темному озеру неподалеку, обсаженному растрепанными ивами. Она села против озера, обратилась к нему, а оттуда стали выглядывать незнакомые бородатые лица. Деревья зашумели, и закипела вода. Казалось, будто там закричали лягушки, и три окровавленных — все в крови — руки высунулись, и каждая показала покрасневшим пальцем на девочку.
Страшный мир у Тика — бывший прекрасный мир: лес с его таинственной жизнью, дом лесника, дети, лесное озеро, сказочное волшебство, после чего идет превращение: прекрасное чернеет, становится безобразным, хотя прекрасное еще и просвечивает сквозь безобразное. Три руки сказали в этой сказке очень многое. Три руки — это бывшая органическая жизнь, три руки и напоминают о ней и радикально разрушают ее образ, — руки у живых существ, но трехруких существ не бывает: в одном и том же образе и живая жизнь и тяжкое поражение, нанесенное ей, живая симметрия сквозь мертвую асимметрию, поруганная парность. Озеро закипает: оно еще природа, но оно же и котел на очаге у ведьмы.
Указательный палец, направленный на лесникову дочку, — вражеский жест природы в отношении человека: он не свой в природе, природа метит в него.
Для страшного мира у романтиков отличительный признак в этой красоте, светящейся в дебрях безобразия, пробивающейся, хотя пробиться она и не может. Где страшный мир, там пожар и там смерть. В произведениях романтиков под трауром можно различить прекрасное лицо. Так было по крайней мере на первых порах, так было у Тика. В дальнейшем произведения страшного жанра все недоступнее для каких-либо напоминаний о положительном мире Период торжества и очарованности, с которого начинали романтики, не мог сразу же угаснуть, то с большей, то с меньшей активностью он все еще продолжается в периоде, сменившем его.
258
Мы это хорошо знаем по Гоголю; у Гоголя страшное и безобразное — бывшая красота, как грязная ведьма из «Вия», бывшая красавица, отемненная и проклятая. Лучшие интерпретаторы Гоголя понимали, что безобразное еще имеет у него и измерение красоты, не утратило его31.
Страшный мир у Тика весь на превращениях света в сумерки, здорового и трезвенного — в больное и безумное, органического — в мертвое, прекрасного — в ужасное. Есть еще одно превращение, специальное по характеру своему. Жанровая основа «Руненберга» — простая сказка, чуть ли не нянина, по-домашнему ясная. То же самое у Шамиссо — «Шлемиль». То же самое снова у Тика — забегу вперед — «Белокурый Экберт». Один из обычаев романтической поэтики сопрягать сказку во всей ее элементарности с самыми осложненными и трудными темами современной жизни и современного сознания. Простое превращается в осложненное и тоже борется, стремясь хоть что-то свое сохранить в аду и во тьме превращений, ставших неизбежностью32. Романтики любили и искали художественную простоту, она у них входила в идеал прекрасного. Как прекрасное едва ли сохранено в глубине страшного мира и его затрудненных образов, так сохранена там простота и наивность. В произведении с современнейшей проблематикой и символикой все же можно признать где-то в последних планах его по замыслу и очертаниям фабулу, простую сказку или сказочку, послужившую здесь первоначалом. Прекрасное и простое, и то и другое вместе, идут на страдание в произведениях искусства, осваивающих недобрую для них современность, и они умеют не до конца потеряться в них. В сказке ясно, где добро, где зло, кто грешник, кто праведник, почему и отчего. У Тика все это размыто, двойственно, высказывается косвенно, языком утонченных эстетических внушений.
Новелла «Белокурый Экберт» (1796), хотя и прежде «Руненберга» написанная, именно через «Руненберг» и может открыться нам33. И в ней главенствующая тема — богатство, его искушение, духовные болезни, связанные с ним. Трактовано это с меньшей очевидностью, чем в «Руненберге», из чего не следует, будто в «Экберте» содержится какой-либо иной обобщенного характера предмет. «Экберт» весь в напоминаниях о детской сказке, с чем сочетается все больший отход фабулы от какой-либо инфантильности, по мере того как фабула продвигается.
259
Маленькая Берта, дочь бедного человека на селе, тайком уходит из отцовского дома, где ее корят каждым куском хлеба. Она идет куда глаза глядят. В повести не совсем зарубцевался след одной хорошо известной сказки. Напрашивается сходство с путешествием мальчика с пальчик. Берта пошла, как он, только Берта кончает свой путь не у людоеда, а у старухи, очень странной, по-странному живущей и тоже, может быть, страшной. Замечательна атмосфера повести. Чудеснейший мир вокруг Берты, но без внутренней связи с нею. Мир хорош, но это не собственный ее мир, всегда остаются тонкие неодолимые преграды между героиней и прекрасным миром, с которым ей не соприкоснуться. Так уже с первых шагов рассказа Берта в горах, в лесу, где она сквозь страх слышит звуки, его наполняющие, или же обмирает, когда появляются люди с незнакомым говором — угольщик, горнорабочие.
Старуха поселяет Берту у себя, и здесь Берта проводит юные свои годы, одна со старухой, в доме в лесу, без людей поблизости. У старухи в клетке птица, и птица ноет все ту же песню со словами — о лесном одиночестве, — шесть строк на ту же рифму, шесть строк, гласящих о том, как все неподвижно здесь, как все здесь повторяется изо дня в день и из часа в час. Птица, поющая стихами, несет яйца, а в яйцах драгоценности. Старуха добра к Берте и все-таки похожа на ведьму. В застойной жизни вокруг старухи содержится нечто демоническое и магическое, — лесная птица, как бы вращающаяся на тех же словах, действует как магическое внушение, как заговаривание. Старуху и одинокое жилище я бы толковал как старого разбойника, удалившегося на покой. Богатству присуща запятнанность, богатство прячется. Из истории маленькой Берты видно было, что бедность боится обид, боится несправедливости, богатство — справедливости. Поэтому старуха и ушла во мглу. Птицу с драгоценными яйцами, которые старуха собирает, я бы стал толковать сообразно допущенному. Старуха находится в отставке, и ее богатство тоже, — оно превратилось в забаву, птица с клеткой и с песней, птица с перлами, — с некоторых пор все это старухины игрушки, хотя и очень дорогие. Подросшая Берта, оставшись однажды дома без надзора, учиняет побег, уносит клетку с птицей, со всеми старухиными сокровищами, по дороге сворачивает птице шею, чтобы та не пела и не было обличений. Из игры и игрушек вырастает преступление,
260
по всей видимости, оно вновь пробуждается в них, лишь на время там заснувшее. Вокруг старухи и быта ее витает «таинственное зло». Романтики не ставят себе задачей указывать на те или иные частные мотивы человеческих поступков. Преступление Берты атмосферного происхождения, оно родилось ото всего этого душного сумрака, в котором она пребывала при старухе, от околдованиости. Берту потихоньку отравляли и отравили.
В фактуре повести заметное место заняли звуковые эпизоды. Шесть строк, распеваемых птицей, определяют в повести ее колорит — ворожбу колорита. Вся история житья у старухи, если угодно, положена на музыку, начиная с первой встречи. Берта приходит в места неведомые в чудесный вечер; шумит вода, издали слышен кашель — это кашляет старуха. Берта со старухой идут через поля, небо — как раскрывшееся райское селение, в деревнях позванивают колокола, путники подымаются на холм с березами, слышен собачий лай, а потом из старухина дома Берта слышит впервые птицу. Обе входят в дом. Старуха продолжает кашлять. Ночью Берте во сне слышны кашель старухи и разговор ее с собакой, попытка птицы петь спросонья, шум берез за окнами и соловьиная песня издалека. Все это названо странным, чудесным смешением — «wunderbares Gemisch».
Такого рода смешения время от времени преподаны в романе Тика о Франце Штернбальде: деревенским вечером запели сверчки и соловей с березы, что за ручьем; в другом эпизоде звуки цепов на гумне сливаются с мычанием скота где-то в отдалении. Когда Франц проживает в замке, вечером он стоит у окна, и к нему доносится шум бегущего с горы потока, шум мельницы и звук рогов, приветствующих только что взошедшую луну (130, 158, 287). Смешения эти содержат некоторый музыкальный парадокс: от самых прозаических звучаний — кашель, мельница, собачий лай — делается переход к лирическим, к наигрышу рогов, к странной песне, к соловью. Прозаическое не растворяется в высоко музыкальном, но остается самим собой и как бы бередит его, смущает своим малоуместным присутствием. Звуковая красота и радует и непонятным образом гнетет, томит, раздражает, в ней заключено что-то сомнительное, мнимое, и следует ее сопоставить со зрительными образами «Руненберга», тоже соблазнительными, дразнящими, тоже готовыми ввести нас в заблуждение.
261
Берта бежит от старухи, ей мечтается широта жизни. В повести идет боренье чаемой широты с действительной узостью, которая растет безжалостно — широта погибает в этой узости и через эту узость. Снова, как в «Руненберге», преступившего, злу себя отдавшего Тик казнит узостью. В повести появляются инцестуальные мотивы, вскоре после того ставшие чуть ли не обязательными в произведениях черного жанра. Берта выходит замуж за Экберта Белокурого. Узнается со временем, что они брат и сестра; сходны даже имена: Экберт — Берта. Одно из значений инцестуального мотива — он выражает узость мира, узость отношений. Люди хотят и не могут войти в большую жизнь, нет вольностей большой судьбы, нет вольностей развития. Неведомо для них самих их гонит обратно, к лону, откуда они вышли, им суждено погибнуть в теснинах кровного родства, как внутри здания, стены которого сдвинулись. Инцест как потеря простора трактуется в знаменитой повести Шатобриана «Рене», а также в менее знаменитой и весьма сильной по замыслу и исполнению повести Франца Верфеля «Отчуждение» («Entfremdung»).
Наказание узостью — оно еще и в том, что в повести о Белокуром Экберте время от времени появляются новые персонажи, а на поверку они все те же. Вальтер, Хуго только кажутся людьми, взятыми откуда-то с воли. В действительности они та же старуха с птицей, новые ее ипостаси, от которых Берте не уйти. Преступление сжимает мир, преступник занят только самим собой и своей жертвой, которая представляется ему в каждом новом лице — мнимоновом.
Трагическими повестями «Руненберг» и «Экберт» заканчивается история Тика-романтика. Ему предстояли еще целые десятилетия благополучного писательства, вне романтизма, в большой близости к тому художественному стилю, который получил имя «бидермейер». Бывший романтик хотел раствориться в покое и удобствах бюргерского бидермейера, как старший Шлегель — в своих академических занятиях, как младший — в католической пропаганде или как Шеллинг — в сомнительном философствовании своих мюнхенских и берлинских лет.
Фридрих Гельдерлин родился в Южной Германии, в зеленой Швабии, в городке Лауффене-на-Неккаре 20 марта 1770 года, скончался в Штуттгарте 7 июня 1843 года. В настоящее время нет больше споров по поводу Гельдерлина и его значения. Поззия Гельдерлина — великое событие в духовной жизни Германии. Энтузиасты Гельдерлина в нем находят все: национального пророка и учителя, великого философа, великого филолога, даже величайшего юриста с самыми высокими немецкими прозрениями на природу права1. При восторженности этой одно незыблемо: необычайное место Гельдерлина в истории немецкой поэзии, — после Гете и Шиллера, — а также в историй немецкого языка.
Репутация Гельдерлина, столь высокая в наши дни, — явление новое и недавнее.
Он стоял вне иенской школы, ни с кем из романтиков Иены не водился, не имел опоры ни в одной из литературных группировок, всецело предоставленный самому себе и собственной безвестности.
В восемнадцатом веке Гельдерлина почти совсем не знали. Его полузнали, и то немногие, в девятнадцатом. Подлинная слава его, возраставшая непрерывно, началась не ранее, чем полстолетия тому назад. Наши старшие современники впервые прочитали почти без изъятий все написанное им и заложили основу для изучения его биографии, оставленных им текстов, его литературных связей и отношений. Новооткрытый Гельдерлин потряс немецкую поэтическую культуру нашего века, в которой ведь были большие имена: Гофмансталь, Георге, Тракль, Рильке. Гельдерлин из века восемнадцатого, к которому принадлежал, пришел именно в эту среду, и через нее поэзия Гельдерлина осваивалась, что и объясняет нам отчасти, почему его толкователи так подвержены наисовременнейшим влияниям, почему они так малоустойчивы против соблазнов модернизации и так неохотно идут на историческую интерпретацию созданного им. Впрочем, сами поэты нашего века чувствовали различия и чувствовали расстояние, лежащее между ними и Гельдерлином. «Гельдерлин — это более могущественный», — сказал однажды
263
Рильке, сравнивая себя с этим старым, старинным даже поэтом, вдруг вдвинувшимся в наше столетие2.
Гельдерлин происходил от людей очень скромных, немудрящих, городской быт которых хранил черты сельского приволья. «Я рос, — вспоминал Гельдерлин, — как виноградная лоза, которую не подпирают палкой». Денег в семье было очень мало, зато все умели любить друг друга, помогать и делом и словом. В доме матери от Гельдерлина не требовали карьерных удач, каждый раз, возвращаясь туда после новых бед и бедствий, он находил там прежнюю доброту и прежнюю готовность пестовать его. Письма его к родным в моральном отношении замечательны, по ним видно, что для Гельдерлина существовал очень простой и вполне реальный образец настоящих человеческих связей, — образец за палисадником материнского жилища в городке Нюртингене.
С 1788 по 1793 год Гельдерлин обучался теологическим наукам в Тюбингене. К теологии он пришел не по призванию — родных прельстила стипендия, которой пользовались студенты-богословы. По окончании института в Тюбингене Гельдерлин обязан был занять пасторское место. Он нисколько не желал священствовать, и одной из тягостей его жизни стали постоянные напоминания со стороны церковного управления, когда же он наконец это сделает и отработает деньги, потраченные на его богословское образование.
В Тюбингене Гельдерлин много и самостоятельно учился. Уже там он превратился в первоклассного знатока античных авторов, внимательно изучал философскую литературу — французскую, немецкую. Он очень выделялся среди товарищей — нищих теологов, у которых жизнь шла от монастырского стола с скудными блюдами к учебной книге, и обратно. Гельдерлин оставался в этой полубурсацкой среде духовно независимым. Его, тогдашнего, нам описали, — он был красив, держался стройно, каким-то чудом сохранял опрятность и изящество в одежде, весь проникнут был изысканностью, удивительно натуральной в нем. Как нельзя быть моральным существом только по воскресеньям, так Гельдерлин старался ежедневно и с любого места отвечать требованиям эстетики. Еще в школьные годы, до Тюбингена, по словам современника, Гельдерлин шел по залу в толпе своих однокашников, как если бы то был Феб-Аполлон, во всей божественности своей спустившийся к ним. Тюбингенские воспоминания Ре-
264
фуеса рисуют Гельдерлина, каким он был в институтском концерте, — Гельдерлин играл первую скрипку, отрываясь, тихо и важно кивал маленькому Рефуесу, когда тот должен был вступать со своим сопрано. Гельдерлин представился тогда Рефуесу в ореоле исключительности и скромности, истовым в своих музыкальных занятиях, погруженным в свою, особую сферу3.
С 1790 года Гельдерлин поселился в институтском общежитии, в одной комнате с двумя другими студентами — с Гегелем и с Шеллингом, с будущим Гегелем и с будущим Шеллингом. Дружба с Гегелем у Гельдерлина получилась крепкая и навсегда, тут было и много единомыслия, тут было и сходство в судьбах — и тот и другой пробивались сквозь жизнь трудно и мучительно. С Шеллингом отношения сложились несколько иначе — Шеллинг менее захвачен был политическими и гражданскими интересами, чем Гельдерлин и Гегель, он равнодушнее, чем они, взирал на античность, у них с этими интересами связанную, наконец, он был на пять лет моложе, что в ту юную пору было заметной разницей. Вскоре определилась карьера Шеллинга, академическая и литературная. Ему поклонялись, он шел по жизни как ранний победитель и счастливец, и это нарушало равенство с ним.
Годы Тюбингена — годы первого разгара Французской революции. Начиная с Тюбингена Гельдерлин до конца своей сознательной жизни последовательный приверженец ее. Французская революция была в конце концов истинной школой и истинной системой воспитания для Гельдерлина, все остальные влияния и воздействия подчинялись науке, которой революция учила его. Революционный энтузиазм среди тюбингенских друзей Гельдерлина был велик. Они проявляли и политическую стойкость. Герцог Вюртембергский узнал, что студент Шеллинг перевел на немецкий язык «Марсельезу», и по этому поводу самолично явился в тюбингенский институт. Шеллинг, вызванный к герцогу, не отрекся от песни «марсельских бандитов», как герцогу угодно было обозначить ее, не отрекся и от своего перевода, а в довершение всего отказался выразить раскаяние. Герцог Карл лет десять тому назад прошел грозой над юным Шиллером, тогда студентом академии, которую учредил герцог. В год революции герцог уже не вызывал суеверного ужаса вокруг себя, как то бывало прежде.
После Тюбингена начинаются для Гельдерлина годы скитаний, гувернерских должностей, доучиванья и упорных
265
литературных трудов. Более полугода посчастливилось ему провести в Иене — до конца мая 1795 года. Здесь он слушал Фихте, который впечатлял его, хотя направлением своей философии был чужд ему, — Гельдерлин поддался ей ненадолго. Зиму в Иене Гельдерлин провел без топлива, дома сидел укутавшись, сознательно шел на голод, лишь бы продержаться здесь, в Иене, вблизи от Веймара. Иена, Веймар были ему нужны своими людьми и культурой. С этого времени развиваются его отношения с Шиллером и Гете, приобретшие для него драматический оборот. Перед обоими он благоговел, ошибочно предполагая, что у Шиллера особая близость к нему. Веймарские классики мало знали Гельдерлина как поэта и не стремились узнать лучше. Их чувства к нему находились где-то между некоторой благожелательностью и полнейшим равнодушием, — вернее второе. Настоящего ободряющего слова от них он так и не услышал, хотя более чем нуждался в этом. Гете и Шиллер перемолвились друг с другом в письмах весьма небрежно по поводу Гельдерлина, его же собственные письма к Шиллеру мучительны. Он весь уничтожался перед знаменитым своим покровителем. Но есть в этих письмах, при всем преклонении, еще и тайное чувство своего духовного равенства и с Шиллером и с другими владыками немецкого Парнаса.
Гувернерствование началось в доме светской приятельницы Шиллера Шарлотты фон Кальб, потом Гельдерлину пришлось перейти в дома менее блестящие, хотя и богатые, — он воспитывал бюргерских детей то в Германии, а то и за пределами ее. Немецкие ученые и литераторы той поры обыкновенно начинали с гувернерства, чтобы идти дальше, к должностям академическим, иногда придворным. Гельдерлин оказался вечным гувернером. Отчасти он сам хотел этого. Промежуточное состояние он предпочитал окончательному жизнеустройству, в котором крылись немалые опасности для человека, чья миссия была высока и не допускала ни малейших житейских компромиссов. По крайней мере он гувернерствовал у кого и где хотел. Государственная служба закрепостила бы его.
С 1796 года по 1798 Гельдерлин состоял домашним учителем во Франкфурте-на-Майне, в семье местного коммерсанта Гонтара. Знакомство с Сюзеттой Гонтар, хозяйкой дома, а потом и духовное сближение с ней, оказалось огромным событгзм в биографии Гельдерлина. Успевшая народить Гонтару четверых детей, Сюзетта была еще мо-
266
лода, красива и стремилась к жизни более осмысленной, чем предписанная ей мужем и его деньгами. Она была существом нравственно одаренным, способным предчувствовать, угадывать явления, лежавшие за ее бытовым кругом. Гельдерлин взирал на нее молитвенно. Биографы не сомневаются в чистоте отношений Гельдерлина и Сюзетты. Связь с хозяйкой дома, чужой женой он оценил бы как пошлость и житейскую нечестность. Гельдерлин духовно будил эту женщину, читал ей, писал для нее, размышлял перед нею вслух, она умела вовремя одобрительно кивнуть ему. Во Франкфурте Гельдерлин дописывал свой роман «Гиперион». Теперь и Сюзетта и героиня романа у него назывались одним именем Диотимы, взятым из «Пира» Платона. Гельдерлин мог думать, что в своем романе предугадал Сюзетту. Он старался средствами воспитания довести Сюзетту до полного сходства с Диотимой; с другой стороны, наблюдая Сюзетту, он больше верил в героиню своего романа, в действительность Диотимы, описанной им. Наконец, он больше верил и в самого себя, когда Диотима находилась с ним рядом. Современники говорят о том, как похожи были чертами лица Гельдерлин и Диотима, — их можно было принять за брата и сестру, они были как бы предназначены друг другу. Позднее это дало один из мотивов поэмы Гельдерлина «Эмилия в канун своей свадьбы» (1799): отношение Эмилии к ее жениху носит оттенок сестринства, да жених этот и в простом прямом смысле похож на покойного брата Эмилии.
Когда Гельдерлин вынужден был покинуть дом Гонтаров, он и Сюзетта тайно сносились письмами. Дошедшие до нас письма этой женщины прекрасны самоотверженностью чувства4. Она ничего для себя не ждет, ни на что не надеется, но озабочена, что станется с человеком, который порабощен любовью к ней и которому так нужна духовная свобода. Сюзетта Гонтар более других понимала, каково настоящее призвание Гельдерлина.
Купеческий город Франкфурт во многом просветил Гельдерлина. По ранним его годам Гельдерлину хорошо известна была полукрестьянская, аграрная Швабия. Войдя в окружение Гете, Гердера, Фихте, Шиллера, он узнал умственно аристократию Германии. Франкфурт заставил его доузнать другую часть нации — буржуазную. В письмах к родным он с содроганием отзывается о франкфуртских делателях денег, об их животной грубости, об
267
интересах собственности, в которые, как в могилу, заживо заключили себя эти люди (золото и серебро — могила. См. письмо к сестре от 4 июля 1798 года)5.
Дальнейшие годы Гельдерлина — годы новых лишений. Бездомный, обделенный элементарными благами, он продолжает настаивать перед миром на своей миссии поэта и духовного вождя. Он учит посредственных мальчиков и девочек в глуши, в тени каких-то полуцивилизованных семейств, а знает про себя, что его призвание при полном солнечном свете быть первоучителем, «прецептором» Германии. Как поэт, как литератор он не встречает признания. Полдюжины друзей умели ценить его. Это были люди, едва заметные в обществе и в литературе. Их мнение даже в их собственных глазах не обладало достаточной силой — мнение доброе к Гельдерлину, но робкое перед установленными авторитетами, перед их безразличием к нему.
Гельдерлин из числа тех поэтов, кто остерегается навязывать собственную личность читателям. Тем не менее личность Гельдерлина исподволь и со всей силой входит в его произведения, она очень там важна. Она героична, стоит высоко и незаурядна тем, что свойства эти в ней сочетаются с беспримерным лиризмом и нежностью, с некоторой духовной женообразностью. Его можно было бы назвать Ахиллесом в женском платье. Послегомеровское предание рассказывает, что Фетида, мать Ахиллеса, желая спасти его от предрешенной ему гибели, укрыла его на острове Скирос, где он рос, одетый в женское платье, вместе с дочерью царя Ликомеда. Но Гельдерлин очень тяготел к гомеровскому Ахиллесу и в другом его, более обычном образе. Размышления в прозе об Ахиллесе — фрагменты, обыкновенно публикуемые среди эстетических опытов Гельдерлина. Ахилла он именует гениальным, всесильным, меланхолическим и нежным, обращает внимание, почему Ахилла Гомер так долго держит в бездействии, — Гомер не хочет профанировать его происходящими событиями. Ахилл не поддается подробному рассказыванию о нем. Иное Улисс — это мешок разменной монеты, которую считай и считай; если же имеешь дело с золотом, то можно быть кратким. Замечания об Ахилле и Улиссе очень многое объясняют в собственной немногословной поэтике Гельдерлина, когда ему доводится описывать людей6. Есть еще у Гельдерлина и стихотворение об Ахилле — о страждущем Ахилле: перед матерью,
268
богиней Фетидой, Ахилл оплакивает потерянную свою возлюбленную7.
По убеждению Гельдерлина, героической душе подобает доброта. Он говорил не о привилегиях героя, он говорил о его обязанностях. Герой, по Гельдерлину, всегда чей-то защитник. В юношеском стихотворении «Гимн свободе» сказано: герой помогает подняться тысячам. В понимании Гельдерлина герои — наши старшие друзья. Добротой, твердостью, духом попечительнотьи о других веяло и от бытовой и от поэтической личности Гельдерлина.
В мартовском номере 1799 года иенской «Всеобщей литературной газеты» появилась рецензия Августа Шлегеля на альманах, издававшийся Нейффером, где помещены были стихотворения Гельдерлина. Август Шлегель отзывался о Гельдерлине весьма дружественно, а о стихах самого Нейффера более чем резко. Нейффер был другом Гельдерлина.
В письме к матери Гельдерлин привел выписки из Шлегеля. Они были ему чрезвычайно дороги. Еще никто и никогда не баловал его добрым отзывом в печати, а тут его хвалил знаменитый критик, и это оправдывало перед матерью, перед родней занятия Гельдерлина поэзией, столь сомнительные в их глазах. Но Гельдерлин имел мужество просить у матери, чтобы она утаила эти выписки, огласка их огорчила бы Нейффера. Он пожертвовал другу единственным своим и столь ему нужным успехом8.
Гельдерлин кончил душевной болезнью, которая все разрасталась. В конце 1801 года он отправился во Францию, в Бордо, сговорившись об учительском месте в семействе немца-виноторговца. В июле 1802-го он возвратился неожиданно на родину, одичавший, страшный, трудноузнаваемый. Связи его с миром разумных существ с тех пор стали ослабевать. Он сидел над рукописями и время от времени совершал еще свои подвиги поэта. Синклер, прекраснейший друг, в 1804 году содержал его на собственные средства в Гомбурге, создавая ему иллюзию, будто он состоит библиотекарем на жалованье у гомбургского ландграфа. Все эти годы безумие, однако, исподволь разрушало его и давало о себе знать отдельными порывами. В 1806 году его поместили в клинику, в 1807-м произошла полная духовная катастрофа, он жил с тех пор в Тюбингене в семействе столяра Циммера, ничего не понимая, никого не узнавая, затихший, учтивый к своим посетителям. Иногда он именовал себя Буонаротти или
269
Скардапелли. На этих необычных именах лежал угасающий отблеск каких-то воспоминаний о необычной роли, на которую притязал он когда-то. Он пробовал писать, разговаривал вслух с самим собой, читал вслух из собственных сочинений, играл на флейте, на рояле и был полностью безнадежен. В этом состоянии провел он тридцать семь лет — целый возраст человека: для него самого это была половина жизни, им прожитой. Гельдерлин умер дважды, сперва духовно, потом физически. Зато и родился он тоже дважды, если считать признанность его в наш век и растущую мировую славу вторым его рождением, вторым приходом к людям. В настоящее время бесконечно множатся издания сочинений Гельдерлина9, литература о нем поистине огромна.
Лучшим введением в поэзию Гельдерлина служат стихи его раннего периода, — так называемые «тюбингенские гимны». В них очень много от Шиллера — его стиховые формы, его риторико-философский пафос, его любимые темы и тезисы. Вместе с тем мысль Гельдерлина своеобразна, она уже находится на том пути, от которого Гельдерлин никогда не станет отказываться. Общим мыслям эпохи Гельдерлин придал от себя особое направление, он владеет ими столько же, сколько и они владеют им. «Тюбингенские гимны» современны генеральным событиям Французской революции и написаны по прямым ее внушениям. Даже сам репертуар философских и политических тем, разработанных в этих гимнах, имеет поучительные французские аналогии. Когда в 1794 году Робеспьер установил культ Верховного существа, то в декрете были объявлены особые республиканские празднества: в честь человеческого рода, в честь благодетелей человечества, в честь свободы и равенства, в честь истины и справедливости, в честь дружбы, мужества и счастья. Всему этому можно найти у Гельдерлина свои соответствия. В первые годы революции Гельдерлин пишет оды совершенству, свободе, гармонии, человечеству, красоте, дружбе, юности, дерзанию, — по оде в пользу каждой сущности и каждого божества, впоследствии узаконенных Робеспьером. Словесные празднества у Гельдерлина предваряют празднества, позднее на деле устроенные в Париже. Бехер назвал Гельдерлина «политическим поэтом» и, по всей очевидности, в самом общем смысле, как можно утверждать о Байроне и Шелли, что они политические поэты по характеру поэзии своей в целом, а не в одних лишь своих отдельных
270
произведениях10. Гельдерлин взял на себя эту роль уже с первых своих выступлений. Сначала он политический поэт в смысле прямом и специальном, расширяющемся все более с годами.
Старый феодальный порядок Гельдерлин и его современники рассматривали — и, конечно, не ошибались в этом — как голое, открытое насилие: экономическое, социальное, государственное. Постоянный предмет полемики в тюбингенских гимнах — насилие, деспотизм, произвол. В гимнах возвещается: идут новые времена, когда не будет места ни одному, ни другому, ни третьему. Гельдерлин высказывается против «законов» — записанных в своде, юридических, проводимых властью. Навязанные гражданам сверху, пришедшие извне, законы эти своевольны, деспотичны. Закону юридическому, от людей идущему, противопоставлен в гимнах закон естественный, содержащийся в самих объективных вещах, ими предуказанный. Свобода, по Гельдерлину, состоит для общественного человека в том, чтобы стать лицом к лицу с законами объективного мира — законами внутренними, внутри вещей лежащими. Лишь у этих законов подлинный авторитет, они не унижают человека, так как все и каждый перед ними равны, нет привилегий, нет лицеприятия. Бедствия недавнего строя, по Гельдерлину, имели ясную причину: в отношения между человеком и природою вещей вмешивалась третья сила, и она-то судила и рядила. Нынче все по-новому. Нет произвола человека над человеком, власть над людьми одна — необходимость, заложенная в самой природе. Законодательство самой природы вытесняет законодательство юридическое, — в этом, по Гельдерлину успех революции и нового общества, что создается ею, в этом успех раскрепощения. Вы сами можете узнать, что предписывают и что от вас хотят мир и природа, без вмешательства и толкований третьих лиц, которые стали бы направлять вас и распоряжаться вами. Мы увидим, что тема третьих лиц еще всплывет во всем своем значении в «Смерти Эмпедокла». Как и другие авторы XVIII столетия, Гельдерлин рассматривает победы естествознания, физики и математики в связях политических. Еще в 1789 году Гельдерлин написал стихотворение прославительное, посвященное Кеплеру — «сыну Свевии» и гордости ее. Гельдерлин неравнодушен к астрономии, к пейзажу неба. Законы природы получают здесь математическое выражение, и тем самым для Гельдерлина и
271
для современников они обладают особой живостью — они связываются с актуальными чувствами и мыслями: твердые и точные, как юридический закон, как указания власти, они имеют великое преимущество перед ними, — они порождены самой природой вещей, не насилуют нас, а лежат также в нас самих.
Гельдерлину, как и всему его поколению, близки идеи спинозизма. Разум и его законы не разводят нас и природу в разные стороны, но сводят в одно. Мы тоже природа. Тот же закон, найденный в природе вещей, соприсущ и нам. Он охватывает и нас, и предметное бытие, поэтому, открывшись для сознания, он заново сближает обе стороны, казалось бы потерявшие друг друга. Разум не разъединяет, разум соединяет. Исследователь Гельдерлина говорит о его мировоззрении: «По Гельдерлину, человек получил разум не против природы, но получил его из нее самой» и .
Однако Гельдерлин не в пример внимательнее к пейзажу в его реальных красках, чем к абстракциям. И тут сказывается влияние Швабии, родной Гельдерлину. Южногерманские благодатные земли многое внушили Гельдерлину. По своим первоисточникам он поэт аграрный, даже крестьянски окрашенный. Поля и виноградники Швабии незаметным образом вдохновляли его. Позднее они вошли в символы, очень значительные для него, — в символы вина и хлеба. При всем этом у Гельдерлина не было и в помыслах какой-либо швабской провинциальной узости, какой-либо аграрно-крестьянской односторонности. Все это появилось уже в другом поколении, у поэтов швабской школы, которые наивно преклонялись перед Гельдерлином, своим земляком, и добросовестно не ведали, как приступить к нему и к его сочинениям. В Германии неоднократно делались попытки выводить характер литературы из местных условий, историю литературы писали по отдельным немецким землям. Из сравнения Гельдерлина с позднейшими поэтами швабской школы — с Уландом, с Кернером, даже с Мерике — отлично видно, как недостаточны для историка и для истории условия места, местности сами по себе взятые. Швабия представлялась Гельдерлину в контексте мировых великих переворотов, и это все меняло. Он видел над Швабией высокое небо, а швабские поэты, люди будних дней истории, созерцали низкий швабский горизонт и еще низили его, беднили его и без того бедный.
372
В «Тюбингенских гимнах» говорится о старом порядке, о быте земледельца в условиях его. Запущенными и бесплодными стоят поля, урожай с которых снимается насильственно — под давлением закона, — сказано в «Гимне к музе» (1790). Здесь подразумеваются крепостное право, феодальное принуждение и феодальные поборы. В «Гимне к человечеству» (1791) феодальные хозяева страны названы разбойниками. Революция лишила их власти. Люди труда восстановлены в своем достоинстве — «земному праху» возвращена его честь, человечество идет к своему совершенству.
В поэтической идеологии Гельдерлина первенствует природа. По «Тюбингенским гимнам» можно судить, как Гельдерлин приходит к ней и что означает она. Наступает новый век, и устраняются все силы, учреждения, институты, стоящие между работающим человеком и природой, предметом его работ. Гельдерлин настроен романтически. Он приписывает революции, идущей из Франции, тот колоссальный размах, которого она не имела и иметь не могла. Как верилось Гельдерлину, вопрос социальный — об отношениях людей друг к другу — был уже сегодня решен радикально и навсегда. Больше нет и не будет коллизий между человеком и человеком. Остается одна-единственная коллизия — между человеком и природой. Ею Гельдерлин и занят всецело. Роман, драма, лирические связи между людьми и природой составляют у Гельдерлина преобладающий предмет интереса, независимо от перемен, которым подвергаются воззрения Гельдерлина, социально-исторические, философские, эстетические. Буржуазная революция заменила феодальные формы собственности и эксплуатации новыми формами, более высокого типа. До поры до времени Гельдерлин, как и другие его современники, полагал, что это не замена, а отмена, что социальный гнет, антагонизм интересов навсегда уходят из истории общества. Гельдерлин крупно ошибся, но заодно сделал и важное открытие. Всегда и всюду, при всех исторических обстоятельствах коллизия между людьми и природой есть самая широкая, первоосновная и всеобъемлющая коллизия. Ее не умеют увидеть, она загромождена коллизиями, по дороге к ней происходящими между самими людьми. Гельдерлин узрел ее. Утопия, согласно которой люди прямо и непосредственно уже дошли, ничем не отвлекаемые и не осложняемые, до главного своего антагонизма с
273
природою как таковой, — эта утопия дала Гельдерлину преимущество перед теми его современниками, которые никогда и ни в чем не соблазнялись утопиями. Борьба человека с природой, бесконечная коллизия человека и материального мира, предстала перед Гельдерлином с достаточной ясностью. Позднее он понял, что коллизии между людьми отнюдь не прекратились вместе с буржуазной революцией. Но сделанного однажды открытия о природе и человеке он никогда не терял из виду. Для него коллизия эта осталась первой и последней, всепроникающей и вездесущей. У Гельдерлина последующей поры люди опять продолжают свой процесс друг с другом, социальные антагонизмы воскресают, все происходит, однако, на фоне и в условиях также и иного процесса, тде состязаются не человек и человек, но человек и природа. Первооснова истории становится, таким образом, фактом его поэтического сознания и становится им навсегда. У позднейшего Гельдерлина в позднейших его больших поэмах социально-историческая жизнь постепенно включается в жизнь космическую, — ои не стилизует одну стихию под другую, историю под природное бытие, он очень далек от какого бы то ни было натурализма. Гельдерлин умеет видеть историческую жизнь и в особом ее характере и в связанности ее с естественным миром, что сообщает социально-историческим картинам у него величие и широту, не всегда обычные в поэзии нового времени.
В одном из «Тюбйнгенских гимнов» сказано: когда падают троны королей, исчезают и все средостения — «Hin ist jede Scheidewand» («Песня любви», «Lied der Liebe», 1789). Под средостениями, перегородками разумеются сословия и сословные привилегии. Гельдерлин переживает очень интенсивно этот новый мир, где больше нет сословных делений, мир равенства и братства, как его называла революция. Не давая себе ясного отчета, что он делает, он идут несравненно дальше политических и социальных изменений, совершившихся на деле. По Гельдерлину, исчезли или исчезают все, какие только были, препятствия для объединения человечества в общую для всех семью. Есть род человеческий, и есть мир естественный, лежащий перед людьми как их наследство и богатство. Природа у Гельдерлина обладает цельностью — это неделимая природа, каждый связан с нею в ее цельности,
274
в единстве, ей присущем. Можно думать, перед Гельдерлином носился такой образ: нет больше полевых изгородей, обособленных владений, есть одно поле, одна семья и одно небо над этой всеобщей землей. Единому роду человеческому сообразен единый мир природы, К чувству, космоса, к чувству мира в целом Гельдерлин, как и другие люди его эпохи, выходит социальными путями.
Лучшее богатство Гельдерлина заключается в его лирических стихотворениях — одах, панегириках, дифирамбах, посланиях, элегиях, больших и малых полуописательных медитативных поэмах. Он всегда лирик и никогда чистый лирик. Как лирический поэт он нуждается в предметном содержании, — пусть это будет ландшафт, большой или малый, пусть это будет ландшафт, соединенный с образами мифа и истории, переходящий вместе с ними в мысль и в размышление. Лирические эмоции у него центробежны, они ищут предметов вовне, в которые они могли бы углубиться и так проявить себя. Стихотворение «Странник» («Der Wanderer») в первых подступах к нему было еще замкнуто во внутреннем мире, — там говорилось о севере и юге, которые ощущает автор в самом себе, в собственной душе, север и юг были душевными символами. В дальнейших разработках рассказывается языком объектов о подлинных, несимволических странствиях по югу и по северу. Лирика уходит в описания, она только вторичным, косвенным способом снова проступает в них и через них.
Желание Гельдерлина, лирического поэта, — насколько возможно раздвинуть человеческое «я», не позволить ему в чем-либо затвориться навсегда, уйти в малую жизнь и там остаться. Гельдерлин исходит из особого понимания человеческой личности. Он очень строго различает, что, собственно, относится к ней и что нет. Часто принимают за индивидуальность человека видовое в нем. Местное, этнографическое, возрастное, профессиональное, цеховое, сословное XVIII век в романе, в драме очень часто и считал проявлением индивидуальности в человеке. Жанровые краски в человеке оценивались как краски личного своеобразия, как особый колорит, присущий личности в качестве таковой. Принадлежность человека к узкому виду — сословному, этническому и т. д., понимали как выход за пределы вида вообще; яркость, каков бы
275
ни был источник ее, переживали как бесспорпый признак личности. Между тем стесненность личности, сословная, цеховая или какая-нибудь другая, зачастую и придает ей яркую, резкую окрашенность. Гельдерлин весь против жанрового человека из быта и литературы XVIII века. Тут можно снова вспомнить прозаический фрагмент Гельдерлина об Ахилле: Гельдерлин за Ахилла, не за Улисса, в котором угадывается далекий античный прототип жанрового человека, чья стоимость — мешок, наполненный мелочью, как у Гельдерлина и сказано. Принцип личности для Гельдерлина не в том, чтобы поместить ее в тесные границы, а в обратном — в освобождении от них. Содержание лирики Гельдерлина именно в этом, — личность выходит на просторы и еще большие просторы, и там находит себя. Лирика Гельдерлина передает в самом оптимальпом варианте исторический процесс, происходивший перед его глазами. Человеческая личность идет в мир, к новым источникам своего духовного питания, она добывает в мире свою свободу, обещанную революцией. Героический оттенок, всегда свойственный лирике Гельдерлина при всех ее тяготениях к меланхолии, при всей задумчивости ее, возникает именно по этой причине, — лирика Гельдерлина всегда выражает подвиг внутреннего освобождения, причем подвиг этот совершается в жестких, трудных условиях и арена подвига чрезвычайно велика, она — весь мир.
И современники и потомство нередко винили Гельдерлина в абстрактности его поэтического стиля. Между тем стиль его отличается особой чувственностью, совсем не той, что например, стиль молодого и зрелого Гете, проникнутый сознанием обстоятельств времени и места. У Гельдерлина по-своему присутствует и то и другое, — можно бы сказать, что сознание пространства и времени в нем весьма активно, однако же и время и пространство для него чрезвычайно расширены. Он стремится никогда не упускать из виду целое, он хочет видеть на самых больших расстояниях, он увлечен будущим самым отдаленным. В его поэзии присутствуют вещи, цвета, подробности, но они рассеяны по столь обширному полю, что теряют всякую чувственную назойливость, становятся фнлософски-облагороженными; быть может, вещи и не утратили окончательно свой вес, объем, плотность, но все это существует больше как напоминание, сделанное издалека, чем как физическое ощущение. Гельдерлин избе-
276
гает слишком приметных уплотнений, сгущений текста, не в его целях слишком удерживать внимание на чемлибо одном, он хочет, чтобы всегда и всюду веял дух целого, и при этом целого, которое живет, движется и уходит в неизвестность, в романтическую даль. Многие его стихотворения — обзоры, обозрения, рассказ о путешествиях в элементарном смысле, сделанных пешком, в карете или же о путешествиях, сделанных мыслью, запись воспоминаний. Очень примечательна его стилистика. Он богат тропами, и тропы у него больше тяготеют по принципу своему к сравнению, чем к метафоре. У метафоры есть своя исключительность и узость. И в сравнении и в метафоре сближаются два понятия, два образа. Метафора по преимуществу заинтересована в одном из них. В метафоре один образ определяет другой — предмет определения, и этот другой втягивает в свою особую сферу первый, поглощает его. Иначе в сравнении: образы сопоставлены так, что между ними соблюдается некоторое равенство. Гельдерлин сравнивает ночь в звездах и сад человека, полный золотых плодов (стихотворение «Человек», 1797). Образы эти связаны как бы взаимопомощью, они усиливают друг друга, звездам прибавилось золота, сад становится волшебнее, чем был. При этом образы остаются на своих местах, они разделены, самостоятельны, ни один не приносится в жертву другому, как потребовала бы того метафора.
Гельдерлин предпочитает сближать неблизкие явления. Площадь совпадающего у них невелика, и, соприкоснувшись, они почти по-прежнему свободны, сходятся они только на минуту, чтобы тут же разойтись. Между ними лежит, как лежало, свободное пространство. В стихотворении «Своенравные» (1799) друг за другом идут параллельные образы: человек слышит музыку, и на сердце у него светлеет, в человеке все меняется, когда в лесу, прикрытый тенью, вдруг глянет па него пурпурный виноград. Гельдерлин не сопоставляет цвет и цвет, он сопоставляет цвет и звук, зрительный образ не густеет, но разрежается. В стихотворении «Эмпедокл» (1799) очень смело сравниваются два события, лежащие в большом отдалении друг от друга. В первой строфе говорится о философе Эмпедокле, который бросился в кратер Этны, во второй — о царице Клеопатре, распустившей жемчужину в чаше с вином. Сходство этих двух явлений устанавливается по преимуществу с моральной стороны, и тут
277
и там высокомерно, как если бы они не стоили ничего, приносятся жертвы, в одном случае человек не дорожит самим собой, в другом — не дорожит жемчугом. Сходство едва проникает в материальную глубь вещей, оно скользит, и, блеснув неожиданно, оно еще более прежнего разъединяет эти вещи: на фоне сходства, едва укрепившегося, становится более актуальным несходство между ними. У Гельдерлина после мгновенного, воздушного сближения, предметы и люди вернулись на свои места, и все как прежде: кратер есть кратер, чаша есть чаша, Эмпедокл философствует в Сицилии, Клеопатра царствует в Египте. Гельдерлин предпочитал, чтобы люди и предметы были рассредоточены в конце концов. Тропы Гельдерлина не нарушают, но поддерживают законы стиля, избранного им. Законы эти требуют, чтобы кругозор был сколько возможно широк, чтобы освещение было широким и рассеянным.
В стихотворении «Плач Менона о Диотиме» (вторая редакция, фрагмент 6, заключительные строки) дается поэтический образ редкой смелости. Ночь, сказано там, выплачивает свои сокровища — «und ihre Schätze die Nacht zollt», — и из ручьев вырывается блеск золота, погребенного в нпх. Казначейство ночи — исходный образ, на который решается Гельдерлин, лунный свет — работник ночного казначейства, выдающий золото, как кассир через свое окошко. Разумеется, и здесь, как водится у Гельдерлина, несближаемость образов только виднее сквозь их сближение. Делается натиск образа на образ, и все же каждый из них остается на своей собственной свободе. Если угодно, все вместе — чудеса и странности, способные в свой час развязаться под луной. Странные пересечения образов — поэтика ночи. В этой же поэтике их необычайная острота.
Не случайная особенность стиля Гельдерлина — любовь к именам и названиям, историческим, географическим. Именами и названиями Гельдерлин пользуется, как если бы это был отдел драгоценностей в его словаре. Они придают стихам его блеск чувственности — трудно уловимой, по-особому одухотворенной. Уже в раннем описательном стихотворении «Кантон Швиц» (1791 г.) то здесь, то там появляются швейцарские имена собственные, иной раз малоизвестные, требующие комментариев. Имя собственное и есть та поэтическая конкретность, которой ищет Гельдерлин. Имя собственное — и самое конкретное слово
278
и самое общее, и самое материальное и самое умозрительное. Оно указывает на единичную вещь — на ту скалу в Швейцарии, на тот город, озеро, долину, и поэтому нет ничего более осязаемого. Но имя собственное указывает на предмет в целом и ничего не рассказывает нам, ничего не выделяет, не дает характеристик, — что можно найти в прозвище, того нет в имени как в таковом. Имя собственное манит нас определенностью и оставляет нам неопределенность, оно столько же вещь, сколько призрак вещи. Вот эти ощущения вещественности, которым не дано сплотиться, вот это чувство плоти вещей, воздушной, легко растворимой, и порождаются в поэзии Гельдерлина музыкой собственных имен.
Стиль Гельдерлина таков, что нет нигде задержки, отдыха, длительной паузы перед лицом определенных вещей и явлений, — все провеивается воздухом больших пространств, все содержится в лоне «отца эфира», которому Гельдерлин посвятил благодарственную оду. Нет остановок в пространстве, нет их и во времени. Гельдерлин как бы плывет вместе с временем истории, его поэзия вся обращена к будущему. Среди стихотворений ранней поры «Кантон Швиц» кажется выпадающим из правила, — в нем есть какое-то живописание обстоятельств сегодняшнего дня, в нем даны быт и люди. Но это свободные швейцарские крестьяне — потомки Телля, как об этом настойчиво говорится в стихотворении. Они уже отчасти владеют тем будущим, которое замыслили другие народы Европы, и поэтому Гельдерлин может остановиться на их настоящем. Шиллер советовал Гельдерлину «держаться поближе к миру ощущений» (письмо от 24 ноября 1796 года). Он предвосхищал советы Гете, — тот думал, что Гельдерлину лучше бы избрать для себя жаир идиллии, что его поэзии нужны фактичность и умение живописать людей, — а в этом умении, добавляет Гете, в конце концов вся суть (письмо Гете к Гельдерлину от 28 июня 1797 года). И Гете и Шиллер обратили на Гельдерлина критерии эстетики вообще, пе задумываясь, насколько они для него пригодны. Гельдерлин, поэт с революционным пафосом, считал, что мир будет сотворен заново. Конкретность Гельдерлина — конкретность мира, который уже был создан однажды. Ему нужна в ландшафте некоторая пустынность и безлюдье, ибо настоящая жизнь придет в ландшафт только завтра или послезавтра. Ланд-
279
шафты у него почти безлюдны, он не живописует человека, как того хочет Гете, ибо помыслы его относятся к тем, кто населят землю через поколения, не к сегодняшним жителям земли. У Гельдерлина своеобразный пафос незанятых территорий, — он хочет, чтобы заново устроенная жизнь не встретила на них препятствий. В его поэзии, как это выражено в ее формах, в ее стиле, как бы происходит приуготовленпе к перестройке мира. В ландшафты вторгаются какие-то элементы плана местности, — для перестройки нужен план. Смешение классичности плана с романтической живописностью, строгой логики с прихотью, с импровизацией составляет своеобразие ландшафтов Гельдерлина, его многочисленных поэтических описаний. Киркегор сравнивал художественный образ с кругом, понятие — с многоугольником. В описаниях Гельдерлина есть и то и другое, мы наблюдаем, как из многоугольника делается круг, как в круге все-таки подразумевается многоугольник, ему предшествовавший. У Гельдерлина бывают выделены, осознаны первоосновы пейзажа, то, что дает схему, план. В стихотворении «Дубы» (1796) очень ощутимо, как движется взгляд человека, созерцающего ландшафт, — снизу вверх. В этом же стихотворении не менее ощутимо само пространство как таковое, — о дубах сказано, что своими лапами они выхватывают куски пространства, как орел добычу. В стихотворении «К эфиру» (1796) все насыщено чувством высоты и простора. Гельдерлин передает чувство направления в пейзаже, он как бы подчеркивает главные ориентирующие линии, по которым мир был создан и по которым можно приступить к его пересозданию. Он совмещает в своих описаниях качества картины с качествами чертежа, так, чтобы от картины можно было перейти к чертежу, и обратно, когда настанет надобность в том или в другом. Его пейзажи восприняты не глазом, но оком, — так много интеллектуального содержания в них, такая даль еще не наступивших событий здесь открывается для зрителя.
В поэзии и в миропонимании Гельдерлина чрезвычайно велика роль античности. Среди мировых поэтов он, вероятно, был самым убежденным и самым стойким энтузиастом ее. Весь обращенный к будущему, он, однако, всегда помнил древнюю Элладу. В этом не было противоречия. Эллада и была для него предсказанием, какой
280
строй отношений и какая культура могут и должны водвориться снова в Европе. Погружаясь в Элладу, он «вспоминал будущее» и торопил его наступление. Как великих просветителей XVIII столетия, Эллада обольщает и Гельдерлина социальным совершенством, которое и они, и Гельдерлин ей приписывали. Они забывали об античном рабстве и видели в греческой политике нечто очень приближенное к идеалам реальной демократии. Как полагали просветители, в античности нет современной разницы между гражданином и буржуа, в античности они слиты в одно лицо, в античности отсутствует частная жизнь как нечто противоположное интересам и целям гражданской общины. Античная «доблесть», любовь к закону и к государству есть начало непроизвольное: ничто не побуждает гражданина обособляться от коллективных целей. В романе Гельдерлина «Гиперион» ведется беседа о Спарте и об Афинах, — литературу XVIII века очень беспокоила антитеза между этими двумя античными республиками. Гельдерлин отдает предпочтение Афинам, — только в них он усматривает настоящий образец античного развития, без умышленного его обеднения, без регулирования и диктата извне, как в Спарте, — развития, как оно подсказано самой природой в ее обилии и многообразии.
Гельдерлин воскресил по-своему античную мифологию и античных богов. Он вовсе не явился послушным реставратором античного Олимпа и всего, что водилось там. У него собственные боги, — богом богов поставлен у него отец Эфир, древними не предусмотренный. Шатобриан сказал, что мифология преуменьшает природу, — («lа Mythologie rapetissait la Nature»), слишком много богов, они раздробляют естественный мир, придают малый формат явлениям, находящимся у них под покровительством. Гельдерлин очень сократил население Олимпа, — помимо отца Эфира на Олимп вознесены у него мать Земля, Гелиос, Аполлон, позднее — Дионис. Он упрощает античную мифологию, потому что ему нужен большой стиль для нее, богов он допускает как силы, как образ этих сил, — боги не дробят, но собирают мир в единое и целое. Когда богов множество, когда у каждого свои особые приметы и черты и каждый становится чересчур обрисованной личностью, то нарушаются их близкие отношения с природой, которая их произвела. Они сами по
281
себе, и природа тоже сама по себе. У Гельдерлина его обобщенные боги тонут в некоторой неопределенности они остаются внутри природы, внутри материи, как полуясные, полупроснувшиеся их души, как собственная их энергия. Гельдерлин останавливается где-то посредине между многобожием греческой народной религии и монизмом излюбленных своих ионийских натурфилософов, у которых мир выводился обыкновенно из единого принципа, хотя сам этот принцип менялся: то это была вода, то воздух, то огонь. Умеренное многобожие у Гельдерлина выражало многообразие мира, в котором не должно пропадать единство. В своем романе Гельдерлин приводит положение из Гераклита Эфесского: мир есть единое, в самом себе различенное.
Боги у Гельдерлина несколько антропоморфны. Несколько, ибо Гельдерлин очень сдержанно и скупо очеловечивает своих богов. Они как бы делают издали кивок человеку — мы не чуждаемся тебя, ты можешь до нас подняться. Гельдерлиновские боги — существа, близкие к универсальности, их немного, и добрая доля универсальности поэтому приходится на каждого из них. Мир природы — их дом, они устроились здесь запросто. В «Гиперионовой песне судьбы» («Hyperions Schicksalslied») сказано о богах, что они лишены судьбы. Иначе: для богов нет ничего внеположного, по сути своей иного, чем они сами, предопределяющего их как судьба. Гельдерлин мечтал о том, что и человек победит судьбу — превратит мир в свое жилище, обретет полнейшее доверие к миру. Боги, говорится в песне Гипериона, спят, лишенные судьбы: как младенцы, целомудренно они покоятся в нераскрывшейся почке. Это в известном смысле желанный образ и для человека — для будущих доверительных и целостных его отношений и к миру и к природе. Много написано больших и малых сочинений на тему «Гельдерлин и боги»12. Ученые авторы хотят нас убедить, что Гельдерлин неким историческим чудом в неприкосновенности сохранил в себе античную веру в богов. Эти авторы ошибаются. Гельдерлин верил не в богов, но в человека, в его рост, в его бесконечные — божественные! — возможности. «Но человек — это бог, если он человек на самом деле», — сказано в романе Гельдерлина «Гиперион», очень близко к положениям, с которыми со временем выступят Фейербах и его последователи.
282
В поэзии Гельдерлина античность лишь в очень редких случаях является непосредственной темой, предметом прямого изображения. Как правило, Гельдерлин пишет о своей современности, и античность появляется лишь по поводу нее и во внутренних своих связях с нею. Античность у него выражает самые глубокие тенденции современности. Античных богов достают из почвы современности, они таятся в ней. У Гельдерлина тот же взгляд, что и у просветителей, у ранних романтиков, — новое общество, новая культура, возникающие в Европе, это как бы плоды археологических восстановительных работ. И те, и другие интерпретировали свою современность как Микеланджело статую, — он утверждал, что статуя уже заранее содержится в глыбе мрамора, надо только извлечь ее оттуда. Просветители, романтики, Гельдерлин тоже искали статую современности, уже заключенную в недрах исторических традиций. Их поведение нетрудно понять. Общество нового времени созревало и созрело в условиях враждебных ему феодальных отношений и феодальной государственности. Революция освободила это общество от чуждой ему оболочки. Поэтому у идеологов и сложилось представление, что новую общественность, новую культуру добывают, подымают, выводят к свету, как это делается с сооружениями, ушедшими под землю. Возникла своеобразнейшая археология в отношении будущего, которое хотели выкопать. Что скажет будущее, это старались угадать, изучая античные его прообразы.
Гельдерлин к темам современности применял античные стиховые формы. По примеру древних поэтов он писал в жанре од, дифирамбов, посланий, идиллий. Он пользовался их эпическими размерами — гекзаметром, гекзаметром с пентаметром. С известных пор он стал прибегать к сложным строфическим построениям, — к алкеевой строфе, к асклепиадовой строфе, известным в поантичной Европе по преимуществу через Горация, давшего популярность этим греческим формам в родной ему латинской лирике. Античный стих у Гельдерлина обозначает самую общую связь между современностью и античностью. Они приобщались друг к другу через стих как целое к целому. Связи через античные образы и темы сравнительно с этой связью носили более частный характер. Античные образы, напоминания об античности, — исторические, мифологические, могли быть богаты, могли быть скудны, могли вовсе отсутствовать. Но античный
283
стих был чем-то всеприсутствующим в произведении, он давал сплошную связь с античностью от первой строки до заключительной. По замыслу Гельдерлина, античное открывало современности ее самое, обнаруживало самые глубокие ее тенденции, еще не вышедшее на поверхность. Античное было знаком свободного естественного развития человечества в далеком прошлом, оно указывало на возможность такого развития в настоящем и пророчило его победу в будущем, быть может, тоже далеком, и, однако, неизбежном.
Свою Германию Гельдерлин передавал тем же художественным языком античности. Образ Германии очищался, способное жить и должное жить отделялось от исторически безнадежного, лучшее, что было в Германии, рисовалось в еще улучшенном, усиленном виде. Гельдерлиновская Швабия, выраженная в античных образах и формах, светилась предчувствием будущих гражданских свобод, страна подъяремных крестьян представлялась так, что в ней можно было предвосхитить республику самостоятельных земледельцев эллинского либо же латинского типа. А еще вернее — типа рейнского и зарейнского, вызванного к жизни Французской революцией. Гельдерлин не прибирал, не прикрашивал то, что есть. Он звал изменить существующее, практически преобразовать его.
Хороший пример того, как менялся образ Германии в поэтике Гельдерлина, можно найти в его стихотворениях от 1799 года — «Майн», «Неккар», «Гейдельберг». Быть может, стихотворение о Гейдельберге лучше других. В горацианское это стихотворение введен образ старонемецкого города. Прежний Гейдельберг теряет самого себя, чтобы себя же найти в обновленном виде. Происходит переплавка из образа в образ. Здесь присутствует столь характерное для романтического метода развоплощение. Но у Гельдерлина оно является отдельным актом, оно включено в усилия поэта заново воплотить известное, готовое, для чего нужно этот всем знакомый, веками установившийся образ тут же развеществить, превратить его в плавкую массу, откуда немецкий город становится эллинским полисом, или еще точнее — латинским urbs. Но вытесненные старые представления не могут умереть: они зыблются под твердыми данными нового образа, хотя и ослабленные, хотя и потерявшие прежнюю непреложность. Развоплощенное продолжает жить в воплощенном, угадывается в
284
нем. В этом стихотворении река, на которой стоит город, названа юношей — в духе античной мифологии. Говорится о мостах, о повозках на мостах, о берегах, о холмах, о замке. В античном строе этого стихотворения все предметы несколько укрупняются и тяжелеют, насколько это возможно для поэзии Гельдерлина и для ее стиля. Предметы становятся как бы более предметными. Некоторое античное довольство материальной жизнью, античная сытость материальными впечатлениями веют здесь. Но подспудно здесь присутствует и бывшее, ушедшее — ведь нельзя не помнить о христианской цивилизации старонемецкого города, о традициях средневековья, о христианском спиритуализме, о том, на что легла античная образность.
Все романтики, по крайней мере до поворота в романтизме, вызванного «Речами» Шлейермахера, тяготели к реализации, хотели воплощения открытых ими ценностей. Но реализация отодвигалась у них в неизвестность. Есть ожидание, как это называл Новалис, и нет исполнения, как это называл он же, нет образа. Томление по образу как бы входит в поэтику романтизма. У Гельдерлина, тоже романтика, важное отличие от других романтиков; через эллинство жизнь у него принимает свой обновленный, более высокий образ, у тех только едва-едва обещанный. Античность помимо всего остального имела еще и этот руководящий смысл: чем она владела, то и выводила вовне, ничего про себя не хранила, ничего не держала в сумерках. Эллада для Гельдерлина — это среди других ее достоинств принцип ясного дня, воплощенности в ее чистейшем виде. Мы видели, как дорожит Гельдерлин воплощением. Он даже развоплощает уже воплощая, без промежутков между этими двумя действиями.
Античная форма позволяет Гельдерлину по-особому связывать национальное с интернациональным. Германия, показанная сквозь античный образ, оставалась у него страной немцев и в то же время стояла открытой перед другими нациями, доступной им. Античная культура в целом могла выполнять и выполняла ту роль, которая, в частности, принадлежала еще и во времена Гельдерлина одному из античных языков — латинскому. Как известно, язык этот несколько веков служил международному общению, в литературе и в науке. В образах и формах античной культуры жизнь европейских наций получила для себя интернациональное выражение, сводилась к чему-то всемирно-понятному и всемирно-приемлемому. Все это
235
можно наблюдать и в поэзии Гельдерлина, национальной и всемирной по духу своему и формам.
Отношения людей, их психология тоже представлены у Гельдерлина в формах античности, понятой им здесь, как, впрочем, и повсюду, в высоко идеальном смысле. Уже самое имя Диотимы, которым он ее называет, дает античную окраску всем стихотворениям, относящимся к Сюзетте Гонтар. О Сюзетте сказано, что она «афинянка», а об окружающих ее, что это «варвары». В стихотворениях к Диотиме как бы переводится в активное состояние все античное, эллинское, что скрывалось в этой женщине. Она обязывает к эллинству всякого, кто входит с ней в соприкосновение, и более, чем других, поэта, который влюблен в нее. Некий античный смысл заключен и в натуре этой героини и во всем, что соотнесено с нею, — античные формы здесь, как и в других случаях, будят этот античный смысл, помогают ему объявиться.
Стихотворения к Диотиме замечательны своей моралью, или, скажем лучше, стилистикой своей морали, ибо с моралью у Гельдерлина неразлучно чувство стиля. Это признания, делаемые свободной женщине, — предполагается, что в этом признаки «афинянки». У Гельдерлина нет навязчивости, которая свойственна, например, любовным стихам Клеменса Брентано, написанным чуть позднее, нет требования жертв и подчинения. Любовь у Гельдерлина либеральна, он говорит о своей любви не того ради, чтобы принудить Диотиму к ответному чувству. Он слишком высоко думает о ней, чтобы внушать ей что-нибудь, она вольна отвечать ему или не отвечать. Образу Диотимы предоставлена художественная самостоятельность, мы воспринимаем Диотиму, какова она сама по себе, независимо от эмоций влюбленного поэта. В одном из стихотворений Гельдерлин просит Диотиму простить его, — он слишком занял ее собою и своими несчастьями, возмутил ее спокойствие, а в спокойствии сама личность Диотимы. Рассказывая о своих горестях, Гельдерлин держит меру, он не унижается и помнит о своем достоинстве. В романе «Гиперион» сказано, какой была любовь у древних: «Ничего раболепного и без чрезмерной доверительности («Nicht zu knechtisch und nicht zu sehr vertreulich!»)13. Любовная лирика Гельдерлина приближается к этим нормам. Это любовь свободных, равных, в самой страсти не забывающих о правах другого. В лирике своей Гельдерлин подчиняет любовь некоторым объективным началам, и не со
286
стороны взятым, но из самой любви. Многократно и поэтически осмысленно в стихотворениях к Диотиме поминается «бог любви» — еще один из богов античности, принятых Гельдерлином. Если есть «бог любви», то есть и обязательства перед ним. Идея долга любви присутствует в лирике Гельдерлина. Чувство не подлежит произволу человека, он отвечает перед собственным чувством, как если бы это было дарование, талант, обязующие его перед самим собой и перед миром других людей. В четверостишии, написанном, когда Диотима была больна, говорится: «Диотима не может умереть, покамест Диотима любит». Следовательно, Гельдерлин толкует любовь как призвание, а призвание должно выполняться независимо от произвола призванных.
В стихотворениях к Диотиме все строится на человеческой свободе, на этике равенства, тогда как ни того, ни другого не было в немецких реальных отношениях. Так у Гельдерлина повсюду. По небогатым намекам настоящего он развивает будущее, которому он и предан всецело. Образ будущего, его красота вытесняет у него все другие интересы, — он стремится уже сейчас построить этот образ, достигнуть средствами поэзии недостижимого для реальной современной жизни.
Конечно, Гельдерлин —романтик. Историки литературы прежде рассматривали его как боковой и странный побег немецкого романтизма и, теперь многие сошлись на том, что его следует уединить, поставить отдельно, вне литературных течений и литературной борьбы его времени. Изоляция Гельдерлина связана с другой изоляцией — немецкого романтизма в целом, да, может быть, и всего романтического движения в Европе, которое будто бы с остальным развитием литературы не общается.
Прежде всего об эллинизме Гельдерлина. Можно и должно говорить об особом явлении — романтическом эллинизме, об Элладе романтиков, в отличие от Эллады и Рима классицистов. Романтический эллинизм в Европе — это Андре Шенье, Ките, Шелли, отчасти Байрон. Для нас в нем есть особая значительность, ибо к тому был прикосновенен и Пушкин. По Гельдерлину хорошо видно, чем и как связаны были романтики с эллинизмом. Они взирали на современный мир как максималисты, ждали от него вызова к жизни всех его возможностей, во всей их глубине
287
и в полном их объеме. Античная культура, как они ее понимали, была тем же максимализмом, — со стороны воплощения античность для них великий образец воплощения и еще более того — доведенного до конца, без убавки, без скидок, без недоделок. Античность для них — романтика в ее последнем, заключительном деянии, в ее реализации, в претворении неясного, текучего, всеобещающего, но аморфного, в тело и в форму. По содержанию культура может быть иной или по меньшей мере существенно расходиться с античностью, но для всякой культуры Эллада доказательство, что человечеству однажды было дано совершенство воплощения и что не бессмысленно снова мечтать о нем. Гельдерлин среди романтиков отличается особою силою пафоса воплощения, притом воплощения полнейшего и наивысшего, наподобие античной культуры в самых прекрасных ее достижениях. Эллинизм у Гельдерлина был не приложением к романтике, а самой романтикой, с собственными склонностью и требованием, одним из тех превышений обычно доступного, на которых она повсюду и везде настаивала. Эллинизм у Гельдерлина — безусловность идеала, заключение и завершение, полученные романтикой. Эллинизм — как бы идеальность самого идеала, его последнее совершенствование. У Гельдерлина утопия романтизма развита во всех существенных своих моментах, и она не менее замечательна также и внутренней своей законченностью.
Эллинизм Гельдерлина составляет одно с его республиканством в античном духе, с его гражданским воспитанием по нормам античного полиса, с его приверженностью к идеям народоправства. Во всем этом наблюдается прямая положительная связь Гельдерлина с революцией, более полная и ясная, чем у других романтиков, чем даже у Фридриха Шлегеля или же у Каролины. Напомним также, что и Фридрих Шлегель был тем же энтузиастом античной культуры и античного республиканства.
Гельдерлин романтик по самому существу этого движения. У него то же общеромантическое устремление в будущее, тот же взгляд на современность как на собрание переменных величин, та же убежденность, что мир есть бесконечное творчество и что в творчестве призвание человека. Как другие романтики, и Гельдерлин всем слухом обращен к подземной жизни современного мира, к тому, что еще не вышло к свету, но готовится к выходу. У Гельдерлина все это есть, и в его опыте со всею очевидностью
288
представлено, откуда оно явилось, чем и как подсказывалось. Связь Гельдерлина с революцией более последовательна и устойчива, чем у других-прочих деятелей романтизма, у которых она налицо, но с перерывами, с затемнениями по временам и требует особых розысков. Связь эта у Гельдерлина почти столь же верная, как у Георга Форстера, самого тогда свободного из немцев. Гельдерлин — лучшее свидетельство того, в чем именно состояла общеисторическая мотивировка романтического движения. И, так как первоначальные импульсы были в Гельдерлине действительнее, чем у остальных, то именно он дальше всех повел дело романтизма, добиваясь для него воплощения самого высокого и воочию. Энергия гражданственности, заложенная в Гельдерлине с самого начала, требовала от него нигде и никогда не снимать требований реального исхода для романтики, — требований социального тела для внутренних содержаний, созданных ею. Думаю, что трактовка Гельдерлина, вопрос, романтик ли он, стала испытанием для трактующих романтизм в его целом и общем виде. Если Гельдерлина отчисляют от романтизма, то тем самым романтизму оставляют очень немногое и убирают его с главенствующих путей исторического развития, на которых он на самом деле находится.
Гельдерлин немало пострадал от своего одиночества, от своей неприобщенности к современному ему литературному движению, от своего неучастия в школе и в школах. В то же время отсюда и сила и полнота его развития, — его не связывала школа, его не укорачивали литературные друзья, а ведь они не только способствуют, они и препятствуют, они задерживают рост, они укрепляют положительный пафос, они же и заражают негативными настроениями, а настроения эти неудержимо распространялись среди романтиков к началу нового века.
Гельдерлин в своей эпохе прошел одиноким, нисколько не будучи ей чужим. Он выражал шире других то, чем жила эпоха, что ее направляло, у него мы находим вернейший ключ к тому, какая историческая жизнь питала ранних романтиков, от кого и откуда они происходили. Не надо подгонять остальных ранних романтиков под Гельдерлина, сохраним ему особенность, но и не станем отказываться от попыток прочесть неявное в них через явное в Гельдерлине.
Совсем иное суждение возникает, если сравнить Гельдерлина с иными из позднейших течений в немецком
289
романтизме. Он и на самом деле совсем чужд их консервативности, политической и культурной, их попыткам перенести центр тяжести на немецкий национализм, на пережитки и все пережиточное, в которых будто бы и заключаются народность и национальность. Гельдерлин чужой даже такому позднему эллинисту среди романтиков, как Эдуард Мерике — у того слишком хрупкая античность, и тот слишком опасается за нее. От Гельдерлина далеки и средневековье швабской школы и барокко вместе с маньеризмом у Арнима и у Брентано. Даже в самых последних своих произведениях, полубезумных и безумных, Гельдерлин по-старому эллин, хотя и омраченный.
Роман Гельдерлина «Гиперион, или Греческий отшельник» в первоначальном своем виде в качестве фрагмента напечатан был в альманахе Шиллера «Талия» в 1794 году. Пройдя несколько промежуточных редакций, он сложился окончательно в годы франкфуртской жизни. Первый том романа вышел в 1797 году, второй — в 1799-м.
«Гиперион» для Гельдерлина узловое произведение. В нем содержатся итоги пережитого и продуманного, начиная с тюбиигенских лет, в нем явственны мотивы кризиса. Этот роман, лирический и вместе с тем политико-философский, писался и перерабатывался, когда Французская революция завершалась, когда наступала пора для первых обобщающих слов об испытанном и прочувствованном через нее15.
Роман Гельдерлина многими своими чертами близок к «роману воспитания», тогда господствовавшему в Германии. Изображается путь молодого Гипериона через жизнь. Его «воспитывают», образуют, строят изнутри внешние обстоятельства люди, его окружающие. Гиперион — современный эллин. Прошлое Эллады, ее великие традиции, современный упадок ее — условия, в которых растет Гиперион. Среди сограждан есть равнодушные, есть патриоты. Гиперион весь на стороне патриотов. Все его мысли о том, как вернуть стране былую славу и свободу. В романе с известной настоятельностью говорится о Греции и греках, почти современных Гельдерлину, именно они, а не кто-либо другой, заполняют кругозор. Это не препятствует большой широте смысла. Гиперион и его друзья весьма однородны с энтузиастами Французской революции: Гиперион и его друзья хотят восстановить Элладу вещественно,
290
реально. Гельдерлин с единомышленниками предан Элладе в символическом ее значении. Для них сокрытая Эллада — это Европа со всеми тайными возможностями своего будущего. Французская революция для них — это и есть освобождение символической Эллады. В романе Гельдерлина греки и греческие дела постоянно окружены вторичными значениями, общеевропейскими и непосредственно злободневными.
Мотивы, обычные для романа воспитания, восполняются в «Гиперионе» совсем иными, которых не знают ни роман этого жанра, ни буржуазный роман вообще. Именно политическая борьба, как она здесь изображается, дает роману Гельдерлина особый его облик и характер.
«Гиперион» близок не к «Мейстеру» Гете и не к тем романам воспитания, которые произошли от «Мейстера», а к более архаическому образцу этого жанра — к старому «Агатону» Виланда (1767), где очень сильны политические мотивы, впоследствии из романов воспитания ушедшие, и притом начисто. Еще одно приближение к «Гипериопу» — античная тематика «Агатона», культура и государственность классической Эллады, трактуемые в романе Виланда. Гельдерлин вносит в свой роман стихию политики и исторической активности, более того: она главенствует в его романе. Роман XVIII столетия выводил человека в готовом мире, сделанном без него. Человек искал для себя место в этом мире, не собираясь что-либо менять и нарушать в его порядках. Да и в романе воспитания, если отвлечься от романтических вариантов его, все сводилось к интересам частного жизнеустройства в весьма их ограниченном значении. Воспитание понимали именно так: оно в поисках места и в умении найти его. Не то у Гельдерлина. Действующие лица его романа не пользуются миром, издавна сложившимся, но впервые созидают мир. Вначале они готовятся к этой роли созидающих, потом исполняют роль; в том и в другом состоит их воспитание, — по преимуществу, они воспитываются, уже войдя в большое историческое движение, уже творя свой мир вместе с другими. История Гппериона и история борьбы за освобождение Эллады едва отличны друг от друга. В литературе ранних романтиков Гельдерлин единственный, у кого имеют силу героические мотивы. В романе говорится о счастье как о снотворном идеале, счастье — жалкая похлебка, пресное питье. Разговор Алабанда с Гиперионом: лучшие люди не думают о счастье, а думают о подвиге.
291
В романе Гельдерлина господствует настроение несделанности
жизни, нерешенности ее в первоосновном. Гельдерлин, который никогда не был в
Греции, очень охотно вдается в описания мест. Готовясь к роману, он штудировал
специальные путевые книги, следы этих штудий разбросаны повсюду16. Роман с подробной топографией современной
Греции очень небогат изображениями людей. Как в лирической поэзии Гельдерлина,
так и в его романе возникает впечатление пустынности, незаселенности. Карта
страны в романе дана обстоятельно, а люди у Гельдерлина не столько даны
непосредственно, сколько предполагаются, — нужно ждать, что когда-то они
возникнут и заселят все эти заранее обозначенные селения и города. Жизнь в
романе Гельдерлина как бы только задана. Старый, хорошо известный мир
изображается в полуотмененном виде, он существует, не существуя, он сжат и сокращен
против обычных прав, которыми он пользуется. Перед нами чуть ли не чистые
пространства, которым надлежит заполняться жизнью только когда-то. Пространства
хороши, надо, чтобы жизнь, которая здесь будет, оказалась достойной их.
Сент-Жюст сказал: «Мир стал пустынней после римлян» («Le monde est vide depuis
les r
У Гельдерлина, автора «Гиперттона», изменился взгляд на вещи. Он заподозривает темное, непростое, трудное там, где раньше усматривал простую, простейшую гармонию. По-иному рисуются перед ним люди. Лица романа сведены к некой тройственной гармонии, они — сводный образ человечества, явленного в трех лицах. Диотима, возлюбленная Гипериона и подруга его, прекрасная, созерцательная, ушедшая в самое себя, умудренная без внешнего опыта, выражает человечество во всей полноте его жизни — какие-либо отдельные стороны этой жизни еще не выделились, нет обострения, нет резкости черт. Диотима романа о Гпперионе — идеальная женственность, как ее хочет понимать Гельдерлин. У романтиков женщина —это сама бесконечная уступчивость, это обольстительная слабость. У Гельдерлина Диотима — обладательница силы особой, не имеющей нужды действовать угловато и с нажимами, силы, покоряющей тихо и дружественно, силы, которой незачем прибегать к насилию. Улыбчивое совершенство («lächelnde Vollendung») называет Гиперион свою Диотиму. У романтиков была склонность в женском
292
начале видеть жизнь без силы жизни. У Гельдерлина сила жизни не жертвуется. Для Гипериона, да и для соратников Гипериона, Диотима — подруга и опора. Во всем, чего ждут от Диотимы, сила подразумевается. В Диотиме соединяются героическое и божественное, «гений и спокойствие») — «genialische Ruhe», ее друзья задуманы как герои только. Но для героев необходимо духовное присутствие Диотимы, чтобы удерживать их от ненужных наступательных действий, — Алабанда податлив этому соблазну. Сам Гиперион — философ и мечтатель, но с живым сознанием долга перед действенным практическим миром. Алабанда, друг Гипериона, персонаж, в котором по преимуществу и лежит то новое, что себе усвоил автор. Алабанда — отважный, многоопытный, ближе всех остальных к практике жизни. Алабанда — человек высоких качеств, он стоит дружбы Гипериона. Но в Алабанду вошло от жизни нечто жестокое, разрушительное. Он многое в себе переборол, прежде чем стал каков он есть. Благородный воин и мятежник, Алабанда таит в себе наклонности авантюриста и разбойника, человека рискованного и опасного. Конечно, в Алабанде есть связь с героями «бури и натиска», в частности с главным лицом романа Гейнзе «Ардингелло», — Гельдерлин не был безразличен ни к этому роману, ни к автору его — свою поэму «Хлеб и вино» он посвятил Гейнзе. Алабанда как бы дает первооснову остальным лицам, действующим в романе Гельдерлина, так как именно в Алабанде обнажены элементарные, корневые силы жизни, у других укрытые, неясные, как будто бы даже вовсе отсутствующие. На полдороге к Алабанде находится Гиперион, а через Гипериона связана с Алабандой и Диотима. «Буря и натиск», которые найдены в Алабанде, относятся косвенно и к Диотиме и к Гипериону — ко всему человечеству. Всюду буря инстинктов, всюду натиск темной разрушительной энергии. Красота и гармония, существующие в человечестве, не дались ему даром и не дались однажды навсегда, — есть очень важные силы, которые противодействуют и угрожают красоте, разуму, стройной жизни на земле.
Сюжет романа — восстание греков в Морее, поднятое в 1770 году Алексеем Орловым, битва при Чесме, истребление турецкого флота. Гиперион и Алабанда руководят восстанием. При Чесме Гиперион получает тяжелые ранения. Освободительная борьба не удается, греки превратились в ординарных лиходеев, они думают о разрушенцях
293
и о добыче, тогда как Гиперион проповедует им национальную идею. Гиперион в отчаянии, он стреляет в бывших единомышленников, в бою при Чесме ищет смерти и не находит ее.
В обрисовке событий Гельдерлин держится показаний реальной истории; действительно, восстание в Морее распалось и частью выродилось в пиратские авантюры клефтов. Но Гельдерлин пишет свой роман не ради этих частных фактов. Несколько наивным образом Гельдерлин в этих эпизодах с клефтами хочет уловить нечто общезначительное. Повсюду здесь действуют, хотя и без назойливости, хотя и очень косвенными связями, тройственные аналогии: восстание в Морее — борьба за классическую Грецию, за Элладу, борьба за идеальное человечество, за новое эллинство. В эллинстве, понятом очень широко, усматривается и общий смысл Французской революции, ибо от революции ожидают, что она возродит античную республику, античную демократию, их дух, культуру и поэзию.
Гипериона ужасает сделанное им в Морее открытие: существует не одна только коллизия, как он думал, между сегодняшними угнетателями и сегодняшними угнетенными. Коллизия эта не единственная и не последняя, — сами угнетенные расколоты между собой, в их среде все кишит частными интересами, вожделениями, которые по первому же благоприятному знаку готовы проявить себя. Справедливо сравнивали эпизоды в Морее с «Разбойниками» Шиллера. Эта драма «Бури и натиска» писалась еще до революции. Гельдерлин возвращается к старым концепциям «бури и натиска» после того, как опыт буржуазной революции пройден. Казалось, что жестокая, скептическая правда, свойственная авторам «бури и натиска», навсегда преодолена в позднейших идеологических и литературных течениях. Но она оживает снова. Гельдерлин надеялся, что антагонизм между феодальным порядком и теми, кто называл себя третьим сословием, — это последний, какой способен разыграться в человеческой среде. Однако за ним мерещатся другие антагонизмы. Гельдерлин ждал, что в эпилоге своем революция приведет к единому в своих интересах человечеству. На деле же он был свидетелем совсем иного. Сплоченность третьего сословия, с которой начиналась революция, оказалась временной. Это была коллективность по особому поводу, хотя и весьма существенному, ради борьбы со старым режимом; кончилось действие
294
особых обстоятельств, и коллективность эта распалась, как если бы ее и не бывало. Если уповать, что это коллективность навсегда, то упование было напрасным. Третье сословие раздирали противоречия, серьезные и длительные по своему значению. Эпизоды с клефтами выражали эти все новые и новые дробления общественных интересов. Элементарное и наивное приравнивание современной социальной истории к эпизодам, взятым чуть ли не из уголовного мира, показывает, насколько труднообъяснимой была она в ту пору для Гельдерлина и насколько он был тогда потрясен ее событиями. Буржуазная революция привела к власти не Элладу, но буржуазию с ее особыми интересами. Открывалась перспектива на еще долгую власть эгоистических страстей, ужасавшая Гельдерлина и его единомышленников. Когда Макбету гадали ведьмы, то он увидел тенеобразную вереницу будущих королей, вместо собственных потомков — чужую династию. Так и Гельдерлин: в будущем представлялись ему совсем другие силы, нисколько не связанные правами наследования с сегодняшним его политическим идеалом.
В романе Гельдерлина весьма важны подробности, связанные со Смирной, купеческим городом. О жителях Смирны Гиперион рассказывает: «Есть звери, которые воют, едва услышат они музыку. Эти мои знакомцы, воспитанные лучше, напротив того, смеются, когда заходит речь о красоте духа либо о достоинствах сердца. Волки убираются прочь, стоит кому-нибудь развести огонь. А эти люди, завидев искру разума, кажут спину, как воры». Гельдерлин дал волю своей ненависти к буржуа. Рассказы о людях Смирны усилены впечатлениями о людях во Франкфурте-на-Майне. Сатира и сарказмы у Гельдерлина не порывают с красотой образа и слова, красота сохраняется и в самой сатире, не теряет самое себя, иначе это была бы уступка противнику. Тирада о волках — это гнев самой красоты против ее осквернителей. Красота, разум, человеческие ценности несовместимы с наклонностями и интересами торгующих и продающих. Французская революция сделана не во имя новой Эллады, а во имя этих людей, каждый из которых, по Гельдерлину, либо волк, либо вор, либо в одном лице и тот и этот.
Как романтик Гельдерлин в «Гиперионе» равнодушен к относительным завоеваниям Французской революции. Он оплакивает абсолютные цели, не достигнутые ею. Высокий человеческий идеал разрушился. Знаменательно,
295
что разрушение явственнее всего сказывается через Алабанду. Ведь именно в нем активны были силы внутренне разрозненного, антагонистического общества, умиротворенные в Гиперионе, в Диотиме. После Чесмы и всех заключительных разочарований Гиперион зовет друга Алабанду к себе — они втроем станут жить где-нибудь, потише и от людей подальше: Гиперион, Диотима и Алабанда. Но Алабанда отказывается, и с великой решимостью. Он не берется отвечать за себя и пророчит, что обманет друга ради страсти, полюбит Диотиму, убьет и себя и Диотиму, — ведь он знает, что Диотима отвергнет его любовь. Так как эти трое, Гиперион, Диотима, Алабанда, означали в романе род человеческий, то через сомнения Алабанды закачалось все человеческое здание. Предательство, умышленное убийство, извращение инстинктов родства, дружбы, любви — все это мотивы «черного», «готического» романа романтиков, развившегося на развалинах художественной и философской теодицеи XVIII столетия. Но Гельдерлин приближается к готике непривычными для нее, чересчур открытыми путями. Как правило, «черный» роман трактовал чьи-то очень частные мрачные истории, личные, семейные, домашние, очень косвенно и очень издали выражавшие неблагополучие и власть каких-то отношений общего порядка. В «черном» романе страшное казалось тем страшнее, чем менее был ясен его источник, никто не понимал, откуда оно и почему оно. В романе Гельдерлина зловещее и ужасающее надвигается из области открыто ведущейся политической борьбы как очевиднейшее следствие общественной и национальной катастрофы. Эллинский роман Гельдерлина, подходя к концу, издали указывает на роман готический, проясняя эпохальные мотивы его и усиливая тем самым их значительность — таково обычное действие в литературе романтизма всего идущего от Гельдерлина. «Гиперион» по замыслу роман-поэма, поэма братства и любви, героики и гражданственности, человеческой цельности. Из романа о Гиперионе с редкостной полнотой усматривается, что предшествовало «черному» роману, в чем его разочарование и откуда отрицание, присущее ему, источники которого не всегда улавливаются в нем самом.
Меланхолия романа «Гиперион» не явилась у Гельдерлина заключающим словом. В отношении социально-философском он восполнил этот роман в трагедии «Смерть Эмпедокла», над которой работа началась еще во Франк-
296
фурте и с особой энергией велась в 1798 году, после того, как этот город был покинут17. Трагедия эта прошла У Гельдерлина через три редакции. При жизни Гельдерлина «Смерть Эмпедокла» не издавалась, так как он не успел придать ей вид, необходимый для печати. В той или иной мере все три редакции — только фрагменты, но общий замысел поддается восстановлению, особенно по первой редакции, наиболее полной. По этому замыслу «Смерть Эмпедокла» продолжает роман «Гиперион» и заодно возражает ему, поправляет выводы, которые можно бы из него сделать.
«Смерть Эмпедокла» незрелищна и в этом отношении несценична, однако это произведение полно драматического духа. Именно драме подобало разрабатывать явления жизни с той стороны, какой Гельдерлин более всего дорожил и в качестве романиста, когда создавал «Гипериона». Трагедия об Эмпедокле — демонстрация человека в его исторической активности. Подразумевается активность, всегда способная стать массовой, индивидуальная только до поры до времени. Трагедия Гельдерлина — призыв к новому образу жизни, к великой перестройке обстоятельств, окружающих общественного человека. Человек не принимает обстоятельств как они есть, он хочет видеть в них нечто переменное, подлежащее его труду и воле. Если они для него судьба, то он борется со своей судьбой, — не приспособляется к ней, не выпрашивает у нее подачек, как это делал герой буржуазного романа. Гельдерлин многие годы изучал античный трагический театр, следы этих занятий весьма приметны в трагедии, написанной им самим.
Герой трагедии Гельдерлина — один из ранних эллинских натурфилософов. По преданию, Эмпедокл был также великий практик, маг и чародей, врачеватель, советчик в общественных делах, связанных с техникой и хозяйством, укротитель ветров, как его называли, мастер улучшать состав воды в реках — исцелять их, как умел он исцелять людей. Сверх этого всего, Эмпедокл — учитель, моралист, идейный вождь, которому благодарный народ Агригента предложил царскую корону, однако же им отвергнутую — он был убежденным демократом. Философом, человеком действенной жизни, народолюбцем выводится он и в трагедии. Философ, которому дана главенствующая роль в трагедии, не был новостью после древних, после Шекспира и Гете, — если не философы, то
297
люди философского типа издавна появлялись на драматических подмостках. Необычным в трагедии Гельдерлина было другое. Тема ее — природа, космос как таковой, отношение человека к природе. В театральных произведениях природа появлялась как фон, в иных случаях как глубокий лирический ландшафт, — так разрабатывалась, например, она в драмах-феериях Людвига Тика, современных Гельдерлину. В трагедии об Эмпедокле природа не фон, не условие действия, но предмет, вокруг которого и ради которого драматическое действие совершается. Ведется борьба за правильное философское, практическое, повседневное отношение к природе, как в драматургии более обычной борьба ведется за любовь, за женщину, за власть, за царский престол. Так как тема природы для Гельдерлина и для поколения Гельдерлина связана была с историческим моментом, с его великими коллизиями политическими и социальными, то именно поэтому для темы природы открыт был путь в драматургию, где она могла приобрести не живописное только, но первоосновное действенное значение.
Предпосылка трагедии Гельдерлина — миропонимание, которого он держался твердо, прежде чем начались колебания «Гипериона». Вопрос о природе и человеке трактовался так, как если бы история человечества действительно вышла на свои последние рубежи и все прежние антагонизмы отпали, кроме одного-единственного и всеобъемлющего, — между миром естественным и миром человеческим, который и нужно разрешить прямо и непосредственно. Однако опыт «Гипериона» сказывается, и трагедия Гельдерлина освобождена от идиллических представлений, которых он держался недавно. Вопрос о природе ставится как единственный вопрос сегодняшнего дня, с тем чтобы его с ходом действия снова отодвинули и указали, где его настоящее место.
Конфликт этой своеобразнейшей трагедии — конфликт Эмнедокла — «физика», «физиолога», как его называли древние, — с матерью-природой, с предметом его изучений. У него разладились отношения с природой, наступили холод, сухость и отчуждение, природа ускользнула у него из рук, отказывает в послушании, в добровольном следовании ему, к которому он был привычен. Замечательно, что мотивы познания природы и управления ею приобретают у Гельдерлина несколько неожиданный моральный колорит. Эмпедокл разучился общему с природой
298
языку, так как в его отношениях с нею присутствует нечто морально-неверное, ложное и даже лживое. У него вина перед природой, и поэтому природа закрылась перед ним.
В чем эта вина, мы узнаем только к развязке трагедии, и то не прямо. Гельдерлин загадывает нам философские загадки, затевает с нами некоторую философскую интригу.
Духовная коллизия Эмпедокла, которая может показаться каким-то особым личным его несчастьем, развертывается в трагедии совместно с коллизиями заведомо общественного характера, и в них-то содержится ответ всему, также и тревогам Эмпедокла в частности. В драме Гельдерлина самые широкие, всеохватывающие коллизии — это политические, коллизии философские им подчинены, и поэтому в первых лежит решение для вторых. В Агригенте Эмпедокл ведет жестокую борьбу за власть над умами и душами со старым государством — архонт Критий, с церковью — жрец Гермократ. Поучительно, что здесь с особой открытостью Гельдерлин вступает в столь важный для него и для эпохи спор о посредниках. Современники Гельдерлина видели, что весь современный режим держится на посредниках и опосредствованиях, — на практических, религиозных, правовых, моральных, на каких угодно. Трудящийся не может прямо обратить свой труд на природу, между ним и природой находятся формы феодальной собственности, санкционированные феодальным государством. У человека нет прямого отношения к предмету познания, к истине, — за него размышляют и решают государство вместе с церковью и школой. Жрец Гермократ яростно обвиняет Эмпедокла: это он подучивает народ, будто бы нет надобности в посредниках между истиной и народом. Гермократ считает, что тем самым отрицаются преимущества религии и церкви — на том и стоит церковь, что истина открыта ей одной и что истина не может идти к людям, не получив прежде истолкования от церкви и от ее служителей.
Романтическую эпоху волновал вопрос о непосредственности, притом поставленный очень широко, — о непосредственности действий, поступков, воззрений, всего, что входит в жизнь человека. «То, что держит нас в состоянии зависимости, то не может обладать формой истины», — писал друг Гельдерлина, молодой Гегель. Истина для Гегеля неотделима от красоты и свободы18,
299
истина не может быть приказана. Непосредственность была отказом от промежуточных инстанций, от посредников любого рода и назначения, тут подразумевалось снятие опеки с интересов, с поведения, с чувств и мыслей общественного человека. Ожидалось, что архонт Критий и жрец Гермократ уйдут и что граждане станут поступать и чувствовать по-своему. Менее всего сбылось все это в Германии — старый авторитарный строй там остался в силе. Поэтому немецкий идеал непосредственности обеднел и извратился тогда же. Непосредственность романтики стали понимать как отказ от разума, от разумного усмотрения, тогда как первоначально она означала совсем иное — надежду на то, что общественный человек наконец-то станет пользоваться собственным разумом беспрепятственно и самостоятельно. Первоначальное это понимание, в чем и ради чего непосредственность, мы и находим у Гельдерлина.
В трагедии Гельдерлина Эмпедокл в человеческом своем, гражданском и философском развитии опередил и Крития и Гермократа. Он упразднил для себя, для других религиозно-политические авторитеты. И все же перед лицом жизни, перед лицом природы у Эмпедокла нет полной ясности, как ни желает он ее. В Эмпедокле есть какая-то связанность, бессознательно он оглядывается на какие-то догмы, содержание которых не прояснилось для него. Большая и важнейшая в трагедии сцена у вершины Этны не прямо, но отвечает нам, откуда произошла духовная болезнь Эмпедокла, что затемняло его дух.
Гельдерлин воспользовался преданием, по которому Эмпедокл совершил философское самоубийство — добровольно вернулся в природу, бросился в Этну. У Гельдерлина мотив Этны разработан несколько по-иному, чем в античных источниках. Мотиву этому он придал высокое значение. Эмпедокл держит на Этне речь к народу, здесь собравшемуся. Тут и отказ от короны, которую поднесли ему, тут и проповедь очень далекого будущего, в мыслях увиденного им. Эмпедокл учит: нужно в Агригенте изменить все до основания, не следует бояться этого. Народы спасаются, идя на великие разрушения своего жизненного строя. Когда не хотят новизны, не хотят неизвестного, то в этом признак духовной смерти. Эмпедокл зовет своих сограждан отказаться от привычной жизни и создать новую. Он убеждает нас: не будьте как растения, как животные, которые не ведают ничего, кроме забот су-
300
ществования, и пребывают «ограниченные собственностью». Делите друг с другом свое добро, делите содеянное вами и славу делите, как диоскуры, прекратите эгоистическую раздробленную жизнь, вернитесь к целому, к природе. По Гельдерлину, нужна вторая, более глубокая революция, чем уже пережитая его современниками, если они желают поправить не сделанное в первой. Такая мысль о второй революции в те годы бродила и у Фридриха Шлегеля.
Эмпедокл проповедует обобществленный строй жизни, — нужно уничтожить царство частного владения и частных интересов. Ему удалось наконец постигнуть, в чем корень бед — духовных и всех иных. Низость, мелкость, лживость жителей Агригенты — от власти у них частного над общим. Отраженно, через многие передаточные звенья, собственная духовная коллизия Эмпедокла имеет ту же причину. Он мыслит в науке, в философии как человек, воспитанный в условиях личного обособления. На природу он взирает как насильник, отсюда разлад с нею. Новалис в «Учениках в Саисе» тоже писал о современном разбойничьем отношении к природе, о том, как разрушительно действует частный интерес. Гельдерлин с гораздо большей ясностью говорит о том же. Хищников и насильников в отношении природы рождают частная собственность, ее мораль, ее материальная практика. Враги природы — собственник-эксплуататор и его пособники, не столь далекие от него по духу — раб, бюрократ. В первом акте трагедии Эмпедокл говорил о своей вине перед природой — он стал презирать ее, и, спесивый варвар, себя он хотел поставить господином над нею. Логика Гельдерлина, очевидно, такова: как одиночка, как частное лицо, как хозяйствующий особо, человек не может устоять на должном уровне перед лицом природы, ибо природа не проживает соответственно ему как тоже часть и частность, — природа живет как целое. Согласие с природой возможно не у бюргера, не у буржуа, искателя своей личной пользы, но у человеческого коллектива с его запросами к природе — широкими, имеющими длительное значение и поэтому более сообразными ее масштабам и сущности. Родовой интерес к природе более верный, целостный. Люди как род, как коллектив способны вступить с природой в более честные и доверительные отношения, чем это делают отдельные из них. Эмпедокл и хочет подняться на точку зрения рода. Сам того
301
не ведая, он рассматривал природу как индивидуалист. Это свойственно отдельному лицу, расхитителю и разрушителю. Было вожделение к природе, а нужна любовь.
Гельдерлин отходит от просветительства, в котором предполагалось, что философу дана привилегия стоять вне времени и вне общества, поэтому философ и может всех учить и всех спасать — «просвещать» умственно и морально. По Гельдерлину, философ болен теми же болезнями, что и остальные, и именно в этом причина, почему он берется за общее дело, — он не составляет исключения, спасая всех, он спасает и самого себя, восстанавливает свое духовное здоровье.
Трагедия об Эмпедокле имеет и более общее значение. Частная собственность — вот преграда между человеком и природой. Частная собственность — вот что осталось еще внутри человеческого общества, раскалывая его, препятствуя его объединению, цель которого должна бы прямо и ясно состоять в труде над миром природы, в труде, одолевающем этот мир. Роман «Гиперион» заканчивался мрачными настроениями, так как действие романа демонстрирует, насколько не близки еще высшие цели человечества. Романтики от тех же дум и чувств обыкновенно впадали в полное смятение и разуверяли себя, что цели эти вообще достижимы когда-либо. Гельдерлин в «Смерти Эмпедокла» старается обсудить строго и точно, как же все-таки вернуть высшие цели, как снова приблизить их, как найти причину, почему они отодвинулись, и Гельдерлин находит ответ. Отличающие его от романтиков навыки мыслить последовательно — политически и социально — спасают его от романтических идей мировой катастрофы и мирового конца. Драмы, возникающие на социальных и политических путях человечества, получают у Гельдерлпиа на тех же путях и положительное решение для себя. Романтики, как правило, ждали решений не тех и не там.
Сам идеал коллективного сотрудничества человека с природой не был у Гельдерлина нов — он сложился уже в пору «Тюбингенских гимнов». Новым было ясное сознание, чего требует коллективная жизнь и что именно ее разрушает. Сознание это приобретено в трагедии «Смерть Эмпедокла», а подготовлено романом «Гиперион». Развитие Гельдерлина таково: позднее ему дано было уразуметь те вещи, которые в ранних его произведениях только подразумевались.
302
В трагедии Гельдерлина очень важна тема палингенезиса — вторичного рождения. Эмпедокл говорит уже в первом акте: умирающие молодеют. На Этне в большой его речи к народу вторичное рождение — главенствующий мотив. Эмпедокл учит граждан Агригента как вернуть молодость: издавна у вас жажда небывалого, как дух стремится покинуть больное тело, так город Агригент — сойти с устаревших путей, и поэтому дерзайте, забудьте все, что вы унаследовали, что приобрели, о чем вещали вам отцы, обычаи, законы, имена древних богов, подобно родившимся впервые возведите глаза свои на божественную природу.
Еще в письме от июля 1794 года другу Нейфферу Гельдерлин писал о палингенезисе. Из письма ясно, где первоисточник этой идеи — он в сочинении Гердера «Титон и Аврора», опубликованном за два года до того. По концепции Гердера развитие — это сохранение молодости, каждая новая ступень развития — это опять молодость, которая, казалось, уже ушла. По Гердеру, развитие то же самое, что вечная юность: когда развитие подходит к новому узлу, ветхий человек в нас умирает и юность наша возрождается19.
Эмпедокл на Этне говорит о том же — о юности мира, которая возвращается через великие исторические перевороты. Прыжок Эмпедокла в кратер знаменует вторичное рождение. Эмпедокл сжигает себя — начисто рассчитывается с прошлым, и так он может вернуть юность себе и городу Агригенту, миру, с которым он рос и который стал дряхлеть вместе с ним.
По-видимому, Гельдерлин мало ценил философское учение Эмпедокла. Больше привлекали Гельдерлина личность сицилийского философа, жизнеописание его, сложившиеся о нем предания, а среди преданий — рассказ о гибели его в Этне. Друг Гельдерлина Гегель позднее в лекциях своих по истории философии невысоко ставил учение Эмпедокла, считая его эклектическим по содержанию, механистическим по методу. Гегель сопоставлял Эмпедокла с Гераклитом — к невыгоде для Эмпедокла. Сопоставление это, независимо от выводов, сделанных из него, все же указывает на некоторую ассоциацию этих двух имен, Эмпедокла и Гераклита. Надо думать, что в трагедию Гельдерлина древний Эмпедокл больше вошел со стороны своей личной истории, а мировоззрением герой трагедии ближе стоит к Гераклиту. От учения Гераклита
303
тянутся нити к развязке на Этне, как изобразил ее и истолковал Гельдерлин в своей трагедии, — философия самого Эмпедокла здесь не в силах что-либо пояснить. Символика Этны через философию Гераклита раскрывается не в пример вернее, — через учение Гераклита об огне как о начале всех вещей, о мировых пожарах, несущих обновление всей жизни в космосе, о единстве жизни и смерти. Гераклитовский огонь — вечный, всесильный огонь — вырывается из Этны Эмпедокла. Эмпедокл зажигает гераклитовский «пожар», преобразующий вселенную. Нечто близкое к палингенезису и по Гельдерлину и по Гердеру дает нам Плутарх, цитирующий Гераклита: «То же самое и одно: живущее и мертвое, и бодрствующее и спящее, и юное и старое, ибо это есть выпавшее то, и то опять выпавшее это».
Быть может, точнее всего было бы сказать: Эмпедокл у Гельдерлина начинает своей собственной философией, механистической по направлению, содержащей в себе мертвые элементы, отчуждающие эту философию от живой природы. Кончает же Эмпедокл у Гельдерлина диалектикой Гераклита, цельной, поэтической и мужественной.
Гегель в качестве историка философии представил Эмпедокла и Гераклита исторически связанными: Эмпедоклу не удался тот философский синтез, который прежде того удался Гераклиту. По закону художественного образа у Гельдерлина отлошения между Гераклитом и Эмпедоклом изменяются. Смена мировоззрений, которая совершалась от лица к лицу и так, что лица эти были разделены временем и местом, у Гельдерлпиа превращается в единую драму, происходящую в пределах единого сознания, в философскую драму одного Эмпедокла. Хронология такова: сперва учение Гераклита, а потом появляется учение Эмпедокла. У Гельдерлина порядок меняется, как того требует художественная логика: он начинает с эмпедокловского в Эмпедокле — с более слабого, и кончает более сильным — гераклитовским в Эмпедокле же.
Трагедия Гельдерлина лишена живописности, вопреки тому, что подсказывает исторический материал ее. Сама фигура Эмпедокла, как она представлена в трагедии, живописна, зрительно ярка и памятна. Источники говорят о его пурпуровой мантии, о золотой повязке, о медных сандалиях, о широте его жестов, о претензиях на божест-
304
венность. Гельдерлин все это опустил не только потому, что подробности эти придавали Эмпедоклу облик шарлатана, хотя и величественного, хотя и великолепного. Гельдерлин не дорожил зрелищными подробностями, так как художественный метод у него был иной. Он строил образ, не расписывая его с лицевой стороны, но пользуясь закулисными средствами. Решающее значение у Гельдерлина имеют тайные ассоциации и аналогии. В своих размышлениях по поводу «Эмпедокла» он говорил о том, как важны аналогии для поэта, как важно для него уменье переносить свой собственный опыт на материал хотя и чуждый, но аналогичный. Аналогии у Гельдерлина многообразны, они приходят с разных сторон. Густота аналогий придает колорит образу, он окрашивается изнутри, как вода, не имевшая цвета, окрашивается йодистыми веществами. Одна из аналогий к Эмпедоклу — доктор Фауст. Можно бы назвать Эмпедокла античным Фаустом. Как Фауст, он философ и маг, философ и практик; как Фауст, он мученик от неполноты познания. Сходство простирается вплоть до того, что Гельдерлин точно так же освободил Эмпедокла от шарлатанских черт, как сделал это Гете с Фаустом, пришедшим к нему из немецкого фольклора с репутацией человека далеко не безукоризненного. Любопытно, что Диоген Лаэрций, которого Гельдерлин читал, порочил даже смерть Эмпедокла: по Диогену, Эмпедокл бросается в Этну из тщеславия, чтобы подтвердить толки о своей божественности20.
Есть и другая аналогия, тут же переходящая и в полемику. Очистительная смерть в Этне приравнивалась для Гельдерлина к крестной смерти, Этна — к горе Голгофе. Эмпедокл — целитель и спаситель Пантеи. Он окружен женщинами и учениками, как Христос; молодой Павсаний — апостол Эмпедокла, подобный апостолу Иоанну. Полемика же Гельдерлина с христианством в том, что герой Гельдерлина — земной мессия, ради земных людей и ради лучшей земной жизни совершающий свой подвиг. Вопреки христианству, у Гельдерлина выход дается не по ту сторону, а по эту. Еще в ранние годы Гельдерлин объединился с Гегелем, тоже юным тогда, в лозунге: царство божье на земле. Понятия и образы христианства вошли в этот лозунг ради полемики с христианством на собственной его почве. Так и в трагедии Гельдерлина. Трагедия «Смерть Эмпедокла» — языческая интерпретация христианства, возвращение от христианства к аптич-
305
ности, к ее богам и героям. У Бетховена в ненаписанной им десятой симфонии предполагались тематические сопоставления Вакха и Христа. Гельдерлин поступает весьма решительно — он отождествляет Христа с Вакхом, мир посюсторонний признает единственно реальным миром, а смерть и воскресение Христа, вернее Диониса, по Гельдерлину, — это земная жизнь во всей буре ее развития, со всеми спадами и усилениями его, со всеми столкновениями в нем мертвого и живого.
Но связь с Дионисом имеет еще и другое значение — это связь трагедии Гельдерлина с античной трагедией вообще, с ее основой и духом. Историки античного театра описывают проникновение Дионисовой обрядности вовнутрь трагического зрелища, отдельные звенья которого соответствуют обрядовым подробностям21. Но миф о Дионисе проникал и в самую фабулу трагедии, действующие лица, кто бы они ни были, выводились на сцену как маски Диониса, и их судьбы были каждый раз то близкой, то более отдаленной имитацией судьбы страдающего бога, их страсти были отблеском Дионисовых страстей. Античная трагедия никогда не теряет своего основания — мифа о гибнущем и воскресающем боге, о жизни неиссякающей и способной, погибнув, возродиться вновь. В античной трагедии, той или иной, Дионис погибал в том или ином своем особом образе, но на сцену выходила новая трагедия, и под новым образом Дионис опять вступал в жизнь. Античную трагедию можно было бы назвать великим процессом самоисцеления жизни, ей наносились смертельные раны, и в ней находились внутренние силы восстановить себя.
У Гельдерлина Эмпедокл тот же Дионис — первозданное лицо античной трагедии, умирающее ради бессмертия, ради празднества жизни, которой нет конца. Этна Эмпедокла — то же страдание Диониса, а новая эра, видная из проповеди Эмпедокла, — Дионис, вернувшийся к жизни в ее красоте и мощи.
В «Смерти Эмпедокла» в не всегда точных намеках как бы присутствует социалистическая мысль. Гельдерлин шел к ней как художник. Он искал прекрасного человека, а буржуазность делала человека непрекрасным и вульгарным. Гельдерлин хотел освободить от вульгарности отношения между людьми и в буржуазных институтах усматривал поддержку и поощрение ее. По чутью Гельдерлина, реформа человека, начатая с его материаль-
307
ного бытия, должна была оказаться чем-то действительным и решающим. Впоследствии неясные еще самому Гельдерлину собственные замыслы его получили у сен-симонистов название «эмансипация плоти», под этим именем их последовательно защищал другой немецкий поэт, Генрих Гейне. Для Гельдерлина, как позднее и для Гейне, дело шло о спасении чувственного мира, о снятии с него бесчестия, неизбежного при эксплуататорских методах обращения с ним. Мы эти же мотивы симпатий к социализму находим у Шелли, у более поздних английских поэтов, у прерафаэлитов, в частности —- у Уильяма Морриса, у Оскара Уайльда, — поэты-чувственники, поэты-сенсуалисты по особому протестовали против поруганного мира пяти чувств и требовали оправдания и высветления его. Примечательно, что именно поэты, получившие кличку эстетов, да часто и сами себя так называвшие, обнаруживали тяготение к социализму, к переустройству всего зримого и осязаемого, дабы оно в своем обычном виде не оскорбляло их, тогда как писатели-бытовики охотно сживались с миром как он есть. Гельдерлин, который не был ни сенсуалистом, ни эстетом, ждал новой одухотворенности для всего сущего, включая также и чувственность, предметы непосредственно ощущаемые, без гипербол отношения к ним, были ему дороги, как всякому истинному художнику.
Гельдерлин в работе над «Эмпедоклом» не выбрался из стадии черновиков. Думаю, причина в том, что главная мысль трагедии пришла к нему через интересы художества по преимуществу. Это самое плодотворное происхождение для поэтической мысли, но парадокс тот, что художник в качестве художника лишь тогда до конца овладевает своей мыслью, когда есть еще помощь со стороны, когда он знает ее еще и в других ее нехудожественных формах, когда ее поддерживает теория. Прямо от теории ничто в искусстве не рождается, но чтобы идейный замысел в искусстве окреп и без остатков овладел всеми средствами, искусству присущими, нужна опора в общеидейном мире и уверенность в ней. У Гельдерлина, далеко зашедшего в своих созерцаниях судеб современных ему общества и культуры, могли быть известные опоры вне искусства, лежащие в общественной философии XVIII столетия, но опоры слабые, и поэтому трагедия его оказалась как бы недописанной, решающее слово не подчинило ее себе, как он того хотел бы.
307
Последнее, что нужно сказать о «Смерти Эмпедокла»: каково место ее во внутренней истории романтизма. Она представлена здесь с величайшей полнотой. Акты трагедии как бы акты самого романтизма. Все начинается с сомнений по поводу жизни в ее наличном виде, в предустановленных ее образах. Черный огонь из Этны — огонь развоплощения. Оно совершается, когда Эмпедокл жертвует собой. Его гибель означает разрушение всего, что было и что есть. В его проповеди — проблески нового и высшего воплощения, имевшее образ стало хаосом, и из хаоса рождается облагороженный, улучшенный мир в образе праведности и красоты, до того неизвестном. Все внутренние акты романтизма ознаменованы в трагедии об Эмпедокле, включая и завершительный акт второго воплощения, столь часто в романтизме едва указанный. Вся внутренняя перипетия романтизма здесь пройдена, она имеет здесь начало, середину и конец, как того и требует ее природа.
На самом повороте к новому, XIX столетию, в первые годы его, Гельдерлин писал очень много, и это в последний раз — безумие близилось к нему. Он трудился попрежнему над древними — в 1804 году появились в его переводе «Царь Эдип» и «Антигона» Софокла, с великим рвением он занимался переводами из Пиндара, — и Софокл, и Пиндар в интерпретации Гельдерлина явились событием в истории немецкого стиха и немецкого поэтического языка, оцененным только много позднее. Среди современников, все же оценивших переводы из Софокла, была Беттина, которой указал на них друг Гельдерлина Исаак Синклер. Она отозвалась на них строками подлинного вдохновения и услышала в переводчике великого поэта, трагически страждущего, обладающего мучительным и гениальным внутренним опытом, позволяющим ему заново пройти и прочувствовать тернистые пути Эдипа и Антигоны. Синклер познакомил Беттину и с оригинальными сочинениями Гельдерлина. Отклики ее на созданное Гельдерлином более чем замечательны. О них еще будет речь. Это настоящие постижения, быть может лучшее изо всего, что было сказано об этом поэте когда-либо до и после. А все это высказывание девушки, которой едва исполнилось двадцать лет. Беттина умела быть
308
конгениальной многому и многим, и Гельдерлин один из первых, на ком она проявила свой дар.
Последний период поэтической деятельности Гельдерлина хорошо освещается некоторыми письмами его, относящимися еще к концу 90-х годов. По письмам видно, как строго Гельдерлин пересматривал свою поэзию в это время, как глубоко задумывался над тем, что же ему дальше делать в поэзии, откуда уходить и куда идти. Он недоволен философичностью своей поэзии. В ней слишком много действительности, созданной интеллектом, и слишком мало от действительности как она есть. В письме к Нейфферу от 12 ноября 1898 года он пишет о том, как нужна поэзии «жизненность» — «das Lebendige»22. Философию он именует госпиталем, где спасаются поэты-неудачники. Нельзя обходить в поэзии обыденное и низменное, — без этого нельзя в ней передать и высокое. В письме от 24 декабря того же года к Синклеру23 он пишет, как важно иметь перед собой весь контекст жизни, всю историческую среду, даже если изучаешь историю философской мысли, — он штудировал тогда Диогена Лаэрция для «Смерти Эмпедокла». Весьма замечательно письмо его к брату, того же года, без даты месяца и дня24. Он пишет о немцах и о немецкой философии. В этом письме содержится первое предчувствие оценок, сделанных много позже Генрихом Гейне в его сочинениях, посвященных истории немецкой мысли. Гельдерлин рассматривает немецкую философию как явление, историческая роль которого идет к концу. Поэтому он, будучи к ней холоден, хочет, однако, соблюдать полную справедливость. Как считает Гельдерлин, философский идеализм не имел и не имеет национальной почвы в Германии: немцы — народ, погрязший в частном быту, в домашних интересах, они привыкли служить собственному чреву, и та всеобщность, из которой исходит и к которой идет философский идеализм, очень далека от них. Как говорит Гельдерлин, немцы бегут от всеобщего; либо же, и это другое проявление непривычности их к нему, по причине далекости от него, они относятся к всеобщему с религиозным трепетом. Идеализм до поры до времени являлся в немецкой среде полезной односторонностью — он помог немцам преодолеть самих себя. Поэтому Гельдерлин называет Канта «Моисеем немецкой нации», — Кант увел немцев из их обывательского Египта, от их египетских горшков с мясом и от золотого тельца. По всей
309
очевидности, Гельдерлин полагает, что идеализм сделал свое дело — он возбудил в немцах высокие общественные интересы, и наступает пора, когда нужно по-новому вернуться к простым реальностям жизни, от которых немцев отвлекла немецкая философия.
Нетрудно понять, откуда приходят к Гельдерлину эти новые мысли. Они внушены реальными итогами французской революции, ясностью исторического положения, которая сменила прежнюю неясность и прежние высокие надежды. Доказана была власть фактов, простых реальных сил и отношений, с которой должны были посчитаться мечтатели, даже самые дерзкие и несговорчивые из них. Но Гельдерлин, как это было в пору «Гипериона», так и до самого конца, учась у событий, ничуть не намерен был склоняться перед ними. Идеал свободного человечества оставался для него во всегдашней силе; идеал отодвигался во времени, но зато и становился более точным, а пути к нему, хотя более трудными, но зато реальными. Гельдерлин признал силу новых обстоятельств — с тем, чтобы найти иную, большую, которая могла бы им противодействовать. В письме к матери от 16 ноября 1799 года25 он говорит с неодобрением о наступившей поре, когда люди стали страшиться всего незнакомого и отрицать всякое стремление к лучшему, — он предостерегает мать против политической реакции во всех видах ее и формах, одолевающую Европу после Термидора. Стремление к лучшему — «к более совершенному», если переводить точнее, — как всегда, составляет сердцевину поэзии Гельдерлина, он был и есть романтик; как можно судить по его письмам, он хочет, однако, вооружить свой романтизм средствами реалистического искусства, он хочет трезвости в отношении ближайших обстоятельств, всех сил, больших и малых, оказывающих сопротивление романтизму. У него вырабатывается формула: «священно-трезвенный», она присутствует в его поздних стихах. Можно утверждать, что такова его новая поэтическая программа: не терять, как он любил выражаться, огня с неба, высокой направленности романтизма, но действовать с полным вниманием к тому, что окружает нас, — соединять, таким образом, священное с трезвенным. Поэзия Гельдерлина в новом веке отличается и новым богатством, художественным, философским, у нее новая зрелость и мудрость, быть может, наивысшая, сравнительно с тем, что было ему доступно когда-либо. Но в этой поздней поэзии весьма приметны и резкие
310
следы распада сознания. Поздняя поэзия Гельдерлина явление единственное: это высший рост поэта, и одновременно это мрачный и грозный упадок человеческой личности, это гениальные усилия устоять на достигнутой высоте, поэтической и философской, и это же податливость безумию, постоянная опасность утонуть в расстроенных речах обыкновенного душевнобольного. Сама духовная катастрофа Гельдерлина связана была с его духовными достижениями, с превосходством его над современниками и с одиночеством, которое неотделимо было от превосходства. В трагедии об Эмпедокле сам Гельдерлин хорошо разъяснил, что такое горе от ума. В собственной своей биографии он ушел дальше и пришел к безумию.
Тенденцию, которая отличает поздние лирико-философские поэмы Гельдерлина, можно было определить так: от логического взгляда на вещи он переходит к взгляду историческому. Он более прежнего уделяет внимание тому, как сложились и складываются вещи, которыми он занят. Для него важна не только чистая логика развития, но и вся реальная картина его, со всеми задерживающими это развитие, уклоняющими его в сторону обстоятельствами. В поле зрения Гельдерлина входят тормозящие силы. Он не думает, как это бывало прежде, что прекрасное будущее можно извлечь одним приемом из глубин общества, — он знает теперь, что оно добывается долгим и тяжким трудом, со срывами, с возвращением к пройденному. По сообщению Аэция, философ Гельдерлина Эмпедокл говорил: «Космос (то есть мир как упорядоченное целое) один, однако, космос не составляет (всей) вселенной, но (образует) лишь некоторую небольшую часть вселенной, остальная же (часть ее) представляет собой необработанную материю»26. Сама по себе необработанная материя не есть новость в поэтике Гельдерлина. Но раньше претворение ее в образ совершалось скрытно, а сейчас у Гельдерлина мучительность претворения оставляется на виду, оно ценимо как художественная подробность, трудное и тяжкое соучаствует в ритмике и в мелодике стихотворения. Ко всему, что осложняет прямое плавное движение, у Гельдерлина даже вырабатывается особый вкус, очень восприимчивый и чуткий. Он все более ценит развитие и совершенствование, когда они трудны и даются не сразу. Еще в стихотворении 1798 года «Природа и искусство — Сатурн и Юпитер» проповедуется, каким должно быть поведение поэта. Нельзя, чтобы поэт
311
знал одно лишь царство Юпитера — цивилизованное царство, область «искусства». Нужно углубиться в давние неустроенные времена, когда царствовал Сатурн и вместе с ним «природа». Поэт не должен чураться дикого, естественного состояния, предшествующего цивилизации, он должен прочувствовать его сквозь благообразный мир, которым управляет Юпитер. Ведь царство Юпитера не всегда существовало, оно возникло когда-то, вышло из «священных сумерек», дело поэта восстановить всю трудную картину его рождения, все потраченные усилия, не бояться ущерба, нанесенного простоте, плавности и изяществу, которыми ему свойственно дорожить. В поэме «Возвращение на родину» (1801) рассказано, как возникало утро в Альпах, природа названа необозримой мастерской, и это дает углы зрения на жизнь ландшафта. Поэма «У истоков Дуная» открывается двойным описанием: звуков органа, в утренний час заполняющих церковь — волна за волною, и самого утра, свет которого все растет и ширится. Гельдерлин в поздних поэмах по-новому пристрастен к становлению, которое он передает во всей его непростоте, с паузами его, шероховатостями, со всеми промежутками спадов и упадка.
Поэма «Архипелаг» (1800) по-новому трактует античность, цивилизацию, человеческое общество. Описана современная Эллада, вся в руинах, вся в воспоминаниях о былом. В этой поэме сказывается широта взгляда на человека и его историю, завоеванная Гельдерлином. Цивилизация в этой поэме включена в жизнь природы, причем цивилизации оставлена ее характерность, она не растворяется в природе, она возвышается над нею, хотя и пребывает в ней. Гельдерлин описывает греческий пейзаж с останками древних городов, с развалинами храмов. В его описании как бы самому пейзажу недостает всех этих исчезнувших зданий и строений, они — живая часть его, они из него вынуты. С великой осмысленностью Гельдерлин говорит о том, что древняя архитектура «увенчивала» греческий ландшафт. По Гельдерлину, человеческая культура действительно подобна венку на челе природы; люди, их история, их культура, по Гельдерлину, довершают природу, неполную без них. Писатели натуралистического направления включали человека в природу с тем, чтобы природа снова втянула его в свои темные недра, доказала призрачность всех его отличий. У Гельдерлина обратное: он показывает человека вместе
312
с природой, внутри ее царства так, что видна становится область, одухотворенная человеком, и так, что все полно ожидания дальнейших расширений этой области. Гельдерлин как бы предугадывает точку зрения нашего замечательного философа и ученого Вернадского, — его учения о «ноосфере», о культуре, о человеческом разуме как о силах, входящих в жизнь самого космоса, лежащих внутри этой жизни. Любимые идеи Гельдерлина о «воспитании природы» через человека, об изменении природы через культуру тоже очень близки к концепциям Вернадского, теоретика биосферы в более ранний период, а потом еще и ноосферы под конец ученой своей и философской деятельности.
В поэме «Архипелаг» описана борьба греков с персидским нашествием. Как можно заключить из письма к брату от 6 августа 1796 года27, война революционной Франции с европейской монархической коалицией издавна связывалась в сознании Гельдерлина с историей греко-персидских войн. Эти аналогии присутствуют в поэме «Архипелаг», они здесь плодотворны, они придают горячность рассказу о далеких исторических событиях, но содержание поэмы ими одними не исчерпывается. По мысли Гельдерлина, в греко-персидских войнах Греция стала самой собой, пришла к самосознанию. В этих войнах греки отделились от других древних народов, еще полуцивилизованных в своем образе жизни. Гельдерлин описывает нашествие персов на Грецию, как если бы это было движение самой природы, косной и тяжеловесно-разрушительной. Особый нажим в описании сделан на все массивное, весовое и количественное — отмечено, какое грузное вооружение было у персов, какими полчищами они двинулись на Грецию. В битве при Саламине персы тонут, не выдержав тяжести собственных доспехов; персы — слабы под своими латами. По Гельдерлину, греки побеждали, потому что они свободный народ, персы разбиты и отброшены, потому что они рабы и варвары. Греки у Саламина отстояли самый принцип своего существования, а принцип этот — свободное демократическое государство. Персы представлены как нечто входившее до поры до времени и в греческую жизнь. Греки, побеждая персов, побеждают и в самих себе темную, варварскую стихию, духовно неподатливую, связывающую человека чересчур тесно с бесчувственным натуральным миром, с его беспорядком и произволом. В войне
313
с персами греки духовно очищаются от грубого шлака, которым еще полна была их собственная жизнь. Культура возникает из природы, но развивается в борьбе с природой, через просветление темных естественных сил просветление этическое, гражданское, политическое, художественное. Человек переделывает природу — «воспитывает» ее, как предпочитает выражаться Гельдерлин.
Делались попытки приписать позднему Гельдерлину отказ от Эллады, возвращение к христианству, а заодно с этим воинствующий немецкий национализм. Попытки эти особенно участились, начиная с литературы 30-х годов. За отказ от Эллады выдавали некоторую перестройку античной темы, подобную той, что предпринята в поэме «Архипелаг». Между тем в поэме этой, где показано, чего самим грекам стоила греческая культура, престиж и греков и всего сотворенного ими чрезвычайно высок. Гельдерлин действительно коснулся тем христианства в поздних своих поэмах. Это было время, когда иенские романтики, разочарованные в граде земном, который строила и не достроила буржуазная революция, сами стали возводить град божий — искать с помощью религии чисто духовного разрешения задач, не решенных вовсе или не решенных до конца через практику борьбы политической и социальной. У Гельдерлина есть свой ответ на опыты возродить религию. Он намечен был еще в «Смерти Эмпедокла». Для Гельдерлина важнейшее в христианстве — его происхождение из мира античности. Гельдерлин, задолго до того, как пришла к тому же историческая наука, настаивал на внутренних связях христианства с эллино-римской культурой. Он часто возвращается к утверждению, что идея богочеловека взята из античной мифологии. Те же мысли мы находим у молодого Гегеля — свидетельство духовного братства, в котором в ту пору состояли оба они, Гегель и Гельдерлин. Также и для Гегеля очень важны эллинские источники христианства, отодвигающие связь его с Ветхим заветом. По Гегелю, христианский бог не есть существо, чуждое людям, трансцендентное для них, но, как в греческом мифе, он родственней им, открыт перед ними и не враждебен естественному миру28. В поэме «Единственный» («Der Einzige», 1801) у Гельдерлина Христос назван сыном Зевса, братом Геракла и Диониса. У Гегеля возле Христа — Сократ29. Гельдерлин укоряет себя, что Христос ему ближе, —
314
очевидно, через быт и воспитание. Античные боги по-прежнему стоят выше для его мыслящего сознания, — они сходили к людям радостно, они рождали на земле героев, земля не являлась для них местом скорби. Гельдерлин писал в примечаниях к переводу «Антигоны», что Зевс стремился не из этого мира в тот, но из того в этот. В поэме «Хлеб и вино» (1801) высказаны мысли о христианстве более чем еретического характера. Гельдерлин стремится углядеть в христианстве такие стороны, которые вели бы вновь к языческому миру. Христианство для Гельдерлина — это язычество в свернутом виде, он хочет снова развернуть его. Христос — один из античных богов, и в новом мире он вестник того, что и другие древние боги, а вместе с ними доброе к земному чувство, вернутся в этот мир, только на время ими оставленный. По Гельдерлину, заслуга христианства не в торжестве над эллинским миром, а в том, что оно сохранило в исключающей их среде частицы древней культуры и может нас снова к ней вести. Хлеб и вино христианского причастия — символы возвращения к богам древности. Хлеб — дитя земли, воспитанное светом, отцом Эфиром, вино — дар древнего Диониса. Античная чувственность дремлет в символах христианского таинства. Гельдерлин ее будит. Он хочет сделать религию поводом для выработки безрелигиозного миропонимания. Вопреки смятению романтиков, он по-старому стоит за град земной, явленный ему как античная республика, как веселое безбожие эллинских богов, как отрицание спиритуализма и потусторонности. Бехер говорит: «Царство поэзии не отделено у Гельдерлина от жизни, оно не тридевятое государство неведомо где, неведомо когда, оно не по ту сторону, ничье и никакое. Нет, оно... от мира сего и только от мира сего»30.
Многое из написанного Гельдерлином в поздние годы обращено к немецкому народу, к вопросам его призвания и его будущего. Здесь нет перелома от универсальности к немецкому национализму, как об этом возвещалось в статьях и в книгах о Гельдерлине 30-х годов — у Альфреда Боймлера, у Курта Гильдебрандта, например31. Мы находим у Гельдерлина совсем иное — дальнейшее развитие тех же идеалов всемирного, общечеловеческого братства, за которые стоял Гельдерлин с самого начала. Разница в том, что он больше уделяет внимания отдельным голосам в общем хоре — своеобразию, которое отличает каждую нацию, участвующую в общем развитии человечества.
315
В частности, он ждет особого вклада немцев во всемирное освободительное дело. Он не рассчитывает, как недавно, на освобождение силами извне — на освобождение через Францию. Он надеялся на полную активность немцев в этом деле, общем для всех народов, — в выработке новых форм жизни. Гельдерлин оставил немцам национальную программу, исполненную высокого благородства, — программу поэта и философа, интернационалиста и патриота, республиканца и демократа.
В позднейших произведениях Гельдерлина усилились некоторые тенденции его стиля и прежде того в нем приметные. Беттина фон Арним, очень рано открывшая для себя неизвестного тогда Гельдерлина, писала своему другу поэтессе Каролине Гюндероде, как изумили ее язык и ритм у этого поэта32. Она нашла и в языке и в ритме Гельдерлина некоторую самостоятельную живую силу, и ей показалось, что Гельдерлин — только покорный слуга, который выполняет то, что велит ему речь как таковая. Беттина по-разному старается передать свою пораженность стихами Гельдерлина, свое впечатление от них, и в конце концов оно сводится именно к тому, что у Гельдерлина движение стиха уже само по себе есть некий смысл, некое бытие и содержание духовной жизни; «законы духа метричны»,—пишет она по этому поводу. Один из более поздних истолкователей Гельдерлина Вильгельм Дильтей33 писал о характерной для стиля его тенденции обособлять друг от друга слова в фразе, усиливать значение каждого из них, а следовательно, всей фразы в целом. Молодой филолог и поэт Норберт фон Геллинграт, погибший в первой мировой войне, успевший много сделать для изучения и пропаганды наследия Гельдерлина, развил далее наблюдения своих предшественников34. Он подчеркивал трудный, по временам — труднейший, как в переводах из Пиндара, синтаксис Гельдерлина и настаивал, что это не бессилие больного поэта, теряющего власть над языком и стихом, но особый поэтический стиль, изнутри оправданный. У позднего Гельдерлина связь отдельных элементов стиля дана не сразу — к ней нужно пробиться, нужны усилия, чтобы найти ее. Этот стиль, «жесткий» если пользоваться терминологией Геллинграта, более всего ощутим в вольных стихах, которые писал Гельдерлин в позднюю пору. Обильные синтаксические разрывы, синтаксические переносы (enjambenients) из одной стиховой строки в другую, трудное построение фразы, внедрение в одну фра-
316
зу другой, появившейся попутно, связь от слова к слову, то рассыпающаяся, то снова находимая, — все это более всего характерно именно для вольных стихов Гельдерлина, для таких поэм, как «Рейн», «У истоков Дуная», «Германия», «Единственный», «Патмос». Длинная фраза вьется из стиха в стих, синтаксические деления не совпадают с ритмическими, стих обрывает движение фразы, и обратно — фраза обрывает стих. Медленно и трудно синтаксис, смысл, изобразительный материал приводятся в порядок, принимают надлежащий вид. Незначительные слова выдвигаются стихом на ритмически-ответственные места, и тогда, на время они кажутся более чем осмысленными. Их смысл отяжеляется, весомость их становится почти фантастической, когда они стоят на концах стихотворных строк, когда на них приходится сиптаксический разрыв и когда главные слова, от которых они зависят, появляются не скоро, в строках, следующих далее. В дальнейшем движении эти маленькие слова возвращаются к своей маленькой роли, и слова более существенные занимают место, подобающее им в общей перспективе смысла. Слова, богатые зрительным, чувственным содержанием, обособляются в стихе, — тоже на время, и чувственный их колорит становится чрезвычайно интенсивным. Потом он несколько сникает — когда слова эти вступают в более явственную логическую связь с другими словами, образующими фразу, период. В вольных стихах разыгрывается коллизия частного и общего — куски фраз, отдельные слова имеют иной вес, иной цвет, чем они же, вправленные наконец в смысловое, изобразительное, синтаксическое целое. В последнюю минуту, с точки зрения целого, которое сложилось наконец, отдельные части получают иную меру, иную оценку, чем до того им присвоенные. Постоянно происходят колебания в ту или в другую сторону, — незаметное становится заметным, незначительное значительным, с тем чтобы позднее отступить перед настоящими хозяевами положения. Эта манера выделенных слов, как бы выведенных из строя фразы, особенно заметна у Гельдерлина на контрастном фоне. Он не только прибегает к речевым дроблениям, он поступает и противоположным способом: сплошь, одно за другим следуют у него в стихах составные слова, в которых сжаты в одно разные понятия и смыслы, как, например, уже в первом фрагменте недавно найденной его поэмы «Праздник мира» (1801). В одних случаях Гельдерлин заставляет нас самих собирать фразу в целое,
317
в других — разбивать ее на отдельные смысловые и описательные куски.
Поучительны замечания о поэтическом синтаксисе, которые делал Гельдерлин в Гомбурге в 1798—1799 годах: «Существуют инверсии слов внутри периода. Более сильна инверсия, когда сами периоды становятся материалом для нее. Логический распорядок, когда за основанием следует развитие, за развитием цель, когда придаточные предложения сзади привешиваются к главным, к которым они относятся, — этот распорядок лишь в редчайших случаях может оказаться пригодным для поэта»35. Гельдерлин отвергает такое построение фразы, когда мысли в целом и в отдельных звеньях своих уже готовы, известны заранее. От поэзии Гельдерлин требует иного — воссоздания мысли и той жизни, которая породила мысль в их движении, в их неспокойствии, даже в их капризах. Инверсия — это пути, которых действительно держится живое. Когда у Гельдерлина какая-то группа слов в стихе как будто бы уже замкнулась, когда смысл как будто бы уже исчерпан ею, то добавочно появляются все новые слова, относящиеся к тому же; мысленно уже была поставлена точка, и фраза все же не кончилась, она все пополняется и пополняется — словами после точки. Этому немало примеров в переводах из Пиндара. Можно бы сравнить фразы, так построенные с рисунком, где линии контура еще не даны окончательно, и возле них художник на пробу провел вторые и третьи, придав первоначальному коптуру мохнатость, растрепанность. Гельдерлин превращает уже законченную фразу снова в эскиз фразы, он желает и в законченном произведении искусства сохранить следы эскизности, поисков последнего слова, постоянной борьбы за него. В конце концов эти особенности стиха и языка у Гельдерлина восходят к общему закону его стиля — к совместности у него развоплощения и воплощения, к тому, что второе совершается на фоне первого, зачастую на активнейшем его фоне. Или же так: второе наложено на первое, совпадает с ним.
Гельдерлин ищет последнего слова, а начинает как бы с того состояния человеческого сознания и культуры, когда слова еще нет и надо прорубаться сквозь темные, темнейшие леса косноязычия, чтобы добраться до света и смысла. У Гельдерлина все как бы создается заново, в том числе и самый язык, слова, к которым принято относиться
318
как к самой неизбежной наличности, думая, что они-то не менялись и не будут меняться.
Изображает ли Гете мир современный или мир древний, он передает нам уже сложившееся или же только варьирует его, поэтому Гете охотно пользуется готовым, традиционным словом. У Гельдерлина в его писании, прежде чем принять форму, все течет, все вначале идет к первоматерии — все, не исключая и слова, находящегося в глубине стиха, как это говорится у Вячеслава Иванова в «Песнях из лабиринта»:
И в тусклых колодцах белеет
Глубоких морей расплав...
Прекрасный и законченный образ порою у Гельдерлина вытесняется другим, прекраснейшим, служит ему только предварением. Так, в поэме «Патмос»:
Und schläfrig fast von Blumen der Garten,
Ein stilles Feuer36.
(И сад, почти усыпленный цветами,
Тихий пламень.)
Беттина верно угадала художественные замыслы позднего Гельдерлина. Для него язык и стих предельно приближены к самой действительности, материальной и духовной, почти сливаются с нею. Для Гельдерлина человек, природа, слово, стих — единая жизнь. Поздний стих Гельдерлина — это жизнь, какой она представляется умудренному взгляду: затрудненная, идущая через пороги, через заграждения, делающая свое дело без полной грации и свободы и поэтому, быть может, практически вернее. Гельдерлину очень не хватало предметного содержания, материала наблюдения и фактов, чтобы осуществить в искусстве зрелое свое миропонимание. Оно выражалось не через рассказ о событиях, о времени, о людях, даже не через описания, — оно превратилось в некую драму слов, в коллизию между отдельными отрезками синтаксических и ритмических целых. Поэзия Гельдерлина напоминает работы Пиранези — архитектора, гравера, рисовальщика. Нищая Италия XVIII века не делала заказов Пиранези-строителю, как могла их делать тогда приезжим итальянцам императорская Россия. Вместо того, чтобы строить дворцы и дома на площадях, Пиранези строил их на листах бумаги, архитектурные свои идеи он осуществил не в архитектуре, но в графике. Отсталая Германия не могла питать Гельдерлина тем реальным историческим опытом,
319
который нужен был ему. Он больше предчувствовал этот опыт, чем владел им, и схему его он с великой силой и страстью передавал в своих поздних поэмах движением слов и ритма.
Сравнение с Пиранези можно усилить. У обоих смешение стародавнего с еще не наступившим, нельзя указать, где начинаются новые фантастические стройки и где лежат одни руины — всюду запущенность, трава растет неизвестно где, среди древних камней или уже среди новых, а корабли готовы к отплытию в неведомые страны, оставляя за собой так много до полнейшей обветшалости знакомого.
Поздний Гельдерлин стремился в разных направлениях пополнить свою картину мира, философскую и художественную. Он расстался с односторонностью, неизбежной прежде по условиям исторической минуты. Он больше стал прислушиваться к человеческой индивидуальности, для которой в ранний свой период он желал по преимуществу одного — чтобы границы ее расширялись бесконечно, чтобы она в меру возможного не принадлежала только самой себе. Позднее он научился взирать на человеческую личность с достаточным доверием и более не смешивать ее с грубым буржуазным двойником ее — с частной собственностью. В «Смерти Эмпедокла» он достиг точки зрения, с которой частная собственность более не являлась необходимым элементом человека. Оказалось, что можно быть личностью, ничем не владея, материально не обособляясь от остального человечества. В поэме «Рейн» (1801) Гельдерлин предается раздумьям о месте и о призвании человека в природе. Он судит смело и своеобразно. Примечательно, что он оправдывает индивидуальность, не делая никаких уступок буржуазно-анархическому ее пониманию. Ценность и значение человеческой личности он выводит не из нее самой, отдельно взятой и понятой, но из мировой жизни в ее целом. Человек нужен миру, нужен природе, через человека они приходят к самосознанию. «Так как блаженные боги», — говорится в этой поэме, — ничего не чувствуют сами, то должен чувствовать кто-то другой во имя богов, и они пользуются услугами этого другого». Природа есть целое, человек есть частное, природа есть большее, человек есть меньшее, но именно поэтому их отношения плодотворны. Сознание возникает
320
там, где существует разность. Общее не может осознать себя в общем, оно нуждается в частном — на языке мифа и поэзии Гельдерлин это выражает так: боги нуждаются в человеке, иначе блаженные боги остались бы навсегда нераскрытыми для самих себя, только через человека боги восходят на высшую ступень существования. Против широты природы должна стоять узость — должна стоять личность, имеющая свой предел, чтобы широта изнутри осветилась. Субъект нужен объекту, субъект создан ради потребностей объекта. Природа как бы читает самое себя через человека — или, если угодно, измеряет себя человеком. Именно таков ход мысли Гельдерлина в поэме «Рейн». Он так настаивает на оправдании личности со стороны объекта, со стороны всеобщего — со стороны «богов», что готов считать мятежом и дерзостью всякое посягательство человека на универсальность. Человеку мало быть индивидуальностью, он хочет быть всем, но это его желание имеет лишь тот смысл, что все, весь мир, все вещи мира действительно могут входить в его восприятие. Очевидно, мысль Гельдерлина та, что «универсум», мир в его целом, пользуется универсальными устремлениями человека, чтобы через них, как по мосту, проникнуть в теснины его личности.
В поздних поэмах у Гельдерлина усилена живописность. Старые приемы разрабатываются теперь зачастую с перевесом в сторону большой осязаемости и наглядности. Гельдерлин и прежде в описаниях совмещал географическую карту с хорошо расцвеченными ландшафтами: карта открывала мир в целом, ландшафты — частности его. Теперь он старается наглядным способом передать и мир как целое — в поэмах о великих реках, о Рейне, о Дунае, сами эти реки, за течением которых он следит, соединяют места с местами, связывают в один наглядный образ огромные пространства. У Гельдерлина есть дальнее — для него дальнее, для нас близкое — родство в русской поэзии. Это Велемир Хлебников. Оставлю в стороне совпадения в общем и в целом этих двух поэтов, ожидавших, что мир обновится, — поэтов-«будетлян», скажу только об одной частности: у обоих философское и поэтическое пристрастие к великим рекам и к пространствам37.
В поэме «Патмос» нам предносится небывалый ландшафт — сразу всей Азии, не каких-нибудь ее кусков, местностей, но всего материка в его цельности, как если бы он был сразу увиден неким всевидящим оком. К этому и
321
стремился Гельдерлин: в одном-едином взгляде — целые миры, огромное зрение, в котором уничтожается всякая дробность времени и пространства, сразу же дается все.
Прежние перечни имен и названий получают в поэме «Архипелаг» восполнения, Гельдерлин называет в первых фрагментах «Архипелага» Саламин, Тенос, Хиос, Мэандер, Кайстер, Нил. В дальнейшем появляются имена: Кипр, Тир, Колхида, Египет, и тут же сказано о богатствах, которыми обменивался древний мир: пурпуровые ткани, вино, пшеница, шерсть. Названия богатств придают материальный блеск географическим именам, как бы золотят их для читателя. Гельдерлин не вселяется всеми чувствами в красоту отдельных вещей, как стали бы это делать Гофмансталь или Георге, он не вещелюб, как они. Гельдерлин занят делами мира в целом, и поэтому отдельным вещам посылается только краткий скользящий привет, зато очень яркий в краткую свою минуту.
Поздний Гельдерлин не всегда скуп на описания праздников и счастья. В поэме «Штутгарт» (1800) описан праздник урожая у немецких крестьян. Но праздник предполагает и черные, рабские будни. Менее опытной рукой Гельдерлин описывал когда-то швейцарских крестьян, там были зато свободные люди. Гельдерлин живописует счастье не столько из собственной потребности в нем, сколько ради духовного укрепления других. И ему и другим еще предстоят труды и дни героев, картины счастья — это отдых в пути. В стихотворении «Моя собственность» (1800) рассказано о золотом осеннем дне, довольстве сельском, крестьянском, которое наблюдает мимоидущий поэт. У людей есть дом, у людей есть сад. У людей есть оседлость. Дом и сад поэта — его песня, а вместо оседлости у него дорога.
Маленькое стихотворение из двух семистиший под названием «Половина жизни» датируют 1804 годом — оно написано на пороге полного безумия. У Гельдерлина нет ничего прекраснее и совершеннее, чем эти строки, — он как будто бы прощался здесь с самим собой, со своей поэзией и в последний раз собрался со своими лучшими силами. Говорится об озере, о желтых грушах, о диких розах, которые склонились над ним и которые отражаются в нем, о лебедях, опьяневших от лобзаний и окунающих свою голову в священно-трезвую воду. Гельдерлин щедр на цвет, на зрительный образ, на зримую красоту, как никогда. Но здесь присутствует и обычное его искусство
322
усиливать образ закулисными путями, через приходящие значения. Озеро с розами и озеро с желтыми грушами, с дикими розами, свисающими над ним и отражаемыми в нем, с лебедями — это предчувствие зимы и холодов, это и первая, лучшая половина жпзни. Во втором полустишии в пейзаж врастает еще и архитектура, появляются каменные стены — «бессловесные и холодные». Поэт вопрошает, что он станет делать, когда наступит зима; в ответ ему на ветру трещат флюгера — стены по контексту отвечают вместе с ними. Зрительные образы как бы умножены, удвоены, утроены ассоциациями времен года, человеческих возрастов, судеб. Каждой своей подробностью стихотворение обращено сразу к близкому для нас и к дальнему, к тому, что видим, и к тому, что только представляем, к нашим ощущениям и к нашим моральным чувствам. Опытность художника позволила Гельдерлину в четырнадцати строках дать весь мир — если не вширь, то вглубь. «Половина жизни», — говорит Гельдерлин. Мы знаем, что вторую половину Гельдерлин провел без памяти о первой, без разума, без сознания. Из стихотворения этого видно, в каком прекрасном мире жил Гельдерлин, покамест разум и вдохновение не покидали его.
Наш долг перед Гельдерлином — обнаружить великие основы его поэзии, героично-демократической и героично-гуманной, враждебной злым силам немецкой истории, войне и фашизму, злым силам истории вообще, всякому духу рабства и эксплуататорству. Современные немецкие демократы ищут подлинного Гельдерлина и умеют его находить вопреки стараниям и произволу лжеистолкователей. Мы поддерживаем их поиски и присоединяемся к ним.
323
Ахим фон Арним (1781—1831) — главный человек среди романтиков гейдельбергской школы. Издание, где собраны многочисленные документы, к ней относящиеся, так и названо: Арним и вблизи него стоявшие1 чем центральное положение Арнима указано. Гейдельбергский романтизм, подобно иенскому, имел свою резиденцию — Гейдельберг и свой университет, прямо или же издали дружественный ему. Гейдельбергская группа современна наполеоновским войнам в Германии, в те годы в Гейдельберге бывали или же проживали в нем Арним, друг его Брентано, филолог и публицист Геррес, филолог Крейцер. В зоне гейдельбергского влияния находились поэт Эйхендорф, оба Гримма — Якоб и Вильгельм, в будущем великие филологи. Гейдельбергский романтизм во многом противоположен иенскому, даже откровенно враждебен ему. Духовное имущество Гейдельберга немалой долей составлялось из опровержений, сделанных по поводу романтизма иенского. На очарованность Иены Гейдельберг отвечал своей разочарованностью. Исторические условия были таковы, что Гейдельберг мог только глумиться над мечтаниями ранних романтиков, сам, собственно, ничего не предлагая взамен. Вместе с наполеоновскими завоевательными войнами рухнул универсум ранних романтиков — универсум наций, братских, существующих на началах терпимости и взаимной любви. Померкли образ и понятие мира как такового, всех собою соединяющего, ко всем и каждому гостеприимного. В гейдельбергском кругу успех на стороне национализма, робкие основы которого заложены были еще в сочинениях Вакенродера. Гейдельберг жестко проповедовал немецкую национальную исключительность. Так как Германия того времени была бита в битвах, огромной частью своей оккупирована и превращена в некоторую внутриевропейскую колонию империи Наполеона, сопротивление же было бессильно, то национализму этому присуща была болезненная надорванность, он истощал себя в эмоциональных гиперболах, в малодейственных угрозах противнику. Романтики Гейдельберга выработали особую идеологию национально-народнического характера, близкую к тому, что у нас именовалось
324
почвенничеством. «Почвой» служила им старая Германия — Германия крестьянских дворов, помещичьих усадеб и городских цехов. Они искали, где сказывается с наибольшей интенсивностью жизнь народа, и считали, что в фольклоре, в песнях, сказке, в древнем эпосе, наконец — в национальном языке. Миф, сказка, песня, язык передаются из века в век, в них сохраняются качества национальной культуры, обладающие постоянством, в них содержится субстанция народной жизни, они, как выражались романтики, «характеристичны». Иенские романтики были философы, эти были филологи, знатоки национальных древностей, мифов, поверий, правовых обычаев. Главное достижение Гейдельберга — собирание и публикация фольклорных памятников. В 1805, 1806, 1808 годах том за томом публиковался свод немецких народных песен, собранных Арнимом и Клеменсом Брентано — «Волшебный рог мальчика»2. В 1812 году вышли немецкие народные сказки, собранные Гриммами. Эти два издания оказались важными событиями в немецкой культуре. Они сблизили ее заново с народной традицией. Сказки дали источник долговременного действия немецкой прозе, песни — немецкой лирической поэзии. Песенность заново утвердилась в качестве национального признака немецкой лирики — заново, после Гете. «Волшебный Рог» предшествует поэзии столь разных поэтов, как сами Арним и Брентано, как Вильгельм Мюллер, Эйхендорф, Уланд, Мерике, Гейне, Ленау.
Важное значение имел и «Журнал для отшельников», издававшийся под редакцией Арнима в 1808 году в Гейдельберге, при участии Герреса, Гриммов и Брентано3. Здесь помещались первостепенно важные материалы по фольклору.
Нужно различать идеологию фольклора у гейдельбержцев от самого фольклора, ими собранного. Болезненные черты эпохи прошли и через фольклористскую идеологию. С одной стороны, у немецких патриотов того времени мы встречаем чрезмерное величание немецкой нации — Клейста, у Фихте, например, с другой — самоуничижение и смирение тоже чрезмерные. Причем именно те недостоинства и иедуги Германии, из-за которых она терпела поражения и теряла свою самостоятельность в мире, — именно они и объявлялись ее великими заслугами в царстве духа. «Волшебный Рог» — сборник, очень искусно составленный. Песни там так расположены, чтобы возникал
325
единый образ народной Германии, какова она в веках и какой ее хотели бы видеть Брентано и Арним. К подлинным народным песням подбавлены как равноправные с ними песни церковного происхождения — песнопения и гимны Реформации, а также и католическая поэзия XVII столетия Якоба Бальде и Фридриха Шпе, к которой и Арним и Брентано благоволили, — стихотворения эти вставлены то туда, то сюда ради свидетельства глубочайшей преданности народа интересам церкви и церковной веры. Подобраны песни смирения и покорности; соединенные с религиозной лирикой они должны были убеждать, насколько немцы — нация безропотно христианская в прошлом и настоящем. Состав песен такой, что постоянно усиливается впечатление наивности, инфантильности. Второй том сборника кончается подлинными детскими песнями и стихами. Даже поздний Фридрих Шлегель, далекий от настроений иенской поры, и тот в статье от 1808 года очень резко писал по поводу проповеди в «Волшебном роге» всех видов нищеты духовной и материальной — счастья нищеты — «Armut Seligkeit» (статья о другом песенном сборнике Бюшинга и Хагена4). Надо думать, что по опыту «Волшебного рога» так сдержанно высказывался о народной песне Гегель, мало расположенный к романтике вообще, а к гейдельбергской в особенности. В песне Гегелю слышались «неразвитый внутренний мир («unentfaltete Innerlichkeit») и «варварская простоватость» («Barbarei der Stumpfheit»)5.
Арним и Брентано рассчитывали на то восприятие фольклора, которое ими было предначертано. Однако в «Волшебном роге», как и всюду, сам фольклор был сильнее фольклористов, он мог предложить и предлагал не только то, чего от него хотели. В сборнике Арнима и Брентано немало песен совсем иной природы, веселых, наделенных наступательной жизненной силой, и если в песне говорится о страданиях и об унижениях народных, то далезко не всегда этому сопутствует примирительная настроенность, есть песни гнева и мести, есть песни мятежа, и Генрих Гейне имел основания говорить, что в песнях «Рога» в химию слез входит необходимая доза железа и соли6.
Гете, отозвавшийся на сборпик Арнима и Брентано большой и сочувственной статьей, в разговоре с Арнимом преподал ему совет ввести в сборник также и песни других народов: шотландские, испанские, французские, ан-
326
глийские7. Иными словами. Гете хотел повторения в расширенном виде сделанного Гердером, он предлагал Арниму издать по старому примеру Гердера новые «Голоса народов». Гете не желал считаться с тем, что Арниму в его сборнике дорога была именно национальная исключительность. «Волшебный рог» — немецкий сборник, таким его задумали составители, и таким был он пущен в мир. Но сами нации настроены гораздо родственнее к нациям, соседящим с ними или несоседящим, чем этого хотят авторы, взявшие на себя задачу говорить от их имени. Как различаются фольклор и толкователи фольклора, точно так же различаются сами нации и идеологи-националисты. Хотя бы по одному примеру песенного сборника Арнима и Брентано можно судить, как много общего, объединяющего у немецкого народа с другими народами мира, и общность эта дана сама по себе, в силу вселенского сродства, помимо всяких взаимных влияний и перекрестных связей, через живые аналогии развития. Туземное не может оставаться только туземным, как того желали романтики Гейдельберга, под косыми, быть может углами, но в нем заключено прирожденное и ему всемирное содержание.
При всем том в выдержанности местной и национальной окраски в фольклоре, в фольклорных разработках, в том зачастую, что писалось ими прямо от собственного имени, содержалась особая заслуга, неясная, конечно, самим гейдельбергским романтикам. Верно взятый местный и национальный колорит — одно из ранних предчувствий реализма XIX века, идущего в жизнь, его художественных требований и его поэтики. Хотя местные краски и получались за счет узости и нарочитого провинциализма, все же они были достижением, и немалым. Новалис или Тик были маловнимательны к местным качествам элементов, из которых у них строился образ всемирной жизни. Арним и Брентано были к этим качествам более чем чувствительны, эти качества пронзали их. Знаменателен для гейдельбергских вкусов отзыв Брентано о романе Новалиса «Гейнрих фон Офтердинген»: «Все действующие лица в этом романе с рыбьими хвостами, всякий кусок мяса отзывается лососиной; я читал и испытывал странную физическую тошноту»8. Поэтика Гейдельберга состояла в том, чтобы мясо оставалось мясом, а лососина лососиной, чтобы не забывалось отношение красок к их месту, на чем настаивал впоследствии и реализм XIX века.
327
Соблазнительпо толковать Арнима в духе социальной цельности. Она присуща его личности и биографии. Автор специального сочинения так написал о нем: «Немец, пруссак, дворянин и поэт»9. По биографии его, казалось бы, он с годами все больше углублялся в прусскую поместную среду, откуда он происходил, и становился все глуше ко всему, что не есть она. Казалось бы, он был не проницаемый никакими впечатлениями бытия консерватор, хранитель традиций старинной Германии, один из «хранителей короны», как те, кого изобразил он в романе этого имени. Он похитил у вольной, веселой романтики сестру Брентано Беттину, женился на ней в 1811 году, позднее увез ее в свое родовое имение Виперсдорф и там со всей рачительностью придерживался образа жизни, предустановленного предками. Беттина родила ему четырех сыновей и одну дочь. Сыновья, как в угрюмой сказке, получали один за другим единообразные имена с воинственным иногда и всегда древнегерманским оттенком: Фреймунд, Кюнемунд, Фридмунд, Зигмунд. Беттина промолчала все эти годы в Виперсдорфе и только после смерти Арнима развернулась как оригинальнейшая писательница, создавшая новый жанр биографического романа, составленного из подлинных, прямо в текст вводимых документов. На молодом, красивом, удачно родившемся, удачно вступившем в жизнь Арниме уже лежали черные тени, которые чем позже, тем чернее становились. Старые историки литературы считали гейдельбергский романтизм явлением прочным и позитивным, а романтизм Иены — явлением легковейным, неведомо откуда навеянным. По Арниму можно судить, в чем состояла действительная суть гейдельбергской школы.
Сочинения Арнима-художника — сплошные противопоказания в отношении догматов ее. В них, а отчасти и в сочинениях Клеменса Брентано, перед нами зрелище тотального кризиса и декаденса романтизма вообще. У писателей, выступивших позднее, чем Арним и Брентано, наблюдаются попытки той или иной стороной выйти из кризиса. Арним находится в кризисе всецело. История романтизма шла так: после абсолютного энтузиазма ранних романтиков приходит абсолютное отрицание всех и всяческих положительных ценностей, как бы еще другая, повторная жизнь всего, во что веровали ранние романтики, но в негативном смысле. Можно у Арнима найти ту же полноту романтического мира, однако с обратным знаком
329
против всякого его мотива и явления. Вместе с тем ничего не выходит из гейдельбергских стремлений вернуть былому его былую славу. Можно было сколь угодно критически трактовать Французскую революцию, но старый режим, будь то европейский, будь то всего лишь немецкий, был бесповоротно и навсегда скомпрометирован. Арним хочет и не может замолвить за него доброе слово. В Гейдельберге призывали ценить почву. По Арниму видно, что почва истощена веками и ничего более родить не в силах. Генрих Гейне справедливо рассматривал Арнима как писателя, быть может и против собственной воли сказавшего надгробное слово архаической Германии10 с ее остатками средневековья, она у Арнима — страна руин, неубранных вовремя мертвецов и полуживых наследников. Гейдельбергский романтизм рушил новое и рушил старое, вопреки созданной ему репутации он был непоправимо нигилистичен, весь Арним — в злорадстве, в страданиях и печали нигилизма. Дополнительно о «почве», которую защищали Арним с друзьями: национальное очень часто приобретало у них характер туземного, узко местного. Они были приверженцами всего локального, они хотели густейшего локального колорита в художественных произведениях. Якоб Гримм попрекал Арнима, зачем он смешал в своей драме «Глейхены» тюрингенскую ветвь этого графского рода с ганноверским11. Понятие «почвы» у гейдельбергских романтиков сужалось и сокращалось — признак того, как неверно почва держала их.
Арним писал лирические стихотворения, романы, новеллы, драмы. Его произведения поражают своей нестройностью, диким порою произволом композиции, сопоставлением друг с другом малосогласуемых частей, неподготовленными переходами. Это была его полемика против раннего романтизма да и не только против романтизма, а также против Гете, против классики новоевропейского искусства. Он не принимал непременного у этих его предшественников органического миропонимания, а вместе с тем и их эстетики, следуя которой художественное произведение должно было представляться живым, единым организмом. Его драмы и повести кажутся злою пародией на органический стиль, злыми сарказмами по поводу него. В них отсутствуют простые, естественные связи, они свинчены, скручены и могут порою быть приняты за брак какой-нибудь механической мастерской, и в этом есть свой умысел, ибо Арниму нужно выразить свое неверие
329
в естественную жизнь и в ее творящие способности. Неверие это разрушало не только концепцию ранних романтиков, не только дразнило Шеллинга и шеллингианцев, оно было гибельным и для гейдельбергской идеологии почвы, растительной силы, пребывающей в человеческом обществе и в человеческом быту. Со своей оппозицией Арним обращался против основ, против античной культуры и Ренессанса. Античности достается заодно с Ренессансом, ибо она для Ренессанса сестра и мать. В причудливой повести «Рафаэль и его соседки» (1824) 12 рассказано о том, как итальянцы, современники Рафаэля, профанируют античность, превращая мрамор древних статуй в известку на потребу горшечникам. Рафаэль, тогда еще мальчик, переползает на чужой двор, пользуясь прислоненной к стене статуей Геракла. Мраморная палица Геракла, мраморные плечи Геракла, мраморные бедра его служат ему лестницей, он переставляет по ним свои ступии. Арним с недобрым юмором описывает, как происходит это превращение статуи в истукана, как произведение искусства становится вещью среди других вещей, бытовым приспособлением. Арним охотно рассказывает о деканонизации святынь искусства и культуры враждебно и мстительно в отношении их, он изобретает множество уничтожающих подробностей. У Арнима не тот Рафаэль, что у Вакенродера, который на Рафаэля молился. Исчезает Рафаэль богоподобный, единственный и неповторимый, исчезает и в мире бытовом и в мире художественном. Он сам заставляет своего секретаря писать от его имени любовные письма да и ходить вместо него на любовные свидания. У Рафаэля-художника есть дома двойник, который очень ловко рисует под его указку, — обезьяноподобное существо, скрывающееся где-то за ширмами.
Художник и художество легко уязвимы со стороны вульгарной жизни. Булочница Гита владеет душой Рафаэля. Он не способен обходиться без ее сладких хлебов — хлеб из печи, хлеб Гиты, говорит Рафаэль, отвратил его от жизни. Хлеб Гиты отравляет его.
Обезьяна, рисующая по ночам рафаэлевские картины не хуже самого Рафаэля, требует особого комментария. В Рафаэле Арним видит не только вдохновение, сколько обезьяну — технику, доступную не одним человекам, но и существам ниже их. Эксцентрические подробности, касающиеся обезьяны, соперника Рафаэля в любви и в искусстве: обезьяна — муж Гиты, немецкий пекарь из Нюрн-
330
берга. Он приобрел этот причудливый обезьяний образ в детстве: мамаша однажды вместо колыбели сунула его в натопленную печь, тут он навсегда и сморщился. У Арнима непреходящий интерес к уродам и к уродцам, следующий из его антиорганического направления. Шеллингианцы любили в природе ее удачу, прекрасное и гениальное для них выражало ее счастливую сущность, ее победу. Уроды Арнима — это ее полемическим глазом подсмотренные промахи, неразборчивость, неумелость. Булочник Бебе из Нюрнберга, человек-обезьяна, ведь тоже ее творение. А ее великий успех — сам Рафаэль весь у Арнима в слабостях, в бытовых зависимостях. Его более чем материальный роман с булочницей Гитой показывает, что из Вазари, откуда черпал и Вакенродер, активнее всего отозвался Арним на строки о любовных беспутствах божественного мастера.
В живописи Ренессанса Арним отрицал Рафаэля. В поэзии он отрицал Данте, для Шлегелей величайшего из величайших. «Ад», по мнению Арнима, сплошное описание пыток и казней и стоит не больше, чем мемуары нюрнбергского палача, у которого было пятьсот жертв. Это сказано в переписке с Гриммами, но и Гриммы защищают Данте очень вяло, и говорят вдобавок еще о своей антипатии к Петрарке и к Ариосто. Можно найти у гейдельбергских романтиков скептические замечания и о Сервантесе13.
В живописи пристрастие Арнима не Рафаэль, но Рембрандт, которому он посвятил своеобразнейшую повесть в стихах «Аукцион Рембрандта» (1826)14. Рембрандт интерпретируется как великая и добрая противоположность античности и Ренессансу. Как художник он весь в своем нидерландском быту, в национальной повседневности. Чем Рафаэль захвачен ненароком, против воли, тому Рембрандт предается открыто и убежденно. Рембрандт изображен в этой повести погруженным в свой домашний быт и благосклонно страдающим от него. Субботний вечер, хозяйка устроила в доме генеральную уборку, всюду ведра и щетки, вода разлита по пестрым плитам пола, сам Рембрант, съежившись, сидит у себя в мастерской при лунном свете, лампа ему не выдана, лампа должна светить уборке. Когда Рембрандт с захожим итальянцем спорит против античного идеала в искусстве, то Рембрандт ссылается на тут же присутствующую девочку-служанку, «толстое дитя» в красном корсаже, — разве она не лучше Далеких и холодных антиков. Арним ценит Рембрандта
331
как поэта некрасивостей. Не нужно безукоризненно прекрасного, в которое верили Гете, Шиллер и старшие романтики. Жизнь обманывает прекрасным, Венерой Милосской прикидывается булочница. Посредственное, а то и безобразное есть неизбежность, которую Арним советует принять, хотя при этом проступают то и дело сарказмы Арнима. Гете и старшие романтики добивались совершенства здесь, на земле, в недрах материального мира. Пафос совершенства в трехмерном мире вызывает постоянные насмешки Арнима. Ему отчасти близка концепция христианства и искусства в эстетике Гегеля — христианского, оно же, по Гегелю, и романтическое. Небрежность к внешнему, нерадение к нему, приблизительность всего материального, малая его одухотворенность, ибо не в материальном мире нужно искать вместилища для духовного, — таково оно, христианское искусство. И таков, по Арниму, смысл искусства, которое создавал Рембрандт. На аукционе Рембрандта продаются не только его картины. С энтузиазмом раскупаются старые камзолы Рембрандта, стулья, есть охотники даже до метелок госпожи Рембрандт, но та не хочет, однако, отчуждать свой домашний скиптр. В пристрастии к заурядному быту, ко всему обжитому, потертому, поношенному, держанному скрывается тоже полемика особого рода — против пафоса новизны у старших романтиков. Где движение, там и новизна, в романтическую идею прекрасного новизна входила как существенная сила. Арним по внутреннему своему строю не был охотником до новизны. Однако же Арним не мог оказаться бытовым писателем, даже и в христианско-романтическом смысле. Когда Рембрандт прячется у себя в мастерской от хаоса мойки полов, ото всех вакхических проявлений домохозяйства, то Арним не забывает сказать о драгоценных красках его картин, развешанных по стенам, об их мерцании при лунном свете.
Аукцион — способ, предложенный самим Рембрандтом, чтобы решить его спор с итальянцем, много ли стоит его национальное, реалистическое искусство, достаточно ли оно любимо современниками. Распускаются слухи о кончине Рембрандта, и объявляется распродажа его картин. По необыкновенному успеху ее итальянец может судить, какой народностью пользуется искусство Рембрандта.
В основу повести положен анекдот. В своих сочинениях Арним неизменно обнаруживает пристрастие к анекдоту: то вся фабула целиком анекдотична, то отдельные
332
лишь ее подробности; анекдоты, и часто общеизвестные, по всякому поводу вставляются в текст. Вкус к анекдоту разделял с Арнимом великий его современник Клейст, хотя Клейст и пользуется анекдотом по-иному. Интерес к анекдоту у Арнима тот же, что к монстрам и ко всякой другой игре природы. Анекдот — урод, уродец среди фактов и событий. Как будто бы анекдот стоит рядом с новеллой, с жанром, который жаловали романтики. Новелла рассказывает о небывалом среди бывающего. События, о которых сообщает новелла, плодотворны. Сейчас небывалые, они когда-то станут всеобщими. Анекдот — незаконное образование в мире бывающего, безо всякой перспективы на всеобщность. Анекдот — вывих в бывающем, острое нарушение норм. Он забавен и занятен, в нем некоторая задача и загадка для ума. Анекдот — своеобразная орнаментация повседневности, он будит и оживляет ее, заставляет на полминуты образ ее сойти с предназначенных ему путей. Для Арнима анекдот — средство эстетического примирения с обыденным бытом, который Арним будто бы принимает. Быт амнистируется через анекдоты, которые быт время от времени поставляет.
Арним по-своему верен и другим направлениям романтической поэтики. Для романтиков первостепенное значение имели мотивы чуда и чудесного. Трехмерный мир у них хорош тем, что при всей своей трехмерности способен вместить чудо. Цельность жизни и глубина жизни вдруг засветятся в каком-нибудь случайном и в случайности своей ничтожном эпизоде, полностью войдут в него, преобразят его, дадут ему избыточную значительность. Шлейермахер так по крайней мере и понимал чудо. Арним в своих произведениях щедр на чудеса. Они у Арнима служат не обогащению и прославлению видимого мира, но посрамлению его. Пример чуда, по Арниму, в двухчастной драме его «Галле и Иерусалим» (1811)15. В первом акте изображается ярмарка в городе Галле в ленивый, жаркий, летний день. На одной стороне сцены — продавцы лошадей, оставшиеся без покупателей, на другой — фруктовщики, торговка готовит бумажные свертки и отсчитывает для них вишни. Рядом — развалившиеся на своих скамьях студенты университета, они лакомятся, медленно переговариваются. Университет с раскрытыми воротами виден в глубине сцены, букинист торгует диссертациями, портреты ученых вывешены у входа в лавку. Вдруг среди этого тщательно расписанного быта
333
появляется антибытовая фигура, появляется издалека пришедший сам Агасфер, и первая реплика в пьесе принадлежит ему. Свершается чудо, Агасфер посетил современнейший к тому же сугубо ученый город. Нет больше делимого времени, а есть единое, неделимое, и из века в век можно странствовать без малейших препон. Арним ничего не сделал, чтобы подготовить чудо. Нет особых красок и нет настроенности, которые могли бы предварить его. Поражает сухость и бестрепетность фона. Чудо совершается в яркий полдень, при включенном свете, при включенном солнце, все обнажено, тайна изгнана и ничто не располагает к чуду. Вспоминаются вступительные сцены в «Анатэме» Леонида Андреева, картина II: знойный день, пыль на дороге, лотки торговцев с сельтерской и с семечками, появляется в черном сюртуке и в черных перчатках, в черном цилиндре сам Анатэма, который для начала собирается у кого-либо выпить воды с содой или же боярского квасу. Разумеется, Андреев ничего не знал ни об Арниме, ни об его драме. Такие совпадения могут ободрять компаративистов, но должны также и предостерегать их. Существенно лишь то, что в Арниме уже сидели предчувствия литературы нашего столетия.
У Арнима чудо ведет только к одному — к полному расстройству образа действительности. И так все в этой пьесе, повсюду хаос времен, жизненных укладов, лиц и событий. Арним не задумался объединить в одном произведении современный университет с докторскими диспутами и гроб господен, из Галле его герои держат путь прямо в Иерусалим. Можно вспомнить по поводу Арнима о драматических феериях Тика. И у Тика весь мир в одной драме, но при всей своей разнокрасочности приведенный к гармонизации, у Ариима обратное: краски кричат и отрицают друг друга. Для первой части — «Галле» — близко использована драма Андреаса Гриффиуса «Карденио и Целинда», люди, нравы и вкусы XVII столетия со всею точностью перенесены в современность Арнима. Барочные приемы Гриффиуса почти чудовищны в современной пьесе. Точь-в-точь как это было и у Гриффиуса: девица из обыкновенного семейства отправляется ночью на кладбище, чтобы поднять из могилы своего любовника и вырезать у него сердце, — вот что ей понадобилось. Образ действительности у Арнима распадается по мере того, как он сочиняется у него, не выдерживая странностей, небылиц, чудес, анекдотов, вводимых в него, — чудеса у Ар-
334
нима в конце концов те же анекдоты, хотя и масштаба космического.
Арнима подчинил себе тот особый романтический натурализм, власть которого наблюдается в литературе начала века. Арнима держат под своим гипнозом материальные силы современного общества, вышедшие на свободу после Французской революции и безжалостные в отношении ее иллюзий. Арним мог оставаться равнодушным, если не враждебным, к этим иллюзиям, но он не мог и держать сторону сил-победителей. Заодно с иллюзиями будущего утрачивалась также идиллия архаической Германии, старокрестьянской и стародворянской, душевно близкая Арниму. В его сочинениях описано, как широко водворяется царство мертвой материи, а с нею и повсеместной гибели и зла. Деньги, барышничество, предпринимательство грозили всем стихиям и прошлого и настоящего, если те только смели противиться их интересам. В раннем его романе «Бедность, богатство, преступление и покаяние графини Долорес» (1809)16 есть страница о всемирном зле, сжато излагающая настроения тех годов. Графиня Долорес и граф Карл, ее супруг, находятся в Италии, и вот описан итальянский летний полдень, изнурительный для живых существ, казнящий их, убийственный. «...Подобен тяжкому покаянию этот полуденный час юга, когда из болот выползают холодные змеи и, извиваясь, укладываются на солнце, когда на солнечном свету играют ядовитые комары, а отвратительные чудища морские со смрадными телами выбрасываются на берег, а Этна дышит над островом испепеляющим дыханием, так что лопается виноград и по земле течет кровь его»17. Это описание составляет аналогию известному месту в романе госпожи де Сталь «Коринна», вдохновившему Тютчева на стихотворение «Mal’aria». У Арнима оно гипербола и метафора безбрежного зла, томящего человечество, материи, которая, при всей своей напряженной яркости, мертва и проклята, гнетет и убивает.
Художественная фантазия Арнима изобретает положения и эпизоды, где человек не огражден от низшей жизни и от низших существ. Быть может, Арним сам не заметил зловещих внутренних аналогий в своей драме «Аппельманы» (1813)18. Ее сюжет таков: бургомистр одного старого города, Аппельман, приговаривает к смерти другого Аппельмана, юношу, собственного сына, сказавшего не то слово. Сыну рубят голову. Все это происходит на фоне
335
осеннего праздника Martingans — дня святого Мартина, когда повсюду режут гусей, до того старательно откармливаемых, и наслаждаются жареной гусятиной. Отрубленная голова Аппельмана-младшего падает в такт гусиным казням. Пьеса написана для кукольного театра (ein Pupppenspiel). Голову рубят бургомистрову сыну на глазах у публики, театр с актерами, сделанными из дерева, не боится крови. На сцене же происходит и воскрешение. Отец не пожалел сына, его пожалел палач. Он снова приставил голову к туловищу, и казненный ожил. Чудо, по Арниму — чудо марионеточного театра. По Арниму, ускользают границы — где жизнь, где смерть, где гусь, где человек, где кукла, где Martingans, где эшафот.
Арниму, который чуждается органического миропонимания, чужда и идея внутренней иерархии явлений, подъема их со ступени на ступень, от одной «потенции» как называл это Шеллинг, к последующей, высшей. Старшие романтики были увлечены этим изображением восходящей жизни. Арним пробовал себя в разных видах романа, но к роману воспитания всегда был равнодушен. Воспитание-восхождение, воспитание человеческой личности — последнее завершение восходящего мирового развития, продолжаясь в человеке, в его личной истории, как бы успокаивается и находит самого себя. Ничего этого у Арнима нет, восходящий порядок отсутствует, гуси, люди, куклы — все сливается в единое деревянное море.
Материализованный человек, принявший в себя часть мертвой материи, — тема мрачных шуток Арнима. В рассказе о безумном инвалиде на форту Ратонно (1812)19 описано, как загорелась деревянная нога у старого, заслуженного коменданта, который неосторожно грелся у огня. Прибегают люди и заливают горящего водой. Деревяшка дана как чуть ли не живая часть его самого, а сам он — как живой предмет для упражнения пожарных. Эта повесть без кукол, и она лишена условностей, в ней шутки ради и совсем прямо овеществляется живой, реальный человек.
Арним усвоил себе роль и значение в современном обществе экономических отношений, это от них исходят мертвые, безличные силы, отменяющие всякие иные ценности, это в них источник современных трагедий и комедий и попросту повседневных тихих драм. Роман о графине Долорес в известном смысле подсчитанный роман, ибо Арним с терпеливостью экономиста хочет найти чуть
336
ли не точно исчисленные материальные мотивы разрушения старых дворянских домов, их разорения, их нравственного упадка. Он делает экскурсы в историю дворянских бюджетов и полагает, что действующие лица надорвались от непосильных трат, в их среду проникли привычки роскоши, и они-то погубили их. В одном из писем своих Арним объяснял, что прототипами княгини и министра, действующих в конце романа, послужили Екатерина и Потемкин20. Немецкие аристократы в образе жизни захотели подражать потемкинскому размаху, что и привело к материальному надлому и надрыву, к упадку и к нищете.
Арниму принадлежит и другой большой роман — пространный, написанный на темы истории, — «Хранители короны», первая часть которого вышла в 1817 году, а вторая, подготовленная к печати Беттиной, вышла в свет только в 1854-м, много лет спустя после смерти автора21. Немецкие критики любят сопоставлять роман Арнима с романами Вальтера Скотта, уже ко времени «Хранителей» приобретшими известность в Германии22. Сопоставление это маловыгодно для Арнима. В его историческом романе, строго говоря, отсутствует история, поступательное движение исторических сил, с широтой и уменьем живописуемое у Скотта. В романе своем Арним хотел дать обобщенную оценку нового времени. Он видит в нем одну лишь деградацию доброй и поэтической старины. По идейному замыслу роман Арнима близок не к В. Скотту, а к роману «Сен-Map» Альфреда де Виньи, хотя Арним и держится совсем иной художественной манеры, чем французский романтик. Для Арнима, как и для Виньи, писать историю нового времени то же самое, что писать историю непрерывного упадка.
Быть может, лучшие эпизоды этого романа вступительные. В старом городе Вайблингене на сторожевой башне двое: старый страж и его бравая толстая жена, обоим там живется очень уютно. Есть слух, что жена необыкновенно растолстела, не может протискиваться вниз по лестнице. Когда старик умирает, новый страж, хочет или не хочет, вынужден жениться на вдове, так как той больше не спуститься с башни. В этом эпизоде, восхитившем Генриха Гейне, можно усмотреть интродукцию к роману Арнима. Тут улавливается улыбка уступчивости по поводу всего плотского. Как всем поздним романтикам, Арниму была известна тоска о плотском, о материальном, плотски и вещественно предъявленном. Отсюда его неожиданная
337
доброта к этому комизму тела, к толстой женщине у ворот города Вайблингена. Но Арним тоже, как и все романтики позднейшего призыва, от истории получил не ту материальность, которой искал. Он получил материальность в ее буржуазном вкусе и характере; вместо вещей, которые радовали бы человека и лелеяли бы его, он очутился в окружении вещей, тиранически властвующих над человеком, уродующих все его чувства и помышления. В эпизоде о толстой женщине на городской башне сквозь юмор проглядывают обычные для Арнима сарказмы. Вот он, бюргерский уют, — человек становится рабом собственного жилища, собственной плоти, а другой бюргер, вступивший в должность привратника, женится не на женщине, а на помещении, к которому та приросла, на ее комнатке и на лестнице, что туда ведет. Весь этот вступительный эпизод — юмор и гротеск материализации человека, и это же сквозная тема огромного романа, за ним следующего.
«Хранители короны» — памфлет на новое время, в котором воцаряется бюргер, а вместе с ним проза частной собственности и утилитаризма. В романе этом особо силен интерес Арнима к экономическому быту нового времени, в котором Арним чувствовал своего всесильного врага. В письме к Гриммам Арним говорил, что главным его источником для «Хранителей» была четырехтомная история немецкой торговли Фишера, издание 1791 года23.
Хранители короны — тайное сообщество, которое Арним помещает где-то в глубине всего происходящего в романе. В обыкновенные дела внешнего мира они вмешиваются только изредка. Хранят они старинную корону Гогенштауфенов и враждуют с Габсбургами, с императором Максимилианом, господствующим над Германией. Роман строится на неисчерпаемых вариациях одной и той же темы, на постоянно повторяющихся стилистических антитезах. Старинная имперская легенда опустилась в среду бюргеров «питающего сословия» — питающего других, а усерднее всего себя же самого. Бюргерская практика вступает в постоянные комические для нее соприкосновения с преданием о таинственном императоре, который еще вернется. Бертольд, дальний потомок Гогенштауфенов, подкинут в город Вайблинген. Бюргеры его растят и воспитывают. Городской писец занялся его образованием. Принц, пришедший из средневековья, он испытывает на себе всю прозу нового времени — его сделают торговцем
338
шерстью, и он когда-то станет бургомистром. Биография Бертольда вся в комических контрастах жизненных стилей, в контрастах между теми, кто послал Бертольда в жизнь, и теми, кто в жизни принял его. Уже маленький Бертольд весь освещен стилистическими контрастами. Маленькому Гогенштауфену шьют костюм, на который пошло зеленое сукно с канцелярского стола; взятое с изнанки, оно весьма приличествует потомку императоров, по мнению опекунов его из Вайблингена. На таких столкновениях стиля и стиля, на игре поэтического и прозаического, на их взаимоотрицаниях строится очень многое в этом громоздком романе — он сначала как бы вздрагивает раз-другой всем своим корпусом, а потом становится раз навсегда неподвижным внутренне. Роман такой протяженности и такой тяжелой оснастки нельзя было держать на мелких комических эпизодах, на мелкой стилистической игре, на постоянно повторяющихся стилистических эффектах. Тему о рыцаре, едва не сделавшем бюргерскую карьеру, вернее мог исчерпать коротко рассказ, однажды и в самом деле написанный Арнимом, — рассказ об основателе династии Капетингов, Гуго Капете, который все-таки избежал профессии мясника, угрожавшей ему когда-то24.
В новом времени Арним только и видит, что узурпации, повсюду творимые бюргером с торговыми его делами и с его прибылями. Он упускает великие народные движения нового времени и упускает его духовные завоевания. Мало того, что Арним отрицал великих художников и поэтов нового времени, он отрицал и его героев. У него свой тяжеловесный вклад в антифаустовскую литературу поздних романтиков — подробно и с преднамеренной грубостью разработанная в его романе тема доктора Фауста. Арним вернул эту тему к состоянию, в каком она находилась еще задолго до Гете. Из народной книги, где не было полного доверия к этому герою, Арним взял и усилил все его порочащее. Он у Арнима ведать не ведает высоты замыслов и чувств. По Арниму, доктор Фауст — гений нового времени, не кто другой, как забияка, алкоголик и бахвал, низкий авантюрист и шарлатан, без малейшего права на ореол и мировую знаменательность. При Фаусте у Арнима, как это и положено, находится Мефистофель. У него отняты и блеск и острота, и дана самая для него невыгодная роль — он влюблен, сверх того неграмотен и просит, чтобы за него написали записку к его даме. Фауст и Мефистофель, ставшие после Гете выражением самых
339
значительных противоречий современной культуры, у Арнима выводятся вовсе за черту ее. Арним смеется над обоими, и более всего над поприщем духовной жизни нового времени, на котором принято было их сталкивать.
В романах Скотта быт подчиняется истории. У Арнима быт разрушает историю; повседневность и ее персонажи несравнимо сильнее исторических событий и лиц. Повесть Арнима от 1812 года о счастливом красильщике и о трех сестрах, влюбленных в него25, полна иронии по поводу внеисторического и его соотносительности с историческим. Рассказана едва ли не сказочная бюргерская карьера — о том, как все богател и богател красильщик, который в лотерее выиграл наивысший выигрыш и был любим тремя сестрами, одна другой прекраснее. Только с большими запозданиями и совсем невзначай сообщается, в каких городах и странах красильщику доводилось жить и действовать, в каком веке и при каких исторических положениях. Создается впечатление, что, например, история Пруссии и прусских королей только тем и важна, что какими-то своими обломками вошла в биографию этого красильщика.
Мы вдруг узнаем, что была Пруссия, что были в Пруссии короли, что был король Фридрих Первый и что тот скончался, — это все не более как комментарий к великому коммерческому успеху красильщика, который снабдил траурный Берлин тюками черного сукна: к его удаче, именно у него вовремя нашлись нужные запасы сукна этого цвета. Новый король Фридрих-Вильгельм вводится в повесть лишь потому, что красильщик стал его фаворитом и стал получать от него крупные заказы. Знаменитая Табачная коллегия упомянута два раза — красильщик был удостоен в ней членствовать. Мировая история и история Пруссии существуют только ради одного бюргера, с этой усмешкой и ведется рассказ. Для бюргерского быта очень опасно это умышленно приданное ему в повести Арнима положение чего-то абсолютного и самодостаточного. С истории государственной и политической будто бы более чем довольно, если она допускается в качестве орнамента в бюргерскую биографию. Есть и другие орнаменты, более обыкновенного порядка. Орнаментом служит анекдот о Каннитферштане, введенный в нидерландские эпизоды жизни красильщика. Наконец, имеющая решающее значение в повести тема трех красавиц сестер, влюбленных в того же красильщика, тоже тема анекдотическая.
340
Большая драма Арнима «Глейхены» (1819)26 строится на легенде-анекдоте о рыцаре, вернувшемся из Святой земли и оказавшемся между двух жен, одной западной и одной восточной, обе с одинаковыми правами на него.
По заслугам известнейшее произведение Арнима — большая повесть его «Изабелла Египетская, первая любовь императора Карла V» (1812)27. Она тоже мозаична, однако связь частей светится в ней вопреки разнохарактерности их. На свой манер и она принадлежит к историческому жанру, в ней впервые тронуты темы поздние, развернувшиеся в «Хранителях короны». И в этой повести Арним ведет борьбу на подступах к новому времени, борьбу с Ренессансом европейским и немецким, и в этой повести уже налицо его вражда к Габсбургам, расцвет которой в «Хранителях короны», нелюбовь к Карлу V и нелюбовь к Максимилиану — обе одного корня.
Сопоставлены юный Карл, еще не получивший даже и испанской короны, проживающий в Гейте, и юная Изабелла, дочь вождя цыганского племени, которого в Генуе недавно повесили. Арним с непривычным для него лиризмом изображает Изабеллу. Как правило, он писал о людях, как мог писать нелюдим, знающий их издалека и посматривающий в их сторону подозрительно. Изабелле Арним сочувствует, она для него хороша своей молодостью, своей открытостью, своей неограниченной преданностью интересам племени, — Арним один из первых в литературе XIX века инициатор темы о цыганском народе, безвинно гонимом, он повествует, сострадая ему. Вероятно, у Арнима нет нежнее страниц, чем посвященные Изабелле Египетской.
Очень широко в повесть вводится фольклор — своеобразный и со своеобразным назначением. Арним обратился на этот раз не к фольклору, замкнувшемуся в своей патриархально-крестьянской среде, но к фольклору, прямо пли косвенно отозвавшемуся на явления новой цивилизации. Можно бы решиться назвать его фольклором антикапиталистическим, ибо именно явления, ведущие к капитализму в нем оцениваются и по сути оценок осуждаются. Предмет осмысления для этого фольклора — деньги, их природа, их роль, их связь с делами людей. В повести Арнима действует некий персонаж, по поводу которого не сразу можно решить, персонаж ли он, или что-либо другое. Это альраун — мандрагора, полурастение, полуживотное, однако же человековидное. По свойствам он почти
341
то же, что разрыв-трава. Безошибочно указывает, где клады, умеет обнаруживать спрятанные деньги, дружба с ним — ключ к богатству. Альраун — собственно финансовая сила, божок денежного накопления. Как и всякий образ-миф, он впитывает в себя всю сферу, которой он покровительствует и которая в нем представлена. В нем та же искусственность, что и в деньгах. Он заводится под виселицей, от семени повешенного (у Арнима более литературный вариант — от слезы), его нужно вырвать с корнем ночью, привязать к нему собаку, которая выдернула бы его, — происходит местное землетрясение, собака убита им, тогда альраун в руках того, кто пришел за ним. Как в деньгах, так и в нем сидит нечто грязное и преступное, недаром, чтобы он появился, нужны ночь, виселица и убийство. Когда он превращается в маленького уродца с замашками человека, то у него все характерные признаки выскочки, неожиданно разбогатевшего проходимца, у него та же спесь и та же наглость, та же низменность вкусов, та же похоть и та же назойливость и требовательность, то же бахвальство. Своими домогательствами любви он донимает бедную Изабеллу, чьими стараниями он вошел в жизнь. Альраун — обобщенные деньги и обобщенный человек, возле денег и ради денег живущий.
Романтики вновь оживили прилежащий к деньгам фольклор. Через Шамиссо и через Тика вспомнили кошелек Фортуната и все с ним связанное. Альраун потянул за собой другую фигуру из денежной мифологии — висельного человечка, spiritus familiaris, который наделен теми же способностями нежданно-негаданно добывать деньги для своего хозяина.
У Арнима мы имеем дело с фольклором в двух его призваниях. Сама Изабелла должна увлекать нас в сторону працивилизации, вести нас к временам простым и первоначальным, к нервозданно-общиниому быту, наивному и невинному, сохранившемуся у цыганского племени, к быту, откуда идет многое в фольклорной песне и сказке. Но фольклор в характере альрауна или spiritus familiaris возник в недрах цивилизации, ее социальных отношений. Фольклор мог возвращать к простому, к тому, что было до сложного, и вместо сложного славить простое и первичное. Плодотворнее было другое применение фольклора у романтиков, когда фольклор вовсе не предлагал себя в качестве убежища от сложностей цивилизации, не пытался занять ее место, но давал средства освоить
342
ее, прочувствовать ее склад и строй. Чем теснить и вытеснять сложное, простое только бросало свой свет на него, в свете простого сложное рассматривалось и познавалось. Пример из той же области народной мифологии денег, у Гриммов в «Немецких сказаниях» можно найти одно весьма замечательное — о родящем пфенниге28. Такой пфенинг, — его подкидывает людям черт, — обладает свойством каждую ночь порождать еще другой такой же. Конечно, перед нами удивительный миф о процентах. Наивный фольклорный образ, через который освоены проценты, дает глубокую характеристику этого явления. Вернее усматривать в процентах чертовщину, чем признавать их чем-то законным и естественным, как это делает всякий бюргер. В фольклоре проценты вызывают недоумение, и именно это и важно. С фольклорной точки зрения деньги должны и могут порождаться человеческим трудом, их зарабатывают и их выслуживают. Если деньги порождаются деньгами — то закон природы обойден и нарушен. Фольклор справедливо понимает деньги и их движение как иррациональную стихию. У тех же Гриммов в главке об альрауне говорится, что если этому уродцу на ночь подложить деньги, то к утру деньги удваиваются29. Конечно, и в альрауне, божке денежного богатства, сидит нечистая сила, эта его черта ни в фольклоре, ни в повести Арнима не забывается. Деньги — игра сомнительных сил, от управления человеком ускользающих.
Другой мифический, фольклорный персонаж в повести Арнима — это голем, глиняная кукла, из которой сотворен двойник Изабеллы, своим сходством сбивающий с толку обоих претендентов на любовь ее, — и юного Карла, и альрауна. Голем взят из еврейской легенды, пересказанной Якобом Гриммом в «Газете для отшельников»30. У поздних романтиков не случайный интерес к еврейскому фольклору, сложившемуся в закоулках средневековых городов на переходе их к новому времени. Арним, Шамиссо, Брентано здесь находили тот фольклор цивилизации, который был им нужен. Голем — искусственный человек, сделанная женщина, механическая Ева, всякому послушная и всякому доступная, абстракция пола и больше ничего. Для Карла и для альрауна она оказывается лучше живой Изабеллы и превосходно вытесняет Изабеллу. Есть внутренняя связь между големом и таким явлением, как альраун. Голем — героиня безличных отношений, голем — это смерть индивидуальности, заменимость
343
одного человека другим, полное безразличие к нему как к цельному существу, спрос на какие-то лишь отдельные его свойства. Голем — человек с точки зрения рынка, человек на продажу, поэтому голем и состоит в дружеской перекличке с альрауном, духовно возглавляющим рынки. Арним впервые создает в романтизме тему двойника, вскоре получившую широкое распространение через Э.-Т.-А. Гофмана. Но Арним намеренно груб и материален, он ближе других романтиков придвинут к интересам пола, кухни, жилища, имущества; в повести очень много пестрого сора фламандской школы, ибо школа эта поддерживает местный колорит в данном случае — для примера ссылаюсь на описание комнат госпожи Ниткен со всем хламом, который там содержится. Двойник у Арнима — двойник женского тела. У Гофмана двойники интеллектуальнее, одухотвореннее. У Гофмана двойник возникает ради психологических ролей, у Арнима — ради физиологических. Для ясности стоит сравнить голема с Коппелией в новелле Гофмана: тут при очень близком сходстве видна вся разность между одним романтиком и другим. Арним — тот парадоксальный романтик, у которого связь с художественным реализмом идет через реализм вульгарный, через густой — густейший — жанризм, через воровской роман и фламандцев.
Арним шаг за шагом описывает, как Изабелла своему альрауну придавала образ человеческий, как было засеяно просо на его голове — волосы, как вместо глаз были вставлены можжевеловые зернышки. Затем мы читаем, как был приготовлен голем, как он делался из глины. В обоих случаях — и с альрауном и с големом — нам дается пародия на художественное мастерство, на границе двух царств природы, где-то между флорой и фауной смастерили урода альрауна, а глиняный, чересчур натуральный голем сверх всего прочего, что вложено в него, еще и насмешка по поводу пластического идеала античности и Возрождения. В подстрочном примечании к своей повести Арним делает выпад против энтузиастов античности31. Они только притворяются, будто древние изваяния что-то говорят им, на деле античный бог в мраморе для них тот же голем, безгласный идол.
Эрцгерцог Карл, будущий Карл V, дружит с альрауном и едва замечает, что прекрасную, любящую Изабеллу подменила глиняная баба. Он растет на фальшивых ценностях, уже заранее закупленный альрауном, мелким
344
бесом финансов и финансовых операций. С этим Габсбургом, ставленником банкирского дома Фуггеров на престол Священной Римской империи, у Арнима велись счеты и в других произведениях. В посмертной новелле «Пфальцграф» Арним выводит Карла как искусного обманщика, политика без совести, который из политических расчетов губит пфальцграфа, его романтическую любовь. В повести об Изабелле Карл только начинает свой путь правителя соответственно потребностям нового времени, его лжи и его жестокости. Изабелла с ее героизмом, с ее преданностью цыганскому племени, с ее способностью забывать самое себя и идти на жертвы изображается в повести как бы в укор эрцгерцогу — эгоистичному, легкомысленному, легко прибегающему к обманам и так же беззаботно позволяющему, чтобы обманывали его самого. Изабелла была на одном-единственном свидании с эрцгерцогом; влюбленная в него, она не ищет ничего, не требует, счастливая тем, что от эрцгерцога у нее родится ребенок, и так она даст вождя египетскому народу. Эрцгерцог, нуждающийся в деньгах, в сущности продал Изабеллу альрауну, и из этого ничего не вышло, так как она-то сама не продалась. Изабелла — благородно-архаична у Арнима, в эрцгерцоге — великие изъяны и пороки человека новых веков Европы.
Шестнадцатое столетие превратилось в главную историческую тему поздней немецкой романтики. Сам Арним после «Изабеллы» постоянно возвращался ко времени Реформации и крестьянских войн. Клейст из этого времени взял «Кольхааса», Захария Вернер — «Лютера». Европейская романтика в каждой стране нашла для себя аналогичную тему — как немцы разрабатывали эпоху Лютера и Мюнстера, так французы эпоху гугенотских войн, Ришелье и Фронды, В. Скотт в Англии — время Кромвеля, а русская литература — Смуту. Всюду возникали родственные интересы, писатели в произведениях своих спрашивали, откуда и как пошло современное общество, из какого разложения сил, из какого нестроения явилось его строение. Арним как исторический повествователь писал о XVI столетии, а ориентация его — в традициях литературы на столетие позже, он смотрел на шестнадцатое столетие глазами семнадцатого, сквозь манеру и стиль восемнадцатого. В «Изабелле» множество отзвуков Гриммельегаузена32. Из этого автора и тема медвежьей шкуры, и тема альрауна, и spiritus familiaris — чуть ли не вся
345
фольклорная оркестровка повести. Да и весь зловещий колорит Арнима, преувеличенная материальность стиля, парадоксальный для романтика экономизм, — все это отражение Гриммельсгаузена, несомненно, впечатлившего Арнима и своим большим романом и побочными опытами. Арним был активным читателем и «Симплициссимуса» и «Симплициссианы». Влечение к Гриммельсгаузену пополняется влечением к испанскому плутовскому роману, такая фигура в повести Арнима, как старая сводница Брака и все к ней тяготеющее, несомненно, явились к Арниму из novella picaresca. Нужно заприметить это несомненное тяготение Арнима к литературе барокко. Ведь на драме Гриффиуса «Карденио и Целинда» он построил свою собственную. С этим связаны в одно барочные симпатии и других романтиков — культ Кальдерона, едва не вытеснивший культ шекспировский. Разными своими проявлениями барокко присутствует и у Брентано, у Захарии Вернера, у Клейста, у Гофмана. Особо важно, что тип фольклора, к которому неравнодушны поздние романтики и который я назвал бы фольклором цивилизации, по своему художественному происхождению есть фольклор барокко, и особенно богат этот фольклор у барочного (или полубарочного) Гриммельсгаузена.
Поздний романтизм был временем кризисов, аварийи катастроф. Искали спасений и выходов. Речь шла не об одном-единственном выходе, к которому бросились все, как это нередко изображают историки литературы, исходящие сами того не ведая из концепции «герой и толпа»: есть толпа, есть герой, который указывает, куда идти, и все движутся, как тот велел. Факты не подтверждают этой теории одного человека и одного выхода. На деле выхода ищут многие, ищут все, есть много людей, и есть много выходов, очень разных. Совсем иное дело, кто окажется прав и найдет выход настоящий. Поздние романтики считали неоправданной ориентацию на Ренессанс, на которую положилось старшее поколение. Выхода искали за его линией: одни — в культуре до Ренессанса, средневековой, архаической, другие — в культуре ренессансной, в искусстве барокко. И то, и другое было отступлением, ибо отходили от Ренессанса, от самой высшей точки европейской культуры, изменяли ей. Но барокко было отступлением по хронологии в будущее время, люди барокко сами пережили Ренессанс и нечто от него сохранили. Средневековье же и всякая иная ар-
346
хаика, разумеется, в общении с Ренессансом не состояли и состоять не могли. Однако же нельзя забывать, что, питаясь культурой нового времени через барокко, романтики оставляли в стороне ratio этой культуры, ее рациональную науку, философию и искусство, иными словами — […] ее, а из барокко к ним шло ее безумие, вульгарная, нарочитая материальность, нарочитая нестройность и запутанность.
Поздняя новелла Арнима «Наследники» или «Хозяева майората» («Die Majoratsherren», 1820), одно из самых выразительных его произведений, посвящена современности и свидетельствует, как понимал ее Арним. Новелла начинается с сожалений по поводу того, какой однообразной стала жизнь после Французской революции, и описывает, однако, из каких уродств состоит этот сохранившийся старый многоцветный и многоликий быт. Арним весь в предчувствиях художественных стилей нашего столетия. В нем, быть может, еще сильнее, чем натурализм, сказываются некий экспрессионизм или сюрреализм в их недавних для нас формулах. Французские писатели-сюрреалисты числили Арнима своим предшественником. В их рекомендательном списке значилось: читать — Арнима и не читать — Гофмана33. Андре Бретонп в предисловии к французскому переводу Арнима писал весьма точно, что этот автор умеет давать жизнь неодушевленному и лишать жизни создания, о которых мы наверное знаем, что и в их жилах обращается живая кровь34.
Генрих Гейне, разумеется, не прибегая к этому термину, очень хорошо чувствовал экспрессионизм, свойственный Арниму. Для образца, кто такой Арним, он цитирует из Арнима эпизоды совершенно экспрессионистические. Например, сцены из драмы Арнима «Глухарь» («Der Auerhahn»): бастард умершего ландграфа сидит в пустом зале старого замка, зевая, беседует с самим собой и жалуется, что ноги его под столом все становятся длиннее и что холодный утренний ветер посвистывает у него зубах35. Ноги, которые растут, удлиняются от скуки, — чистейший экспрессионизм. Внутреннее целиком входит во внешнее, целиком с избытком, с излишествами, гиперболически уподобляя его себе. Уж речи нет о зрелости явления. Перед нами дальнейшее его состояние — перезрелость, никакие оболочки больше не в силах облекать его, оно выбилось из оболочек, те уже его не держат и не содержат, оно обходится без таковых. Живое развитие
347
кончилось, оно целиком отошло в прошлое, все превратилось в содержание, или же, если угодно, превратилось в форму, различие между содержанием и формой утрачено во всем, по всем признакам это близость последнего краха и смерти. Арним прибегает к языку экспрессионизма, ибо хочет передать омертвение старой Германии накануне ее полной гибели. Главное лицо в новелле Арнима — последний из владельцев майората, очень странный молодой человек, притихший, задумчивый, склонный к духовидчеству. У него есть не сразу уясняемая привлекательность, и все же он по облику своему дегенеративен, вызывает жалость, но вызывает и смех. Наследник появляется в этом старом, заброшенном городишке и вместо того, чтобы жить в богатом своем майоратном доме, снимает помещение с окнами в гетто. Тут заброшенность окончательная, тут всегда сумрачно, но это ему по нраву. Старый город описан глазами этого человека, по природе сюрреалиста. Он говорит, что у служанки он видел нимб — подразумевается белый платок, которым та повязалась. У старой, сварливой еврейки-лавочницы черный ворон на голове, как он убеждает себя. Нельзя понять, кто эти неприглядные люди и почему к ним бросились, цепляясь за полы их сюртуков, чьи-то души, не успокоенные даже в могиле. Разъяснение по поводу этих существ, живых и неживых: одни из них — судейское сословие, писцы, советники, калькуляторы, другие — их несчастные клиенты, процессы которых были затеяны еще при их жизни и все еще продолжаются, они молят и упрашивают этих вершителей справедливости. В эпизоде обыкновенного суда, превращенного в подобие Страшного, у Арнима содержится некоторое предвосхищение Кафки. Или еще одно видение молодого владельца майората: коляска, на козлах восседает смерть, лошади — нужда и голод, коляску окружают бедняги-калеки, они требуют от свирепой личности, что сидит в коляске, чтобы он им возврати отрезанные руки и ноги. Разгадка здесь такая: в коляске разъезжает городской хирург, у которого и на самом деле кучер отощал и лошади загнаны, а бегущие за ним, молящие и требующие — это воробьи, это разлаявшиеся у могилы собаки. Для героя рассказа со всех явлений сняты чехлы, они оголены до самой сути своей — суть судебного ведомства, суть хирургии. Снятие покровов указывает, что жизнь находится при конце. Суть осталась сама по себе, она стала беззащитной, ничто ее не
348
укрывает, питание извне больше не поступает к ней. Все вещи, так сказать, исполнились, все они в этом старом городе дошли до своих посмертных итогов, числясь еще живыми. Выражаемое поглощено выражением, лица исчезли за физиономиями и всем физиономическим. В этом и состоит метод экспрессионизма.
Герой рассказа спит днем и бодрствует по ночам, что ему не препятствует вести дневник. В дневнике своем он пишет ночью хронику дня, которому не был свидететелем. Рядом с гетто кладбище, на котором ночью пасется огромный бык и прыгают два козла; эти животные — первенцы, по ритуалу их нельзя ни убивать, ни применять их к какому-нибудь делу, их положено богато кормить, и они ужасают самих себя и всех вокруг своею праздностью. Неосмысленно живые бык и козлы на их ночном пастбище, кажутся картиной экспрессиониста.
Еще живописный экспрессионизм: узенькая улица в гетто, деревянные дома, как картонные, а люди, подобно детским игрушкам, висят на нитях и шевелятся по велению оборотов солнца.
Герой Арнима по ночам из своего окна наблюдает, что творится в окне напротив, где живет прекрасная Эсфирь, существо не менее странное, чем он сам. Отец ее, богатый коммерсант, скончался, он ее хорошо воспитал, она изучила европейские языки, и вот по ночам у себя в комнате она разыгрывает фантастическую пантомиму: устраивает светский прием с чаепитием для знатных иностранцев, с каждым из них она беседует в своем воображаемом салоне на его родном языке. Господин из майората, подглядывая эти сцены, происходящие у соседки, собственно вступает в чужие сны, — ему снятся сны Эсфири, как если бы это были его собственные, совершается общение между снами одного и снами другого. Он смотрит, как Эсфирь ведет свой званый вечер: она приветствует англичанина, который пришел первым, — она приветствует на англпйском «первое ничто» («das erste Nichts»), вошедшее ее комнату, сказано в тексте. В этом салоне-галющинации, где хозяйкой Эсфирь, заговорили о самом соглядатае, ждут, что он явится. И герою рассказа, стоящему у окна, становится не по себе: не войдет ли он туда, в чужой сон, в самом деле, это было бы, как если бы перчатка, вторую мы стягиваем с руки, сама собою вывернулась на изнанку. К успокоению своему он никого не узрел на стуле, который Эсфирь в своем сне ему, вошедшему,
349
предложила. Эпизод со снами страшен. Его основа страшна — исчезновение внешнего мира. Но такова логика экспрессионизма — внешний мир в экспрессионизме весь подается и истаивает, в снах майоратного господина это доводится до конца, внешний мир, собственно говоря, отменяется.
После странного владельца-визионера майорат переходит к другому члену рода, старикашке военному, очень потрепанному нищенской жизнью и едва дождавшемуся наследства. Но фантастика в майорате и вокруг майората продолжается. Новый хозяин женится наконец на одной престарелой даме, в которую всю жизнь был влюблен. Когда-то в юности он убил на дуэли своего соперника, любовника этой дамы, и сейчас, через многие годы, дама мстит ему. Новобрачные поселяются в доме майората. Новая хозяйка заполняет все лучшие комнаты особняка собаками разных пород, а хозяину велит занять чердачное помещение. Для собак и кошек устраиваются парадные обеды, их усаживают за богатым обеденным столом, они едят на серебре, а сам генерал — он ко времени своего вступления в майорат получил чин генерала — стоит за стулом собаки, фаворита генеральши, с салфеткой под мышкой.
Умирают, однако, и эти последние хозяева майората, собакодержатели и собаколюбы. Дальнейшая судьба майората: его покупают под аммиачную фабрику. Конечно, такая фабрика — горькая и постыдная развязка для истории старого дворянского владения. Но Арним на всем протяжении своего рассказа ничем не мог ее обезвредить. Его дворяне, их быт и нравы, их окружение уже давно стали сплошным пустырем, дегенерация и гибель наступили прежде самой гибели.
Романтизма, идущего навстречу стихиям нового времени, Арним чуждался, хотя и не враждовал с ним. Романтизм архаических форм жизни — патриархальных, феодальных — в конце концов подвигал его на одни памфлеты.
Клеменс Брентано (1778—1842) — самое высокое дарование в кругу романтиков Гейдельберга, один из лучших лирических поэтов Германии, в иных отношениях опасный соперник для поэзии Генриха Гейне, стихи которого по ритмике, стилистике, интонациям то и дело совпадают со стихами Брентано, и эта близость между Гейне и Брентано особо знаменательна, когда стихи Брентано, по условиям их опубликования, заведомо не могли быть известны его младшему современнику. Гейне как бы следовал направлению стиха Брентано и поэтому мог оставаться верным ему и действуя вполне самостоятельно.
До некоторых пор друг и литературный сподвижник Арнима, Брентано все же был явлением совсем иного порядка. Как и другие деятели гейдельбергской школы, он тоже разуверился в своей современности. Но в отличие от Арнима, например, у него был и свой период веры. Современность была им богато и бурно пережита. Арним отрицал пережитое другими, Брентано — пережитое им самим. Сын богатого купца-итальянца, он через мать свою Максимилиану был связан с литературной средой: бабушка с материнской стороны, Софи фон Ла Рош, имела известность как писательница, сама мать по Франкфурту, ее городу, дружила с юным Гете и слегка отмечена на страницах «Вертера». Гете по давним воспоминаниям всегда благоволил к детям Максимилианы — к Клеменсу и сестре его Беттине. Семья Брентано отличалась артистичностью. Сочиняя, музицируя, Клеменс и Беттина как бы выполняли общесемейное дело, — с большим, впрочем, успехом, чем другие члены семейства.
В Брентано очень рано обозначился человек без места, без оседлости в современном обществе. Он учился то здесь, то там, ему скучны были все специальности и все профессии. Общие убеждения его постоянно шатались, поэтому он в надежде найти для себя что-либо бросался от одной науки к другой, от частностей к частностям. Не была сильна общая идея, которая могла бы снизойти на те или иные его частные занятия, и он не переставал менять их направление и предмет, чересчур подробный их
351
характер утомлял его. В 1797 году Брентано в Галле пытался изучать горное дело и экономические науки. В том же году в Фрейберге сходным штудиям предавался Новалис, которым управляла осеняющая подробности этих наук космическая идея, мысль о великом хозяйственном преобразовании нашей планеты. Брентано тоже прикоснулся к энтузиазму грандиозного, но менее, чем поколение Новалиса, был способен надолго поддерживать его в себе. Брентано так и не закончил своего образования, переезжая из университета в университет. Ои нашел себя в коллекционерстве старинных и редких книг, составив себе из них замечательную библиотеку, в собирательстве фольклора вклад его в сборник «Волшебного рога» был велик. Коллекционерство — деятельность с расчетом на негаданные счастье и удачу. Оно более подобало Клеменсу Брентано, чем какая-либо другая более суровая и требовательная к себе работа. Как фольклорист Брентано ничем себя не стеснял, стилизовал, как ему нравилось, записанные тексты, делая их более архаичными, чем какими заставал их на деле, из-за чего ссорился с Арнимом — тот стоял за бо́льшую точность. Архаичность его тешила, так как усиливала в текстах колорит редкостного и драгоценного.
Годы 1798—1799 Брентано провел в Иенском университете. В иенские годы он вошел в общение со старшими романтиками: Фр. Шлегель, Тик, Доротея, Каролина. На них неприятно действовал гиперболизм, с которым юный Брентано усваивал их убеждения, они сторонились его, угадывая в нем человека, верного ненадолго. В Иене начался роман Клеменса с Софи Меро, поэтессой, женой одного из профессоров Иены. После ее развода Брентано женился на ней. По призванию своему Брентано был романтический донжуан. Женская любовь — тот интерес, которым он был постоянно занят. Женщины менялись, но влюблен он был всегда. Романтический донжуан в лице Клеменса Брентано имел свои отличия от Дон Жуана классического: без дерзости, без вызова, в любви не столько повелитель, сколько проситель, реже всего обидчик, чаще — обиженный. Дон Жуан у Тирсо, у Мольера, у Моцарта был драматической фигурой. Брентано по природе был чистейший лирик, к несчастью своему осужденный на драматические положения. Это относится и к его автобиографической теме в поэзии, к условным персонажам, которых он время от времени создавал.
352
Ранний период литературной деятельности Брентано — в книге, по смерти его изданной сестрой Беттиной: «Весенний венок Клеменса Брентано, сплетенный из писем юности, как он сам того пожелал» (1844)1. Это переписка брата и сестры, составленная так, чтобы получилась цельная книга с единым общим впечатлением, — роман из действительно написанных писем. Беттина приводит точные тексты, дозволяет себе лишь перестановку дат, чтобы устранить налет случайности в последовательности писем. Исследования нашего века оправдали Беттину как автора документальных книг. У современников своих она имела дурную славу. Гельмина Шези говорила о ней так: «Беттина не всегда лжет», и это был отзыв в высшей степени либеральный. Гейне говорил как о великом признаке времени: «Правду пишет Беттина», и стихотворение с этой строкой называлось «Мир наизнанку», с бурной для Германии датой — 1844 год. Сейчас старая репутация Беттины полностью переоценена. Современный издатель «Весеннего венка» проверил материалы, которыми пользовалась она, и пришел к выводу: «В этих письмах перед нами и на самом деле Клеменс, а не Беттина»2.
В переписке «Весеннего венка» Беттина и Клеменс единомышленники, они живут одной жизнью на двоих. Позднее они разошлись: Беттина сохранила верования юности, Клеменс от них отрекся. Письма «Весеннего венка» обнимают период 1801—1803 годов, к началу переписки Клеменсу было двадцать два, Беттине шестнадцать. Преимущество возраста побуждало Клеменса обращаться к Беттине в учительской манере, и, кажется, это единственный случай, когда Клеменс допустил себя высказываться дидактически. Впрочем, он с трудом сохраняет в этой переписке свой престиж, настолько бодро и уверенно отвечает ему каждый раз Беттина. Клеменс отягощен романтической философией, желая что-либо высказать, он возится с терминами и понятиями Шеллинга, Шлейрмахера, старшего Шлегеля, а Беттина говорит прямо от жизненного опыта, реальными, простыми словами, и уже давно находится возле самой вещи, когда Клеменс все еще издали только держит путь к ней.
«Весенний венок» — по-настоящему молодое сочинение, необычайно светлое и праздничное. Надо всеми настроениями Клеменса и Беттины стоят Французская революция и иенский романтизм. «Весенний венок» — это прямое указание, насколько связаны друг с другом ранний
353
романтизм и Французская революция. Письма Клеменса и Беттины пересыпаны отсылками к революции, к деятелям ее, рассуждениями о ней. Беттина у себя во Франкфурте наблюдает французских эмигрантов-аристократов и посмеивается по поводу этих людей. Она окружена революционными памфлетами, увлечена личностью Мирабо; конечно, ей безразлична его особая тенденция, он велик для нее как некий новый в истории тип человека, как знаменосец всеобщего восстания, без разбора, какие особые оттенки у знамени, носимого им. Обычно Клеменс вторит Беттине и старается обосновать вещи, к которым ее несет стихия.
Оба они, Клеменс и Беттина, в переписке этой похожи на двоих детей, хорошо и весело проснувшихся на новом и веселом месте. Жизнь чудесна с самого раннего часа, а что же дальше будет, если столь многое дано уже в начале дня. Оба они твердят об одном и том же: человеку позволено наконец быть самим собой. Все ему принадлежит, всюду он званый и желанный, его одолевают и волнуют возможности собственные, потом возможности других, потом возможности вещей вокруг. Беттина пишет, что важно для нее одно-единственное: осуществить самое себя, «прорваться», как выражается она3. Нельзя дозволять вещам оставаться для нас закрытыми. Необходимо постоянное «наше присутствие у очага жизни», как это называет Беттина4. Всё мы должны освоить. Нужна величайшая автономия, и уже в собственном внутреннем опыте мы можем идти и не идти от самих себя. Принятые нами решения, говорит Беттина, пусть возникают «как электричество»5, без подсказов извне и с той же силой внутреннего наития.
Клеменс тоже пишет Беттине о полноте жизни, перед ним лежащей. Есть разные способы познать ее. Надо различать между извне преподанным — «Kenntnis», и изнутри постигнутым — «Erkenntnis». В одном случае получился сбор сведений, в другом заложена будет основа для живописи или музыки6.
У Беттины и Клеменса происходит как бы роман с самой жизнью. Беттина хотела бы перечувствовать каждого человека, через себя узнать, каково ему, порадоваться вместе с ним его радостью. У соседки, простой женщины, она выхватывает метелку и вместо нее метет улицу, потом наносит ей визиты и вникает в ее дела. Клеменс считает эти визиты излишними и делает по поводу них замечания
354
Беттине. Садовник несет лейку, Беттина бросается к нему, чтобы напиться прямо из лейки, не дает ему времени сходить за стаканом, она пьет, как цветы пьют, ей хочется минуту-другую пожить от их имени и их способом.
По выводам Клеменса, до революции не было никакой истории, не было богатства жизни, отсутствовали «мировые понятия», вместе с революцией «зажигалась настоящая жизнь» в народах и в отношениях общества открылось «самодеятельное своеобразие»7.
Замечательно, что собственное свое душевное состояние Брентано выражает всего полнее в народнопесенных стихах, которые он шлет Беттине из своего путешествия по Рейну. На Рейне Брентано находится осенью 1800 года вместе с Савиньи, в будущем — знаменитым юристом, и вместе с Арнимом в 1802 году; оба стали потом его зятьями, один — через сестру Кунигунду, другой — через Беттину. Путешествия эти соединили Брентано с простой Германией сел и городов. Левый берег Рейна с приходом войск Французской революции только что избавился от крепостного режима, от феодальных зависимостей. Население впервые вкушало от этой новой для него свободы. Путешествие по Рейну тех лет навсегда осталось для Брентано прекраснейшим воспоминанием. Он прижился к тамошним людям, к их песням; из народного веселья, из праздничной настроенности их Рейна он заимствует вдохновение для собственной лирики. Свободу личной жизни он тогда переживает не в ограниченно-бюргерском смысле, а широко, великодушно, заодно с остальными освобожденными, в тесном сообществе с ними. Брентано сам в ту пору мог сойти за народного песельника, бродящего «с гитарой и синим цветком». Стихотворения Брентано, вставленные в книгу «Весеннего венка», попадают в живой, живейший, широкий и уверенно звучащий контекст исторической эпохи, в них и голос поэта, и все побуждения к песне, и все отклики ей. Беттина сделала очень доброе дело, публикуя раннюю лирику брата вместе со всем ее биографическим и эпохальным контекстом. Песня и контекст насущно были нужны друг другу. Удерживая соотношение и связь их, каждая из сторон удваивала собственную силу. Воссоздавалась атмосфера счастья, признания и сочувствия, окружавшая поэта и его песню, — счастья, в дальнейшем с трагической быстротой шедшего на убыль в поэзии Брентано.
355
Роман «Годви» (1801—1802) — начало всех трудностей и коллизий во внутренней истории Брентано, свидетельство того, что и в период юношеских писем к Беттине была своя неосвещенная сторона, и во всей болезненности своей попадающая, хотя и далеко не сразу, под полное и беспощадное освещение в этом романе — «одичавшем романе», как назван он в подзаголовке8.
Годви — сын англичанина-коммерсанта где-то в Западной Германии, роман строится как биография Годви. Он вступает в жизнь, кочует, знакомится с людьми, захваченный всем многообразием, всей прелестью мира, перед ним лежащего. Весь роман пронизан лирическими стихами, первоначальная тональность которых — восторг перед бытием, каким оно открывается автору, его герою, современникам их. Францу Штернбальду в романе Людвига Тика снится сон, будто он рисует картину, рисует набожного анахорета, лес вокруг, лунный свет, и каким-то непостижимым способом в его картину врисовано соловьиное пение, музыка — это и есть внутреннее завершение ландшафта, его живой смысл. У Брентано времен «Годви» есть стихи, в этом отношении программные:
Durch die Nacht, die mich
umfangen,
Blickt zu mir der Töne Licht9.
(«Сквозь ночь, меня обступившую, глядит на меня свет звуков»). Светящие звуки, звучащий свет, — по поводу этих у романтиков излюбленных образов всегда писалось, что в них даны примеры синкретизма восприятия. Определение не слишком точное, ибо для синкретизма безразлично, что с чем смешивается, а для романтиков не все восприятия имеют ту же цену. «Der Töne Licht» здесь не грамматически, а по содержанию главное слово — Töne, звуки, так как звуки для романтиков более глубокое свидетельство, поступающее из природы вещей, более близкое к существу их существа.
Четыре стихотворных строки на первых страницах «Годви» служат лирическим предварением ко всему роману, в них кратко изложен его музыкально-философский смысл:
So weit als die Welt,
So mächtig der Sinn,
So viel Fremde er
umfangen hält,
So viel Heimat ist ihm Gewinn10.
356
(«Мир широк, но сколько простора у мира, столько же могущества у чувства. Сколько чуждости может вместить чувство, столь же далеко раздвинуты для него границы мира, родного, родственного ему»). Весь мир, как он есть, может стать для Брентано и для героя Брентано родиной, пройти все вещи своей лирической эмоцией, соединить их внутреннюю жизнь со своей собственной — это и значит узнать родное там, где раньше были чужбина и отчужденность.
Ich will kein Einzelner
mehr sein,
Ich bin der Welt, die Welt ist mein11.
(«Я больше не хочу отдельной жизни, я принадлежу миру, и мир принадлежит мне».)
Во всем и всюду для Брентано важна соотнесенность с музыкой. Годви понятиями музыки и поэтики прокламирует в романе этику, приемлемую для него, отрицает «метрическую жизнь»12, в которой слишком много правильного метра и отсутствует свободный ритм, сам Годви намерен жить импровизируя13.
Фигуры всех персонажей в романе как бы тронуты музыкальным мазком. Далеко не безразличны их имена, притом это не изобразительные, морально-характерные имена в произведениях XIII века, но имена, важные своим звучанием, странным или всего только странноватым, и все же по-особому задевающим слух: Аннонциата, Модуно, Вальпургис. Брентано настраивал на своих персонажей, как на некие звучащие тела, как на носителей лирических свойств и качеств по преимуществу.
Замечательны по своему лирическому строю сами эти стихотворения, вставленные в роман. В них уже полностью сказывается характернейшая для поэзии Брентано склонность к повышенной, большей, чем обычная, звучности, к сгущенным звуковым повторам, к внутренним рифмам, к рефренам, порою очень удлиненным, заглушающим те более скромные по звуковому своему содержанию строфы, которым они служат сопровождением. Романтики необычайно смелы в сближениях слов по их звучанию. Надо думать, фонетический строй стиха у романтиков имел свои глубокие предпосылки в романтическом миропонимании и в романтической культуре. Романтическая мысль — это порыв и диалектика, жажда открывать единства там, где прежде усматривались только различия, уменье девать ослепительные прыжки через непроходимые рвы,
357
отделявшие явление от явления. Романтическую фонетику нужно сопоставить с романтическими тропами, с метафорой в особенности. Метафора не признает межевых знаков, в метафорическом слове соединяется несоединимое. То же в звуковом строе стиха. Здесь совершаются удивительные, удивляющие переходы, перекликаются по звукам слова, по значению своему лежащие за тридевять земель друг от друга. Романтики любят каламбуры, и нередко в стихах происходят почти каламбурные сопоставления слов. У Брентано в слово вторгается другое слово, рядом с ним очутившееся в стихе, и по звукам это другое почти полностью повторяет звуковой состав соседствующего, теперь уже почти ничем от него не отделенного. Слова в языке отграничены друг от друга по смыслу, по лексическому понятию. Так как романтической поэзии предшествует разрушение твердых границ между вещами, между понятиями, между значениями слов, то по звукам слова могут сближаться без каких-либо препятствий и помех, выдвигаемых изнутри. У Брентано далекие друг другу слова в стихе непрерывно перезваниваются. Эта сближенность того, что до него по стилю и по звуку никакой взаимной близости не допускало.
В романе «Годви» весьма приметна дата его написания. Ощутимы влияния, идущие из Франции, быт и нравы, вкусы Термидора. Влияния эти могут быть установлены в биографии самого Брентано, в среде, его окружавшей. Так его возлюбленная, а потом и жена Софи Меро, по известному нам о ней, была маленькой зарейнской сестрицей женщин Директории. Конечно, новейшая французская мораль угадывается, а по временам и совершенно очевидна из страниц романа Брентано. Годви посещает города и поместья Западной Германии, куда уже пробралась французская анархия нравов и успела сделаться отчасти своим местным явлением. Бальзак писал об этом состоянии умов и душ, изображенном в «Годви», называя его «сатурналиями»: «Сатурналии 1793—1798 годов, отблеск которых освещал деревни, лишенные священников, богослужения, храма, обрядов, когда брак был узаконенным спариванием и революционные максимы оставили глубокий отпечаток»14.
«Сатурналии» увлекли Брентано и романтиков своими разрушительными действиями. Против семьи и брака, состоящих под опекой полицейского государства, Годви произносит гневные речи. Это и есть та «метрическая жизнь»,
358
извне принесенными правилами выведенная и правилам этим подчиненная, что ненавистна ему. Само государство старого режима трактуется в романе с небывалой дерзостью. Легконравная графиня, один из главных персонажей романа, у себя в поместье ставит памятник жокею, своему любовнику, с надписью «Фридриху Единственному» — так в Пруссии подданные именовали своего знаменитого короля, Фридриха Второго. В романе Брентано — не упущу отметить это — есть еще и другие эпизоды злой сатиры на Пруссию. Сатира приурочена к молодому барону Иосту фон Эйхенвейну — Иост восхищается Берлином, где «солдаты прямые, как свечи», сам он полон солдатского духа, но не враг просвещения и прочих полезных вещей: романтики в полемике своей не всегда отделяют просвещение от пруссачества. Вражда к пруссачеству начинается с Августа Шлегеля и идет к Клеменсу Брентано, Гейне ее наследует от романтиков. Прусские симпатии Клейста и Арнима в романтике были исключением и решительно не встраивались в свойственный ей строй чувств и понятий.
«Сатурналии», обуявшие также и левый берег Рейна, зашли дальше всех осмысленных и оправданных целей. Они стали одна за другой сокрушать также положительные ценности, подорвали после официальных брака и семьи также и любовь как таковую, личные чувства, личные отношения, наконец и самую человеческую личность. В термидорианских нравах проявила себя во всей своей необузданности и откровенности буржуазная нравственность как она есть, в эксцессах открылось, что доподлинно содержится в норме. Свобода любви, за которой погнались и Брентано и ставленник его в романе Годви, вскоре обнаружилась для обоих как свобода от любви, от всякого духовного и личного содержания в ней. Профанация и проституирование любви — вот что наблюдает Годви в своих скитаниях, да и сам он грешен тем же. Годви переходит от женщины к женщине, от дерзкой Молли к тихой Иодуно, от этой — к тоже тихой Оттиллии и, наконец, к той самой графине, что так ценила своего жокея. Она разъезжает в мужском платье, и в любовных похождениях она храбрее других героинь романа, даже самых вольных. Донжуанский энтузиазм, однако же, в нем недолговечен, им овладевает скука, «нагота духа», натурализм любви больше не тешит его. Он бросился в дела любви, чтобы спастись от настоящих деловых дел, от це-
359
ховщины, от обезличения, которым они грозят. Оказалось, что личная жизнь, как этому он сам язвительный пример, тоже способна превратиться в специальность, донжуанство — в особый цех, а эрос — та же сделка, что и всякая другая, договор двух свободных лиц, на время по-особому заинтересованных друг в друге. Недаром уже в «Годви» намечается тема, впоследствии чрезвычайно беспокоившая Брентано, — тема домов любви и продажи любви. Он, кажется, первый из поэтов XIX века обратился к ней.
Во второй части романа Годви скучающий и злой, черна судьба
и других персонажей. Если пользоваться формулами Новалиса, то в первой части
«Ожидание», во второй — «Исполнение». Один из заметных персонажей романа, поэт
360
прибегал, и очень часто, также Людвиг Тик. Но его фабулы сделаны «легкими чертами», и когда ирония разрушала их, то никто не страдал, никому не было обидно. В романе Брентано иначе, в нем много страсти и крови, и когда к делу приступает романтическая ирония, то она режет по живому15.
Романтическая ирония — первая ступень в отрицании автором всего массива жизненных реальностей, вошедших в его роман. Есть еще другая ступень, более высокая. Распадается связь между реальностями жизни, огрубевшими, очерствевшими, и всей лирической стихией романа. Слабеет соотнесенность песен и их контекста, и наконец контекст вовсе потерян ими. В этом отражается критическое состояние романтизма и поэзии, они теряют почву в реальностях времени, становятся бездомны и гонимы. Массовая действительность не способна более порождать романтику и становится непроницаема для нее.
Уже в романе «Годви» присутствуют литературные тенденции, в дальнейшем фатальные для Брентано. Арним предвосхитил экспрессионизм прежде экспрессионизма. Точно так же Брентано предвосхитил эстетизм раньше эстетизма в его характерных для конца XIX, для начала XX века формах. Впрочем, уже у Брентано эстетизму свойственно нечто экстремистское и агрессивное. В развязку романтического движения всех стран эстетизм входил как один из мотивов упадка. Принято указывать на Китса в Англии, на Теофиля Готье во Франции, на Эдуарда Мерике в Германии. Я думаю, Клеменс Брентано в этом отношении гораздо выразительнее, тем более что в его поэзии и в его личной судьбе с большей силой выказалась обратная сторона эстетизма, не до конца прочувствованная у Мерике, поэта идиллического, всего лишь меланхолика там, где Брентано трагик.
В обиходе эстетами называют всех ревнителей красоты. Разумеется, смысл явления при этом не схвачен. Всякий художник ревнует к красоте, и не всякий художник тем самым эстет. У романтиков только более позднее течение с некоторыми именами в нем может быть названо эстетским. Весь Брентано не эстет, но мотивы эстетизма свойственны его поэзии. Эстетизм — красота во что бы то ни стало, независимо от того, есть ли настоящий повод к ней, или нет его, красота без достаточного основания к ней, случайная, малоустойчивая, не подсказанная всей совокупностью жизненных явлений или же существом их.
361
Когда поэзия Брентано потеряла свой контекст, то тем самым она была обречена на эстетизм. Когда пошатнулась вся жизненная система, внутри которой держалось прекрасное, то его вынудили отныне питаться из собственных средств, возмещать за собственный счет потери, понесенные системой. Из физиологии известно, что если поражен какой-либо локальный центр, то другой берет на себя его работу и работает дальше уже вдвойне: если больше нет зрения, то слух становится также и зрением, приобретает необыкновенную остроту и чуткость. Когда прекрасное теряет поддержку в жизненном целом, то художник форсирует прекрасное и зачастую, насколько ему дано, — как об этом говорил еще Фридрих Шлегель, — искусство становится «фраппантным», сверхдейственным; целое давало ему меру, вне целого источник меры утрачен. У Брентано одно из проявлений эстетизма — яркая телесность образа, возмещение за тупую, тусклую чувственность, которую передает в основных своих эпизодах роман о Годви. Как это было и в литературе недалекой от нас по времени, так и у Брентано эстетизм соседствует с натурализмом и, сам того не подозревая, заражен им, лучшими своими силами действует за него, старается дать сатисфакцию за него. У натурализма и эстетизма та же чувственная основа, в эстетизме есть блеск и праздничность, натурализму недоступные.
Отсылаю читателя к сонету «Изображение Аннонциаты», вставленному в текст романа16. Сонет Аннонциаты — почти икона, этот сонет — портретный образ. Но портретная задача целиком растворяется в живописании вещей, которыми окружена героиня. Аннонциата сидит на холме, над нею прохладные лозы, вечерние сумерки пронизаны солнечными стрелами, апельсины лежат на коленях Аннонциаты, и солнце медлит, как сказано в стихах, оглядываясь на мглу этой девушки. Черные волосы Аннонциаты в венке из померанцев, а вблизи нее тоскующий о солнце, которое заходит, павлин весь в солнечных отблесках. В этом сонете человек отделен от обыкновенной жизни вокруг него, и далее — красота человека отделена от него самого, она почти вещественна, находится в центре очень громозвучного оркестра из вещей и красок. В великолепии зрелища Брентано состязается с венецианской школой. Великолепие у Брентано убивает жизнь. Кажется, что в его «иконе» заделаны все поры, которыми она могла бы дышать, на все наложены тяжелые краски, хотя и
362
лучшие, драгоценнейшие из сокровищницы красок, кажется, что краски наложены в несколько слоев и что в изображении нет ни одного свободного уголка, который пощадила бы эта чересчур густая манера живописания. Изображение Аннонциаты прекрасно, но в красоте этой содержится нечто тягостное, ликующие краски омрачают нас. Из иной жизни, из мира иных существ около Аннонциаты один только павлин — как бы нарочитая птица, созданная природой с декоративным замыслом, извержение красок на диво человеческим глазам. Можно было бы сказать, что в этом сонете, в этой картине красота на пороге того, чтобы превратиться в опасное заболевание.
Потерю меры и контекста Брентано переживал драматически. Собственно, вся история Годви есть горечь утраты. Роман Брентано решительно отличается от ставшего для немцев традицией романа воспитания. Как у Гете в «Мейстере», так и в романтическом «Офтердингене», так и в романтическом «Штернбальде» рассказан внутренний рост человека. Герой строит самого себя, и окрест него жизнь остальных тоже неприметно строится. Годви у Брентано ничего не строит, он продирается сквозь жизнь, как сквозь колючие заросли, ломая их, увеча самого себя. Роман Брентано не есть история духовных приобретений, как у Новалиса, у Тика, он чуть ли не сплошная хроника потерь. Отрицательный опыт главного лица осознается как отрицательный, и роман полон тоски о повороте к лучшему. Нужно вернуться к утраченному контексту, к обыкновенным делам обыкновенной жизни, о которой забыли, если и знали ее когда-либо и Годви и его подруги. Из биографии самого Брентано известно, что и для себя он искал простого контекста, простой жизни, простых занятий, механического труда, надеялся с Софи Меро наладить семейный быт, хотел детей и был несчастен, ибо у Софи дети рождались и, едва побыв на белом свете, умирали — один ребенок, другой, третий. Эстетство для Брентано убежище, и оно же наказание, бич, занесенный над ним. Знаменитое стихотворение «Веселые музыканты» тоже одна из ставок в «Годви»17. Стихотворение это с форсированной эстетикой и поэтикой, гиперболически звучное, с ярчайшими звукоподражаниями. Великое несовершенство, лежащее в самом бытии, оно должно возмещать малыми совершенствами стиха и слова. Каждому из уличных музыкантов дана одна строфа, в которой вам открывается, кого вы слушаете, кого имеете перед собой.
363
Дочь — возлюбленного она потеряла, отец расстрелян, и вот она поет. Мать — проплакала свои глаза, от слез ослепла, а теперь бьет в медные тарелки. Братья — они в лихорадке, но издают трели и посвистывают. Мальчик — у него сломанная нога, сестра держит его на руках, и он бьет в тамбурин. Когда все музыканты представились, когда каждый стал известен, то бешеный рефрен как бы поворачивается вокруг своей оси, — к концу стихотворения он снова проходит перед слушателями со всем своим звоном и громом, но художественный смысл решительно меняется. Как будто бы по-прежнему он в звуковом сверкании и веселье, но теперь все стихотворение — веселая трагедия, а не что-либо иное. Для внутренней темы вся возбужденная, праздничная фонетика рефрена, да и прочих строф — это грохот железной цепи, на которой тему держат, грохот, набирающий новые силы каждый раз, когда тема делает обороты, неизбежные для нее. Вся эта зрительно и на слух активнейшая эстетика Брентано должна прикрыть убожество и страдания, маскировать раны и потери, на деле же она оповещает о них, дает право не таить их больше и не сдерживать крик. «Веселые музыканты» — превращение прекрасного в стоны и вопли, совместность прекрасного с ними. Есть еще и другие стихи у Брентано, которые дают поэтическую формулу этой совместимости:
О Lächeln einer
Wunde,
О Dolch in blutendem Munde!18
(«О смеющаяся рана, о кинжал в кровоточащих устах!»)
От 1803 до 1812 года Брентано работал над поэмой «Романсы о Розах», сначала задуманной в скромных масштабах, а затем получившей масштабы «универсальные», как он сам об этом говорил. Поэма не была доработана, при жизни Брентано не печаталась. Первая ее публикация — по смерти Брентано19.
«Романсы о Розах» явились опытом Брентано сказать свое слово о новом времени в целом, — о его культуре, нравственности, общественных отношениях. Действие поэмы отнесено к Италии XVIII века, в центре поэмы Пьетро Апоне, ученый, философ, маг и чародей, итальянский Фауст, со своим сподручным Молесом. Уже в «Годви» обозначавшееся отрицание современного общества и его куль-
364
туры здесь получает полное развитие. Брентано идет к первоисточнику их — к Ренессансу. Его задача разрушить ореолы Ренессанса, он делает дело, общее с Арнимом, хотя у него всюду видны любовь к ренессансной культуре и понимание ее, чего у Арнима не было. Его атака, правда, косвенная по своему смыслу, на доктора Фауста параллельна тому, что Арним прямо учинял в «Хранителях короны». О «Романсах» Брентано можно бы сказать, что все они вместе взятые — некий романтический анти-Фауст, хотя имя Фауста здесь нигде не названо. Пора отрешиться от номенклатурных предвзятостей и относить к Фаустиане также и то, где есть тема Фауста — внутренняя тема, без имени.
От Апоне, черного Фауста, внутренние пути ведут в поэме прямо к духовной современности. Апоне у Брентано учит многому, в чем современники Брентано могли угадывать современнейшее — идеи философии Шеллинга, Фридриха Шлегеля20.
Итальянский Ренессанс трактуется у Брентано с достаточными широтой и разнообразием. Однако у него, как у всех поздних романтиков, весьма заметно, что к Ренессансу они оборачиваются уже после того, как ясны стали реальные итоги Французской революции. В Европе устанавливалось неограниченное царение буржуа и буржуазности. В Ренессансе Брентано усматривает, собственно, дальнюю предысторию современного ему состояния вещей. И Ренессанс и протагонист его доктор Фауст, он же Пьетро Апоне, в интерпретации Брентано полны буржуазного духа. В Италии Ренессанса, как воспроизводит ее Брентано, есть все, но нет гуманизма, нет благородства общенародных и общечеловеческих устремлений. Апоне — это духовно едва облекшийся Фауст с грубейшими чертами чувственника и элементарного индивидуалиста. Он домогается власти для себя самого и домогается наслаждений — в этом все. В тему Фауста, когда она складывалась в мировой литературе, забота о собственной личности входила. Но были в теме Фауста еще и другие линии и мотивы, дававшие ей высоту и значительность. Быть может, никто лучше Пушкина не наметил тему Фауста в ее настоящем духовном объеме. Если взять «Сцены из рыцарских времен» вместе с набросками Пушкина к ним, то обозначаются такие линии фаустовской темы: рост личности в новой Европе, рост личного сознания, философии и науки, прямо к Фаусту относящиеся, и тут же
365
материальный рост Европы, новые орудия покорения природы вещей, новая техника — Бертольд Шварц, и их конец, народное движение, зарева крестьянских войн. У Брентано изо всей этой программы осуществился только Фауст-эгоцентрик, все прочее, что обращало его в благородную личность, стоящую над веком, у Брентано отпало. Фауст у него развит в наихудшую сторону, он мастер подмен и подлогов, пользующийся своей наукой ради лжи и насилия, мнимый философ и уголовный преступник на деле. Его ученик и сподвижник колченогий Молес — самая низменная вариация Мефистофеля изо всех мыслимых, — вероятно, по нравственному своему кругозору он сильно уступает тому черному пуделю, каким однажды прикинулся Мефистофель у Гете.
Апоне — черный, почерневший Фауст, и мир вокруг Апоне Брентано писал тоже отрицательно-черным. «Романсы о Розах» — первый по времени большой «черный» роман в Германии, опыты Тика были только предвестником к нему. У Брентано в развернутом виде представлена поэтика «черного» романа во всех своих характернейших мотивах и во всем составе их значений. Сюжет романа — генеалогический, история семьи от поколения к поколению. Розароза, Розадора, Розабланка — три красавицы сестры, ничего не ведающие о своем родстве, дочери старого грешника художника Косме, соблазнившего монахиню Розатристис, с которой он писал икону. У Косме трое сыновей от законного брака: ученый юрист Якопоне, художник Мелиоре и садовник Пьетро. Якопоне влюблен в Розарозу, Мелиоре — в Розадору, а Пьетро в Розабланку. Братьям неизвестно, кем приходятся им эти девушки, они домогаются плотской любви от них, и в поэме Брентано едва предотвращены инцесты, полагающиеся по ритуалу «черным» романам. Разумеется, инцесты «черного» романа не отражали реального быта, не имели значения хроники происшествий, к чему, пожалуй, тяготеет современный наш западный роман, даже в лучших своих образцах, как это случается у Роберта Музиля. Инцестуальные мотивы старинного «черного» романа служили размежеванию между романтизмом ранним и позднейшим, они были знаками этого размежевания. В драмах-феериях Людвига Тика перед нами мир, в котором связи становятся все шире, страны и нации роднятся, роднятся Запад и Восток. При этом связи крови и любви, связи инстинкта и чувства, связи органические, а не универсаль-
366
ные связи разума и права, которые были хорошо известны в литературе просветительской. В «черном» жанре опровергнуты и посрамлены именно эти органические связи. В страшных рассказах Людвига Тика неожиданное сближение людей сужает их мир, инцесты обнаруживают узость одной-единственной семьи там, где надеялись на широту единого мира. У Брентано под ударение, усиленное сравнительно с Тиком, попадает самое главное и самое мрачное в инцестуальных мотивах. В инцестах выдвигается самая страшная их сторона — надругательства над святейшими отношениями в среде людей. Инцесты связывают братьев и сестер, отцов и дочерей оскорбительными, брутальными связями. Здесь побеждают инстинкты только темные и темнейшие, толкавшие на грех против самой природы, на плотскую связь там, где она исключается строжайшим образом. Не ведая о том, кто же они, не понимая, откуда у них тяготение друг к другу, в чем его настоящая природа, брат и сестра становились любовниками, мужем и женой. Происходила ошибка кровью, ошибка телом. То были проявления особого натурализма — демонического. Поклонявшийся телу и веривший в тело попадал в область его обманов, познавал, на какое вероломство, на какую насмешку способно телесное.
В «Романсах о розах» речь ведет уже не тот Брентано, каким он был в пору «Весеннего венка» и «Годви». Брентано пережил обращение. Он хочет быть набожным католиком, как многие романтики он возвращается к вере отцовского дома и у Брентано эта вера — римско-католическая церковь. В романах изображается, как глубоко и подробно зло завладело мировой жизнью. Всюду проклятая материя, всюду материя, мертвая уже в своих первоначалах. Инцестуальные сплетения говорят о преступности всякого телесного существования, о том, что грех врожден ему. Они же дьявольская пародия на органический строй отношений между людьми, на родовые связи, на их правдивость и правду, на их священную непререкаемость. Мир как он есть не в силах сам себя спасти и вызволить. Злодеяния инцеста и другие злодеяния в поэме Брентано не совершились, силы духовные, ниспосланные свыше, остановили их. Так и во всем в поэме Брентано. Если в мире еще действуют духовные добрые силы, то они не от мира, не от его природы, а дарованы религией и церковью. Мир как таковой у Брентано лишен всякой внутренней энергии. Из него изъято всякое духовное содержание, ему
367
оставлена одна безгласная материя, духовная жизнь вся целиком передана религии и церкви. В хронике происшествий можно прочесть об ограблении церквей. У Брентано происходит другое: ради церкви все ограблены, весь мир ограблен. У Брентано отвержена не только материя, вместе с нею отвержена и вся мирская духовность. В видимом мире ей больше негде поместиться, он весь под знаком презрения. Умирает материя, вместе с нею умирает и дух.
Спасение мира силами надматериальными превращается у Брентано в недостойное и жалкое зрелище. Люди — игралище этих сил, для них внешних, под водительством извне совершается их нравственная жизнь. Колючий cilicis — пояс девственности, надетый незримыми руками на Розарозу, — это у Брентано способ защитить ее девственность. Религия только поддерживает грубый, механический порядок мира, который она вызывается спасти. Далее вокруг этого же cilicis происходят поистине отвратительные сцены — бесстыдной защиты стыда. Cilicis по мистическому усмотрению перешел к Биондетте-Розадоре, и когда Биондетту, мертвую, собирается изнасиловать Апоне, она ограждена от него. Апоне посылает за ключами к поясу, надетому святыми руками, — ключей нет. Религия у Брентано в величайшей степени нигилистична в отношении человека и его доброй воли — она арестовывает тело человеческое, чтобы спасти душу. Целостный человек подозрителен, да и вовсе недопустим.
Поэма о Ренессансе написана у Брентано не в стиле Ренессанса, а в более архаическом, предшествующем ему. Явление своеобразное. Обычный художественный стиль стремится развить, сколько может, все, заложенное в него, предвосхищает в меру сил собственное будущее, направляясь к точке своего расцвета, близка она или далека. У Брентано обратное. В отношении стиля его поэма регрессивна. Она трактует Ренессанс, по стилю же отступает за Ренессанс. В самом стиле поэмы Брентано отказывается от непременной в искусстве Ренессанса телесности и материальности. Он переводит свою поэму с художественного языка ренессансных фресок на язык готических витражей, упраздняющих в изображаемом вес, объемность, пространственную глубину, остающихся при одних линиях и красках. Брентано щедр на цвет. При ближайшем рассмотрении оказывается, что цвет дается предметам и фигурам, на которых он держится слабо, ибо их
368
роль и призвание не украшать чувственный мир, но отрицать его. «Поди, — говорит Косме дочери своей Розабланке, — и продай мои товары черным и белым монахиням»; или же рассказано, как Розабланка ставила свечи: красные, белые, черные. За двухцветным или трехцветным стихом стоит аскетическое представление, образ мира, лишенный какой-либо самостоятельной ценности.
Из оборота жизни в поэме Брентано исчезает внутренний человек, нет следов его живой жизни. О Биондетте дано только описание пышных ее белокурых волос и описание набожности ее. У злодея Пьетро Апоне существует своя связь с миром как он есть, он не побочный, а законный сын времени и места. Апоне провозит по улицам Болоньи прекрасную Биондетту и показывает ее людям как новую Венеру, сошедшую к ним. Это не живая Биондетта, это труп ее, искусственно оживленный Апоне и учеником его Молесом. Красота мертва, по Брентано она создана не силой жизни, но расчетом, техникой, умелыми руками, как тот замысловатый, орнаментальный стих, которым написана у Брентано его поэма.
Конечно, озадачивает, как же это Брентано, поэт с эстетской тенденцией, чувственность возводивший в гиперболу, как же это он в универсальном своем произведении противостоит ей, почему же это он стал ее гонителем. Гипербола чувственности возникла у Брентано из желания какие-то стороны видимого мира выделить и спасти. Видимый мир весь целиком представлялся ему глубоко неблагополучным, какие-то его отдельности Брентано спасал от связей с ним, и, чтобы они могли держаться, самостоятельно давал им сверхусиленную жизнь. И аскеза «Романсов о Розах» и повышенная чувственность сонета об Аннонциате имели общую почву. И тут и там скрывалось глубокое недовольство Брентано чувственной практикой современного мира. В одном случае Аннонциата — он кого-то и что-то кочет поставить в привилегированные условия, в другом — «Романсы» — отказывается от одиночных попыток что-то и как-то поправить и улучшить, от всего материального мира отгораживаясь аскезой католицизма. Недоверие к материи, а часто и презрение к ней добиваются для себя то выходов, то полувыходов, то выходов радикальных.
Большая часть «Романсов» написана испанским четырехстопным хореем, со сквозными ассонансами через каждую песню, — последняя ударная гласная первого и второго стиха определяют материал ассонансов на протя-
369
жении всего романса, часто насчитывающего сотни строк. В поэме язык немецкий, стих испанский, тема итальянская. Стих не сгущает локальную характерность темы, но разрежает. Стих вносит в тему известную дематериализацию ее. Формы стиха тоже способствуют стекольному, витражному стилю поэмы. Короткие хореические строчки дробят на мелкие доли повествование и описание, ослабляют живописность и усиливают медитативность, представляют в охлажденном виде ту живую жизнь, что проходит через них. В поэме своей Брентано пристрастен к описанию процессий, шествий и парадов, к перечням, которые тоже являются парадами, — названий и имен, как строфы о Якопоне, ученом правоведе, сплошь унизанные латинскими именами книг, им изученных, латинскими именами его учителей и предшественников в науке, как строфы, где описано траурное шествие за гробом Розарозы, тоже сплошь составленные как нескончаемые перечни одежд, лиц, корпораций. Эти строфы — перечни и строфы — шествия тоже рассеивают чувственную энергию стиха, превращают ее в золотую пыль21.
Противодействуя одному виду эстетизма — интенсивно чувственному, Брентано впадал в эстетизм другого порядка, в эстетизм виртуозности. «Романсы о Розах» — внушительный памятник неустанной и умелой, призванной ослеплять своей умелостью работы над стихом, свидетельство огромного трудолюбия в стихотворчестве. Брентано хочет вытеснить эстетику чувственных качеств, лживых жизненных содержаний абстрактной эстетикой стиховых форм, вызывающего изумление виртуозного пользования стихом и словом.
Спасение, религиозная развязка в поэме Брентано, состоит в полном отказе героев от земной жизни, от трудов и радостей ее, от любви, от искусства, — их конец. В поэме описан, собственно, последний день обыкновенной жизни для них. Певица Биондетта (Розароза) в оперном театру прощается с искусством, со своими слушателями, она готовится к постригу. Оперный театр горит, горит искусство. Садовник Пьетро поджигает свой сад из роз — розы горят, где были Эрос и поэзия, там остаются черные угли. Брентано поборает эстетизм, но истребительная война обращается в конце концов на самое эстетику, на искусство даже в его несомненных формах. В самые жестокие для него минуты искусство еще способно за себя постоять. Пожар искусства, пожар розового сада, горящие розы? —
370
ведь и это эстетика, и, быть может, более высокая, чем мирные розы на розовых кустах. Вместе с тем это последняя эстетика, эстетика, сопутствующая гибели, после чего никакой эстетики не будет. У Брентано иссякали средства содержать в границах эстетики собственную борьбу с нею, — вероятно, это одна из важных причин, почему столь ценимая им самим большая поэма его не была доведена до конца.
Другой памятник переоценки Ренессанса в среде гейдельбергских романтиков — антишекспировская драма Клеменса Брентано «Алоиз и Имельда», законченная в 1811-м и впервые опубликованная только в 1912 году22. В самом тексте драмы Брентано указано соотношение с Шекспиром. Алоиз в замке Бенавидеса пишет сюиту картин по темам «Ромео и Джульетты». Эту трагедию Шекспира боготворили Шлегели, даже Клейст дал почтительный парафраз ее в «Семействе Шроффенштейн». Брентано обратил трагедию Шекспира, коренным образом изменил смысл этой ренессансной трагедии, как Клейст изменил смысл «Амфитриона» — ренессансной комедии Мольера. Шекспир создал историю любви и смерти, где любовь господствует над смертью. У Брентано любовь слаба, любовники несчастны, они маловерны, они уступают смерти, как истине более высокой, чем любовь. Сюжет у Брентано взят из эпохи гонений на камизаров во Франции. Имельда из семьи, где этой ереси держатся, родители Алоиза — правоверные католики. Есть еще и имущественная рознь между этими двумя семействами, брак Алоиза и Имельды невозможен. Проносится слух, будто Алоиз женился на Магелоне Фуа, которую прочили ему. Имельда поверила в измену Алоиза и становится женой слепого Бенавидеса, который всегда был отвратителен ей. Итак, любовники разлучены друг с другом, Алоиз — клеветою, Имельда — реальными обстоятельствами. Шекспировские любовники умирают, так как посредственная жизнь, им предстоящая, не смеет коснуться их. Герои Брентано умирают, так как они не надеются на собственную силу сопротивления, так как боятся, что посредственная жизнь способна их подчинить себе. Герои Шекспира наказаны за свою игру со смертью — мнимая кончина Джульетты, смешение жизни со смертью, жизнь соглашается предоставить смерти своеобразный заем из собственных ее
371
источников. У Брентано жизнь от смерти отделяет очень вялая граница, они перемешиваются друг с другом малозаметно. Алоиз вступает в нищенское братство, основанное камизарами, — эти «братья горести» («Elendsbruder») живут в пустынных местах и при жизни строят гробы для себя. В последнем акте они снимают мерку с Алоиза и Имельды, чтобы приготовить каждому прижизненный гроб по росту. Эта смерть заживо, собственно, и есть настоящая развязка любовной трагедии Брентано: гибель Алоиза от ран, нанесенных Бенавидесом, и гибель Имельды, оплакивающей Алоиза, — мотивы более случайные.
Драма об Алоизе и Имельде поражает своей красивостью — речей, полупрозаических, полустихотворных, отдельных сцен и эпизодов. Дуализм подлинной жизни и эстетических откликов на нее, демонстрировавшийся еще в стихотворении «Веселые музыканты», в этой драме представлен как всеобщий закон. Празднична и радостна только поверхность жизни. В драме Брентано, весьма удлиненной, по протяженности своей равной большому эпосу, на каждом шагу встречаются эпизоды шуточные, маскарадные — веселые переодевания и шутовской турнир на водах, где находятся Алоиз и Имельда, буффонада с фальшивой Магелоной Фуа, сельское празднество с хорами и с песнями, приуроченное к этой буффонаде23. Лишь до той поры, покамест не шевельнулись подлинные вещи, есть, по Брентано, место для красоты и эстетики, лишь поверхностно живущие могут радоваться жизни. Веселые артистические персонажи в драме Брентано — это люди, посторонние Алоизу и Имельде, не замечающие чужих страданий или же равнодушные к ним. Красота не сидит по-шекспировски крепко в подлинных реальностях жизни, у Брентано «братство горести» содержит в себе эти подлинные реальности, эстетике они чужды, они несерьезны и недолговечны. Как Ките, так и Брентано мог создавать по временам летучую, эфемерную красоту, тоскуя о настоящей прочности; как в «Изабелле» Китса пышные цветы расцветают в горшке, где черной землей прикрыта мертвая голова любимого человека, так и у Брентано красота — отвод глаз, за которым прячутся смерть и несчастье.
«Романсы о Розах» — опыт обобщения всемирной истории в новое время, начиная с Ренессанса. Огромная драматическая поэма Брентано «Основание Праги»24 загля-
372
дывает в глубочайшую древность, и Брентано здесь хочет постигнуть, какие начала исторической жизни были заложены ею. С лета 1811 года Брентано гостил в Праге, он стал здесь изучать чешские древности, занялся культурой других славянских народов. Водил знакомство с замечательными чешскими филологами — Добровским, Копитаром, Гайкой, прямо черпая от них познания. Драму свою он сочинял с 1812—1813 года, в 1814-м была она опубликована. Как говорил сам Брентано, предмет его драмы — «юношеские дни человечества». Он хочет воссоздать первозданный хаос — тот благодатный хаос, откуда, в понимании раннего Шеллинга, пошел наш мир. В этой поэме Брентано весь предается природе как таковой, творящей силе жизни. Поэма ведет нас в правремена, к голому естеству, в его состоянии до человека, накануне человека и накануне его истории. По словам самого Брентано, вся его драматическая поэма «одета в праздник славянской весны». Пейзаж у Брентано необычайно густ, во всем ощущение сырости и мглы, нерасчлененной жизни, нетронутых, непроходимых лесов, сна и дремы сил, еще не родившихся, великости простора, невозделанности земли, дикости человеческого тела, едва себя осознавшего25. Грядами стихов движутся повторяющие друг друга, бесконечно умножаемые образы. Во всех подробностях своих поэма подавляет обилием элементов живописующих и своей бесформенностью, к которой автор либо равнодушен, либо же ей попустительствует. Я назвал бы современную аналогию этому прекрасному и непрекрасному миру, становящемуся из хаоса, — «Весну священную» Стравинского и Рериха. У Брентано прахаос, предшествующий нашему миру, обладает двойственностью. В нем совмещаются характеристики, приданные ему и ранним и поздним Шеллингом. Он способен родить свет, в нем обитают и черные, злобные боги. Злая Звратка (Zwratka) жительствует у темных алтарей природы. Религиозное вдохновение этой колдуньи — обмороки, конвульсии, желание крови. Весна у Брентано — демоническая, со всем ее губительным опьянением, со всем сумраком ее.
В творящем хаосе у Брентано бродят положительные и негативные начала. Положительным дается победа, и в юном человечестве установлен строй, на них основанный. На мятеже и хаосе утвердился мир, где господствуют милосердие, любовь, — кажется, впервые в немецкой поэзии
373
открытый мир матриархата. Либусса (Либуше) властвует над этим еще не утратившим своей первозданности миром. Все устроено по женскому образу, всюду и во всем себя проявляет нежное женское правление, всюду влияние матерей, жен, сестер. Государство Либуссы исходит из лучших, из самых добрых сил, заложенных в естестве человека. Государство это хрупкое и основано ненадолго. Злой огонь, не потухший в природе вещей, всегда готов вырваться, и вот он на свободе. Два славянских мужа — Рожон и Славош (Rojon, Slawosch) ведут тяжбу друг с другом. Священная сосна стоит на меже их участков, и она отбрасывает тень на поле Славоша. Рожон вбивает в нее гвозди и губит ее, чтобы никому не быть над ней хозяином, он ревнует даже к тени дерева, что прикрепилась к чужой земле. Напрасно перед ним говорить о священных деревьях, о священных обязанностях соседства. Рожон — зверь из лесу, едва дело коснулось собственности. Против матриархата подымается мужское право, варварское и исключительное. Через мужское право, через собственность в мир человеческий прорвалась земная темная природа и лишила его благообразия. Либуссу заставляют взять мужа и передать власть ему. Пржемысл, муж Либуссы, произносит тронную речь, из которой видно, как хорошо понимал Брентано, к чему ведет гибель матриархата и чем были новые основы, полученные человечеством. Пржемысл объявляет о них. Это собственность и ее непреложные законы, это твердые границы между землей одного и землей другого, это твердо установленная монета, и, наконец, это моногамия. У женщин отнимаются все их недавние преимущества. Отныне вся власть и все права у мужа, от женщины требуется верность ему — верность рабыни26.
В драматической поэме Брентано совпадают гибель матриархата и введение христианства в Богемии. Внутренняя связь этих событий у Брентано легко угадывается. Либусса хотела на земле вещей идеальных и идеального устройства их. Но тут одно бессильное мечтание. Земля не держит на себе идеальных царств. Только как надземное христианское начало идеалы возвращаются к людям, а земле только и жить под железной рукой Пржемысла и его пособников. В раннем учении Шеллинга мировое развитие от грубых, жестких проб и набросков шло к красоте и совершенству. В поэме Брентано со-
374
вершенство блеснуло лишь однажды, а потом началось многообразнейшее ухудшение.
Матриархат — великое открытие в среде романтиков. Романтики двигались через всю социальную и культурную историю человечества, начиная с их собственного времени и в направлении к ее первоисточникам. Они естественным образом пришли к доклассовому обществу и к матриархату. Они не испугались своего открытия, ибо не были приверженцами исторического опыта человечества, который их вел и привел к нему. Они шли через века и наконец услышали голос родовой демократии, о которой догадывались уже и через античность. Брентано, как мы видели, не родовой демократии и матриархата опасается, а их непрочности перед натиском стихийного развития. К матриархату как таковому романтики были подготовлены и современными впечатлениями и некоторыми особенностями собственной их идеологии. Они были свидетелями широкой женской эмансипации, которую учинила Французская революция. В романе «Годви» у Брентано все полно отголосками этой эмансипации. Какие бы сомнения ни смущали Брентано по отдельным пунктам, эмансипацию эту, как и все романтики ранних призывов, он воспринимал положительно. От многочисленных женских эпизодов романа «Годви» мосты ведут к идеологическому миру драмы «Основание Праги». Сама идея женской власти была для романтиков подготовлена тем культом женщины и женственного начала, который установился в их кругу» а в Клеменсе Брентано имел одного из самых неограниченных своих энтузиастов, в ранние его годы в особенности.
В драме «Основание Праги» идут наперекор друг другу важнейшие мотивы романтического сознания. Здесь налицо очень многое, что позволяло избавиться от социального натурализма и социальной метафизики. Явление матриархата указывало, что известный позднейшим векам строй отношений не обладал вечной природой и вечной силой. Вбили гвозди в живую сосну, умертвили живую природу, и отсюда началась частная собственность. Социальное происходило от социального же, имело и свое начало в истории. Но для Брентано и его современников, свидетелей послереволюционных побед и апофеотики буржуазных отношений, эти в живое вбитые гвозди собственности были вбиты навсегда, они не предвидели конца собственнической эры, хотя и знали, как она начиналась.
375
Поэтому у Брентано мы находим и удивительные исторические озарения: перед нами как будто бы власть над всей полнотой исторической жизни народов, перед нами открытие матриархата и недостаточная способность воспользоваться им. Брентано не внутри своего открытия, а где-то рядом с ним. Из постановлений Пржемысла следуют века общества, известного нам, но, по Брентано, оно происходит также и от черных богов первобытного леса.
Темы матриархата присутствуют у Захарии Вернера, у Клейста, у Грильпарцера, который с социальной отчетливостью разработал именно историю Либуссы. Как у Брентано, так и у других романтиков существовало предрасположение к этим темам.
В поэме «Основание Праги» совместно с движением к темам родовой демократии и матриархата совершается еще и другое, для романтиков неслучайное движение — к молодому тогда малоизвестному на Западе славянскому миру. Западный романтизм славянства знают по сочинениям Проспера Мериме. Но и в немецкой литературе его история не бедна. Здесь те же имена Брентано, Захарии Вернера, Грильпарцера, да еще Николая Ленау. В своей поэме Брентано с основательностью наведывается в русскую древнюю поэзию и в мифологию днепровских славян. Одним из источников служила ему книга Андрея Кайсарова «Опыт славянской мифологии», изданная в Геттингене на немецком языке27. К поэме самим Брентано приложены превосходно написанные комментарии. И в них и в самом тексте мы встречаемся со «Словом о полку Игореве», вышедшим в переводе Мюллера в Праге в 1811 году28. В поэму Брентапо попали и Див, «славянская гарпия», как он объясняет, и дятлы, «вещие птицы», как в том же комментарии говорится о них. Брентано по переводу Мюллера цитирует весь этот стих «Слова»: «...дятлове тектом путь к рѣцѣ кажут». Стих, очевидно, понравился ему. Брентано едва ли не первый западный поэт, отозвавшийся на «Слово». Дата его занятий русской поэзией и русской мифологией — 1812 год — полностью объясняет его живой интерес к ним.
Лирика Брентано, великого лирического поэта, требует рассмотрения и сама по себе не только как участница, хотя бы очень активная, его повествовательных произведений и драм. В настоящее время немецкие филологи,
376
оценив все значение лирики Брентано, стали изучать ее внимательнее, чем это было прежде. Появились хорошие исследования, с одним, однако, важным упущением. Лирику Брентано изучают ради вопросов поэтики вообще, оставляя в тени характерную индивидуальность этой лирики, особый исторический момент, к которому она примыкает, особую роль ее в истории романтической поэзии. Здесь, как и во множестве иных случаев, не найдено способа совмещать интересы поэтики с интересами истории литературы29.
Кажется, лучшим вводом в лирику Брентано может служить запись разговора с Бетховеном, сделанная сестрой Брентано Беттиной 20 мая 1810 года30. Привожу слова Бетховена: «Вечное и бесконечное, которым полностью никогда невозможно овладеть, лежит для меня в основе всякого духовного творчества. Хотя у меня всегда было чувство удачи, когда я сочинял что-либо, все же я испытывал вечный голод, мне хотелось, как ребенку этого хочется, после заключительного удара литавров, когда нравящееся мне, когда музыкальные мои убеждения я уже вколотил в своих слушателей, все опять начать сначала». Бетховен говорит о волнах музыкальных, посылаемых одна за другой повторно. Музыка понимается как вечное преодоление, не как поиски абстрактного совершенства, которому все мало, а как борьба, завоевание, как поединок с силами жизни, чье сопротивление неистощимо. Кончив, начинать и начинать снова — это композиция известнейших стихотворений Брентано, одна за другой следуют похожие строфы, только отчасти варьирующие друг друга, последующая ложится на предшествующую, все вместе похоже на прибой, на штурм. Так в стихотворении «Einsam will ich untergehen...» с неуходящей этой первой строчкой, каждая из восьми строф открывается ею же, перед нами некое снова и снова начинание. Неутомимо в каждой строфе варьируется тот же образ: я хотел бы погибнуть в одиночестве: как странник в пустыне, — как нищий в степи, — как день, тонущий в сумерках, — как раб на цепи, — как перед смертью лебедя его песня, — как корабль в морях, — как в горестях утешение, — как сердце мое в твоем сердце. Постоянные возвращения к началу, делают именно начало бесконечным, не эпилог, который бывает бесконечным, «открытым» — в поэзии Эйхендорфа, например. Рефрены, без которых Брентано редко обходится, похожи у него на заклятья: кого-то и что-то он
377
побивает своими рефренами, говоря словами Бетховена, он вколачивает рефренами свои стихи в тех, кто слушает их. Бетховен сказал «einkeilen» — вколачивать клином. Я думаю, что великое отличие лирики Брентано от лирики Новалиса или Тика, от лирики его современника Эйхендорфа, от будущей лирики Мерике в ее драматизме — в этом чувстве препятствия и противодействия. Сопротивление, которое встречает лирика Брентано, воспитывает в ней силу и страстность чрезвычайные, иногда доводимые до исступления. Но при этих основных их свойствах из стихов Брентано не уходит более обыкновенная лирика жалоб, доверия и нежности и поисков отклика и сочувствия. У Брентано все в стихах подвержено бурному движению, и все же иные стихи — мольба о неподвижности, об устойчивости, о даровании опоры — «Wo schlagt ein Herz, das bleibend fühlt»... Брентано всегда находится с кем-то и с чем-то в коллизии. Он тоже хотел бы, как Новалис или Тик, надеяться на магию, на ворожбу, на то, чтобы жизнь даже при легчайших прикосновениях к ней дружественно и охотно оказывала повиновение, но нет, неизбежно воевать, пускать в ход силу, принуждать, приневоливать. Он сам несчастен из-за этой своей воинственности, она доброй долей навязана ему, в его лирических стихах мы слышим трубы наступления, мы слышим также и ламентации самого наступающего, который был бы рад сразу же заключить мир, обнять неприятеля и протанцевать с ним танец дружбы. Перелом, происшедший в истории романтизма, полностью отразился на лирике Брентано. Он менее видим у Эйхендорфа, тем более у швабских поэтов и у Мерике. Движение на объективный мир и драматизм столкновения с ним — они-то и лежат в основе лирики Брентано. Чувствованья людей его плеяды лучше всего выражены великим современником Брентано Генрихом Клейстом — тот был трагик. Брентано трагиком не был, вернее сказать, что он находился в окрестностях трагедии. Нехотя, по принуждению он вступал в свою коллизию с вульгарными силами тогдашнего дня, при немалых оговорках дух коллизии все же был присущ ему, и он передал его более мужественным поэтам, пришедшим после него, — Гейне и Ленау. Драматизма не было в собственных драматических произведениях Брентано, довольно сходных с театральными феериями Тика, с его сценариями зрелищ. Но в лирике Брентано драматизм присутство-
378.
вал, то был драматизм, по временам достигавший даже яростности.
Весь Брентано лучше всего виден на главной полосе его поэзии, в лирике любви. У Гельдерлина, у которого была и своя близость к Брентано, далекость от него в том, что стихотворения к Диотиме — это отправление культа, а у Брентано стихи к женщинам — борьба с ними, обвинительные речи, а более всего исчисление обид31. Именно по любовным стихам можно судить, каков был Брентано в роли романтического донжуана, — он охотно избегал для себя положения обвинителя или судьи и тайным образом искал жалости у этих им же обвиняемых и казнимых девушек и женщин; не однажды перед ними сам обвинитель плакал о себе.
Драматическое начало проникло во внутреннее строение лирики Брентано. Он с величайшей охотой придавал своей лирике фольклорные формы. Снова будет полезным сопоставление Гельдерлин — Брентано. Как у Гельдерлина современное содержание сочетается с поэтическими формами античности, так у Брентано оно соотносится с песней. Гельдерлин ищет гармонии античного и современного, он хотел бы их согласовать, он хотел бы через античность дать санкции переживаниям и отношениям своим и современников своих. У Брентано и речи нет о санкциях. Традиционная песня и внутренняя жизнь современников состоят в конфликте друг с другом, они познают себя и открываются через этот конфликт. Современнейшие чувства, быть может, просят союза у народной песни, но получаются не союзники, получаются антагонисты. Можно вспомнить по поводу конфликта народности и современности стихотворение Анны Ахматовой, где последние строки такие: «И осуждающие взоры спокойных загорелых баб». Героиня стихотворения, приезжая из столицы, случайный гость тверской земли, тверской деревни, бродит повсюду и мучится из-за несчастной своей любви. Взоры баб осуждают и ее, и любовь ее, и весь ее внутренний мир также. Бабы делают труд жизни, а городская гостья разрушает его. Так и у Брентано. Изложенная фольклорно, его лирическая тема колеблется в своей реальности, под сомнение попадает — сущий ли это мир, сущая ли это жизнь, от темы потребовано самооправдание. Решенное, принятое как неизбежность в современной действительности, через трактовку фольклором вновь становится нерешенным, сомнительным, загадочным, спорным.
379
Пример — баллада о Лорелее, впервые напечатанная в романе «Годви», с сюжетом, который создан был самим Брентано и позднее вводил в заблуждение, будто существует народная баллада о Лорелее, от которой произошли после Брентано еще и стихотворения графа Лебена, Эйхендорфа, Гейне. У Брентано в «Лорелее» все есть собственный вымысел, от фольклора только способ стилизации.
По другим стихотворениям Брентано можно установить, в чем внутренняя тема баллады о Лорелее, о чем баллада. В самой балладе это неясно, надо полагать, отчасти ради этой неясности баллада и была написана. Подлинная и в глубине баллады прячущаяся тема — парадоксы современной морали и психологии. Что парадоксы и на самом деле суть парадоксы, это и внушается нам народной балладой, где они трактованы. Фольклорная баллада ничего не толкует и не истолковывает, держится только увиденного и услышанного — диалог, первенствующий в ней, это и есть запись услышанного, дает наружный рассказ о событиях, хронику их.
У Брентано есть стихотворение о красоте «Die Schönheit», очень сильное и дающее ключи к «Лорелее». Стихотворение сводится к монологу красоты, как бы к жалобам ее, поданным в суд; она просит защиты от преследователей. Монолог написан немецким ломаным стихом, Knittelvers, грубым, как работа сапожника;32 в монологе говорится о людях и вещах малоделикатных. Красоте необходимо оградиться от невыносимых своих поклонников. Великаны, сатиры, карлики, лесные черти, фавны — все осаждают ее жилище. Забор приходится надстроить, но чудища заглядывают и через надстроенный забор, от чиха и чоха этих господ все к смерти клонится. Сквозь проделанные дыры всюду пролезают карлики. Окрест весь воздух отравлен, и сохнут деревья.
У Брентано несчастья красоты начинаются с того, что она воплощенная. У красоты есть тело, и его хотят заставить жить отдельно. На тело все покушаются, из него делают товар. От монолога красоты есть путь к стихам Брентано о веселом доме «Ich kenn ein Haus, ein Freudenhaus». По словам Фарнгагена, Брентано задумывал роман «Мертвое море», где предполагалось в страшных его реальностях изобразить современный рынок любви. Все это были темы монолога красоты, сгущенные и усиленные. В балладе о Лорелее те же темы представлены более
380
обобщенно и утонченно. Главное в этой балладе — любовь, безразличная к тому, есть ли на нее ответ. И здесь хотят нагого обладания, вне мотивов души и отношений личности к личности. В балладе любовь еще более разгорается, когда есть третий, когда женщина, к которой она обращена, любит кого-то третьего и любит несчастливо. Хотят пира для себя с приправой чужого горя. Замечательно, что всем нужна Лорелея, и никому нет дела до нее, до того, что у нее в душе творится: епископу, рыцарям. Трое рыцарей на конях сопровождают Лорелею в монастырь, их трое, ползущих за нею на скалу, их трое, вместе с нею погибнувших, — в этом числе «три» погашается личное чувство, остаются одни безличная одержимость и безличное вожделение. Лорелея в самом начале баллады названа волшебницей. С точки зрения народной поэзии, чувство, которое она внушает, непонятно, оно загадка и поэтому волшебство. Баллада с ее нетолкующей манерой повышает впечатление загадочности и будит раздумье.
У Гейне, в стихах о Лорелее идущего вслед за Брентано, именно раздумье, созерцательность и конфликты поставлены под ударение.
Лирические темы «Лорелеи» полихромны. Те же переживания отливают и одним, и другим, и еще третьим цветом. В «Лорелее» сразу же, одним актом даны и несчастье любви, и тоска любви, и страдание, и мстительность, и нежная печаль, и злоба. У Брентано первые признаки перехода от лирики романтиков к лирике психологической, в которой вместо прежней музыкальной слитности начинается разбор душевных состояний на отдельные силы, их составляющие.
Другое стихотворение Брентано, где еще острее контрасты современного лиризма и фольклорной формы, посвящены потерянной «Treulieb» — «Верной любви»: «Treulieb ist verloren». Собственно, это маленькая поэма, обладающая высокой лирической энергией. Treulieb — имя героини, полное горести и иронии. Герой хотел бы в ней найти верную любовь и находит одни только черные измены. Поэма относится к тому циклу у Брентано, который В. М. Жирмунский очень правильно назвал циклом «романтической Манон»33. Брентано, гейдельбергский романтик, пересматривал и темы Ренессанса, и темы Просвещения. За очерненным, черным Фаустом последовала очерненная Манон. Если следовать этим соотношениям, то поэма Брентано написана от имени кавалера де Грие, получив-
381.
шего некоторое фольклорное обличье. Поэма о Treulieb, в которой современный лиризм ведет яростную борьбу себя с допущенной в поэме и не признающей его фольклорной формой, кончается его победой. На очерненную до конца Манон, на посрамленного де Грие автор не соглашается. Сюжеты Ренессанса были для Брентано некоторым умозрением, и там он был уступчивее — в пользу гейдельбергских догм. Но в этой поэме главная тема это по отдаленным лишь соответствиям герой аббата Прево, а в существе своем это он сам, современный лирик с лирической своей душой. После очень затянувшегося и крайне напряженного сражения с противником он все-таки сохраняет себя и выдерживает испытание, которое сам же себе назначил. Современной лирике более чем трудно далось это испытание, зато она окрепла в нем.
У аббата Прево история Манон строится на постоянных двоениях. Есть фактическая, материальная биография у этой женщины, которая ужасна — тут одни измены, тут продажность и предательство. Но кавалер де Грие верит в другую, лучшую Манон, та затаилась, пребывает где-то в неуследимой глубине душевной и когда-нибудь выйдет на сцену фактов и простых реальностей. Его любовь, его жертвы — все от этой веры. Опять здесь парадоксы современного чувства, способности не видеть видимое и не ведать ведомое. Современное чувство привыкло отделять человека от обстоятельств, амнистировать за счет обстоятельств, оптимистически оценивать человека, который сегодня не в состоянии выполнять внешне этические нормы, в надежде, что к этому он будет способен завтра. В поэме Брентано царит куда более суровый дух фольклора. Фольклор идет от более простых условий жизни, в нем могучие остатки патриархальности и общины, фольклор враждебен двоениям, он едва допускает различие между желаемым и на деле достигаемым или же деспотическую слепую власть факта над человеком, ибо в кругозоре фольклора более здоровый жизненный строй, при котором все эти черты не развились еще. Фольклор питается опытом исторической среды, в которой для всех существует равенство условий, поэтому фольклор к преступившим не допускает снисходительности. Поэма Брентано держится строго фольклорной формы. Она сюжетна, и сюжет идет на излюбленных в фольклоре диалогах, на расспросах и ответах. Герой разыскивает свою Treulieb, и от встречных он получает ответы гнетущего свойства,
382
узнает о Treulieb всю правду без поправок, во всех ее безжалостных подробностях, каждый новый ответ — новое отчаяние для того, кто спрашивает. Он ведет диалоги с пастухом, с охотником, с кузнецом, с богатым евреем в могиле, с висельником на виселице, наконец — с самим чертом. Treulieb, верная любовь, у всех у них побывала, любовь у нее происходила с каждым, она охотно продавалась и каждого обирала сколько могла. Падения Treulieb описаны с полнейшей откровенностью, ее приключения темны и бесстыдны, все персонажи из воровских и разбойничьих сюжетов фольклора стали их участниками. Де Грие — продолжаю называть его так — ходит со своими розысками и расспросами, как по мукам. Казалось бы, в интерпретации Брентано Манон навсегда и окончательно утрачена, но в конце поэмы есть эпизод, будто бы возникающий всего только по инерции сюжета. Герой допросил тщательно всех, недопрошенной осталась одна только героиня, и вот у нее самой он допытывается, куда же девалась Treulieb. Этот последний диалог поворачивает в обратную сторону все освещение поэмы. Все хождения героя было одним сплошным хождением вокруг героини, все диалоги — одним сплошным диалогом с самой Treulieb и ни с кем больше. При всех обличительных показаниях против нее он верил в нее, как верил прежде, он ждал от других каких-либо добрых известий и слов, защиты, самозащиты он ждал от нее самой. Лирическая тема в балладе Брентано проходит через проверку фольклором более чем жестокую, истязующую ее, и когда, по всей видимости, она погибла, тогда-то она и воскресает и снова бессмертна. Лирическая тема поднята из-под колес, и оказывается она невредима. В конце концов препирательство с фольклором здесь братское. Если взять во внимание исторические условия, которые изменились, то современная защита Treulieb, она же бывшая Манон, более родственна фольклорной точке зрения, чем походы против Treulieb и казни, над нею совершенные.
Брентано — автор многочисленных произведений в прозе. Они распадаются, как и все, написанное Брентано, на два потока, — есть у Брентано проза, где со всей серьезностью высказаны его заветные убеждения, и есть проза — эстетическая игра, забавная и комикующая проза его сказок и некоторых новелл. Сперва о серьезной
383
прозе — долгое время известность Брентано держалась на двух к ней относящихся произведениях. Повесть о Касперле и Аннерль, напечатанная в 1817 году34, — лучший памятник гейдельбергского «народничества». Описана деревня, какой она вышла из освободительных войн, разоренная, разграбленная и войнами, и помещиком, и городским капиталом. Разложился крестьянский труд, исчезла традиционная крестьянская честность, молодежь не хочет кормиться от земли, уходит в армию и в город. В повести этой из большой крестьянской семьи остаются старуха восьмидесяти лет и Аннерль, юная внучка ее, которую завтра должны казнить по уголовному делу. Все среднее поколение выбыло, и это не биологическая, а социальная смерть. Повесть Брентано своим точным социальным реализмом удивительна. Но оборотная сторона его — гейдельбергская философия крестьянства. Брентано рассказывает о крестьянских бедствиях так наивно-открыто, так нечаянно-обличительно, ибо для него, Брентано, это и есть идеальное состояние человечества. Он заодно с этой древней набожной старухой, которая интересуется не делами земными, но Страшным судом, что предстоит всему земному. Деревня оголяется, как материальный быт она скверна и печальна. Тем лучше — освободились духовные силы. В крестьянской нищете и беспомощности Брентано хочет видеть акт религиозного сознания, намеренную непопечительность о земном и материальном. Крестьянству неизвестны виды благ земных, и в этом его высота духовная.
Напечатанная в 1818 году «Хроника странствующего школяра» (начатая Брентано еще в 1802 году) выполнена как своеобразная апология пауперизма материального и духовного. Еще Новалис проповедовал своеобразную философию нищеты, Брентано ее продолжает. В этой средневековой повести для Брентано все мило. Бедность жизни, бедность стремлений ему приходятся по мысли и по вкусу. Иногда в набожных эпизодах у Брентано шевельнется что-то светлое и даже запретно-веселое — и тут же умрет надолго. Когда благочестивая Эльза приводит маленького сына в монастырь, тот просит, чтобы его взяли в монахи, отвели келью и позволили бы там жить с мамой. В этом эпизоде чуть-чуть мелькнули профанные воспоминания о старой итальянской новелле, о сюжетах Боккаччо, о женщинах, забравшихся в мужской монастырь, и о мужчинах среди монахинь. Эти приемы не-
384
винного юмора, эта
религиозность внутри самой обыденности очень рискованны. Другой раз маленькая
Эльза поднимает тяжелую крышку сундука с божьей помощью, или же ребенок молится
Иисусу, чтобы он помог собрать целебные травы, за которыми его послали, и
предлагает за услуги хлеб. В эпизодах этих немногого нужно, чтобы призванные к
делу обыденные реальности полностью овладели положением. Этого не допускает
Райнер-
Три больших тома сказок остались от Брентано, из которых при жизни он опубликовал только одну и при этом сильно испортив ее религиозной тенденцией35. Это совсем иной Брентано, далекий от какого-либо дидактизма, артистичный и виртуозный до чрезмерности. Было время, когда Гриммы хотели уступить Брентано для обработки собранный и еще не изданный ими сказочный материал. Случись это, немцы не получили бы через литературу своей национальной сказки. Брентано решительно расходился с Гриммами во вкусах и принципах36. Гриммы очень дорожили точной записью, национальным и локальным колоритом, бытовыми подробностями в сказке, она для них была фольклорным реализмом в своем роде. У Брентано сказка стала предметом артистической игры, и при этом самой необузданной. В сказках своих Брентано играет и шутит с самою вселенной и в ее же, вселенских, масштабах. Жанр сказки, к которому Брентано охотнее всего обращается, — это волшебный жанр. Вся
385
действительность, как она есть, переписывается на фон волшебной сказки. Комическое впечатление вызывается контрастом между ординарно-бытовыми фигурами и этим чрезвычайным фоном, к которому должны они приладиться.
Сказка Брентано ближе к эпической поэме или к роману, чем к краткой новелле, как это было у Гриммов. Он сочинял целые своды сказок, целые сказочные эпопеи с городами, странами, государствами, разместившимися в них. В огромном цикле сказок о Рейне и о мельнике Радлауфе можно встретить что угодно, обширные генеалогии героев, перепутанные друг с другом личные истории и истории войн, восстаний. Для волшебно-политического своего эпоса Брентано пользовался интернациональными источниками, добрая часть его сказок восходит к «Пентамерону» графа Джованни Баттиста Базиле, неаполитанского писателя XVII века, многое взято из французских сказочных собраний. Вселенской тематике Брентано соответствовали эти источники, свободные в отношении и места, и времени. Брентано, который так часто требовал соблюдения местных красок и местного стиля в произведениях, ориентированных на фольклор, весьма далек от этих принципов в своих сказках. Рейн едва ли что-либо большее, нежели указание места в рейнских сказках, безо всякой разработки мотивов, до места как такового относящихся. Рейнские сказки — сказки большой и веселой судоходной реки, вот почти все, что есть в этих сказках рейнского. В сравнении со сказками Гриммов местный колорит в них развеян.
Сказки Брентано не признают никаких авторитетов — ни политических, ни космических. В сказке о портном Зибентоте рассказано, что в Амстердаме однажды день никак не мог начаться, солнце застряло в еврейском квартале, и храбрый портняжный цех отправился вызволять солнце, устраивать ему правильный восход. Иной раз вселенную Брентано изображает как не слишком трудный механизм, как мастерскую ремесленника, в которой до всего можно достать руками и все изменить руками. Финал сказки о шульмейстере Клопфштоке и о его пяти сыновьях: король Пумпан берет большой нож, разрезает свое королевство на две половины и спрашивает у шульмейстера, какую половину тот хочет; шульмейстер выбирает и выбранную половину снова разрезает на пять равных частей, в долю каждому сыну. В сказках Брен-
386
тано происходит приспособление больших космических вещей, приручение их как вещей домашних. Что вселенная, что яблоко — все едино, и то и другое легко поддается обыкновенному фруктовому ножу. В той же сказке сообщается: «Отшельник сидел в дупле дуба, и только его белая борода свешивалась, как водопад, и длинный его нос выглядывал наружу», «Дуб слопал козла, и борода его свешивается у него изо рта, смотри — сейчас он съест и нас с тобою». Границы между вещами исчезли, как это бывает в тропах, в метафорах, вещи без затруднений обмениваются своими качествами и признаками. Старый критик Рудольф Готшалль писал о сказках Брентано: «Какой ясной и многозначительной кажется классическая наивная басня о животных сравнительно с этими странными арабесками, где так хаотически переплетены друг с другом человеческие лица и звериные тела, что ловишь зверя, думая найти человека, и наоборот»37.
В сказках Брентано очень редко дело начинается с сырой, необработанной действительности. Автор не предупреждает, и мы не сразу замечаем, что сказка имеет перед собой с первых же ее шагов действительность, уже подготовленную другим искусством. В сказке о шульмейстере Клопфштоке и о его пяти сыновьях описано, как один из них, Грипсграпс, поднимался на отвесную скалу с двумя обнаженными кинжалами, по одному в каждой руке. Кинжалы, то один, то другой, он вонзал в трещины утеса и таким образом двигался сам. Брентано, собственно, описывает цирковое представление, чей-то ослепительный акробатический номер, из которого и сделан эпизод его сказки. В сказке о шульмейстере целые эпизоды переданы средствами фонетики. Король Пумпан — фонетический король, король колокольного звона, да это сам звон — размах колокола туда и обратно, объявивший себя королем. Его страна. Глоккотония — фонетическое колокольное королевство, у двери каждого дома свой колокол, люди ходят с колокольчиками на шее, у животных тоже колокольчики. Страна Глоккотония и люди этой страны выражают себя через музыку. Даже сюжет сказки чисто музыкальный. Язык главного колокола залетел неведомо куда, и шульмейстер с пятью сыновьями пустились его искать. Собственно, вся эта сказка — описание музыкального спектакля. Она написана, как если бы вначале был спектакль, а потом появилась и сказка по спектаклю. В сказках Брентано все становится сплошным искусством.
387
Обойден самый реалистический момент в каждом художественном произведении — момент перехода действительности в искусство, момент, когда действительность перевоплощается в свой образ. У Брентано в его сказках все есть игра и воздух, ибо искусство рождается от искусства же. Этот серьезнейший момент отправления от действительности в сказках Брентано, да и во многих других его произведениях, в художественный образ не входит. Напротив того, особый юмор Брентано в том, чтобы действительность по существу своему изменяла самой себе, войдя в художественный образ. При вхождении в образ все совершается очень легко, без усилий, ибо из одного искусства передвигаются всего только в другое.
Еще в романе «Годви» эстетика у Брентано потеряла свой жизненный контекст. В сказках эстетика мстит контексту, не умевшему удержать ее, с ним играют, его делают комичным и бессильным. Хотя он чрезвычайно необходим, с ним обращаются как с ненужным.
На деле у Брентано эстетика получила очень скромную роль. В жизни ей дан уголок, она в ссылке. Но в иллюзии, а сказка и есть иллюзия, эстетика распространяется как универсальная сила, все собою заполняет и все переполняет, ей нет меры и преград.
Жизненная реальность у Брентано, войдя в сказку, приняв
сказочный образ, тем самым в качестве реальности без остатков уничтожается.
Сказка у Брентано — бунт против владычества реальностей. Дать явлению имя —
значит поднять его на ступень образа. Имена в сказках Брентано совершенно
особые, главный город страны Скандалия, где правил король Церум, называется Besseredich — «Стань лучше». В
имени, в образе смещается сама субстанция явления, где по всем законам божеским
и человеческим положено существительное, там его вытесняет повелительное
наклонение («Das Märchen von
Fanferlischen Schönefüßchen»). Отменяются общепризнанные
логические и грамматические категории, делается подкоп под вещественность
вещей, под материальность материального. В другой сказке Брентано у героев
фамилии длиной в целую строку: купец — Seligewittibs-Erben und K
Нужно заметить, что эти умноженные и умноженные фамильные имена почти целиком составлены из понятий
388
опять-таки фамильных, из терминов родства, соседствующих друг с другом. Таким образом, фамилия и на самом деле становится «фамилией», настоящим семейным гнездом. Фамильное имя обессмысливается в качестве имени, обозначения чьей-либо индивидуальности. Обозначаемое лицо как бы погрязает в хаосе родства. Брентано гиперболически развивает средство обозначения — понятие родства, чтобы тем самым уничтожить цель, лицо так и остается необозначенным, что и ведет к юмористическому эффекту. В индивидууме исчезает неделимость, исчезает индивидуальность.
Ближе к поэтике реализма более скромный вариант того же приема — удвоение имен и фамилий. Ср. у Гоголя: Антон Антонович Сквозник-Дмухановский.
Брентано пристрастен к незначащему слову, к слову-видимости, за которым нет никакого предмета. Слово из средства созидать миры превращается в средство их аннулировать. Брентано вводит эти мнимые слова, перерабатывая текст своих сказок, если их там не было. В первой редакции сказки о Гоккеле кошка называлась всего-навсего Шнурри-Мурри. Во второй редакции все пятеро ее сыновей получили имена: Гог, Мак, Бенак, Магог и Демагог. В этих именах не нужно искать смысла, Брентано дал имена с какими-то намеками только потому, что для фабулы все это не имеет ни малейшего значения, котята ничем не различаются, имен не заслужили. Вы ожидаете найти за словами предметы и смысл, а игра Брентано в том, что вас ожидают нули и нули.
Сверхэстетические сказки Брентано если и имеют какую-либо для себя аналогию, то разве что в сказках Оскара Уайльда. По изощренности своей и виртуозности Брентано, конечно, сильнее Уайльда. Но Уайльд имеет преимущество: в конце концов он все-таки возвращается к Андерсену, и сказки его только эстетические, эстетские вариации андерсеновских. Сказки Уайльда не отказываются нечто познавать и чему-то поучать. Есть такие попытки у Брентано, порою весьма замечательные, но в его сказках игра ведется с таким размахом и с такой интенсивностью, что серьезное ей не может не подчиниться и даже против воли автора тонет в ней. В сказках Брентано есть начало политической сатиры, и очень едкой, тем не менее сатире не дано окрепнуть. Что значат какие-либо отдельные политические акты неразумия, отмеченные Брентано, если в сказках его бытие неразумно все сверху
389
донизу и обратно, стоит ли беспокоиться о безумии властей, если природа безумна, если безумен космос. В сказках Брентано есть эпизоды высокой трогательности, но они тоже гибнут в атмосфере всеобщей игры и буффонады. Так, в сказке о Командитхен и Кредитхен. Девушка по имени Кредитхен спасает своего отца, торговца, от заимодавцев, у отца ничего нет, он предлагает дочь свою, но ее не берут, говорят, что охотнее взяли бы хорошую лошадь. Девушка отправляется на конюшню, оттуда слышно ржание, девушка, обернувшаяся лошадью, поступает на службу к кредитору. В другой раз, когда у отца снова нет денег для расплаты, девушка по своей воле превращается в павлина и садится на плечо отца, чтобы тот унес ее с собой. Так появляется новый смысл в традиционной сказке с превращениями. История с лошадью и павлином — история человека, который стал товаром. Ради любви к отцу девушка превращается в вещи, которые стоят гораздо меньше, чем она сама, но на которые есть спрос.
Лиризм, связанный с доброй дочерью лавочника, почти убит сплошь смешными и забавными подробностями этой сказки. Самое Кредитхен портит имя, данное ей. А ее отец — деревенский лавочник по имени Herr Kisiko, господин Риск, вечно залезающий в непосильные для него рискованные торговые операции, стоит ли он приносимых ему жертв? По поводу Брентано вспоминается Уайльд. Можно бы в укор Брентано сказать о том, «как важно быть серьезным» — быть серьезным по сути и в главном, у Брентано нет серьезности в замыслах, если их брать в целом, поэтому нет ее и в частностях, в эпизодах, лирических и сатирических. Стихия буффонады повсюду проникает и все уподобляет себе.
Мир теряет у Брентано серьезность еще по той причине, что со всяческой широтой у Брентано
применяется прием литотес —
гиперболы в обратную сторону, умышленного
преуменьшения вещей. Переведенные на микромасштаб мир и миры становятся игрой, убывающая в вещах величина их есть и убывающая их реальность, вещи становятся едва действительны,
если их последовательно уменьшают.
Это доказывают фантастические эпопеи
Брентано, где персонажи и события даны по
принципу литотес. Рейнские сказки — сущая «Илиада» мышей и крыс, полный свод мышиных
сюжетов Германии, с легендой о
епископе Гаттоне b с легендой
о кры-
390
солове из Гаммельна в центре. Сказка «Гоккель, Гинкель и Гоккелья » разработана как «Одиссея» домашних кур.
В этом эпосе микроперсонажей и микропроисшествий своей реальностью рискует само искусство. Утонченное и изощренное также и здесь, оно кажется недозволительной растратой, сравнительно с поставленной целью средства, ради нее вложенные в дело, по богатству и обработаиности их фантастичны. В сказке о Гоккеле сочиняется характерная длинная ария для нахального мышиного принца Паффи и ответная ария для деликатной невесты его, принцессы Сисси. Или в той же сказке дается, если угодно , реалистическая ария ласточки с точнейшим подражанием ласточкину щебету и его ладам. Как призрачны или полупризрачны персонажи и отношения, так и об этих отличных стихах, пущенных здесь в дело, приходится спросить: а существуют ли эти стихи в самом деле, осуществились ли они, или же только мерещатся, написанные кем-то иным и в совсем ином произведении, ради иных целей.
Иногда в сказках Брентано проглядывает глубина жизни и поэзии, и опять она смешивается с вещами фантастически нелепыми, страшными, некрасивыми и все-таки забавными. В сказках Брентано нет драматизма, зато есть зрелищность и виден искушенный мастер спектаклей. К тонкой садовой решетке припала черная безголовая фигура — это старый еврей, который прикрыл голову черным капюшоном, так что видны только его как бы обезглавленные плечи. Он наигрывает таинственную старинную мелодию на инструменте, скрытом под черным плащом, и все время двигает перед собой крохотную нарядную куклу в голубых туфельках. Кукла то сделает несколько шажков по земле, то снова возвращается к человеку под капюшоном — так кукла соблазняет злую дочку Гоккеля. В этом эпизоде Брентано — и сочинитель и постановщик своих сказок, знаток всех тайн живописной магии и театрального освещения. В этом эпизоде сливаются в одно разнообразные влечения позднего романтизма — к живому и к неживому, к забавному и к страшному, к прекрасному и к уродливому. Мне кажется, что особо обольстительны здесь антитезы чего-то очень местного и чего-то совсем безместного, существующего без помина категорий местного, по месту определенного. Кажется, что все это знакомые, много раз виденные места, подробности и лица, и эта садовая
391
решетка, и этот бродячий фокусник-музыкант, и эта кукла его, — и в то же время на всем этом лежит налет небывалого, только однажды приснившегося, а может быть, и не приснившегося даже, — нам всего только снилось, что был у нас такой сон.
Стихотворение Брентано «Знаменитая повариха» («Die berühmte Köchin») можно рассматривать как юмор Брентано по поводу некоторых изделий собственного искусства. Повариха, она же великий кондитер, приготовляет себе из теста красавца и защитника. В девятнадцати строфах рассказано, как он делается, этот кондитерский человечек, каждый раз приходится по целой строфе на немногие детали. Тут есть сходство с Арнимом, с тем, как Изабелла Египетская из корня альрауна вытачивала Корнелия Непота, ставшего ей другом и пособником. Повариха у Брентано делает работу художника пластического, как Изабелла. Художество совершается с помощью сладкого теста и миндаля, зерен какао и других колониальных товаров. Песенка поварихи не то рабочая, как где-нибудь у мельницы, не то детская, игрушечная. Происходит состязание инфантильного с чем-то подлинным, забавы с чувством. Повариха печет свой идеал. Рыцарь поварихи и защитник выпечен, сердце у него бисквитное, шлем из пряностей, у сабли рукоять сахарная, а клинок из корицы. Повариха работает затейливо и мелко, как и нужно на эту фигурку, на этого уменьшенного человечка из уменьшенного мира. Я думаю, стихи эти можно рассматривать как некоторый эстетический самоотчет сказок Брентано, самоотчет — он же и критика по собственному адресу, своеобразный самоанализ.
Иные новеллы Брентано едва отделимы от его сказок. Нужно иметь в виду остроумную новеллу о нескольких Веймюллерах, напечатанную впервые в 1817 году38. Веймюллер — странствующий художник, он пустился путешествовать по Венгрии, заранее заготовив тридцать девять портретных схем — тридцать девять венгерских национальных физиономий. Пусть заказчики выбирают себе лицо какое хотят, а потом он каждому пририсует еще и мундир, который будет строго индивидуальным. У Веймюллера соперник, другой бродячий художник, с манерою противоположной, — Фрошауер, у которого на портретах уже готовые мундиры, и только лица дописываются дополнительно. Так как метод Веймюллера пользуется бо́льшим
392
успехом, заказчики хотят большей свободы в выборе мундиров, к лицам они почти безразличны, то Фрошауер начинает рисовать, как рисует Веймюллер, и во всем выдает себя за него. Это наказание Веймюллеру — он не придавал значения лицам, и вот собственное лицо у него оказалось как бы смытым. В новелле этой есть родственность внутренним мотивам «Знаменитой поварихи». И тут, и там трактуется искусство, ставшее деланьем, ремеслом. У ранних романтиков — у Новалиса, у Тика, у Вакенродера в особенности — связь искусства с ремеслом была святой связью, была связью с глубокими, насущными интересами жизни. Ко времени Брентано оценка ремесла в обществе решительно изменилась, связь с ним стала чем-то профанирующим и низводящим. В одном случае ремесло — родитель искусства, в другом антагонист его. В одном случае оно — способ жизни и личного развития, преддверие к мастерской Альбрехта Дюрера, в другом — всего только средство к жизни, доход, к тому же убогий, фабрика еще до фабрики, труд без души и смысла. В оценке ремесла видна вся социальная эволюция с XVIII по XIX век.
В новеллу вставлены небольшие рассказы, среди них рассказ кроатского дворянина «Пикник кота по имени Морес» — о том, как кошки целыми полчищами нападают на раковины с устрицами, когда те отворяются во время морских приливов. Отлив — и кошки застигнуты, лапы их ущемлены внезапно закрывшимися раковинами, откуда они не успели достать то, что хотели. Рассказ безумен и дик, юмор тот, что кошки заставляют морские приливы и отливы, так сказать, прислуживать им за столом, море, стихия сервирует кошачий стол. Обычный в сказках Брентано юмор космоса. Сопоставление котов и моря: грандиозное и первозданное несет службу у мелких потребностей, самодержавие мелкого и маленького. Гротеск: великое на побегушках у того, кто менее чем мал.
К 1817—1818 годам литературная жизнь Брентано, собственно, окончилась. Отныне он служит не литературе, но католической церкви. Строгая католическая поэтесса Луиза Гензель, в которую он был влюблен в Берлине в эти годы, отвергла его и указала ему на монастырь как на лучший выход. После всех метаний и терзаний, неспособный найти для себя место в жизни.
393
он в конце концов находит мнимое убежище. Это и на самом деле был монастырь, в городке Дюльмене. Брентано постриг не принял, а поселился вблизи несчастной Катерины Эммерих, безнадежно больной девушки, у которой открылись стигматы и которая стала прорицать. Катерина была славой дюльменского монастыря. Умерла Катерина в 1824 году. Брентано не отходил от нее почти до самой ее смерти. Все было брошено, Брентано лучшее свое призвание видел в том, чтобы сводить в книги те беседы, которые у него происходили в Дюльмене с нею. Таких книг он написал две: «Страдания господа нашего Иисуса Христа», 1833, и «Жизнь девы Марии», изданную посмертно, в 1852 году. Обе имели немалый успех у католической пропаганды и неоднократно ею переиздавались. Мы знаем, что первую из них читал Адам Мицкевич, прошедший через кризис, сходный с кризисом Брентано39. После первой мировой войны ученый пастор Винфрид Хюмпфнер подверг экзегезе записи Брентано. Орден августинцев, в котором числилась Катерина Эммерих, возбудил вопрос об ее канонизации. Винфриду Хюмпфнеру поручалось проверить, достойна ли она. Материал содержался в книгах Брентано. И вот что оказалось: видения и откровения Катерины Эммерих были полностью им сочинены, книги его о Катерине пестрели самыми неприличными заимствованиями из литературных источников иудейских, магометанских, даже из Корана, под чьим влиянием будто бы находилась будущая святая римской церкви40. Вряд ли Брентано шел на сознательный подлог. Уже будучи автором более чем десяти томов сочинений в стихах и в прозе, он все еще отрицал в себе литератора и все еще искал для себя настоящих занятий. Но все же он был профессиональным писателем до самой глубины своего сознания, это вышло наружу и там, где было менее всего уместным. В конце концов, им владели не католицизм, и не Катерина Эммерих, а прирожденные ему интересы слова. Впрочем, Брентано, умерший только в 1842 году, делал все возможное, чтобы изуродовать свое дарование. Он отрекся от себя, от своего искусства и принял меры, чтобы старые его произведения выходили в свет только в изуродованном виде.
Брентано — знаменательный писатель. История Клеменса Брентано в дальнейшем развитии литературы повторялась еще не однажды с великим множеством но-
394
вых и очень важных подробностей. Брентано служил для дальнейшего как бы предваряющей схемой. Эти великие запросы, предъявленные к современной жизни, не однажды кончались отречением от нее, то более, то менее глубоким. Разумеется, не могли иметь личное только значение главные темы Брентано: отвращение к чувственной практике современного общества, к его антихудожественному строю, к его прозаизму. В несравненных масштабах, с несравненно более обогащенным содержанием все это есть и у Гоголя, и у Бальзака. В Клеменсе Брентано нашла себе раннее выражение судьба великих поэтов Европы, появившихся как наследники колоссального переворота, давшего жизнь современному буржуазному обществу. Нечто родственное Брентано есть в судьбе Словацкого и Мицкевича, даже Генрих Гейне в своем «Романсеро» и в других последних своих произведениях нередко подчиняется схеме Брентано, он, как и Брентано, тоже один из бедствующих. Судьба Брентано трагична тем более, что Брентано в иных случаях соседствовал с опытом, который при измененных исторических условиях, мог бы избавить его от катастрофы. Брентано как не многие писатели XIX столетия был внимателен к народной литературе. И все же вернее сказать, как было это и в отношении матриархата, что он находился в очень близкой близи к этой культуре и до настоящих истин ее не достиг. Так злополучны были все его обстоятельства, что даже из народной культуры он извлек мотивы для собственной гибели — философию нищеты и аскезы. Но значительность трагедии определяется не одной ее развязкой, она лежит и в предшествующих актах. Как ни потрясает нас катастрофа Брентано, мы не можем не сказать, что с точки зрения целостного хода истории она наступила преждевременно, когда еще не был достаточно исчерпан социальный опыт нового для Брентано века. Брентано не богат художественным раскрытием этого опыта. Ему не дано было узнать и малой доли увиденного Бальзаком или Гоголем. Он был лириком, поэтом боли, когда еще недоступны и мало исследованы были источники ее и причины.
Генрих фон Клейст родился в 1777 году в дворянской прусской семье. Фон Клейсты всех ветвей по традиции служили в прусской армии — и до поэта, и после него поставляли ей офицеров и генералов. Место в обществе, в государстве, профессия и служба были для него заранее предрешены, борьба с этой предрешенностью заняла у Клейста немало времени и стоила ему настоящих страданий. Почти мальчиком он уже ефрейтор прусской армии, воюющей против Французской революции, участвует в осаде Майнца. Он рвется вон из солдатчины, мечтает о том, чтобы принадлежать самому себе, войти в мир культуры и ее интересов, бросается изучать математику, философию, древние языки. В 1799-м ему удается в чине лейтенанта выйти в отставку. В родном городе Франкфурте-на-Одере поступает в университет, по-прежнему лихорадочно осваивает науки, обучает им не только себя, но и свою невесту, от которой позднее по причинам не до конца ясным он отказывается, после того уже не делая больше попыток основать семью, хотя семья и входит в его идеалы. Он беспокоен чрезвычайно, меняет занятия, странствует по Германии, живет в Париже, в Швейцарии и далеко не сразу открывает в себе поэта. Сперва он заботился об одном только умственном и нравственном совершенствовании, первые свидетельства о нем показывают, что его питала вначале одна культура просветительства, и лишь на правах второго элемента к ней присоединилась попозже культура романтизма. Нечто от просветительства взятое сохранялось в Клейсте навсегда, и к концу у Клейста это выступило с несомненной ясностью. Стоит только помянуть Клейста и Кантову мораль, совершенно бездейственную у романтиков, а у Клейста воскресшую в обновленном смысле в «Принце Гомбургском», последней его драме.
Клейст был натурой неблагополучной, обстоятельства биографии только развивали в нем, доводили до избытка болезненные его предрасположения. Для него был неудобоносим собственный гений, и он же страдал от недоверия к нему, от сомнений в нем. Его терзали одна за другой неудачи, а от себя он требовал не только обыкновен-
396
ных побед, но побед небывалых. Он хотел быть драматическим поэтом не меньшего значения, чем Софокл и Шекспир, грозил в иные минуты, что сорвет венок с головы у Гете. Не нужно рассматривать это как бахвальство. Это был своеобразный способ мучить самого себя, требовать от своей работы невыполнимого, доводить себя до изнурения и отчаяния, ибо Клейст продолжал считать, что он страшно далек от равенства с Шекспиром и древностью. Родные и самые близкие не могли ему простить писательства. Он всю жизнь заботился доказать им, что правильно выбрал свою странную для семейных традиций профессию; от одного из фон Клейстов ожидались в писательстве, раз уже он решился на него, некие верховнейшие достижения, между тем нового места в жизни у него после старого, оставленного, не было, в литературе его не замечали, драмы не проникали на сцену. Казалось бы, Клейст-художник располагает могуществом, которое должно бы подчинять ему читателей и театральных зрителей беспрекословно. На деле же современники воспринимали его с трудом, и только отдельные восторженные голоса из их среды нам известны, один такой голос — Э.-Т.-А. Гофман, только приступивший еще к писательству в городе Бамберге, погруженный в свои музыкальные и театральные дела. От Гете, главнейшего судьи в литературе, поступали по поводу Клейста одни отрицательные приговоры. Обработанного Клейстом «Амфитриона» Гете отвергнул, защищая от Клейста античную версию Плавта и ренессансно-классическую Мольера. У себя в дневнике Гете записал о Клейсте, что тот добивается варварских эффектов — «смятения чувств» («Die Verwirrung der Gefühle»). Если это и было справедливо, то почему Клейст таков — Гете не желал вникать. Гете предоставлял молодых поэтов самим себе, ограничиваясь неодобрением. Гете милостивее отозвался на «Разбитый кувшин», хотя и написал Адаму Мюллеру, тогдашнему другу Клейста, что комедия эта относится к «невидимому театру», то есть с театром как он есть он считаться не желает. Комедию Клейста Гете принял к постановке на веймарской сцене, где она 2 марта 1808 года бурно провалилась, срежиссированная безо всякого внимания к ее характеру и стилю. К «Пентесилее» Гете отнесся, как того и следовало ожидать, неприязненно. Неудачи с Гете и возле Гете в Веймаре неисцелимо ранили Клейста. Предполагался тот максимум признания, которого
397
динственно и домогался Клейст, и так как он не был получен, то уже мало значения имели те или иные успехи, которых, впрочем, тоже было не много.
Странности натуры, неуменье и неохота жить сообразно обстоятельствам нисколько не препятствовали Клейсту искать для себя обыкновенной практической деятельности. В 1800 году он служил в Берлине по департаменту таможенных и акцизных сборов. По делам службы он осматривал фабрики и заводы Саксонии, письма того времени показывают живой его интерес к вопросам экономики и управления. В 1805—1807 годах он занимал должность сходного характера в Кенигсберге. Некоторую школу жизни Клейст, таким образом, прошел через армию и через канцелярию. Если искать, то следы этой школы нетрудно заметить в его сочинениях.
Клейста омрачало политическое унижение Германии, подвластной Наполеону. Он был немецким патриотом самого высокого накала, ненависть к Наполеону и его империи у Клейста принимала едва ли не размеры подлинной душевной болезни. После иенского поражения и разгрома Пруссии в 1806 году он не находил себе места, ринулся в патриотическую публицистику и пропаганду. В 1808 году вместе с Адамом Мюллером он издает политический журнал «Феб» («Phoebus»). Малый успех этого издания не останавливает Клейста. Он готовит материалы для нового журнала, который он проектирует. В 1810 году под главенством Клейста выпускается антифранцузский «Берлинский вечерний листок» («Berliner Abendblätter»), просуществовавший недолго из-за равнодушия читателей. Хотя как публицист и журналист Клейст остался почти без отклика, тем не менее опыты его в этой области полны остроты и энергии, он здесь был на редкость инициативен и изобретателен, умел оживлять и разнообразить свой репертуар. Он надеялся на спасение Германии от Наполеона то через Пруссию, то через Австрию, но в 1809 году и Австрия была разбита наголову.
Этому человеку, задыхавшемуся от замыслов литературных и политических, кипевшему ими, нечего было делать. Его едва печатали, драмы его не ставились, последние драмы по причинам политическим были невозможными ни в печати, ни на сцене. Среди романтиков он был одинокой фигурой, и уже по этой одной причине историки
398
литературы не всегда уверены в его принадлежности к романтизму. Он водился с Арнимом, с Брентано, те не совсем чуждались его. Еще дружил он с добрейшим Фуке, но что мог понимать автор «Ундины» в творце «Пентесилеи»! Еще страдал он от бедности, которой стыдился. Прожитая жизнь представлялась ему неоправданной, к поражениям присоединялись поражения — писательские, личного порядка, как бы подражавшие тем, что понесены немецким народом на полях войны. У Клейста сложилось решение. 21 ноября 1811 года у озера Ванзее возле Берлина он покончил с собой. Подругой по самоубийству была некая Генриетта Фогель — его недавняя знакомая, смертельно больная женщина, которой тоже нужен был насильственный исход.
В 1825 году Арним писал Вильгельму Гримму, что ему довелось увидеть на берлинской сцене «Кетхен из Гейльбронна» в ужасающей переделке некоего литературно-театрального вредителя Гольбейна, но, сидя у себя в ложе, Арним подумал о бедняге Клейсте: добейся он хотя бы и такого, искаженного исполнения своей драмы в Берлине, он бы остался жив1. Можно предположить, что Арним был прав. Многие горести свели Клейста в могилу, но горчайшей из них было непризнание2.
Клейст-художник всего полнее выразил себя в драматургии. Ею он начал, ею он кончил, тогда как новеллы его, тоже замечательные, относятся только к последним годам его писательства. Клейст — драматург по призванию. Сейчас немцы почти без разногласий считают его первым среди своих драматических поэтов, а в драме немецкая литература издавна сильна. Когда Горький в период своей особой строгости к драматургии, очень обдуманно отбирая, назвал шесть лучших в мировой драматургии имен, то среди них были Шекспир, Лопе де Вега, Кальдерон, Шиллер, Клейст, Гюго3.
Первые опыты Клейста относятся к так называемой «драме судьбы». Напечатанное весной 1803 года «Семейство Шроффенштейн» именно и есть «драма судьбы», сложившаяся у Клейста задолго до того, как она стала жанром, подвергавшимся у немецких авторов бесконечной эксплуатации. «Драма судьбы» — театральная аналогия «черного» романа, и здесь и там мы имеем дело с романтическим натурализмом во всем его своеобразии.
399
Источником «судьбы» для романтиков служила социальная действительность, заставшая их врасплох на склоне Французской революции. Как все революционное поколение, приученное к мысли, что они сами делают историю, они сейчас должны были претерпевать действие истории на них и над ними. На них обрушилась неуправляемая стихия социальных отношений, они переживали некое нашествие «объекта», нисколько не желавшего считаться с их вкусами и надеждами. У Клейста, как и у прочих, плен у «объекта», неволя у «объекта», рабство перед социальными силами — это и есть судьба.
В первой своей драме, да и в последующих, Клейст соразмеряется с событиями, происходящими на мировой арене, в этом отношении оставаясь верным универсализму ранних, да отчасти и поздних романтиков. Жизнь, как она совершается в Германии, для него только часть мировой жизни, присущих ей коллизий и потрясений, более крупно и отчетливо там выраженных, чем в провинциальных немецких условиях. Небезразлично, что в первоначальных версиях «Семейство Шроффенштейн» разыгрывалось вовсе не в Германии, но на испанской почве, — сперва называлось оно «Die Familie Thierrez», потом «Die Familie Ghonorez», и под конец только в третьем заглавии появилось вместо испанских имен немецкое «Die Familie Schroffenstein». При всех этих вариациях текст не подвергался каким-либо существенным изменениям, ничего характерно немецкого в последнюю версию Клейст не внес. Драма его трактовала не ту или иную местность и нацию, а некое всех обязующее мировое состояние. Германия не столько изображалась в этой драме, сколько подразумевалась среди других земель и мест со сходными отношениями.
Настоящая тема «Шроффенштейнов» — собственность. В основе сюжета борьба двух семейств Шроффенштейнов, одно из Росситца во главе c Рупертом, другое из Варванда во главе с Сильвестром. Есть уговор, что если у одной из ветвей этих мужская линия прекратился, то все земли, что были за нею, переходят к другой. И вот с тех пор оба семейства находятся в вечной злобе и подозрениях. У тех из Варванда погиб когда-то сын, и Варванд обвинил людей из Росситца; тем нужна была его гибель, и те его погубили. Драма начинается сценами страшных клятв ненависти и мести в Росситце, — война и смерть Варванду. Не сразу открывается повод и имя повода, — это ма-
400
ленький Петер, сын Руперта, тело которого было найдено с отрубленными от руки пальцами. Сцена в капелле у гроба с хоровыми заклинаниями щемительно-страшна, как похоронное начало в «Генрихе VI» у Шекспира.
Драма Клейста трактует в особом ее образе ту власть вещей, денег, имуществ, которая с новой энергией обуяла послереволюционную Европу. У Клейста это «власть земли», майоратные страсти. Если в драме его дано средневековье испанское, преобразованное в немецкое, то оно ничем не сродни идеальному, наивному, невинному средневековью в драмах и в романах берлинского его друга, простоватого Фуке. Уже и феодальная земля у Клейста отравлена, и в ней уже все подвержено терзаниям собственности, — назойливые для самого Клейста и для его современников, они оказываются стародавней силой, проходящей насквозь эпохи и эпохи.
Имущественные страсти старинных феодалов Клейст изображает по внушениям новейшего социального опыта. У классиков, у просветителей материальная практика человека представала чем-то строго ограниченным. Люди этих стилей в отношении своих материальных дел проявляли холодный рационализм, — не они для имущества, но имущество для них. Обратное, какая-нибудь власть или еще хуже того — сверхвласть имущества над человеком в доромантической литературе сопрягалась с комизмом, это был какой-нибудь мольеровский Гарпагон. У романтиков материальные интересы проявляются, как это и подобало интересам в их развитой буржуазной природе, как сила сверхуниверсальная и иррациональная, не комедийная, но трагическая. Хотя и смутно еще, все же у романтиков намечается отход от Мольера и приближение к Бальзаку. По своему исповеданию материальных интересов, по своим страстям этого рода человек у романтиков ближе к Гобсеку, чем к Гарпагону. Уже у Тика в «Экберте» и в «Руненберге» влияние золота глубоко входит в человеческую душу, изменяет восприятия и чувства. Так и у Клейста. Материальные интересы не составляют какого-либо отдельного участка в душе, не являются всего только задачей для соображающего и подсчитывающего ума. Они заполняют все. Руперт одержим идеей земли, на которую якобы покушается Сильвестр. С тех пор как возникло соглашение о землях между Росситцем и Варнаидом, и тут и там все по-настоящему тяжело больны. Руперт заражает своей дикой враждой и изуверской
401
подозрительностью всех людей, вокруг него стоящих, в Росситце господствует настоящая эпидемия ненависти к Варванду. Руперт воспринимает в искаженном виде людей из Варванда, точно дьявол вычернил им лица. Гельдерлин в «Смерти Эмпедокла» обличал собственность, как средостение, возникшее между природой и человеком. У Клейста собственность отделяет человека от людей. Между людьми завелась третья сила материальных интересов, и все их отношения приобрели нечто призрачное и ложное. Никак невозможно переубедить безумствующего Руперта, что Сильвестр, хозяин Варванда, совсем не тот, каким он его только и умеет видеть. По-домашнему добродушный Сильвестр, как убежден Руперт, заговорщик, убийца, предатель, весь освещенный черными огнями. Доброжелательный Иеронимус, который ходит из Росситца в Варванд и обратно, и он попадает для Руперта под адское освещение. Происходит отчуждение человека от человека. Вместо живых и добрых лиц — маски имущественных замыслов и устремлений. Эрих Шмидт назвал «Шроффенштейнов» трагедией ошибок4. Он имел в виду некоторые перипетии развязки, где происходят прямые ошибки и прямые подмены одного лица другим (Оттокара Агнесой и Агнесы Оттокаром). Можно бы говорить о трагедии ошибок в более общем смысле. Люди фатально ошибаются друг в друге, видят не то и чуют не то. Убито непосредственное восприятие чужой личности, ее настоящие излучения не доходят до других, вместо подлинного лица с жаром, с гневом сочиняют другое, непохожее и всегда злодейское.
Примечательно у Клейста упорное стремление его персонажей выйти из этого мирка, куда они загнаны немилостью материальных отношений — немилостью «судьбы». Свет в драме то сжимается, то ширится. За истину, за разум при наибольшем неблагоприятствовании стоят отдельные люди и в Варванде и в Росситце. Жены владельцев и того и другого поместья пытаются остановить события. О Иеронимусе уже упоминалось. Важнейшее — любовь Оттокара, сына Руперта, к дочери Сильвестра Агнесе. Они встречаются где-то в стороне, среди скал, у светлых вод, не сразу узнавая, кто они такие и что разъединяет их. Их сравнивали с Максом и Теклой и, что правдоподобнее, с Ромео и Джульеттой. Всюду нестойкость непосредственных отношений, всюду они готовы погаснуть, но Оттокар и Агнеса остаются друг перед другом
403
все теми же. Оттокар не теряет в Агнесе Агнесу и она в нем Оттокара. Оба они в эпилоге трагедии погибли, но не погибла их миссия — восстановлен человеческий мир в его былой красе и в его былом смысле. С разных сторон налицо усилия этого рода, в средоточии их — Оттокар и Агнеса. Уже у Клейста получила силу позднеромантическая концепция: мир фетишизирован, околдован мертвой материей, расколдовать его могут только любящие — они сохранились как живые, неовеществленные, лица, как живые души, с них может и должно начаться возрождение. Клейст существенно отличается от более поздней «драмы судьбы», где все навсегда заболочено, все плывет в туманах вековой предопределенности, человек не смеет спорить, шевельнуться по-своему, и ему предоставлено только право принимать на себя по порядку все ему приготовленное. Герои Клейста противодействуют судьбе, и сам он, автор, сохраняет перед ней свою самостоятельность. Клейст идет на трагедию не потому, что он восторжествует завтра, но потому, что торжествовал вчера. Он не намерен расстаться со всеми верованиями минувшего века, и, мы увидим, после трудных испытаний, посреди самих этих испытаний он по-своему их сохранит. Агнесу, переодетую Оттокаром, убил отец ее Сильвестр — старый Капулетти убил Джульетту. Оттокара, переодетого Агнесой, убил отец его Руперт — Монтекки убил Ромео. Слепой старик Сильвестр, дед Агнесы, первый открыл, какая подмена здесь произошла. Клейст кончает дело символизмом. Слепой увидел, а зрячие ничего не видели. Они обманывали самих себя. Это был обман внутреннего зрения. Они ужасающе ошиблись, ибо не хотели понимать и отучились понимать, каковы явления жизни в их собственной безотносительной природе, без того, что люди заранее вменяют им.
В этой первой драме Клейста полностью почти сложился характерный для него речевой стиль — для него и для будущей драматургии XIX и XX веков. По всей видимости, Клейст — предтеча этого стиля.
Драма Клейста написана как будто бы в речевой манере Шиллера, теми же, что у Шиллера, декламационными пятистопными ямбами, но за кулисами этого стиха идет жизнь, едва ли предусмотренная у Шиллера. Взаимоотношения персонажей лишены ясности и открытости, свойственной им у Шиллера. В речевом стиле драмы У Клейста обобщаются частные темы ее, вражда двух
403
фамилий представлена как повседневная вражда между людьми, как врожденное им, от века данное худое понимание друг друга, а то и вовсе неспособность к пониманию, хотя бы самому приблизительному. Пятистопная ямбовая драма есть памятник некой большой и веками сложившейся социальной философии и эстетики человеческих отношений. Подразумевается мир, обладающий такой степенью внутренней ясности, что все в нем облекается в слово, да еще в какое слово — продуманное, законченное, стройное. Есть некий общий разум, обнимающий всех людей, и в речах, которыми они обмениваются в драме, разум этот проявляется наружу. Мир ямбовой драмы — торжество человеческого общения на основах равенства и внутренней доступности каждого каждому.
Клейст усомнился в благополучии и в благообразии, царствующих в драме, в ямбах драмы, хотя он и сам продолжал их писать. У него сохраняется вся декламационная поверхность традиционной драматургии в стихах, но она предназначается у него не столько для прямого выражения переживаемого в драме, сколько для заслона. Клейст — отец подтекста в драматургии нового времени. Этим термином, пущенным в оборот Станиславским, стали чудовищно злоупотреблять, все сваливая в подтекст, все, что служит выразительности художественной речи, все именуется этим именем. Если послушать некоторых теоретиков, то все тропы суть явления подтекста, вся символика, включая и метафору и метонимию, — подтекст, синекдоха — опять-таки подтекст, всякое косвенное выражение — прямая принадлежность подтекста. Если же чему-либо из фигур стилистики близок подтекст, то скорее всего эвфемизму: дурное, сомнительное, отрицательное, некрасивое называется так, чтобы они стали приемлемы, дается нехорошим предметам место в хорошей речи, они улучшаются, эвфемизм — благоговорение. Самое главное: нестройному, недружескому, по-животному инстинктуальному человеческому обществу придан вид стройного целого, разумом проникнутого. У Клейста побеждал пессимистический взгляд на взаимоотношения людей, он начинал «Шроффенштейнами» и кончил мрачнейшим мраком «Землетрясения в Чили». Внутренние мотивы людей — каждый сам за себя и против другого, у человека нет истинной опоры в среде других, в своих решениях, в своих неудачах или достижениях он предоставлен самому себе. Однако же люди со всеми своими
404
обособлениями остаются внутри общества, и для них невозможно существование независимо от него. Они ведут внутри него войну ежечасную, но необъявленную. За повседневными отношениями прячется некрасивый хаос. Люди ведут войну среди официально признанных обстоятельств мира и пользуясь этими обстоятельствами. В этом подчинении общественным нормам того, что по внутренней своей природе уклоняется от них, и состоит эвфемизм, о котором шла речь, — дикое, безобразное принимает на себя черты допустимого и благовидного. Не нужно думать, что тут действуют обман и притворство, хотя и то и другое случается сплошь да рядом. Ведь и в самом деле действующим людям нужны эти общественные нормы, которых они придерживаются, впади они в первозданную откровенность, всякая жизнь в обществе прекратилась бы тогда. Станиславский, Вахтангов, лучшие теоретики подтекста и хозяева сценической практики его, так и понимали подтекст, как протекающую по-своему, собственными путями, жизнь, поддерживающую, однако, тот минимум, а то и максимум, без которых связи между людьми кончились бы.
Само наличие подтекстовой действительности Клейст-романтик не мог не оценивать трагически. Классики и просветители, Шиллер среди них, понимали связи людей в драме все же с некоторой обреченностью, это были связи больше формально-правовые, чем по всем внутренним мотивам жизни. Для романтиков связи эти глубже и интимнее, общество есть органическое целое, переплетение братской крови с братской кровью, поэтому тем болезненнее всякая неполнота связей между людьми, все нарушения ее. Текст связей людей глубоко изъязвляется подтекстом тайной войны между ними. Угадывание неблагообразного подтекста создает в ямбовом тексте трагедии Клейста глубокие темные бреши. Следует говорить о ранах, о яде подтекста.
У Клейста нет светлого пространства классической трагедии, очищенного от эпизодов уродливых и тягостных, полностью отнесенных за сцену. Клейст тоже не позволяет страшным вещам совершаться воочию перед зрителями, он их тоже помещает за сценой, но так, что они просвечивают и в конце концов тоже присутствуют. Они происходят в трагедии как раз в то время, когда зритель узнает о них. Есть разница места, и нет разницы во времени. За сценой челядь избивает дубинами Иеронимуса,
405
тот поднимается и снова падает. Вы этого не видите, это видит жена Руперта Шроффенштейна, стоящая у окна и она рассказывает вам, что творится там во дворе. Вместо классического вестника, рассказ которого охлажден временем, у Клейста рассказ о том, что разыгрывается сию же минуту. Действительность происходящего еще усиливается, — мы слышим за сценой непонятные крики, и от этого они еще страшнее. Эвфемизм показа страшных вещей у Клейста иной раз кажется нетвердым, вот-вот эвфемизм уступит напору страшных вещей, за ним стоящих, и они поразят нас во всей своей наготе. У Клейста страшное длится, тогда как у классиков, милосердия ради, от него требуется краткость. Когда Оттокар прыгает из высокого окна тюрьмы, чтобы спасти Агнесу, театральный занавес падает, и только к следующему акту, и то не сразу, вы узнаете, что Оттокар остался цел и что Агнеса предупреждена. Впрочем, убийцы все равно сделают свое дело.
В классической трагедии слово сближает и уравнивает персонажей, создавая из них с известной плавностью в речевом отношении благоустроенный коллектив. У Клейста стиховая речь прерывисто, болезненно, с трудом, оставляя постоянные трещины, объединяет персонажей. На каждом шагу встречаются противодействия. Ритмические фразы разорваны, окончание стиха очень часто переносится в следующую строку, причем один и тот же стих охватывает враждебные реплики двух персонажей, раскрашивается двумя противоположными интонациями, общий ямб только оттеняет, насколько по-разному может он звучать. В классической драме Шиллера через речь проходят объективные содержания, и персонажи — только органы его («рупоры», по известному выражению Маркса). Для персонажей Клейста общий мир, общее дело, общий смысл с самого начала распадаются, они — антагонисты и скорее всего их объединяет борьба друг с другом.
Клейст — автор замечательной статьи о мысли и о говорении (1805), которая многое поясняет в его драматической поэтике5. Речь для Клейста — формообразующий элемент мысли, мысль создается через слово, рождается вместе с ним, — «мысль появляется в разговоре» (l’idée vient en parlant). Это точка зрения драматурга. Диалог в драме не есть платоновское искание истины совместными усилиями, он соединяет говорящих, разделяя их. Слу-
406
щатель — противник, вам нужен слушатель, потому что сопротивление воодушевляет вас. Одно только присутствие слушателя, разговор, в котором одна сторона без слов, — и того уже достаточно, чтобы мысль возымела нужную энергию. Всякий диалог для Клейста происходит в условиях как бы военного столкновения. Слово для Клейста — это политика, стратегия, притом тайные, речь — взаимодействие между людьми, чаще всего полуявственное, и лишь затем взаимодействие идей, представленных этими людьми. Слово не просто обращено к своему предмету, как это свойственно классической драме, но помножено и еще раз помножено на отношения между людьми, видоизменяется этими отношениями, определяется ими.
У Клейста персонажи сплошь да рядом даже и не ставят себе целью овладеть истиной в разговоре, довести ее до себя и до ближних, как об этом заботится наивно-разумный персонаж Шиллера и других классиков. Персонаж Клейста желает совсем другого — не истиной нужно ему овладеть, а тем человеком, который вместе с ним находится на сцене, подвергнуть его внушению, навязать ему свои цели, обезоружить его, даже попросту обмануть его. Все это можно проводить только прикровенно, по ту сторону ямба. У Шиллера даже заинтересованный персонаж все-таки оправдывает себя разумными положениями, старается открыть другим глаза на эти положения, на некий «предмет», его красноречие — это красноречие и жар самого предмета. Даже великий интриган графиня Терцки — и та в «Валленштейне» Шиллера прибегает к настоящей и неотразимой логике. У Клейста страстная речь героя — корыстный жар, что еще более бросается в глаза в следующей драме его «Роберт Гискар». Герои Клейста прибегают к софистике, к инсинуациям, к угрозам, к прямой лжи. У Клейста ложь героев — новое средство выразить их, как художник он пользуется ложью как особой краской на палитре, как чем-то вроде охры, как чем-то еще желтее и ядовитее. На сцене лгут, и вы угадываете, чего хотят герои на самом деле, сквозь краски лжи для вас пробивается истина. Слово для героев Клейста в важные для них минуты слишком откровенное средство, иные сцены проходят почти бессловесно. Тот же страшный эпизод из «Шроффенштейнов», когда под окнами убивают Иеронимуса: перед зрителем фальшивая мизансцена — настоящая мизансцена лжи, ибо
407
Руперт совершенно спокоен, не трогается с места и делает вид, что не причастен к этому делу и даже не понимает происходящего. На деле же несчастного Иеронимуса убивают по прямому распоряжению Руперта, и Руперт своей медлительностью и вялостью, своим невмешательством только поощряет убийц; он молчит, чтобы дать убийцам время. Напрасно жена, смотрящая в окно, молит его заступиться. Когда с Иеронимусом покончено, только тогда Руперт начинает говорить, притворно допрашивать, кто виновник расправы.
Клеменсу Брентано принадлежит злой отзыв о манере Клейста: «Клейст представляет себе своих персонажей глухими и придурковатыми, и так через постоянные выспрашивания и повторения тех же тирад у Клейста и образуется драматический диалог»6. В этой сатире Брентано много верного: диалог у Клейста действительно «разговор глухих», только диалог этот не смешон. Герои Клейста настолько погружены каждый в свой несветлый мир, настолько разобщены по существу своему, что, разговаривая, они в известном смысле не слышат друг друга. Общие слова, слова для всех людей у Клейста ослаблены, — и когда та же тирада, та же реплика у него повторяется и повторяется, переходя из уст в уста, это, собственно, каждый раз новые слова. В позднейшем «Амфитрионе» Амфитрион повторяет тирады Алкмены, обновляет их, повторяя: что для нас просто и естественно, то ему, непосвященному, несет смятение и ужас. Персонаж переспрашивает, «репетирует» чужую тираду с тем, чтобы перевести ее на особый, свой собственный язык, чтобы примениться к ней, а может быть, и то, что в это время он высматривает намерения противника, от которого пришли эти слова, и выигрывает время для двусмысленного ответа. В первой сцене второго акта между Оттокаром и Агнесой из стиха в стих несется слово одного корня: убить, убийство — «morden», «Morden», «Mord». Первым произнес это слово Оттокар, пришедший из злодейского, злоумышленного Варванда. Это слово как бы запнулось в тексте диалога, нужно, чтобы и Агнеса приучилась к нему, в живом для нее словаре нет такого слова. У Клейста действующие лица стоят рядом, а слова идут так медленно от одного к другому, что можно думать — между ними версты, между ними годы. Очень часто не сами слова чего-либо стоят в диалоге, а все дело в навязанной им заранее предрешенности, с которой их
408
выслушивают. Завязка «Шроффенштейнов» исходит из недопонятых чужих слов, из слов, которых никто не хотел понять, — люди из Варванда, схваченные Рупертом, что-то бормотали, эту невнятицу Руперт считает яснейшим свидетельством, что Сильвестр Шроффенштейн — убийца маленького Петера и что именно он подослал этих людей. Руперт слышит не слушая, он сам создает тот смысл, который будто бы следует из чужих слов.
Ложь, отемняющая персонажей Клейста, очень часто вовсе и не бывает сознательной, нарочитой, — персонажи искренни и не могут знать правды, не могут понять мира, в котором они живут, поступков ближних и даже собственных поступков. Клейстовскпй диалог трагичен, потому что люди, несмотря ни на что, несмотря на преграды в самих себе, все же ищут словами друг друга, все же хотят побрататься друг с другом через речь и добиться истины. Диалог Клейста при всей его разорванности, все же полон напряженности, он выражает труд общения, труд собирания воедино разрозненных людей с их разрозненными духовными мирами и труд овладения духовной правдой. И эта внутренняя энергия диалога при отдельных чертах сходства существенно отличает сценическую речь Клейста от речи Гауптмана или Метерлинка, где так заметна тенденция к бытовому, если не мистическому безразличию слова, к умышленной вялости общения и полному распадению говорящих и где объективное состояние вещей никого не беспокоит. Клейст-драматург никогда не отказывался от стиха, стиху в драме изнутри присуща интегрирующая сила, сколько бы он ни разбивался, как бы ни обособлялись отдельные его частности. Клейст начинает с ямбовой постройки и, пусть ее подтачивает подтекст, она выстаивает в конце концов, и ей свойственна сила удерживать впечатление единого, стройного человеческого мира или хотя бы призывать к этому миру.
Почти одновременно со «Шроффенштейнами» (1802—1803) Клейст пишет трагедию «Роберт Гискар». Клейст эту трагедию возил с собою в своих странствиях, читал, перечитывал и то восхищался, то ненавидел. Наконец он перестал надеяться на нее и в 1803 году в Париже отправил рукопись трагедии в огонь. Единственный до нас дошедший фрагмент напечатан в 1808 году самим Клейстом,
409
когда для журнала «Феб» он восстановил один из эпизодов уничтоженной трагедии. Клейст был драматичен до самых основ своей натуры, — не только в отношениях к миру людей, не только в духовном своем развитии, но и в своих авторских отношениях к собственным драмам. Он покарал «Гискара» огнем, а потом, как видно, раскаялся, что, однако, помогло ему только отчасти.
Фрагмент «Гискара» — свидетельство об огромных успехах Клейста-художника, сравнительно со «Шроффенштейнами», а также и свидетельство о трудных, рискованных путях, на которые он встал. Роберт Гискар — герой особого рода. Лицо историческое, норманнский вождь XI века, завоеватель Южной Италии. Клейст прочел о нем специальное сочинение Функа, напечатанное Шиллером в альманахе «Оры» в 1797 году. Что означал выбор такого героя, разъяснилось последующей деятельностью и последующими высказываниями Клейста. Гискар — крупный разбойник и авантюрист, по-своему большой человек, способный на большие предприятия, но всегда и всюду по ту сторону добра и зла. Гискар — сила как таковая. Клейста волновала да и соблазняла сила, которая не ищет для себя оправданий. Европа вступала в период, когда в исторической жизни исчезали на политической сцене все мотивы и мотивации, кроме самых грубо очевидных: если кому дана сила и сильный притязает на что-либо, то все будет, как он того хотел. Сводились на нет различия между силой и правом, силу и стали интерпретировать как подлинное право, как достаточный аргумент в пользу его. Освободительные войны Французской революции заменились завоевательными, началась диктатура Наполеона, приближался год объявления империи Наполеоном. В еще не объявленной, как позднее и в объявленной наполеоновской империи все совершалось по закону наибольшей силы, причем с полнейшей откровенностью, без прикрас. Наполеон любил блеск политического цинизма. Как известно, он презирал «идеологов» — людей, которым не жилось без моральных и правовых обоснований. Народы Европы падали перед ним, ибо его армия была лучше, и в других доводах в пользу своего господства он не нуждался. Я несколько захожу вперед, говоря об этой наполеоновской апофеотике силы, в начале нового века она еще не вся обозначилась, но Клейст уже воспринял ее. Я думаю, у Наполеона не было современника в Европе, который лучше Клейста прочувствовал бы и понял, что принесло его
410
господство. В «Роберте Гискаре» это только начинается, но весь Клейст — трагический отзвук на эту силу, на голую эту силу, на идеологию силы — идеологию все же, как бы ни отрицал Наполеон этот термин. От Наполеона не только исходили материальные действия, он нес с собою еще и некую общую мысль, воспитывавшую его современников. Германия, как одна из главных жертв наполеоновских завоеваний, болезненней других стран переживала имперскую политику и идеологию Наполеона. Самое главное то, что она явилась не только их страдательным объектом. Германия завидовала наполеоновской Франции. Франция была школой свободы и стала школой успеха, у нее хотели учиться науке побеждать. Появилась идея усвоения самими немцами наполеоновских преимуществ. Не всегда немцы понимали, что в первоисточнике преимуществ этих лежит наследие Французской революции. Сила Наполеона состояла, независимо от того, что сам он об этом думал, не в одних количествах батальонов, а еще и в человеческом их материале, прошедшем через воспитание революцией, пусть этот опыт при Наполеоне и попирался, — старый Фриц[3] считал, что бог всегда на той стороне, где батальонов больше, но это была старопрусская идея, далеко уже не достаточная в новых условиях. Вопрос о силе поставлен был историей, не в элементарном, но осложненном виде, и, по всей вероятности, не все тут для Клейста сразу стало ясным. Чуть позднее деятели прусской реформы, к которым у Клейста при всех оговорках была известная внутренняя близость, стремились усвоить Пруссии многое из внутренних мотивов французской политической и военной практики, причем они-то давали себе отчет, что Франция Наполеона есть Франция послереволюционная и что одним разогреванием старопрусских воинских традиций, одними дружинами, составленными из крепостных роботов, многого не добьешься, если хочешь отвечать французам ударами на удары.
Конечно, Клейст прошел через искушение идеологией силы, следы чего в его трагедии присутствуют. Он выбрал героя вне этики и дал ему трактовку в масштабах, отнюдь его не преуменьшающих. Гискар близок по облику некоторым героям Шиллера, людям голого успеха и голого материального торжества, — Фиеско, Валленштейну. Гискар писался с известным присматриванием к Наполеону, как было это и с Шиллером, когда писался Валленштейн. Тем не менее и эта трагедия Клейста сочинялась против
411
Шиллера, против принципов его театра. Ту же струну, что и Шиллер, Клейст тронул с решимостью, на которую Шиллер никогда бы не осмелился. И у Клейста были отступления, в конце концов к его счастью, и все-таки в этой своей трагедии он разработал совсем не шиллеровский идеал человека и героя. Много позднее, в 1810 году, в своем «Вечернем листке» Клейст обнародовал совсем небольшую статью — размышления о том, как движется мир, и здесь досказано многое впервые и едва сказанное в трагедии о Гискаре. Клейст говорит в своей статье об авторах, извративших настоящий ход мировой истории. Если им поверить, то сперва народы пребывают в грубости и в дикости, затем нравы их улучшаются, они изобретают науку добродетели, после чего изобретают эстетику и, наконец, искусство, где добродетель представлена в чувственных образах, чем и завоевывается высшая ступень культуры. Клейст считает нужным напомнить этим авторам, что у греков и римлян все шло в обратном порядке. Они начали с героической эпохи, потом падали и падали, вместо истинных доблестей сочиняли их, а еще позднее уже появились всего только теории этих сочиненностей7. Нетрудно увидеть в рассуждениях Клейста злую пародию на любимые идеи классического века, на философию истории Лессинга, Гердера, а более всего на трактат Шиллера об эстетическом воспитании. Клейст хочет поставить идеалом человека страстей и инстинктов, лишенного этической рефлексии, человека, который умел бы забыть себя в силе собственных деяний. Нет сомнений, что Роберт Гискар и был первообразом такого человека. Гискар воюет с Византией, одряхлевшей и близкой к разложению, в городе измена, и он опирается на измену. Перезрелая культура губит Византию, и у стен ее неискушенный варвар, от которого ей трудно спастись.
Отсюда не следует, что Роберт изображается у него безоговорочным триумфатором. Напротив, Роберт взят со всеми неблагоприятствованиями ему, внешними и внутренними, зачастую им глубоко заслуженными, и только в среде их ему позволено проявить незаурядную свою натуру.
Эпизод трагедии, известный нам, трактует последний поход Гискара — на Византию после Сицилии. Он стоит с войском у ворот Царьграда, у золотого города, о котором мечтал издавна. История этого разбойника уже со вступления позлащена романтикой. Небо Италии, небо над
412
Византией — романтическая голубая даль, предмет непрестанного томления, приблизившаяся вдруг на расстояние руки.
Великое напряжение этого эпизода в том, что Византия подле и Гискару никогда не овладеть Византией, не войти в Царьград. Он достиг Византии слишком поздно, старым и ветхим. Страшнее всего чума, разразившаяся в его войске. Солдаты умирают без битвы. В войске ропот, войско требует, чтобы Гискар снял осаду с византийской столицы и вел его домой. Но Гискар не может и не хочет отказаться от своего цареградского мечтания. Он продолжает удерживать войско вопреки всеобщему недовольству. Страшнее всего болезнь самого Гискара: чума постигла и его, он лежит распростертый в своем шатре и старается скрыть от войска свою болезнь, но уже по войску ходят слухи.
«Гискар» тоже входит в раму трагедии судьбы. Уже сама эта болезнь, повалившая целое войско накануне последнего успеха, за несколько шагов до цели, почти уже достигнутой, есть явление судьбы. Гундольф говорит по поводу «Гискара»: «Борьба Гискара с чумой — в этом действие трагедии»8. Очевидны аналогии с «Эдипом» Софокла. Чуму «Эдипа» Клейст призвал в свою трагедию, и, думаю, с нею привходит один важный мотив: возмездия. В «Шроффенштейнах» судьба имеет имя, это собственность, но не имеет своего особого ratio, ведь власть земли над человеком неизвестно как возникла и ни с чьей инициативой не связана. По-иному в «Гискаре». Он авантюрист, человек случая, чего же дивиться, если его остановил тоже случай. Гискар побеждал случаем, и от случая он же понес поражение. Нет каких-либо устойчивых, проверенных стихий, которые помогли бы ему в трудный час. Солдаты бунтуют, но почему бы им не бунтовать? Нет каких-либо идей, которые сдерживали бы их. Они пришли сюда ради наживы и находят черную смерть, как же им не требовать возвращения домой. Гискар весь в грехах, в правонарушениях, в обидах, которые он наносил другим. Теперь, когда он ослаб, события из темного его прошлого зашевелились. Воскресает давно забытый вопрос о престолонаследии между Робертом, сыном Гискара, и племянником его Абеляром, которого Гискар когда-то обездолил, намечается коллизия, тяжкая для войска и народа.
В центре фрагмента о Гискаре увещевательная речь Гискара к войску, подобная обращению Эдипа к жителям
413
Фив, измученным чумою. Гискар выходит из своего шатра — ему нужно убедить войско, что слухи о его болезни ложны, нужно сделать возможное и невозможное, чтобы не позволить солдатам уйти из-под Константинополя. Речь Гискара бодра, полна героического юмора, и, очевидно, она достигает своей цели, меняет настроение войска. Гискар противится судьбе, но судьба уже давно вошла в него, она владеет его телом. Болезнь, которую он так умело скрывает, готова выйти наружу. Гискар едва способен выстоять собственную речь, ему становится худо, ноги его не держат, дочь его Елена, тут же присутствующая, заметила его состояние и вовремя пододвинула к нему большой войсковой барабан. С барабана Гискар продолжает свое собеседование с солдатами, а внимательную Елену он благодарит вполголоса и мимоходом. Эта маленькая сцена с барабаном полна необозримого значения. Мимической сценой, двумя-тремя неуловимыми жестами, переменой позы передан решающий эпизод фрагмента. Пантомима с тех пор овладевает поэтикой Клейста с неудержимой последовательностью, из драматургии она потом переходит в новеллу Клейста. Сама по себе пантомима как сопровождение словесного текста никогда не была новостью в литературе. Новой она была в том значении, которое придается ей у Клейста, — как противоположная речь: словами сказано одно, мимикой обратное. Мимика становится одним из лучших, самых выразительных средств подтекста.
Еще Дидро говорил, что в пантомиме высказывается человек как он есть. В поздней своей статье о театре марионеток Клейст хвалил деревянную куклу за отсутствие в ней сознания, она не проверяет своих движений, поэтому они безупречно точны и истинны. Сознание, утверждает Клейст в этой статье, содержит в себе нечто порочное, оно разлагает естественное изящество мимики и жеста, оно приносит изломанность и ложь9.
В эпизоде с барабаном вся правда о Гискаре. Тело, выскользнувшее из-под власти сознания, предало, выдало то, что совершается в этом человеке на самом деле. Язык тела — тот страшный на этот раз язык, которым заговорила правда. Человек с дрожащими коленями обречен своей судьбе окончательно, но и здесь и сейчас он не показывает вида, что это так. Одна Елена понимает, что случилось, через обмененный взгляд у Гискара с нею происходит искренний глубоко доверительный разговор. Только они двое включены в настоящий разговор, в настоящее
414
общение, все множество остальных, здесь присутствующих, исключено. Сцена у барабана — художественное торжество подтекста. Он впервые стал у Клейста столь богато и столь фатально значителен. Вся эта военная трагедия держится на подтексте властителя и полководца, — он в великой тайной размолвке со своим войском, ведет против собственного войска тайную опасную игру с таким соотношением: на одной стороне он сам, на другой — все остальные во всем своем множестве. Против Гискара обстоятельства судьбы, собственное войско, эпидемия, в него самого проникшая болезнь, а он сопротивляется. Как видим, только строго-настрого наедине с самим собой, при одном-единственном свидетеле среди всех окружающих он дозволяет себе минуту слабости. В сцене перед войском Клейст дает красоту этому человеку, действующему вне морали, — красоту, которой не было, например, у Валленштейна. Весь Гискар как он был и есть — неправда. Но Клейст в этой сцене представляет нам величие неправды.
Я полагаю, что Клейст уничтожил свою трагедию из-за необычности замысла. Он слишком основательно вошел в гуманистическую культуру своих ближайших предшественников, чтобы легко освоиться с собственным героем, с сильным человеком Гискаром. Исторические и культурные предпосылки были таковы, что Клейст не мог отважиться на апологетику силы. И снова скажем, что в этом было его счастье, ибо иначе ему суждена была бы бедность духовная и он всего лишь оказался бы предшественником Граббе с его яростью разрушения и покорения. Для Клейста сила составила предмет не апологетики, но проблематики, как это показывают его дальнейшие драмы. Все трудности вопроса о силе с годами открывались перед ним. Он покинул своего Гискара, когда всего труднее было держать его под защитой. Все темнело и темнело вокруг Гискара. Ведь по источникам мы знаем, что он уж замыслил свое последнее дурное дело, против последнего своего честного друга — дочери Елены. Он пришел к Царьграду, как он объявлял, ради справедливости, желая посадить на царство детей Елены, оттуда изгнанной. Но изменники византийские принцы обещают ему открыть ворота города, если он откажется от внуков и сам коронуется на византийское царство10. Клейст оборвал действие трагедии на эпизоде, после которого Гискару предстоят только черные дела. У него уже нет ни малейшей свободы выбора: время его истекает, нужно действовать
415
согласно всей узости обстоятельств й принудительности их.
Драма Клейста «Амфитрион», писавшаяся в Кенигсберге в 1805—1806 годах, изданная в 1807 году, идет тем же курсом, что и «Роберт Гискар». Клейст держится в «Амфитрионе» очень близко к тексту знаменитой комедии Мольера, собственные его привнесения невелики, в отношении Мольера он почти переводчик и только. Все же произведение Клейста сравнительно с Мольером новое и самостоятельное, он сообщил старой классической комедии неведомый ей дух, я называю «Амфитриона» в обработке Клейста драмой, чтобы в первую очередь указать на изменение жанра, предпринятое Клейстом: в иных случаях, в иных эпизодах его «Амфитрион» — бурный бурлеск, что не препятствует высокой патетичности его как целого. Мало назвать «Амфитриона» драмой, вернее, это мистерия, — именно таким задумывал Клейст свое произведение.
Подобно тому, как это было в «Гискаре», и здесь, в «Амфитрионе», идет пересмотр романтических и гуманистических ценностей. В «Гискаре» Клейст хочет договориться с силой и с силами, установить для себя положительную связь с ними. В «Амфитрионе» Клейст делает попытку признать авторитарные начала — пусть это будет бог, пусть это будет царь или другая инстанция, стоящая над человеком.
В «Амфитрионе» Клейст посягает на одну из верховных ценностей романтики — на безусловность человеческой индивидуальности. Одновременно в «Амфитрионе» принцип индивидуальности поднят на неимоверную высоту и тут же рядом подвергнут величайшему сомнению. Клейст тоже проникся романтической идеей мира как индивидуальности; подобно Фридриху Шлегелю, Новалису и Шеллингу, он готов принять, что мир как целое и единое есть по-своему некая личность, не есть безличное собрание частей и элементов, но весь проникнут общим, целостным выражением. Для романтиков античные мифы о богах и несли с собою эту мысль о личном существе мира, все мифы вместе взятые, с верховным божеством во главе, для них соразмерялись с этим пониманием мира как многообразно развитой единой личности. Гельдерлин упрощал античную мифологию, оставил в силе избранных богов, чтобы все они всем своим собранием не затемняли мира, за ними стоящего, с ему прирожденными качествами единого лица. Речь Юпитера к Алкмене (акт II) — сжатая про-
416
поведь философии пантеизма, какой ее принимали старшие романтики. Божество, сказано здесь, познается повсюду: оно — вечерняя заря, пробивающаяся сквозь кустарники, оно в рокоте вод, в соловьиных трелях, о нем возвещают и гора, громоздящаяся к небу, и водопады, низвергающиеся со скал... Все это единая жизнь, всепроникнутость единым индивидуальным значением. У Клейста Юпитер — отец богов, он же мир во всей его единственности, страждет личным чувством. Если сам верховный бог подвержен всем страстям индивидуального существа, то где же и как же найти для индивидуальности высшее оправдание? И именно в этой его одержимости индивидуальным началом следует искать объяснения, почему он, Юпитер, мог пожелать любви именно Алкмены, почему он так пристрастен именно к этой женщине, доступ к которой труден для него, почему он позавидовал личному счастью Амфитриона и Алкмены, почему решил его аннексировать для себя. У Клейста увеличено значение одного мотива, общего у него с Мольером. Юпитер проникает к Алкмене в дом Амфптрпона, фиванского полководца, который тем временем сражается вдали от Фив, приняв его облик[4]. Алкмена так любит своего Амфитриона и так верна ему, что это для Юпитера единственный способ приблизиться к ней. Он пользуется ее любовью как Лжеамфитрион, и это бередит его ревнивое сознание. Он хочет, пусть и малой мерой, быть для Алкмены не только Амфитрионом, ее супругом, но еще и кем-то другим. И тут он пускается на тонкие дефиниции: он убеждает Алкмену отличать в нем любовника от супруга, пусть Амфитрион, ее супруг, и тот, с кем она делила ночь, не сливаются для нее в одно лицо. У Клейста, при его концепции мира — индивидуальности, представленной в верховном боге, — это Юпитерово алкание быть для возлюбленной кем-то особым, персональным, приобретает более высокое значение, чем полученное им у Мольера.
Итак, индивидуальность заложена в самой основе универсума. В этой же драме Клейста демонстрируется, какой шаткой оказывается индивидуальность в лице людей, и эта шаткость в его драме не вызывает трагических сожалений. Время от времени Клейст в своей драме потрясает нас несчастьем индивидуумов, что не означает, будто он считает нужным эти несчастья устранить из бытия. Скорее иное: несчастья эти указывают, что не следует настаивать на собственной личности и на ее правах. Амфитрион
417
привык верить в самого себя, у него заслуги, у него слава, у него богатство. У него сладкая привычка к самому себе, к светлому дому, к собственной жене, ему хорошо и удобно находиться в собственной коже. Вдруг все меняется, жена, дом, собственное имя, собственное я попадают под сомнение, ибо возник кто-то другой, легко и уверенно действующий от его лица. Амфитрион утрачивает свою единственность — в этом его страдание. Утрачивает ее и слуга Амфитриона Созий, ибо как Амфитриона подменил Юпитер, так Созия подменил Меркурий, спутник и сподручный Юпитера. Но Созию не так уж хорошо в его рабском звании, чтобы слишком дорожить своей несовместимостью и незаменимостью. Совсем другое вельможнейший Амфитрион, ему более чем мучительно расставаться с самим собой, со своим именем, со своим положением. Кажется, ясна бытовая основа всех странных подмен и двоений в драме Клейста. Оно в явлении соперника. Амфитрион соперников не ведал и наслаждался своей единственностью. Она кончилась, едва возник соперник. Всякий соперник выступает в роли двойника: он хочет того же, что мы, он любит ту же, он стремится к тому же и тем самым нас удваивает. Амфитрион стал двоиться, как только соответственно ему стал действовать Юпитер, тоже влюбленный в Алкмену, жену Амфитриона. Существует каждодневный, обыкновеннейший риск, что вас кто-то повторит, что вы потеряете личную свою исключительность. Я думаю, одно с другим у Клейста согласуется. Универсум как целое, как единое есть незыблемая индивидуальность, могущественная в представительстве Юпитера. А отдельные единицы внутри этого единого, — те непрочны, их субстанция слаба, они под угрозой, и им следует не забывать об этом. Такова трагическая мелодия в этом произведении Клейста: весь мир пронизан страстью и трепетом индивидуализации, а в каждом отдельном случае она под сомнением, если не отрицается вовсе.
Уже у Мольера история Амфитриона несет с собой хаос — такова она по природе своей. Этот хаос особо приметен в условиях стиля и поэтики классицизма. Мольер строго держится предписанных в классицизме трех единств, а нарушается единство в совсем ином и непредвиденном, разумеется, поэтикой классицизма пункте. Есть единство действия, времени, места, и нет единства в самих действующих лицах. Алкмена общается с двумя Амфитрионами, не подозревая, что их двое. Один Амфитрион начи-
418
нает, другой продолжает, как если бы это был все один и тот же. Настоящий Амфитрион, смертельно негодуя, узнает о словах и действиях Амфитриона—Юпитера, которые, вопреки здравому рассудку, ему, хозяину дома в Филах, и приписываются. Роль одна, а составлена она из разных кусков, которые будто бы естественно следуют друг за другом. У Клейста атмосфера тягостных недоразумений еще больше сгущена сравнительно с Мольером. Клейст пользуется своим излюбленным «диалогом глухих», чем еще обостряются все диссонансы текста. Мольер посмеивается по поводу хаоса, который вызвал сам господь бог Юпитер, и Мольер умеет подчинять этот хаос классической дисциплине11.
У Клейста хаос выходит на большую волю, действующие лица проходят через ощутимейшие нравственные истязания, он создает, говоря словами Гете, подлинное «смятение чувств», и, вероятно, кроме Достоевского, не было в Европе писателя, который проводил бы своих персонажей через такие же, как у Клейста, мучения и мучительства, — надо думать, что отчасти Клейст и подготовил немцев к Достоевскому, как и обратно, только после Достоевского Клейст стал для немцев более приемлем. Алкмена и Амфитрион ведь и в самом деле у Клейста самые настоящие мученики — они мучимы тем непонятным и, по всей видимости, безобразным, что вторглось в их отношения: Алкмена — своей ролью нечаянной блудницы, Амфитрион — своей ролью трагического рогоносца, мужа, соперник которого мистичен и неуловим. Гундольф об этой по моделям древних написанной комедии говорит: «Dies Hysterisieren von Hellas» — «эта истеризация Эллады»12.
Гармонию в хаос своей драмы Клейсту удается внести только под самый ее конец. Юпитер возвещает Алкмене, что от союза с ним родится у нее сын Геракл, славнейший из героев. Так в это попрание личных чувств Амфитриона и Алкмены, в это изничтожение Юпитером их личной любви входит после долгих колебаний оправдательный смысл: Алкмена и Амфитрион принесли себя в жертву ради того, чтобы в Элладе родился герой и спаситель. Клейст взял этот эпилог прямо из «Амфитриона» Плавта, — мотив Геракла у Мольера отсутствует. С помощью этого мотива завершается превращение остроумнейшего Мольерова фарса в мистерию зачатия богочеловека. Адам Мюллер, католический философ, старавшийся в ту пору
419
держать Клейста на своей стороне,
был очень доволен этой развязкой, которую Клейст дал своей драме. Он увидел в
драме Клейста косвенную реабилитацию христианских догматов, в частности догмата
о непорочном зачатии. Он спешил провести параллели: Геракл — младенец Христос,
Алкмена —
В «Амфитрионе» сказались со всею очевидностью некоторые особенности литературной манеры Клейста. Здесь он обнаруживает свое пристрастие к парадоксу, — к парадоксу фабулы, психологии, авторских замыслов и мысли. В «Амфитрионе» хорошо видны характерные для Клейста смешения варварства и утонченности. Жестокости относительно действующих лиц, относительно театральных зрителей, все пережитое персонажами и сопереживающими, соединяются с кормлением зрителей блюдами из самой изысканной и литературной и философской кухни. Клейст ведет мистерию по контурам фарса с самым нефилософским сюжетом, историю об одном прелюбодеянии он нагружает религиозной, космической и социальной символикой. Томас Манн говорит: «Таков обычай Клейста — обожествлять фривольное или же придавать ему демонизм»14. У Клейста редкостная смелость сочетаний, несомненная экстатичность идет рядом с софистикой, эротика опирается на силлогизмы и силлогизмы на эротику. Причудливую его поэтику не однажды пытались объяснить беспорядком, царившим у него в душе. Но можно попробовать и не обращаться к этому ultima ratio — прямо к душе поэта. Можно что-то сделать, присматриваясь к самой его мысли и к материи его художества. Собственно, Клейст в «Амфитрионе» делает опыт вернуться к консервативнейшим истинам, к прописям и к догматам, с борьбы против которых началась его эпоха. Теперь хотят спастись возвращением к таким положениям, как, приемля верховные силы и их веления, сокращать свою личность, остерегаться гнева богов в любом его значении и смысле. Я думаю, олько через рафинированность контекста, через орнаменты парадоксов Клейст мог примирить с этими тезисами собственную литературную и философскую совесть. Он хотел примкнуть к новой действительности и решался на идейные жертвы, тут же по-особому выкупая их. Каким неровным, неспокойным, неокончательным было это примыкание к окружающим его вещам и фактам, об этом скажет просмотр всего написанного после «Гискара» и «Амфитриона».
_________
420
Трагедия Клейста «Пентесилея» (1808) — величайшее из его созданий, идейное и художественное средоточие драматических произведений, написанных им. В «Гискаре», в «Амфитрионе» почти забыта романтика, Клейст готов предаться началам, враждебным ей. «Пентесилея» — трагедия женщины, трагедия женственности и любви, а через них и самой романтики. Здесь нет веры в спасительную миссию любви, как в «Шроффенштейнах». В «Пентесилее» Клейст как бы спохватывается, что же станется с любовью, с романтикой, если поклониться, как он это сделал в «Гискаре», злой силе, если допустить тиранию авторитетов, как это он сделал в «Амфитрионе». Где господствуют сила и авторитет, там любовь уничтожается. Но у Клейста и материально уничтоженные любовь и романтика в «Пентесилее» сохраняются в качестве наивысших и бесспорнейших духовных ценностей.
Фабула о Пентесилее, царице амазонок, которые берут женихов прямо с поля битвы, соприкасается с мотивами матриархата, позднее развитыми в драмах Захарии Вернера, Брентано и Грильпарцера. По-своему близка она к мотивам освобожденной женщины у Фр. Шлегеля, Шлейермахера и Брентано, к скорбной идеологии любви у того же Брентано и у Арнима. Царство амазонок — смутная романтическая догадка о временах материнского права и некая проекция в отдаленнейшее прошлое женской психологии и морали из крайне-модернистских романов Фр. Шлегеля и Брентано. Пентесилея — отчасти Либуше еще не написанных драматических поэм Брентано и Грильпарцера, и решусь сказать — какими-то частицами своего существа она Люцинда, уже сочиненная Фр. Шлегелем. Тема женской эмансипации, принесенная Французской революцией и ранними романтиками, играет в «Пентесилее». Быть может, она связана с еще более специальными явлениями времен революции, с воинственными женщинами якобинских клубов, с теми женскими батальонами, которые требовали от Конвента отправки их в армию на защиту революции15. Пентесилея Клейста в одном лице и самая древняя и самая новая женщина. Об амазонках, сражающихся под стенами Трои, сказано в «Илиаде». Клейст старается проникнуть в более глубокую античность, чем сама античность, но тут же он модернизирует безжалостно классичнейшую античность Гомера. Чем писать роман-модерн, Клейст на античной основе создает новый колоссальный миф вселенского значения,
421
История амазонок имеет у Клейста свою предысторию, и предыстория эта, по Клейсту, наполнена варварской общественной анархией. Коснулась анархия и женщин Фемискиры, страдавших от невыносимого произвола мужчин-угнетателей. Женщины восстали, они решили положить конец всеобщему беззаконию, для себя они потребовали человеческих прав. Женщины объявили собственное свободное государство. В государстве женщин исключена любовь. В любви усматривается источник женского рабства. Любовь — область слабости и доверия, уступчивости и личной преданности. Любящая женщина беззащитна, она доступна деспотизму, она еще до неволи невольница. Любовь изгоняется из обихода женского государства, и оставлено по необходимости вещей одно только размножение16. В назначенные сроки амазонки отправляются в набег за мужьями, потом совершаются кратковременные браки, и когда потомство обеспечено, они отпускают своих пленников с подарками, как грубых работников, трудившихся по найму. Родившихся у них мальчиков амазонки убивают, оставляют только девочек, — и так растет население государства женщин.
И тема и все перипетии «Пентесилеи» были сущий клад для любителей толковать литературу в сексуальном смысле, и так уже начиная с Крафт-Эбинга и вплоть до Стефана Цвейга, и все дальше и дальше, до самых наших дней. Однако же не подлежит сомнению социальный пафос этой трагедии Клейста. Царство амазонок — царство формального равенства, оно установлено женщинами, чтобы выдержать формальное равенство с окружающим мужским миром. Женщины создали собственное царство защиты ради, чтобы никто не смел посягнуть на их личность, чтобы оградить всех и каждую из них от поработителей, откуда бы ни нагрянули они17.
Именно в этой трагедии Клейста мир представлен как гигантская империя силы, как арена сил, беспощадных друг к другу. Равенство заключается в том, что всякому и всякой дозволено практиковать собственную силу. Всюду ведутся великие, а то и величайшие состязания. Люди должны полностью себя расходовать на них, дело идет о жизни и смерти. Нельзя что-либо себе оставлять, что-то откладывать на другие цели, кроме потребностей борьбы. Чем люди живы, чем люди дышат, все поедается дочиста этими потребностями. Надо умножать и еще умножать собственную силу, все па жертву ей, все брошено ей под
422
ноги. В трагедии Клейста по полям несутся ахейцы, все они жестоко сходствуют друг с другом, у всех уменье управлять конем, носить доспехи, разить оружием, которое им досталось. И Одиссей — сила, и Диомед — сила, и Антилох — тоже сила. Есть сила большая, есть сила меньшая, сила обезличивает людей. Все различия между ними поглощаются ею, остаются различия только по количеству. Исчезают различия индивидуальности мужской и женской. Чтобы властвовать над мужским миром, Пентесилея и подруги ее должны уподобиться этому миру, усвоить его железные качества, воинскую его дисциплину, его безжалостность и строгость в делах войны и мира. Независимость амазонок, по сути, есть особый вид их подчинения мужским идеалам и нормам, да еще в самых неприглядных их вариациях. Девушки Пентесилеи хотят подражать и подражают мужланству и солдатчине. Женское в них подавляется. И в этом первопричина трагедии. Царство амазонок и устав их царства возникли ради защиты женской личности и женского начала. К развязке защита убивает своих подзащитных. Таковы привычные уже в истории романтизма перипетии: охрана становится гибелью, средства сохранения становятся орудием разрушения и уничтожения. К тому же главным, если не единственным. Царство формального равенства поддерживает у Клейста анархию в ее наиболее полном виде. Сила остается в силе, идет звериная конкуренция унаследованных и благоприобретенных преимуществ, агрессивные инстинкты общества узаконены, в людях скрылось все людское, им присущее, и на поверхность жизни больше не выходит.
На фоне этой неустанной борьбы «всех против всех» и появляется в трагедии Клейста любовь — внезапная любовь царицы амазонок к герою ахейцев Ахиллу. Пентесилея привела свое девичье войско к стенам Трои, так как было указание ей и подругам искать женихов среди ахейцев. Пентесилея жестоко сражается с эллинами, но ищет не просто мужа и пленника, положенного ей по уставу амазонок, — ей нужен «этот», Ахилл, она выбирала и выбрала, хотя уставом выбор устраняется, так как выбор невольника — очеловеченье невольника и, вероятно, начало собственной неволи для того, кто выбирал. Протое, подруга Пентесилеи, тоже нарушила закон женского царства, и для нее Ликаон, взятый в плен, «этот», она не согласна обменять его. В Фемискиру, столицу амазонок, на
423
брачный праздник роз она желает привести не жениха без имени, но Ликаона, и никого другого.
Пентесилою смущают ее новые чувства. Пусть она того и не хочет, а она, так озабоченная правами собственной личности, впервые личностью стала только сейчас, ввиду Ахилла. Человеческое в ней появилось только через это новое для нее, невоинское отношение к герою ахеян; Как всякий романтик, Клейст не допускает, что борьба, вражда, обособление могут вырабатывать человеческую личность, которая, по романтикам, питается совсем иным способом — общением «от души к душе», органической связью с другими. Но доверчивые эти связи — опасные, если не смертельные. Пентесилея может убедиться в этом при первом взгляде на Ахилла. Внешний мир начинается уже сразу — с Ахилла, которого она любит. В «Шроффенштейнах» для Клейста любящие находятся вне общества. Но сейчас у Клейста достаточно соприкоснуться с одним-единственным человеком, и это уже все другие, это вступление во внешний мир, пусть человек, о котором речь, и будет вашей любовью. В нем содержится нечто типическое, обходиться с ним следует тоже типически.
Ахилл у Клейста не тот богоравный юноша, которого описал Гомер и которого Гельдерлин и Гегель считали лучшим образцом человечества. У Клейста Ахилл грубоват, его героизм не то солдатский, не то дуэлянтский по оттенкам, к войне он привык как профессионал, для него нет разницы между войной и миром, ему неведомы такие обстоятельства, при которых полагалось бы слишком церемониться с людьми. Любовь его может занять только мимоходом. О женщинах он рассуждает лихо и не слишком изящно. И сколько бы он ни был блестящ в обрисовке Клейста, сквозь речи его и поступки проглядывает некая типическая брутальность брутального мира, некая «схема мужчины» — существа, привыкшего господствовать в мире физическом и моральном. По временам мнится, что он не сын Пелея и Фетиды, морского божества, а вырос где-нибудь в бранденбургских песках и первые боевые отличия получил где-то в мелких войнах бранденбургских курфюрстов. Пентесилея боится своей любви к нему, потому что угадывает его. Она и любит и ненавидит Ахилла, она ненавидит свою любовь к нему. Она должна с бою взять его, обезоружить, обезвредить, а потом можно будет и предложить ему на время любовь. Пентесилея полагается только на собствен-
424
ное свое великодушие, а в чужое научена не верить. По полям битвы носится она за Ахиллом, преследует его, нападает с яростью, «любовь-вражда» не знает ни отдыха, ни срока. Пентесилея живет в мире, где господствует сила, и не может перешагнуть через это господство. Между тем едва ли не самое замечательное в психологии героини Клейста, что именно слабость, которая ей воспрещена, входит в самую глубокую и доподлинную ее индивидуальность. В неистовой и дикой Пентесилее есть нечто девичье, полудетское; кудрявая девочка, говорят о ней на сцене, руки у нее малы, ноги тоже малы, волосы у нее шелковые, ногами она будто впаялась в крапчатого коня, на нем она выезжает в битву. Она сразу и страшна, и прелестна, наполовину фурия, наполовину грация, — halb Furie, halb Grazie. Юное женское существо, она должна являться на люди конной и оружной — фурией, эриннией, копьеносцем, сеятелем смерти. Развитие трагедии в том, что сила это только принудительное мечтание для Пентесилеи, сила воина и грубияна, которую она с таким рвением имитирует, столь же недоступна ей, как и не нужна ей. Пентесилея не смеет быть самой собой, не смеет быть женщиной. Слабое, женское, по Клейсту, не имеет признания на земле, а должно бы его иметь.
Пентесилея — это судьба женского культа у романтиков, это судьба лирической стихии в образе женщины, это судьба самой романтики — романтику топчут кони на полях вокруг Илиона. Дело идет не об одной лишь участи женщин. Гибель женского начала, искоренение женственности — это великий ущерб и для мужской половины человеческого рода. Мужской мир сам нуждается в этом начале, он нищ и груб без него, в нем опора для доброты и лирики в мужской душе. Омужествление и одичание женщины — великий удар по мужскому царству.
Трагедия Клейста шире даже и этих очень широких тем. В сущности, утопия царства амазонок — некое сглаживанье пола и половых различий. Они остаются, но играют ограниченно или даже вовсе не играют. Трагедия Клейста — предчувствие романтиками того, что вообще в мире, как он дан им сегодня, гаснут различия, все идет к смерти подобному единообразию. Феномен творимой жизни, первооснова романтиков, весь стоял на игре различий, на переходах границ туда и обратно, при условии, что границы все же налицо — приблизительные границы,
425
как то ценили романтики. На трагическом горизонте Пентесилеи остывание жизни. Пентесилея с подругами добиваются жизни и свободы. Тот вид и та форма свободы, что доступны им, убивают их самих и все вокруг. Клейст не сделал сам этого вывода, но он лежит в недрах его трагедии: если согласиться, чтобы жизнь людей совершалась как вечный антагонизм сил, если все идет и будет идти от внешних материальных сил, имеющих санкцию на бесконтрольное действованье, то все развяжется столь же прискорбно, как в этом произведении. Кажется, мечта о замирившемся человечестве носится над событиями «Пентесилеи». Чем наделять каждого и каждую равными правами участия во всеобщей схватке, вернее упразднить самое схватку и ее основу — империю сил. Впрочем, еще раз нужно сказать, что решения этого рода у Клейста нет и с империей сил он все же искал компромиссов. Желание выйти из брутального мира и необходимость подчиниться брутальному миру у Клейста одно от другого неотделимо, очевидно, навсегда, ибо коллизия Пентесилеи не случайно представлена у него как вековечный миф.
В большой сцене, когда ослабевшая в битве Пептесилея попадает в плен к Ахиллу и он, когда вернулось к ней сознание, уверяет ее, что это он, Ахилл, ее пленник, происходит последний и окончательный поворот в трагедии. Пентесилея ошиблась в двух вещах: будто слабые иной раз побеждают и будто ей, Пентесилее, позволено иной раз быть слабой. Она думает, что Ахилл завоеван, и здесь впервые она держит перед Ахиллом нежные речи, рассказывает ему о себе, о своем царстве, о своих подругах, о своих родных и о своей любви к нему. За эту сцену обоюдного разоружения дорого платят и Ахилл и Пентесилея. Пленником Ахилл притворялся очень неохотно, его уговорили подруги Пентесилеи, но едва он увидел, что ему угрожает плен на самом деле, как с игрой его покончено. Он вскакивает, тащит за собой Пентесилею как свою добычу, и подруги с трудом спасают ее. Когда из ахейского лагеря Ахилл снова посылает Пентесилее вызов на поединок, та впадает в ярость, — зачем она могла поверить тогда Ахиллу, зачем унизила себя тогда нежностью и кротостью. Ахилл предлагает Пентесилее последний поединок, мысленно шутя с нею по-прежнему, он заранее решил сдаться; видя, что иначе ему нельзя с Пентесилеей, он согласился сделать все ей
426
на утеху. Навстречу Пентесплее он выходит с голыми руками, а Пентесилея, обезумевшая, движется на него с полчищами слонов, спускает на него свору бешеных собак. Он растерзан в клочья, а сама Пентесилея, которая не помнит себя, вместе с собаками терзает тело Ахилла.
Развязка дает трагедии важный акцент, она придает смыслу ее настоящий объем. В ней содержится свидетельство, что и любовь и ненависть Пентесилеи — это две реальности, из которых каждая не менее значительна, чем другая. Ахилл заслужил свою казнь. Он захотел шутить с самыми нешуточными вещами, с человеческим самолюбием Пентесилеи, с женской ее обидой, воинственность ее посчитал блажью и трагедию захотел обратить в комедию. Он, сильный — сильнейший из сильных, легкомысленно взглянул на пафос слабого к равенству, не пожелал понять, что перед ним сущие вещи, имеющие грозный вес. И он не оценил самой любви Пентесилеи, не веря в ненависть, не верил и в любовь. По Ахиллу, любовь не дорого стоит, а Пентесилея ненавидит Ахилла за свою любовь к нему, так как любить — это значит для нее поставить под удар собственную личность и собственную свободу.
Ахилл платится смертью за то, что не верит в самую проблему трагедии, для него это ложная проблема, он надеется артистически обойти ее. Игра и притворство Ахилла — это расчет на искусность, а искусство там, где неизбежно прямое обращение к реальностям.
Искусство самого Клейста есть великая и напряженная работа не мимо реальностей, а внутри них самих. «Пентесилея» — необыкновенное достижение Клейста как поэта, обладающего трагическим языком. Действие трагедии безостановочное, неистовое, оно сразу же начинается с высших нот и растет дальше без оглядки, от одной напряженности к другой, вызывая страх за средства автора, которых, однако ж, достает на все его траты, на то, чтобы единым духом изложить перед зрителем историю чрезвычайных страстей и потрясений, без разбивки ее на отдельные театральные акты, не отступая, не отдыхая на паузах. Пятиактная, большая трагедия целиком вмещается в один и единственный акт, единство действия возведено в небывалую гиперболу, как понимали его романтики. Оно и состояло для романтиков в сплошном единстве жизненного развития, в сосредоточении всех жизненных сил, более неделимых, потерявших различие
127
между внутренним и внешним, так как внутренняя энергия человека, направленная на внешний мир, целиком сливает его с собой. Клейст достигает непосредственности сценического зрелища. Деление трагедии на акты у поэтов классицизма превращало трагедию в фигуру силлогизма, трагедия двигалась от посылки к посылке, к заключению обнажалась рациональная связь событий, вместо реальной живой связи — связь мыслимая, рассудочная. Романтик Клейст хочет показать, как творится сама живая жизнь, как возникают и становятся не мысли о событиях, а сами события, как с живой жизнью ежеминутно справляются люди, как происходят трагические взрывы, как готовится материал для них, как люди выглядят накануне взрывов, во время них и после. Трагедия полна того жизненного хаоса, о котором писали романтики. Хаос вызывает на то, чтобы его устроили, и этого нет в «Пентесилее», хаос которой неустроенный, варварский. У позднего романтика Клейста нет оптимизма хаоса, как то было у идеологов иенской поры. О недобром, неплодотворном хаосе в «Пентесилее» твердят уже словесные метафоры, их много в трагедии, они создают атмосферу, «климат» ее, как это у романтиков называлось. Еще можно бы сказать, что метафоры трагедии Клейста получают смысл театрального освещения и театральной светотени. Люди у Клейста говорят об этой войне, изображенной на сцене, то как о дикой охоте, то как о конском ристалище, или они говорят о «красном ветре»: «рдяные невесты, невесты ветра» — войска амазонок. Уже эта одна перемена метафор, направленных на те же явления, то гасит их, то усиливает, придает им волнующийся характер, зыблет их, как это и делает брошенный на сцену свет.
Особое воздействие трагедии Клейста следует из ее стиля, телесного, пластического. Сцена переполнена движущимися, напряженно живущими телами, у Клейста телесные изображения впечатляют какой-то, им одним свойственной, зловещей навязчивостью. Мимика, жесты очень осязаемо затрагивают зрителя, и очень редко здесь что-либо проходит незамеченным. После поэзии развоплощений у ранних романтиков приходят не те новые на радость взорам тела и вещи, что были ими обещаны, но совсем иные, охваченные мраком. «Пентесилея» Клейста — печаль могучих тел. Клейстом тело трактуется в качестве органа слепой необходимости, в качестве пря-
428
мого проводника всех злых и пагубных сил человеческой действительности. Леонардо да Винчи писал: «Если бы тело твое было устроено согласно требованиям добродетели, ты бы не мог существовать в этом мире». Для Клейста тело и является средством приспособления к злому и дурному миру, в этом предпосылки «поэтики тела», первый ясный приступ к которой у Клейста уже в «Гискаре»: позы Гискара, телодвижения Гискара — это выраженная его болезнь, а до поры до времени они были также и сокрытием от окружающих его истинного состояния, прямым обманом войска и народа. В одних случаях тело было орудием зла, в других орудием лжи.
В трагедии Клейста господствует особая манера пододвигать зрителя поближе к событиям и действующим лицам. Сначала на сцене только рассказывают о происходящем, где-то в глубине сцены или же за сценой, — если искать злободневных сравнений, то это похоже на выразительный и быстрый репортаж со спортивного поля. Но вскоре то, о чем нам ведомо с чужих только слов, становится для нас зримым, события и лица переходят на авансцену, и после этой подготовки, своеобразной словесной репетиции, интенсивность зримого как бы удваивается, зримое получает особую мощность и актуальность. Бывшее для нас сначала всего только образом, усваиваемым изнутри, становится пространственным телом, все короче становится расстояние от него до нас, сидящих зрителями в партере.
Один из парадоксов поэтики Клейста в том, что значительность, одухотворенность вещи, у него изображенной, прямо пропорциональна ее незначительности, ее малозаметности в обычном восприятии. Вещь, которая всегда и всем казалась безличной, у Клейста может стать, хотя бы на минуту, неким колоссальным лицом. Клейст изображает мир в состоянии такой потрясенности, когда всякая разумная иерархия в нем смещена, и оттого-то у Клейста самое бессмысленное может становиться смыслом.
Лица, жесты, позы выражают у Клейста состояние души непосредственно, тело владеет душой, у души больше нет автономии. Когда Пентесилея смотрит на греков, еще не различая среди греков Ахилла, лицо ее «пусто, изваяно из камня, оно подобно ладони», рассказывает Одиссей. Было бы неправильно говорить о герое Клейста: лицо его отразило то-то и то-то. Лица у Клейста не
429
отражают, а сами есть[5] отражения. Ахилла сердит скептическое лицо Одиссея — он с раздражением говорит об особых черточках у Одиссеевых губ. Одиссей не одобряет Ахилловой авантюры с Пентесилеей, но об этом можно узнать по лицу Одиссея, на словах он сдержан. «Спрячь свое лицо, прошу тебя», — обращается к нему Ахилл. «Спрячь лицо» здесь означает: спрячь свою душу, Одиссей, мне отвратительна твоя душа.
Телесный стиль Клейста далеко перешагнул через человека, и это естественно, так как не в самом индивидуальном человеке центр одержащей его стихии. Герои Клейста погружены в сплошное физическое бытие, и оно движется, шевелится вместе с ними, если только не оно само управляет ими. Тело человека у Клейста как бы бесконечно расширяется, каждое его движение подымает за собой волны физического бытия, смущает и возмущает его. Одежда, вооружение становятся у Клейста неотъемлемой частью существа его героев, как шлем на голове скачущей в безумной скачке Пентесилеи, — «этот султан из перьев едва поспевает за ней», говорит этолиец, здесь присутствующий. Конь Пентесилеи — крапчатый конь, к которому она умеет в скачке прилипать всем телом, он тоже всегда и всюду кажется продолжением ее тела, и сама она, воинственная женщина со звериным телом, — женщиной-кентавром. Наконец, последняя сцена травли и гибели Ахилла. Пентесилея натравливает своих собак, называя их по именам: Тигрина, Леэна, Меламп, Акле, Сфинкс, Алектор, Оксус, Гиркаон. Потом все эти имена, врезая их, снова повторяет в своем рассказе Мерое. Эти бешеные собаки с именами, разорвавшие Ахилла, выпускаются на сцену как носительницы злой воли своей хозяйки, как странно одушевленные исполнители этой воли. Еще задолго до сцены с травлей говорилось о клокотании страстей как о спущенных неистовых псах. Имя — знак лица, знак сознания, у Клейста имя дается и там, где нет ни того, ни другого. Свора беснующихся собак у него странным образом различается по индивидуальностям, «по душам», и это умаление людских наших имен и лиц. Сознание для Клейста перемещается, стихийное, безответственное наделено сознанием, а личность человеческая, как будто бы имеющая все права на сознание и волю, в этой сцене прав этих лишена. Ведь для Клейста, когда Пентесилея в последний раз набрасывается на Ахилла, Пентесилеи как таковой здесь нет, а есть страшная пере-
430.
путанность человеческого и звериного — зоокосмического.
Пластический стиль Клейста — барочное ваяние, где тело человеческое становится образом неволи и мучения. В разных направлениях и смыслах наблюдается эта тенденция поздних романтиков к барокко. Одни идут к барокко от Ренессанса, как Арним, как Брентано, другие, как Клейст, прямо от античности. «Пентесилея» Клейста — конец пластического идеала Гельдерлина и Шеллинга лучшей его поры. Когда создавалась «Пентесилея» у Шеллинга, былого эллиниста, античные боги уже стояли на закате.
Клейст исповедался однажды, что в «Пентесилее» все печали и все блистание его души18. Он был предан этому своему детищу, так мало встретившему сочувствия во внешнем мире, и, посылая Гете опубликованный фрагмент «Пентесилеи», в сопроводительном письме написал, что делает это «на коленях собственного сердца»19. В этом произведении Клейст уведомляет о том, как теснят и уничтожают лучшие ценности — эллинизирующую романтику, а также романтику как таковую, индивидуальную любовь, человеческую душу на ее приволье.
В развязке «Пентесилеи» — мимическая сцена, одно из глубочайших созданий Клейста. Ахилл в клочья разорван псами Пентесилеи, а Пентесилея без дум, без слов, без мысли принимается чистить и приводить в порядок свое оружие — в руках она вертит ту самую стрелу, которой был поражен Ахилл, обтирает ее, она следит, чтобы не осталось ни пятнышка крови, она приучена всегда сама заботиться о своем луке и о своих стрелах. Наконец она аккуратно ставит эту отслужившую стрелу в колчан, где ей и положено быть.
Немая сцена успокоения Пентесилеи — настоящее ясновиденье художника. Здесь все угадано — каждая подробность подсказана концепцией художественного целого. Возня с оружием, чистка оружия, медленное возвращение Пентесилеи к самой себе. Все это автоматические жесты, автоматические движения. В ослабленном виде они продолжают недавнее состояние Пентесилеи, ее исступление и беспамятство, когда она бросила на Ахилла своих собак. Там были минуты безо всякого сознания, минуты голого действия. Сейчас Пентесилея как бы медленно спускается по лестнице автоматических движений: стрела, колчан, стрела, поставленная в колчан, — каждый раз
431.
это новая ступень, Пентесилея все ближе и к собственному сознанию. Если бы я не боялся грандиозных сравнений, я вспомнил бы, как у Гегеля абсолютный дух находит самого себя, узнает, что в нем содержится, ставя перед собой зеркало материального мира, так и Пентесилея в сцене с колчаном.
В один год с «Пентесилеей» Клейста появилась драма Захарии Вернера «Ванда, королева сарматов»: на веймарской сцене — 1808, в печати — 1810. Фабула ее почти совпадает с «Пентесилеей». Рюдигер, северный рыцарь, приходит в страну сарматов сватать Ванду, воинственную девушку, возглавляющую племя. Взять ее можно только войной, но в войне Рюдигер разбит, попадает в плен и просит у Ванды, чтобы та убила его собственными руками. Ванда, покончив со своим возлюбленным, сама на празднестве себя приносит в жертву — бросается с высокой скалы в Вислу. На празднестве этом она была царицей, жрицей и жертвой. В смерти — соединение Ванды и Рюдигера. Любовь, вражда и смерть образуют у Вернера метафизическую триаду. «Ванда» Вернера — замыслы и темы Клейста в их упадке. Драма Вернера — витиеватое, по-оперному красивое, написанное в испанском стиле произведение, играющее стиховыми формами, антитезой, загадочными афоризмами. Оно лишено трагического духа. Что для Клейста было орудием пытки, то здесь превращено в сценические игрушки, страдание — в декламацию, борьба — в интригу, иногда замысловатую. Вернер трагические коллизии, несчастье и безобразие воспринимает не только как должное, но и как эстетически приятное, делая из них предметы занимательных упражнений для сцены и слова. Клейст дал в «Пентесилее» трагическую фабулу любви-вражды, а Захария Вернер уже забавляется этой формулой, мало замечая живую трагическую материю, заключенную здесь. Романтический философ Г. Шуберт довольно пространно писал о «юморизме природы», в сочетании любви и вражды он и видел проявления этого юморизма20.
Но трагическая тема Клейста не погибла и в общей связи мировых литератур она позднее появилась в более обыденном и все же по-новому возвышенном виде. Что, например, являет собою история Сореля и Матильды де ла Моль, описанная Стендалем без всякого знания Клейста и без всякой мысли о Клейсте, как не ту же историю Ахилла и Пентесилеи, перенесенную на людей обыден-
432
ного роста и точно датированную в отношении места и времени? Клейст — мифолог злой любви, Стендаль или Лермонтов в романе о Печорине — ее историки и психологи. И именно Стендаля, а не Захарию Вернера имел перед собою Клейст в качестве исторической перспективы. Отношения эти знаменательны. В литературе романтиков впервые в гигантских утопических очертаниях появились темы будущего европейского реализма. Самим романтикам не удалось установить среднее расстояние между собой и собственными своими темами, как об этом говорят все их опыты «современного романа». Переход от «мифа» к «истории» совершили реалисты 20-х и 30-х годов, сами тоже воспитанные в среде романтического искусства. Таков переход от байронических тем, как они даны у Байрона, к новой их редакции у Стендаля и Бальзака. Корсар Байрона становится Гобсеком или стариком Гранде. Или же развитие Пушкина. Зрелый Пушкин дает новые версии темам и замыслам своего романтического периода, ранний миф об Алеко превращается в реальные истории Германна, Сильвио или Евгения. Внутри самой немецкой литературы XIX век не породил своего классического реализма, поэтому нужны сопоставления с чужими литературами. Так с «Пентесилеей», с позднейшим переходом мифа ее в реальную историю: миф принадлежит немцу, а история — французскому писателю.
В один год с «Пентесилеей» (1808) написана «Кетхен из Гейльбронна», по смыслу своему восполнение античной трагедии Клейста, хотя и трактующая совсем иные времена и иную историческую среду — немецкое средневековье, город и рыцарство. Генриху-Иозефу фон Коллину Клейст писал от 8 декабря 1808 года: «Кто любит Кетхен, для того не может остаться непонятной Пентесилея. Они друг к другу относятся как + и — в алгебре, обе они одно и то же существо, но рассмотренные с противоположных углов зрения»21.
Если снять с Пентесилеи панцирь, в который она заключила себя, то получится Кетхен. В то же время история Кетхен убеждает, что панцирь был неизбежен.
Кетхен, дочь почтенного оружейного мастера Теобальда, влюблена без всякого предела, без удержу в рыцаря Веттера фон Штраля. Она вышла к нему впервые с угощением в отцовском доме, с едой и кубками да подносе,
433
и поднос полетел у нее из рук, едва она увидела Веттера, и она упала в обморок. Потом она выбрасывается из окна отцовского дома на мостовую, где проезжает фон Штраль, лежит на мостовой «белой пеною», как говорится в одной русской песне. Она молода, красива, но фон Штраль по месту своему во внешнем мире для нее недосягаем. Она забывает обо всем, ничего не может поделать с наваждением любви, следует за рыцарем в походе, на войне. Магическая суть истории Кетхен — магия индивидуальной любви, колдовство выбора, ей присущее. В ночь под Новый год Кетхен впервые увидела во сне фон Штраля, входящего в сопровождении ангела к ней в темную комнату. В ту же ночь и фон Штраль, тогда смертельно больной, увидел во сне Кетхен. Сны любви с величайшими трудностями сбываются наяву. Веттер фон Штраль, каков он есть во внешнем мире, даже и мысли не допускает о какой-либо близости между собой и этой дочерью оружейника, и нужны сверхособые обстоятельства, чтобы фон Штраль взглянул на влюбленную Кетхен обыкновенными человеческими глазами. Он гонит ее, солдаты фон Штраля гонят ее, она ночует на соломе в конюшне фон Штраля или где-то на камнях за оградой, не смея к нему приблизиться. Рыцарь при всяком случае произносит перед ней жесткую отповедь, учит ее, отрицает ее. Мне кажется, есть какой-то один единый, общий смысл в этой большой трагедии; едва он почувствован, как становится почти излишним воспроизводить его сызнова и сызнова. Вот этот смысл: лирическая душа человека, получившая определение в кубическом мире. Само это определение для нее болезненно и оскорбительно, не в этом призвание лирической души, чтобы ютиться по острым и тупым углам. Страшное общество Кетхен на походе Веттера фон Штраль — мужчины и лошади. Она валяется на соломе возле лошадей фон Штраля. В этой драме Клейста и совершается это фатальное для дальнейших судеб романтики введение ее в кубический мир, в кубическое пространство с пребывающими в нем фигурами и предметами. Стоны и страдания Кетхен — от этого переселения лирической души в малоподобающее ей место. Кетхен, босая и беззащитная, выходит на размытую дорогу, где может ей повстречаться фон Штраль. Кетхен открыто выходит к миру и к людям, не стыдясь своей женской слабости, отстраняя от себя всякое оружие, будь то физическое, будь то моральное. Ни за что она не держится, среди лю-
434
дей, окружающих ее, Кетхен — «голая душа», за которую постоянно боязно и которая уцелевает чудом. Постоянный страх за Кетхен дает зрителю глубочайшую связь с нею — связь родства и внутреннего соучастия. Э.-Т.-А. Гофман писал из Бамберга по впечатлениям тамошнего театра: «Только три произведения равным образом глубоко впечатлили меня: ”Кетхен“, — ”Поклонение Кресту“, — ”Ромео и Джульетта“ — они ввергают меня в состояние поэтического сомнамбулизма, и я тогда постигаю природу романтики в великолепных ее, сияющих явлениях»22. Кетхен, как известно, служила шифром для собственных горестных переживаний Э.-Т.-А. Гофмана: он под именем ее записывал в своем дневнике состояния, в которые впадал и которые относились к реальной любви его к Юлии Марк. Женская красота и любовь прошла со времени раннего романтизма назидательную историю. У поздних романтиков красота более не способна спасти мир, она едва за себя постоять может. История Кетхен все способна рассказать по этому поводу. Красота и любовь — это унижение. Несчастная красота платится уже за то одно, что обладает телом и поэтому доступна любым оскорблениям извне.
Довольно добродушный детина Веттер фон Штраль, тот самый, которого она поставила над собой богом и господином, все-таки топчет ее своими солдатскими ногами. Он берет плетку со стены, чтобы проучить донимающую его своими преследованиями Кетхен. Кажется, что эта плетка физически вделана в страницы, до того болезненно живы впечатления от нее. Клейсту нужно, чтобы персонажи его в драме были восприняты и пережиты как материальные тела, как ограничение и неволя для свободного духа. Он дает почувствовать относительно одного или другого, сколько тот вмещает чужого пространства, каков кто ростом, кто выше, кто ниже, кому принадлежат в мире материи командные позиции. Веттер фон Штраль разгорячился в походе, звенья кольчуги на груди у него лопаются. Он слезает с коня, приехав за починкой к мастеру Теобальду, и тут мы узнаем, насколько Теобальд был мал ростом сравнительно с заказчиком: он со скамеечки едва достает до места, нуждающегося в починке. Когда Веттер входил в мастерскую, ему пришлось низко наклонить голову. Все это далеко не безразлично для стиля драмы. Фигуры ее действительно существуют в пространстве и своими правами в пространстве не поступаются.
435
Вдохновение к Кетхен пришло к Клейсту из одного произведения, жестокого и поэтичного, из старинной английской баллады «Граф Вальтер», обработанной Бюргером. Там без всякой пощады рассказаны испытания, назначенные графом Вальтером влюбленной в него девушке. Она уже беременна от него, а он заставляет ее, переодетую пажом, бежать за его конем, следовать за ним через кусты, болота и реки, разыскивать для него подружку на ночь, спать па полу у его постели, покамест он тешится с любовницей, и только когда мнимый паж в конюшне на соломе разрешается от бремени, граф Вальтер признает своим ребенка и обещает измученной девушке близкую свадьбу с нею. История девушки, сходствующая с историей Кетхен, лучшее объяснение, откуда у Клейста взялась тема Пентесилеи, тема великого женского бунта и великой самозащиты. Лирика обходилась женщине слишком дорого, государство амазонок создавалось для обуздания героев любви, подобных графу Вальтеру из английской баллады.
В драме «Кетхен из Гейльброииа» впервые заметны новые для Клейста приемы. Он старается избегать трагического. В этой драме события столько раз стояли на трагическом острие, и ничего — обошлось. Развязкой драмы служит нескладнейшая сказка, обидная для такого почтенного человека, как мастер Теобальд, до сей поры считавшегося отцом Кетхен, а сейчас уступившего свое место императору, который отныне против собственной его охоты признан родителем этой девушки. Вся эта фальшивая сказочная генетика очень ослабляет драму. Кетхен не могла не погибнуть в горестной своей любви Последний акт с разоблачениями Кунигунды, ее соперницы, с раскрытием императорского происхождения Кетхен явным образом присочиняется и только потому терпим. Красную Шапочку вместе с бабушкой слопал волк, и пусть их потом вытащат из волчьего чрева, для нас они все равно кончились, а Клейст надевает на эту свою трагедию панцирь сказки, под которым ей приходится плохо. Тогда ведь не только их развязка, но и все страсти и страдания Кетхен — сказка. Вся высокая, сверхобычная ее любовь есть сказка, вся напряженность и борьба за любовь тоже сказка. Из жизни тогда изымаются ее великие движущие силы, вся высокая ее серьезность, или же сохраняются за ней только частично, дробно, нищенски-условно. «Кетхен» — то великое произведение Клейста,
436
где он впервые себя допустил до переговоров со своим противником — образованным обывателем, постоянным посетителем немецких театров.
Комедию «Разбитый кувшин» Клейст впервые задумал в 1802 году и выполнил ее в 1806-м23. В 1807 году она злополучно провалилась на веймарской сцене, что ее достоинства лучшей комедии, сочиненной на немецком языке, нисколько не затрагивает, — в Веймаре проявили к ней величайшее непонимание. Конечно, фламандские нравы в этой комедии — худо прикрытые немецкие. Местечко под Утрехтом, где бесчинствует старый грешник судья Адам, легко возбуждает немецкие аналогии, а советник Вальтер, присланный из Утрехта, очень похож на прусских друзей внутренней реформы, пытавшихся, сколько они могли, преобразовать устаревшие учреждения и порядки.
Клейст одним из первых в литературе XIX века открыл всю художественную продуктивность темы публичного суда. После Клейста эту тему высоко ценили Диккенс, Толстой, Достоевский, Золя. Незадолго до Клейста Шиллер произнес свою знаменитую жалобу: формы современной жизни сопротивляются искусству, искусство нуждается в публичной жизни, и публичность эта у современников исчезла, суды, которые творились у городских ворот, перенесли во внутренность домов, письменность убила живое устное слово, живой человеческий коллектив, народность, массы превратились в абстрактное понятие. Шиллер требует от поэта, чтобы он снова отворил двери дворцов, вынес суды под открытое небо, вернул современной жизни непосредственность, поступая как современный скульптор, который заставляет свою модель сбросить современную одежду и предстать как голое живое тело (предисловие к «Мессинской невесте»). Комедия Клейста отчасти выполняет эти требования Шиллера. Это верное средство вызвать к публичности современного человека, отпавшего в свой частный быт. Здесь на сцену являются и он сам и вся его, до этой поры скрытая от чужих глаз, частная жизнь. Частная жизнь ведь и является в рассуждениях Шиллера главным препятствием для художника, ведь она-то и лишает современные отношения «непосредственности», делает их необозримыми и неуследимыми в их общей живой связи. Суд снимает это разделение на частное и публичное, на суде частное во-
437
лею особых обстоятельств превращается в публичное, нет ничего интимного, утаенного, уединенного, что бы здесь не могло быть призвано к гласности. Суд с его истцами, с его прениями сторон вызывает на сцену не одну чью-нибудь частную жизнь и частную личность, но множество их, и перед лицом суда устанавливается та общественная связь между одной частной жизнью и другой, которая оставалась в обыкновенных современных условиях невидимой, «отвлеченной», говоря словами Шиллера. Наконец, в комедии Клейста исполняется еще одно пожелание Шиллера — перед судом воскресает живая устная речь. Все эти крестьяне и мещане, привычные к скудным словам и мыслям, вполне довольствующим их в частном обиходе, здесь под давлением суда, под угрозой его приговоров приобретают неожиданный дар обвинений, жалоб, самозащиты, рассказа о самих себе, о своих соседях, о своих делах, близких и далеких целях. Фрау Марта Рулль, старик Фейт Тюмпель, сын его Рупрехт — все они один за другим становятся ораторами, поэтами своих обид и неудовольствий. Вместо абстрактного печатного слова, которое, по замечанию Шиллера, одно только и создает идеологическую связь между современными людьми, здесь со сцены слышны живые страстные речи, через которые и совершается этот переход от личного — интимного к публичному и общечеловеческому. Комедия Клейста выполняет по-своему и основное требование Шиллера, подразумеваемое во всех остальных — требование о вводе на сцену публичной силы, которая была бы по значению своему равна античному хору. Присутствующая в зале суда публика, свидетели — это и есть большой комедийный хор, на фоне общенародных хоровых сочувствий и несочувствий происходит судебный поединок, острие которого постоянно перемещается от Евы и Рупрехта в сторону самого судьи. На сцене частная жизнь привлекается к свету публичности, а сама большая публика, ради которой ведется этот процесс, тоже находится перед зрителями. Никто не может избежать проверки и анализа, чем дальше идет суд, тем подозрительнее и сам судья, тем яснее его корыстная личная заинтересованность в процессе. Клейст хотел создать и создал комедийного «Эдипа» — драму о судье, которого его же собственное расследование неожиданной игрой выясняемых фактов делает подсудимым.
439
Но судья — только последнее лицо среди разоблаченных. Ева, дочь Марты Рулль, стоит перед судьей и выслушивает темпераментные обвинительные речи собственной матери. Разбор ведется по вопросу, кто же разбил кувшин, принадлежащий Марте Рулль, но на суде исподволь выясняются вещи более значительные. Выясняется, что для фрау Рулль кувшин гораздо дороже дочери. Всенародно она бесславит собственную дочь, добиваясь ее ответа, что же вчера происходило в ее комнате в двенадцатом часу, когда оттуда послышались громкие мужские голоса и кувшин с грохотом свалился на пол. Из ее собственных показаний следует, что мужчин было двое, сначала один, затем другой, и оба они являлись к Еве на тайное свидание. Фрау Марта в своих показаниях задевает столь чувствительным образом репутацию дочки, сама не замечая этого. Интересует ее только кувшин, и Еву она чернит мимоходом, поскольку интересы розыска о кувшине этого требуют. Даже добродетель Евы сама по себе нисколько не важна для фрау Марты, она допытывается, не кто был предполагаемый соблазнитель, а кто же станет отвечать за разбитый кувшин, за пострадавшее имущество. К собственной дочери она злобно и слепо равнодушна.
Рупрехт, жених Евы, тоже буйствует на суде. Но у него другой интерес, чем у фрау Марты. До кувшина ему дела нет, но он должен знать, кто его соперник, кто был ночным гостем Евы. Он кричит и бешено бранится с места, ему вторит слабоумный старик Тюмпель, его папаша, оба негодуют, как смели Рупрехту испортить невесту накануне свадьбы. На суде происходит обычная для Клейста суета. Суд — это искание истины, но никто не желает истины, и каждый по-своему затрудняет к ней доступ. Каждый видит вещи только из своего собственного угла. Фрау Марта Рулль оскорблена за свою собственность — за кувшин, который разбили. Рупрехт негодует, зачем посягнули на его собственность — Еву. Судья Адам старается так запутать дело, чтобы нельзя было догадаться о его собственной роли в нем, — иначе он рискует местом и доходами.
Мы можем снова вспомнить о таких принципах поэтики драмы, как принцип текста и принцип подтекста. Мы вправе с этой точки зрения определить самый жанр комедии. Комедия — произведение, в котором весь подтекст вышел наружу, везде и повсюду дал знать о своем наличии. В комедии подтекст откровенно теснит и вы-
439
тесняет текст. Все начинается с благообразнейшего быта в деревне под Утрехтом, где судьей Адам. Комедия идет, и от благообразия следа не остается, мы видим ожесточенных собственников, их счеты друг с другом, совершенно беспощадные, мы видим замысловатую игру в этом мирке старика судьи Адама, который тщится сохранить здесь за собой господствующее положение. Животные основы человеческого существования обнажились больше, чем это им позволено. Подтекст заложен именно в них и именно через них действует. Клейст сам сравнивал свою комедию со старинной фламандской живописью. Это сравнение требует существенных оговорок, ибо картины старых фламандцев, как они думали, содержали в себе мир в его правде, а комедия Клейста — это мир в его лжи. Для Клейста фламандский живописный стиль не может вместить человека как он есть. Фламандский натюрморт присутствует и в комедии Клейста, но роли его чистым колоризмом не исчерпываются. Судья Адам, старый холостяк, чревоугодник и сластолюбец, устроил себе удобнейший и приятнейший быт, но что-то нечестное есть уже в этом одиноком самоублажении старого судьи, если даже забыть, на каких доходах оно держится.
Судья Адам пытается навязать угощение своему ревизору, советнику Вальтеру. На сцену являются заветнейшие яства из собранных судьей: брауншвейгская колбаса, данцигская водка, померанский копченый гусь, лимбургский сыр. Когда Вальтер соглашается только на черствый хлеб с сыром, то здесь нужно видеть отпор судье. Сыры и колбасы у Клейста своеобразно драматизированы, совсем не те, чем они были бы в живописи. Живопись как таковая не способна выразить подкупы, а здесь у Клейста все играет ядовитейшей музыкой подкупа и взятки, вся эта предложенная советнику снедь — апелляция к приватному организму и его потребностям, которым ведь не чужд и этот государственный человек.
По поводу «Пентесилеи» было сказано о трагической поэтике тела у Клейста. «Кувшин» дает повод говорить о поэтике тела с его комической стороны. В конце концов, в комедии Клейста все восходит к плотоядным устремлениям старого судьи, — отсюда и вся интрига комедии и вся затея приобрести власть над Евой, наложив руку на Рупрехта — ее жениха.
В комедии со всей энергией играют материальные силы, но у романтика Клейста это ведет к непредвиден-
440
ным последствиям. Именно из этой игры рождаются впечатления комедийного миража. Материальные силы не суть силы самой истины, напротив того, они утайка ее, подмена ее, лженравственность и лжедействительность. Замечательны эпизоды вдохновенного лганья старого судьи, когда он пытается объяснить пропажу своего судейского парика — парик нужен непременно, ибо ритуал требует, чтобы судья вел процесс, надев на себя парик. Вместе с париком в поле зрения комедии попадают любопытнейшие бытовые подробности, живописный бытовой кругозор комедии непрестанно расширяется. Служанку посылают за париком к пономарю, но та возвращается и докладывает, что пономарь в церкви, что парик на нем, а другой парик в починке у цирюльника. Посылать к цирюльнику или к шульмейстеру бесполезно, они уже получили с помощью судьи свою десятину зерна и им не к чему быть любезными. И считанные парики в деревне, и десятина зерна — все это живейшее живописание в комедии Клейста, как и то обстоятельство, что день суда он же для всей деревни день, когда в лесу собирают хворост, и поэтому в лесу заняты все женщины. Недаром один из тогдашних рецензентов упрекнул Клейста в излишней основательности его художественной манеры24. XVIII век не знал этой чрезмерной волнующей живописности. Особенность романтики состояла в том, что эта сверхживописность отнюдь не означала сверхдостоверности — скорее обратное.
Итак, дело о парике старого судьи. Первая версия — почему исчез парик. Кошка стащила его под кровать и вывела в нем своих котят, после чего, естественно, парик приведен был в негодность. Пятерых котят, уверяет судья: желтых и черных, один из них был белый, черных он прикажет утопить.
Версия вторая, что же случилось с париком. Накануне к ночи судья углубился в чтение актов, перед ним лежавших, и так углубился, что парик вспыхнул от пламени свечей, прежде чем удалось скинуть его с головы. Итак, выбирайте версию какую хотите, по живописности ни одна не уступает другой. Обе цветные, хорошо иллюминованные. Ложь судьи Адама — цветная ложь. Колорит не обеспечивает истины. У романтика Клейста именно колорит и способен вести к великим заблуждениям. Не верьте в материальный быт, не верьте в жанризм, не верьте в его краски, ни в цветных котят, ни
441
в свечи, зажженные на судейском столе. Через это все идите к подлинной действительности. Материальный быт в моральном отношении стоит на лжи. Следовательно, он и в своей материи может быть призрачен.
Герои Клейста лгут пластически, ложь облекается в формы полнейшего плотского правдоподобия, лжецы говорят не слова, но «говорят вещи», как Гамлет говорит кинжалами. Судья Адам, прежде чем начать заседание, о чем-то подозрительно переговаривается с Евой. Советник Вальтер спрашивает, о чем у них речь, и судья сразу сочиняет, будто он советуется с Евой по поводу своих цесарок, полученных из Индии и заболевших здесь куриною болезнью — «пипс», так называется болезнь. Вальтер позднее узнает, что судья и на деле разводит цесарок, возится с курами, с гвоздикой, которую сам у себя выращивает, все это вместе взятое тешит старого деревенского любострастника. Ложь не отделить от правды, ложь появляется в столь осязаемом виде, так хорошо подделывается под правду, что одно блестящим образом сходит за другое. Уже в «Шроффенштейнах» была представлена в крупных чертах власть хозяйственной материи над человеком. В «Кувшине» она дана в самом мелком повседневном раздроблении; это и порабощенность фрау Марты Рулль кувшином, входящим в ее хозяйство, это и гвоздики, и цесарки, и котята старого судьи — мир мелкой, удивительно правдоподобной лжи.
Парик старого судьи к развязке комедии найден неожиданно и к великой досаде его владельца. Старуха Бригита, тронутая в уме, призванная в суд как свидетель, вдруг вторгается в зал заседания с париком в руках — с париком огромным, преувеличенным, подобным башне. За Бригитой движутся девушки-служанки, писарь Лихт, разыгрывается истинное шествие с париком, героическая буффонада в духе всей комедии, в которой мелочи быта и его интересов возводятся в гиперболы и еще раз в гиперболы. Но старуха Бригита приносит в комедию и нечто новое. Она нашла этот парик в кустарнике под окошком Евы. У нее свое толкование этого происшествия: из Евина окошка прыгал сам черт и по дороге потерял свой парик, — что то был черт, у Бригиты набор неопровержимых доказательств. Конечно, старуха Бригита бредит. Но у Клейста своя лукавая игра. Искусство не имеет обычая начисто отвергать какие-либо показания. Говорят, брань на вороту не виснет. В искусстве
442
она все-таки виснет, оставляет свои следы, как бы она ни была далека от истины. Что-то остается и от фантасмагорий старухи Бригиты. Она говорит об отпечатке ноги под окном у Евы, а ведь и в самом деле у судьи Адама одна нога устроена очень странно, как лошадиная, и может сойти за чертову ногу. Когда Адам, полностью разоблаченный, вырывается из зала суда и из окна видно, как он скачет с пригорка на пригорок с париком, нахлобученным на голову, как на ветру парик хлещет его спину, то можно поверить в дьяволиаду. Игра и юмор дьяволиады дают художественное завершение комедии Клейста. Весь быт «Кувшина», вся его живопись и пластика — игра фольклорного черта с человеком. Фольклорного — ибо она восходит к персонажу по имени Мефистофель, принадлежащему в равной степени и Гете и фольклору. В «Фаусте» Гете Мефистофель — покровитель вульгарного быта и вульгарного человека, лжечеловека. Когда Мефистофель берется за воспитание доктора Фауста, то первым делом он ведет его к скотоподобным филистерам, в погребок Ауэрбаха, где они пируют. В тексте 1808 года Мефистофель объявлял о себе, чей он бог — мышей и крыс, мух и лягушек, клопов и вшей ( ч. I, стих 1516—1517). После Гете мелкий быт, вульгаризация человека стоят в литературе под знаком Мефистофеля. В комедии Клейста бытописание и нравоописание играют огоньками мифа наизнанку, зажженными у Гете Мефистофелем и еще раньше, в фольклоре, по отделу недоброй силы.
В комедии Клейста все надежды возложены на реформу сверху, на ревизию господина Вальтера. Это же и признание безнадежности. Значит, внутри нет сил исцеления, они могут быть призваны только извне. Мефистофельский колорит показывает, что яд заложен глубоко и сколько бы ни звали исцелителей извне, они с ним ничего не сделают.
У этой комедии разъятого человеческого быта есть, однако, свой романтический час, и приходится он на долю наименее романтического из ее персонажей, фрау Марты Рулль. Ей возместят ее кувшин, но она не устает его оплакивать. Разбитый кувшин был особенный, он попал в семейство Рулль через длинную традицию, фрау Марта помнит имена всех его бывших хозяев, ей известны особые обстоятельства, при которых он перешел к ее покойному мужу, кастеляну. Фрау Марта ценит свой кувшин за роспись — она перед судом рассказывает, что было
443
изображено на этих черепках, свидетелях ее несчастья. По кувшину написана была большая сцена: император Карл Пятый вручает Филиппу Испанскому нидерландские провинции. Что же осталось — только ноги Карла Пятого. Весь Филипп ввалился вовнутрь кувшина, от епископа Аррасского осталась только тень, которую тот отбрасывал на мостовую, а из фигур фона — лишь любопытный, выглядывающий из своего окна на площадь, но зрелища, которое лежало перед этим человеком, — его больше нет. Суд обрывает фрау Марту: к суду относится только дыра, сделанная в кувшине, а не та передача Филиппу нидерландских провинций, что была там нарисована.
Тут столкнулись два миросозерцания: юридическое и романтическое. Юриспруденцию интересует только убыток, выраженный в вещах и точно подсчитанный, остальное для нее безразлично. Романтика — весь ее интерес в мире, взятом в его органической целостности, в его органической невредимости. Этот мир недостижим ни для буржуазной собственности, ни для юриспруденции, регулирующей ее. Он остается по ту сторону прусских реформ, государственных, административных, судебных, равно недоступный современному обществу в его исправленном и неисправленном виде. Друг Клейста Фуке назвал его однажды «юридическим поэтом»25. Комедия о кувшине как будто бы подтверждает эту его репутацию, и она же отводит ее: Клейст не был юристом, Клейст был романтиком, хотя и не ведающим спасения для романтизма.
Комедия приблизила Клейста к немецкой злобе дня, которою уже всецело поглощены две его последние драмы, где историческая тема есть почти чистейшая видимость и где все дело в современнейших насущных интересах, национальных и государственных, в этих драмах подразумеваемых.
Трагедия «Битва Арминия» («Hermannsschlacht») была закончена к декабрю 1808 года, во времена худого мира между Наполеоном и Пруссией и накануне новой антифранцузской коалиции 1809 года, сложившейся при участии Австрии на этот раз. Трагедию свою Клейст писал ради прямых агитационных целей. Арминий, князь херусков, борется с легионами, посланными в германские леса римским императором, — такова очевидная фабула у Клейста, а за нею стоит легко узнаваемая фабула тогдаш-
444
него дня: римляне — это французы, конечно, а Германия нуждается в новом Арминии, который покончил бы с ее национальным унижением.
Разумеется, патриотическая задача Клейста оправдана в самой себе и никакому осуждению подлежать не может. Совсем иное — выполнение ее, краски озверелости и варварства, которыми драма об Арминии писана. Клейст ненавидел Наполеона, завоевателя Германии, и ненависть свою перенес и на французский народ — он, собственно, призывает не к справедливой войне против него, но к его прямому искоренению. Пафос национальной самозащиты переходит у Клейста в пафос убийства. Вся драма об Арминии — величайшая моральная и художественная ошибка Клейста, как бы некое тяжкое заболевание, через которое он прошел.
Эта драма к одной только агитации по частным поводам не сводится и обладает своеобразной и опаснейшей метафизикой. Уже начиная с «Роберта Гискара» Клейст пытается найти свои контакты с мировым злом. Собственно, даже «Пентесилея», при всем ее романтическом великолепии, является опытом приспособления ко злу, — правда, трагическим опытом, при котором сами искавшие приспособления неизбежно гибнут. «Битва Арминия» — другой опыт освоения яда. В глубине этой трагедии шумит и колышется страшный античеловеческий мир, с которым Клейст пожелал вести свою игру. Вероятно, ключ к трагедии дан во мгле, в мрачнейшей маленькой сцене со старухой Альрауне (акт V, явл. 4). Квинтилий Вар со своими войсками входит в Тевтобургский лес. В лесной мгле показывается древняя женщина из племени херусков на клюке и с фонарем. Она позволяет Вару задать ей три вопроса. «Откуда я пришел?» — спрашивает он. Ответ: «Из ничего, Квинтилий Вар!» — «Куда же я иду?» — «В ничто, Квинтилий Вар». — «Где я нахожусь сейчас?» — «В трех шагах от могилы, Квинтилий Вар, между одним ничто и другим ничто». Эта женщина, сказав свое, гаснет, исчезает, как если бы ее никогда и не было. Квинтилию Вару, римскому полководцу, удается разговор с самой бездной. Все сцены в Тевтобургском лесу — немое и непрерывное общение с нею. Тевтобургский лес — недра Германии, глубокие недра нации, по символике Клейста. Нация, германизм в этой трагедии — леса, топи, звериные тропы, мир, еще едва освещенный человеком, мир инстинктов, первозданных поползновений.
445
Замечательно, что вся драма Клейста пронизана откликами древнегерманской мифологии, смутной и малообразной. Поминается и верховный бог Водан, и множество раз норны, богини судьбы, и все это мало отделено от лесного пейзажа, где каждое дерево как бы поставлено на службу и охрану нации, где все самой природой превращено в маскировку и в заслон. У Клейста выдвинуто именно варварское нерасчлененное, нечленораздельное в этих внутренних силах, слагающих нацию, в ее сознании, в ее мифологии, в ее повседневном языке. Подчеркивается трудность, некрасивость, неблагозвучие германских слов и названий — Пфиффикон, Ификон — тиранящих слух латинян, зашедших в эти чуждые им дебри, где все для них обман и злостная путаница. «Ужасающая система слов, через звуки которых не способно пробиться различие между двумя такими понятиями, как день и ночь», — отзывается о языке германцев один из римских военачальников. Вот все это вязкое, клейкое, инстинктуальное, звериное — вот это и есть, по «Битве Арминия», нация в ее первооснове. Клейсту нужно вызвать к полному действию эту темную злую силу, чтобы приступить к своей национальной задаче. Следует заметить, что Арминий, князь херусков, прибегает к стихии отнюдь не стихийным способом. Ради вызова стихии он пользуется настоящей техникой, весьма изощренной и сложной. Нужна целая система средств, чтобы поднять германцев на поголовное истребление римлян, Арминий инсценирует злодейства римлян, неимоверно раздувает сделанное ими, провоцирует где и как может лютую, сверхзвериную ненависть к ним, велит приспешникам своим осквернять народные святыни, устраивать поджоги. Он собственную жену Туснельду провоцирует на сверхжестокость к римскому легату Вентидию, поклоннику ее; она придумывает свирепую казнь для этого юноши, затолкав его в клетку с голодной медведицей, — сама она остается перед решеткой, чтобы наслаждаться тем, как будет совершаться расправа. Сцена с медвежьей клеткой — малый вариант того большого и страшного, что происходит в драме. Гибель Вара с легионами в Тевтобургском лесу — та же колоссально увеличенная сцена с лютой медведицей, гибель в западне, где у гибнущего отняты все средства борьбы и оставлены только выходы к смерти.
Арминий, князь херусков, — великий мастер раздразнивания и натравливания. Стихийное у Клейста нуждается
446
в техническом. Быть может, это добрый знак для цивилизации: стихийное, жизнегубительное не лежит в ней верхним слоем, но ушло куда-то вглубь, и надобна целая громада ухищрений наподобие тех, которыми пользуется Арминий, чтобы дать стихийному двигательную силу. Эта обработка самих же германцев искусственными средствами плохо аттестует Арминия как правителя. Арминий — пример того, как часто сочетается безмерная ненависть к чужому народу с малой любовью к своему собственному, едва ли не с презрением к нему, ибо как иначе толковать приемы взвинчивания и разжигания, которые Арминий применяет к своим же херускам. Он обращается со своими херусками как с заведомо косной величиной, как с автоматической силой, которой ничего нельзя доверить и из которой все можно извлечь подхлестыванием и другими преувеличенными мерами.
Поведение Армяния имело свою реально-историческую модель. Правящие классы призывали к борьбе против Наполеона немецкий народ и боялись народа. Народу они ничего не решались обещать, а французы по крайней мере уничтожили в немецких государствах феодальный и крепостной режим. Отношения Арминня и германцев почти всегда двусмысленные, у обеих сторон нет полного доверия друг к другу, Арминий даже в патриотизме рассчитывает на принуждение.
В 1809 году во время новой войны между Наполеоном и Австрией, Клейст в статьях, приготовленных для газеты «Германия», очень твердо настаивает на политических уступках в пользу народа и буржуазии. Но Клейст, как и самые радикальные умы среди его современников, не задумывался над крупнейшими тогдашними вопросами, взятыми во весь рост: что есть народ, что есть власть, какова глубина взаимоотношений между властью и народом. В «Битве Арминия» тотчас за метафизикой национально-исторической жизни следует самая близкая, мелко и даже обидно конкретная тема 1808 года. Драма вся иссечена такими аналогиями с современнейшим положением вещей. Мало того, что Арминий со своими херусками равен современной Пруссии, а Марбод равен Австрии, но какой-нибудь Аристан, князь убиев, имеет тоже современное значение. Под ним надо было разуметь герцога Фридриха Вюртембергского, приверженца Наполеона, и расправа с Аристаном рисовалась как предупреждение современному Вюртембергу. Даже Зельгар, едва заметный в драме
447
Клейста, и он прочитывается по шифрам современности как герцогство Ганновер, отказавшееся от Пруссии ради французов.
Клейст ввел в свою драму даже маленькие бытовые отношения, тоже разработав их до свирепой гиперболы. Ведь в основе страшной казни, устроенной Туснельдой над Вентидием, лежат немецкие обиды против отечественных дам и барышень, охотно принимавших ухаживания и любезности французских офицеров. Сам Клейст написал по поводу галломании немецких девушек некую сатиру в прозе чуть позже «Битвы Армнния»26. Драма Клейста по стилю колеблется между сверхобобщенной патриотической фантазией и злободневной патриотической афишей. Вернее, стиля она лишена. Клейст в этой драме был наказан приступами самого ужасающего художественного безвкусия. Достаточно напомнить имя, которым зовет грозный Арминий свою грозную Туснельду — Тусхен. Клейст хотел в этой драме имитировать речь самой природы, говор лесов и рек, и вдруг раздается это обывательское словцо, услышав которое (и у кого —у Клейста!), не веришь, что в самом деле слышал его. Или же Клейст унижает себя замечаниями по поводу того, какие волосы у римских (французских) дам: черные, жирные, и как хороши сравнительно с ними сухие желтые германские волосы его Туснельды. Клейст нуждается, чтобы ему простили «Битву Арминия» и все подробности этой драмы. Не станем поминать, какое позорное продолжение получила эта драма в позднейшей немецкой литературе.
«Битва Арминия» — в своем роде драма внешней политики, а политике внутренней, сопряженной с внешней, Клейст посвящает своего «Принца Гомбургского», написанного в 1810 году, заключающего собою деятельность Клейста-драматурга. Фабула эта взята из прусской истории XVIII столетия и из тех верноподданнических легенд, которые сложились вокруг бранденбургского дома. Исторические данные Клейст значительно изменил, следуя общему своему замыслу. Принц Фридрих-Артур Гомбургский у Клейста юноша славолюбивый, мечтательный, склонный к лунатизму, к стихийным неожиданным поступкам. По общему очерку принц — натура романтическая. Но в этой драме Клейст проявляет готовность рассматривать романтизм чуть ли не с судебной точки зре-
448
ния. Романтик в этой драме — человек, преступный перед законом и государством, перед миром реальных сил и требований, ими налагаемых. Романтик всегда рискует согрешить перед ними. Принц Гомбургский — полководец при курфюрсте Фридрихе-Вильгельме Бранденбургском. Идет тяжелая, изнурительная война со шведами, вблизи решающее сражение при Фербеллине. Принц Гомбургский бредит венком победителя. Первая сцена драмы: он в лунатическом сне и еще до дела примеряет на себе этот свой венок. Мечта у него опережает дело, и она важнее дела. На военном совете, когда диктуется диспозиция битвы, принц слушает рассеянно и больше занят в мыслях принцессой Наталией, племянницей курфюрста, своей невестой. Под Фербеллином принц командует кавалерией и бросается на шведов вопреки всему расписанию боя, благодаря принцу Гомбургскому битва выиграна, но курфюрст против всех ожиданий велит взять его под арест, и как нарушителя военного плана его ожидают суд и смертный приговор. Это дает ось фабуле. Принц Гомбургский — тот самый победитель, которого судят вопреки утверждениям пословицы. Принц вначале думает, что курфюрст шутит, но уже вырыта могила для победителя при Фербеллине, и курфюрст не собирается его амнистировать, хотя все просят за принца, и принцесса Наталия и все его военные товарищи, — в прусском войске едва не возникает возмущение в пользу принца, впрочем, по формам своим более чем благовоспитанное и лояльное. Курфюрст не желает побед случайных. Он желает побед по правилу. Принца собираются судить как импровизатора. Его способ воевать — та же романтическая импровизация, доверие к личному счастью и к случаю, который готов идти навстречу. Просящие за принца рассуждают примитивно-человечески. Им дорог успех как таковой, они спрашивают только о результате поступка. Курфюрст судит по форме — действовать должно, исходя не из материи действия, а из его формы, не от себя лично и не по-своему, а так, чтобы твое деяние могло служить примером для всех, давало бы правило для всех и всегда. Здесь яснее чем где-либо проявляется проступившая у позднейшего Клейста тенденция в пользу Канта и Кантовой морали27. Идейная коллизия по поводу победы при Фербеллине такова: импровизация или действие по всеобщим нормам, обязательным для всех и всегда. Моральное действие должно быть всеобязывающим, годным для каждого и при любых
449
обстоятельствах. Если угодно, то можно бы сказать, что принц победил при Фербеллине, но победа его была имморальна.
Кантовская мысль идет и дальше в глубь драмы. Принц сначала настроен малодушно, ему жалко самого себя, он молит об амнистии. На войне он думал не о смерти, он думал о славе и удаче. Перед лицом смерти, прямо к нему приступившей, он малогероичен. Курфюрст, которого осаждают бесчисленные просители за принца, предлагает, чтобы тот сам решил. Совершается предусмотренная Кантом апелляция к личной совести, и она ведет к последствиям, которые и ожидались. В принце совершается внутреннее очищение, человек чувственности и импровизации, мечты, он становится человеком строгого долга. О победе своей он забыл, он помнит только о своем ослушании и свободно принимает смертный приговор. Но тогда приговор становится ненужным. Курфюрст милует принца Гомбургского, он имеет отныне в нем того сподвижника, которого искал и ищет.
Клейсту его последняя драма могла представляться ответом на все разрозненные поиски, которым он предавался за десять лет своей литературной жизни. Он защищал романтические права личности — «Семейство Шроффенштейн», «Пентесилея», — по всем контекстам современной жизни изображалась великая угроза этим правам. Сама романтическая личность попадала под сомнение — «Гискар». В «Амфитрионе», в «Кетхен» Клейст пытался защищать нагой авторитет без конституционных поправок к нему. В «Пентесилее», в «Разбитом кувшине» мы видели — он хотел помочь делу через правовые идеи. Но в «Принце Гомбургском» он берет еще ступенью выше. Речь идет не о правовой только личности, с которой уживается и анархия, речь идет о категорическом императиве, о полном проникновении личности всеобщим законом28. За самой же личностью остается свобода самоопределения. Клейст считал наличие догмата, императива, пришедшего извне, вполне совместимым с принципом свободы, раз догмат получил личную санкцию. Он не замечал, что при этом догмат, полицейское начало не только остаются в силе, но еще и удваивают ее: на самое личность возлагается задача быть собственным стражем, ее свобода по сути является свободой автомата, который сопровождает своим согласием собственные действия, не им задуманные и не от него зависящие. Что у Клейста рассматри-
450
вается как привилегия граждан, то на деле было всего лишь удобством и спокойствием власти. Власть велит, граждане исполняют, — «свободно», по Клейсту, то есть не побуждая власть к дополнительным расходам на принуждение.
У Клейста была иллюзия, будто в «Принце Гамбургском»
этические нормы примиряются с мотивами романтического историзма, будто
кантовскому императиву ниспосланы реальные носители — люди прусского
государства с их историческими традициями послушания и воинской дисциплины.
Клейст самым бедственным образом отождествлял немецкий народ с прусским государством.
Вопреки чувству реальности, он трактовал бранденбургский дом как некую академию
нравственных наук с курфюрстом в качестве ее бессменного председателя. Вспомним,
что такое был исторический подлинник, Пруссия, в ее реальностях. По словам
Маркса, «мелкие кражи, подкупы, прямая купля, происки с наследством и т. д. — к
подобным преступным делам сводится вся прусская история... В списке правителей
всегда лишь три характерных типа, чередующихся, как день и ночь: ханжа, унтер и
скоморох — с отступлениями, которые вызываются лишь перестановкой фигур, но отнюдь
не появлением какого-нибудь нового типа. Если государство при
всем этом держалось все же, то только благодаря посредственности — aurea
mediocritas — тщательной бухгалтерии, избежанию крайностей, точности военного устава, известной
доморощенной пошлости и
«церковному уставу»29. Вот эту «посредственность»,
соединенную с военным регламентом, Клейст
принимает за проявление этического духа, а Фридриха-Вильгельма, действовавшего с помощью палки и тюрьмы, он рисует носителем кантовской совести. Все и вся
стилизованы в драме Клейста. Когда
он хотел, Клейст мог быть
великолепным жанристом. В прусских государственно-казарменных темах все напрашивалось
на жанр, но Клейст все преподносит
в очищенно-возвышенном стиле. Принц
Гомбургский, каким он был в реальности своей, так же мало похож на героя клейстовской драмы, как подлинный Дон Карлос на сочиненного
Шиллером. Настоящий принц
Гомбургский был грубый и горячий солдат. Под
Фербеллином он действовал и на самом деле
порывисто, но это не дало никакой кантовской контроверзы между ним и курфюрстом. В день этой
битвы принцу было сорок три года,
он выглядел не героем-любовни-
451
ком, но в лучшем случае актером на характерную роль. Одна нога у него была давно ампутирована, и он прозывался «ландграфом с серебряной ногою». Ничего лирического не было в его отношениях с принцессой Наталией, ставшей его женой. Брак был многодетным и в письмах своих принц именовал свою принцессу «толстым ангелом». Клейст по-шиллеровски отрешился от всех этих характерных подробностей живой действительности. По общему стилю своему драма Клейста — возвращение к шиллеровскому классицизму, с антагонизма которому Клейст начинал. Он вернулся к Канту и Шиллеру, кантовскому поэту. По-шиллеровски побледнели люди в этой драме Клейста, и побледнела также материальная среда действия, обретавшая могучий язык в его недавних драмах. «Принц Гомбургский» начинается сценой в саду, лестница с перилами ведет из замка в сад, под дубом сидит принц, занятый плетением своего венка. В последней сцене тот же ночной сад, та же лестница, и опять по этой лестнице спускаются курфюрст со свитой. Несут они принцу не мечтательный, но заслуженный и настоящий венок с золотой цепью. Все это антитеза мнимого и действительного триумфа — одним был принц Гомбургский до Фербеллина, другим он стал после, когда поборол не только шведов, но и самого себя. В идейную антитезу захватывается и вся обстановка, и кусты, и старый дуб со скамьей, и дворцовая лестница. Материальная среда повторяется в драме два раза, симметрически. Материальность и живописность, материальность и самобытность теряются в этой симметрии, они выветриваются и умирают, как выветрились в этой драме и исторические люди, выведенные в ней.
В «Принце Гомбургском» почти исчезает подтекст. Все дается открытым словом, прямой декларацией и декламацией, исчезает привычная для Клейста игра подтекстовых теней и полутеней, господствует декламационная оголенность. В «Принце Гомбургском» почти отсутствует вторая, несознательная жизненная стихия, которая питала «Кетхен» или «Разбитый кувшин». Она жила вначале в самом герое, в принце, но его деяние в том и состоит, что он для себя исключил ее. Элементы, способные оспорить догмат автора, удалены из драмы, Клейст не желает быть шире своего догмата.
И все же романтика нашла для себя тайный ход и в эту антиромантическую драму. Она поместилась в самой
452
фабуле, в главном ее пункте. Суд над победителем — чудовищное преувеличение идеи долга и дисциплины, превращение ее в нечто сверхнатуральное и фантастическое. Клейсту нужно было себя возместить за жестокий прозаизм этой драмы с ее прославлением прусского дисциплинарного кодекса. Своей гиперболой он оживляет этот кодекс, вносит в него начала поэтического анимизма. Самому кодексу эти поэтизмы не нужны, даже вредны ему. Дисциплина не терпит никаких украшений и никакой романтики, вся суть ее в точности и неизменяемости ее границ, в безусловности ее требований, с которыми не уживаются никакие орнаменты. Но поэзия нужна была самому Клейсту. И вот категорический императив в его прусском военном преломлении приобретает у Клейста черты души и страсти. Романтика вновь заговорила под бичом своих гонителей. Индийская поговорка гласит: если заключить змею в бамбуковую палку, все равно она будет извиваться.
Когда Клейст в несчастный день 21 ноября 1811 года вложил в рот пистолет и выстрелил, он свел счеты с очень многим в своей жизни. Немецкие авторы абстрагируют какого-то особого человека по имени Клейст и в его психологии ищут разгадки, что именно его терзало и мучило. Не будем отрешать Клейста от его дел, от его сочинений, именно в них, а не в чем-либо другом, будем усматривать его человеческую личность. Как деятель, как писатель Клейст был весь в трагических разочарованиях. Велась великая борьба, но неудача состояла не только в дурном исходе тех или иных замыслов Клейста. На совести Клейста были и самые идеалы, для которых он в разное время добивался успеха, идеалы сомнительные и порою жестокие. Романтический гений не мог предать себя пруссачеству, даже улучшенному и реформированному. Конец Клейста — это не есть конец одного прусского идеолога. Это конец великого поэта, многим в жизни изуродованного, вплоть до прусского идеала, которому он напрасно пытался доверить себя, и, как видим, в конце концов не доверил.
В 1807 году Клейст начал печатать свои новеллы — первой появилась новелла «Землетрясение в Чили». В 1810 и 1811 годах новеллы Клейста вышли двумя томами, к этому времени их было уже около десятка.
453
Клейст — один из сильнейших прозаиков Германии, великий мастер рассказывания в европейских литературах XIX века.
Его новеллы тот же злой, опасный, странный и престранный мир его драм. У Клейста, подобно другим романтикам, было свое пристрастие к анекдоту. Его новеллы очень часто тяготеют к анекдоту, в котором забавное состязается с трагическим, всегда уступая ему во всех направлениях. Но Клейст печатал и анекдоты как таковые, без каких-либо осложняющих надстроек над ними. Серию анекдотов для «Берлинских листков» Клейст озаглавил: «Невероятные, но достоверные происшествия» («Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten»). Это очень точная формула для анекдотов, ибо анекдот есть быль, но не типическая, однократная. И содержание факта и то обстоятельство, что перед нами все же факт, а не вымысел — и то и другое обстоятельство вызывают удивление. Все это сохраняет значение и для новелл Клейста. Они написаны как мемуар, как протокол, а между тем рассказывают о неимоверном.
Для Клейста-новеллиста, как и для Клейста-драматурга, мир стоит на катастрофах больших и малых. Не только в Чили — всюду происходят землетрясения большие и малые, всюду виден автор, прошедший сквозь опыт Французской революции и наполеоновских завоеваний. Нет ничего, стоящего твердо, все готово опрокинуться или уже опрокинулось, все взорвалось или сию же минуту обещает взрыв. «Обручение в Сан-Доминго» — все преобразилось на этом острове: черные — господа положения, и белые в трепете перед ними. «Маркиза д'О.» — здесь довольно долго держится иллюзия чуть ли не чуда физиологического: с одной высоконравственной и прекрасной дамой из старинного, благородного семейства случилось необъяснимое, если только не признать, что это было непорочное зачатие. Мир в доме маркизы д'О. нарушен вторжением непонятной силы, как это было уже в комедии Клейста «Амфитрион». Как потом узнается, маркизу д'О., упавшую в обморок, изнасиловали при взятии крепости, где отец ее был комендантом. Многое в рассказах Клейста — бедствия войны с врагом внешним или гражданским (см. у Гойи «Бедствия войны»). По новеллам Клейста всюду и всегда в мире кипит война. «Землетрясение в Чили»: после ударов землетрясения среди оставшихся в живых наступило перемирие, но очень краткое, едва люди пришли в себя и
454
в буквальном смысле почувствовали почву под ногами после ее сотрясения, как возобновились старинные счеты, воскресло старое изуверство, ожили церковь и инквизиция, ужасы, мрачные и мрачнейшие, стали сменять друг друга . По Клейсту, нужны чрезвычайные условия для мира среди людей, обыденность — повод и арена для взаимоистребления.
Клейст и поэтика Клейста вызывают живые воспоминания недавней войны. В городе стоит шестиэтажный дом, весь сверху донизу разбомбленный, весь в дырах и обвалах. Странным образом одна внутренняя лестница все же осталась неприкосновенной, и с улицы видно, как она вьется до самого последнего этажа, там заканчивается площадкой, и с площадки через сорванную дверь видна маленькая комнатка, под самым небом, со стенами, которые стоят как стояли и с маленьким круглым зеркалом на стене напротив. Так в новелле Клейста. Все потрясено и разрушено, однако какие-то обыкновенности обыкновенной жизни на удивление невредимы. Я бы сказал, что новеллы Клейста полны экзотизма обыкновенного — само наличие обыкновенного, сама его сохранность есть непостижимая экзотика. Великие сотрясения пощадили самые обыкновенные предметы и самые обыкновенные отношения.
В своей маленькой знаменитой новелле «Нищенка из Локарно», энтузиастически воспринятой Э.-Т.-А. Гофманом, Клейст дает как бы формулу для этого своего экзотизма. С соломы, сложенной в углу, поднялась старуха, на костылях она переходит комнату наискось, собака проснулась и залаяла, а старуха со стоном опустилась за печкой. Все это как будто бы заурядный рассказ, если только не знать, что старуха на костылях — привидение. Тогда все обыкновенное в этом рассказе есть парадокс: и солома — парадокс, и ее шуршание — парадокс, и костыли, и само хождение старухи через комнаты — все сплошные парадоксы.
Так и в других рассказах Клейста. Все еще длящаяся обыкновенная жизнь — парадокс, следующий за другим парадоксом. Она уцелела тем не менее, и именно в своей сохранности, большей или меньшей, поражает нас. Кажется, что ее существование — формальное, что она ничего плодотворного не способна обещать, — будет видно, что у Клейста это далеко не так, хотя именно таково общее впечатление. В «Маркизе д'О.» уже после главного происшествия еще некоторое время держится обыкновенный
455
фамильный быт в доме старого коменданта. Маркиза до конца сохраняет привычки и манеру дамы из лучшего общества.
Невероятные события рассказов Клейста затрагивают саму материальную оболочку жизни. Ей нужно выдержать этот внутренний напор невероятностей, не съежиться, не угаснуть, не уйти в ничто. Самое наличие материальных черт в изображаемом у Клейста, сама его пространственная ориентация может казаться порою парадоксом. Так в сумрачном мире «Найденыша», где всякая здоровая реальность выветрилась, источенная болезнями, эпидемиями, смертями, тайными пороками, темными страстями. Эльвира, героиня новеллы, живет в мире, по-своему прекрасном, но все-таки призрачном. Ночью она является в столовую, чтобы отыскать в шкафу бутыль с лекарством для своего старика мужа, которому стало нехорошо. Она открывает шкаф, приставляет стул, и, стоя на краю стула, роется среди склянок и графинов. Право же, все это великие неожиданности в этом рассказе; и наличие шкафа, и наличие стула, и стояние на стуле, и разгребание всякой стеклянной посуды в шкафу. Все это слишком материально и осязаемо для этого рассказа, это дано по принципу неуместности или малой уместности, такому рассказу мало подобает обставленность, занятость настоящими вещами. И в самом деле, покамест Эльвира, хозяйка дома, ищет лекарство, в комнату неожиданно и незаметно входит распутный приемыш, проводивший ночь где-то на стороне, — входит расфранченный, в шляпе с пером, с плащом и при шпаге, — входит нарядный полупризрак, болезненно впечатляющий Эльвиру, увидевшую его.
Клейст хочет привести в порядок сотрясенный мир, и в этом главная забота его рассказов. Ясно, что он не станет искать элементов порядка и оздоровления в среде обыкновенных вещей и явлений, изображенных у него столь зачастую как нечто уже доживающее и внутренне бесплодное. За регулирующими принципами он подымается в некие сверхобласти безусловных нравственных явлений и обязанностей, по образцу «Амфитриона» или «Принца Гомбургского». Он сперва хотел назвать свой сборник новелл «Moralische Erzählungen» («Моральные повествования»), по образцу «Назидательных новелл» («Novelas Ejemplares[6]») Сервантеса. Именно это тяготение к моральным высям Клейст хотел сделать основным признаком своих новелл.
456
«Маркиза д’О.» была особенно трудной и благодарной по своей трудности задачей для Клейста. Сюжет новеллы более чем двусмысленный, по природе своей забавно-комический. Как в «Амфитрионе» Клейст из комедии сделал мистерию, так и в этой новелле он освободился от всякого здесь напрашивающегося комизма и создал произведение благородно-возвышенное. Маркиза, которая вела строгую жизнь и вдруг почувствовала себя беременной, не отступает перед этим непостижимым для нее событием. На нее сыплются остроты, колкости, никто не обращает внимания на ее заверения, что никому она не позволила к себе приблизиться, ей приходится оставить родительский дом, так как собственный отец тоже против нее. Гонения не могут заставить маркизу признать себя виновной перед внешним миром. Что произошло помимо воли и сознания героини, то и не должно входить в ее репутацию. Маркиза с великой гордостью принимает выпады света. Она не таится, не хитрит, не ищет способа оправдания, а открыто и громогласно объявляет через газету, что разыскивает неизвестного отца своего будущего ребенка. Она не боится быть смешной, загрязненной и объявляет о факте, ибо факт бессилен в отношении к ее моральной личности. Независимая от внешнего мира, она побеждает его одной моральной силой. Когда виновник ее беды является к ней по объявлению в газете, она ничем не обязана ему, ибо всему сама дала огласку. Он является как кающийся, как опозоренный, и за ней остается моральное преобладание над ее обидчиком. Героиня умеет сохранить неприкосновенность и величие посреди скандальнейшего происшествия, в которое вовлекли ее.
Безусловная мораль — главенствующий мотив и «Обручения в Сан-Доминго» (1811) и «Поединка» (1811).
«Обручение» — новелла нарушенной верности. Вражда и яростное недоверие — фон ее. Действие происходит во французских колониях времени Французской революции. Негры вымещают на белых плантаторах всю долгими годами накопившуюся у них злобу. Дом старого негра Гоанго — западня для белых. Тони, девушка-метиска, играет роль обольстительницы. Она заманивает белых и отдает их в руки Гоанго. Но Тони влюбляется в молодого французского офицера, которому приходится искать убежища в страшном доме Гоанго. Ночью происходит тайное обручение. Тони берется спасти и Густава и близких ему людей, которые находятся неподалеку, пробираясь через
457
страну восставших черных. «Обручение» — новелла верности и доверия. В ней же есть эпизоды недоверия ярчайшего и незабываемого. Тони спускается в нижний этаж, где сидит старая Бабекан, мать ее, фанатически ненавидящая белых. Бабекан подозрительна в отношении Тони и того белого офицера, что оказался у них в доме. И вот сказано, что покамест Тони читает приказ о терроре против белых, прибитый к дверям, старуха сзади изучает ее спину, — не выдает ли спина, что происходит с Тони. Тони читает приказ, Бабекан читает ее спину. Тут та же, что в драмах, поэтика тела, то же напряжение уловить подтекст. Когда внезапно в дом нагрянул хозяин его Гоанго со своими сподвижниками, а Густав, ничего об этом не знающий, спит еще в постели, Тони, чтобы выиграть время и спасти своего возлюбленного — «обрученного», прибегает к очень смелым мерам. Спящего Густава она привязывает к его постели веревками и ничего не успевает объяснить ему, так как надо спешить с объяснениями для Гоанго. Минута, другая, и все бы удалось, Густав был бы спасен, его родные тоже. Но он проснулся, увидел себя связанным. Освободившись от веревок, он хватается за пистолет и стреляет в Тони, которую он считает предательницей. Тони умирает, а Густав, когда до него доводят истину, стреляет в себя. Он тяжело согрешил против веры в человеческое чувство. Связанный веревками Тони, он все же должен был верить в нее — верить вопреки очевидности. Густав у Клейста платится за свой эмпиризм, за то, что придал все значение веревкам и забыл обо всем, что было им прочувствовано вместе с Тони.
Новелла «Поединок» — о той же вере в другого человека, которая должна быть абсолютной. Средневековая тема этой новеллы не дозволяет современному скептицизму проникнуть в нее. Фридрих Тротта не усомнился в своей прекрасной даме, хотя все подробности судебного разбора против нее. После суда людского наступает суд божий, решение поединком, но и тут все показания колеблются. Язык фактов по-прежнему остается двусмысленным, и только к развязке Фридриху фон Тротта самые факты подтвердили его внутреннее убеждение — победила та внутренняя самоочевидность, за которую он стоял и на которой настаивал.
«Михаэль Кольхаас»30, важнейшее из произведений Клейста в прозе, частично было напечатано в 1808-м, а полностью в 1810-м, когда у Клейста уже был готов
458
«Принц Гомбургский». Новеллы Клейста, «Кольхаас» в особенности, открывают нам, что такой хорошо обтесанный и такой завершенный «Принц Гомбургский» все же таил в себе по-прежнему тревожный мир автора и что чутье автора к реальности истории нисколько не ослабло.
История Михаэля Кольхааса, лошадиного барышника, которого жестоко обидел феодальный владетель и который с мечом в руках требует для себя справедливости, — эта история знаменует собой одну из самых глубоких коллизий XVI столетия — коллизию между едва рожденной буржуазной собственностью и сеньоральным строем. Попутные Кольхаасу исторические силы — великая крестьянская война и Реформация. Впервые со всей широтой у Клейста трактуется не только историческое зло, но сюжетом становится сопротивление ему — коллективное, массовое. И здесь, в «Кольхаасе», уделено немало внимания абстрактной государственной власти, абстрактным началам нравственности и прав. Но в повести как бы негласно присутствует еще и второе течение — социальной борьбы и ее логики, и оно исправляет абстракции, надстроенные над ними. Клейст угадывает, что где-то в материальных отношениях общества скрывается вся завязка жизненной борьбы, отраженной на его поверхности. Решать вопросы этой борьбы Клейст по-прежнему предоставляет государству, по привычным для него тезисам, независимому от общества. Прусская династия, как ее изображает Клейст, управляет страной бесстрастно, перед ней юридически равны юнкеры, бюргеры и мужики. Курфюрст разбирает дело Кольхааса, как это подчеркивается в повести, совершенно равнодушный к тому, что Кольхаас бюргер, а семейство его обидчиков — люди знатные и высокопоставленные. Юнкер фон Тропка возвращает Кольхаасу пропавших у него жеребцов целыми и откормленными, а Кольхаас отправляется на эшафот, так как собственной рукой хотел добыть для себя справедливость, оставляя в стороне суд и государство. Одна половина приговора — это казнь Кольхааса и вторая половина — возвращение ему жеребцов. Мятежному барышнику рубят голову, а у эшафота стоят лоснящиеся черные его жеребцы, полученные только что по суду. Это абсурдно, как к абсурду склоняются и все верховные понятия у Клейста. Закон и государство стоят у Клейста выше партий, выше классов, выше правителей, следовательно, и выше
459
тех людей, к которым и в пользу которых закон и справедливость применяются. Справедливость сама по себе, она не для жизни и не для живых, и поэтому Кольхаасу дано у Клейста вкусить от справедливости только посмертно.
Скрыто или внутри лежащим социальным течением фабулы все это видоизменяется. Кольхаас не есть обыкновенный правонарушитель, как это выглядит по догматам повести на деле, но носитель новых общественных интересов, которые отнюдь не признаны юнкерским государством. Приговор Кольхаасу зависит не от доброй воли бранденбургского курфюрста, а от общего положения дел в стране. Клейст выводит курфюрста, со всех сторон облепленного своими юнкерами, находящегося под их влиянием, и тем самым уничтожает иллюзию незаинтересованной природы власти. Крестьянский мятеж вдохновляет Кольхааса, и от мятежа, зримо или незримо присутствующего на сцене, зависят все перипетии в деле Кольхааса. Из страха перед мятежным народом власть делает уступки Кольхаасу, обращается с ним осторожно и уклоняется от покровительства обидчику его, юнкеру фон Тронка. Из того же страха власть берет обратно свои уступки, опасаясь, чтобы они не были поняты как полнейшая слабость ее и не разожгли бы пуще недовольных в стране. Кольхаас попадает на эшафот не во имя незыблемой, вечной справедливости, но как заложник мятежа, поднявшегося в Германии. У Клейста следует различать, что показано автором и как оно им названо. Показана борьба классов, а названа прением судебных сторон, показана революция, а названа временным замешательством в работе инструментов государственной справедливости.
Повесть о Кольхаасе во многом держится манеры прочих новелл Клейста. И здесь перед нами в грозе и в буре, во всеобщем развале и кризисе пароксизмы и парадоксы обыкновенной жизни, изумительно равнодушной к тому, что было и что будет. Кольхаас со своими лошадьми задерган в имении юнкера фон Тронка. Кольхааса смертельно оскорбляют творимые над ним несправедливости, великое смятение в его душе, а между тем все вокруг идет с более чем обычной вялостью и обстоятельностью. Толстый фогт спускается с башни и с трудом застегивает жилет на своем обширном расколыхавшемся животе, к окнам прилипли гости фон Тронка и глазеют на лошадей, которые стоят во дворе, сам фон Тронка вступает в пере-
460
говоры с Кольхаасом, дрожа от холода и ежась в своей фуфайке. Все это происходит в негостеприимнейший осенний день, под косым дождем.
В такой же манере агрессивных по своему равнодушию подробностей написана большая сцена на городской площади — сцена, на которую приходится в повести драматический кризис. Должна произойти реституция — Кольхаасу должны возвратить конфискованных у него жеребцов. Все в этой сцене налицо: сам Кольхаас, народная толпа, юнкеры. На площади водрузились черные жеребцы, которых сюда доставил живодер, отощавшие и неузнаваемые жеребцы, из-за которых поколебалось государство. Этой сцене предшествуют взрывы, и можно ожидать новых, но она протекает с истинно клейстовской, вызывающей обыкновенностью. Живодер неслыханно апатичен, он преспокойно возится около роковых лошадей, без всякого внимания к присутствующему тут камергеру фон Тронка, прямо на площади и всенародно мочится, и прочее, и прочее.
Но в повести о Кольхаасе, менее чем где-либо в ином произведении Клейста, обыкновенные вещи всего лишь остатки некогда существовавшего мира, праздные и ничего не обещающие. В повести о Кольхаасе обыкновенные вещи не только существуют, но еще и живут среди обыкновенных, обладают силой творить события. Именно из них и через них делаются в повести социальные отношения. Под слоем равнодушия в повести о Кольхаасе можно найти нечто отнюдь неравнодушное и даже фатальное. Мизансцена в юнкерском дворе, когда арестованы лошади Кольхааса: разве вся эта леность и вялость слуг, разве все это жадное любопытство к жеребцам — к хорошему чужому имуществу, разве оно не говорит о социальном упадке юнкерства, о том, как разбойно и воровски оно станет вести себя в отношении к Кольхаасу. А большая сцена на городской площади — здесь все узлы кризиса и трагической развязки. Толпа — живая насмешка над фон Тронками, для которых весь этот обряд реституции — нестерпимое унижение. В поведении и в жестах живодера унижение присутствующих здесь знатных и богатых доведено до степени невыносимого. Все эти как будто бы натуралистически бездушные эпизоды на городской площади — злобою одушевленный вызов господам фон Тронка. Когда камергер фон Тронка отбрасывает назад свой плащ, чтобы толпа видела цепь и ордена на его груди, то
461
это значит, что вызов понят и принят, и пусть толпа помнит о сословном могуществе семейства фон Тронка.
В повести о Кольхаасе все полно социального напряжения. Нигде и никогда Клейст не подходил так близко к решению столь важной для него загадки смысла и значения «судьбы» в жизни людей. В «Кольхаасе» людьми управляет социальная судьба. Однако Клейсту не было суждено оценить социальную борьбу не только как решающую силу, но еще и как силу нравственную. Он начал социальной трагедией Шроффенштейнов и кончил метафизической трагедией о принце Гомбургском. Повесть о Кольхаасе тоже стоит в эпилоге писателя Клейста, социальное содержание достигает в ней самого высокого для Клейста развития, но не господствует в ней столь безраздельно, чтобы увести писателя от государственной метафизики и прусских идеалов его заключительной трагедии.
Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822) родился в Кенигсберге, в бюргерской семье, из которой выходили чиновники, иной раз на довольно почетных должностях. Строй семьи был традиционным, удручающе традиционным, здесь боялись событий и перемен, сколько позволяли дела, сидели дома, общались только с родственниками. В семье принято было музицировать, но дальше этих дилетантских занятий себя не допускали.
Амадей — это третье имя в 1809 году он сам добавил к двум своим официальным, в честь Амадея Моцарта, своего божества — ко всему, что только означало музыку, относился со страстью, но вслед всем старшим в семье был отдан на юридический факультет, на котором обыкновенные будущие чиновники и выделывались. Университетские занятия он рассматривал как досадную повинность, и хотя в студенческие его годы в Кенигсбергском университете преподавал Иммануил Кант, Гофман ни разу не заглянул к нему в аудиторию; с него достаточно было обязательных занятий, он не желал их чем-либо утяжелять. Настоящим делом он считал и продолжал считать только музыку. По окончании университета начались его скитания по службам. Его назначают в Глогау, потом в Познань, из Познани, в наказание за карикатуры на познанское начальство, военное и штатское, переводят в городишко Плоцк. К этому времени он женится на Михалине Рорер, польке, очень бодром существе. Михалина, или «Мишка», как он ее называл, до конца жизни была ему верной подругой, хотя в духовных интересах его участия не принимала, да и не искала этого участия, посвятив себя заботам дома и хозяйства. Более отрадными для Гофмана оказались годы службы в Варшаве, 1804—1806, входившей тогда в состав прусского государства. Здесь он нашел разнообразное веселившее его общество, а также поощрение своим занятиям музыкой и живописью. В 1804-м он сочиняет оперу на текст Клеменса Брентано «Веселые музыканты», ставит ее, и она нравится. Он расписывает фресками помещение, где даются концерты. В Варшаве он приобретает верного друга на всю жизнь, позднее биографа и издателя его сочинений, Юлиуса
463
Эдуарда Гитцига, юриста и делового человека. Гитциг позднее увлекательно рассказал о Гофмане в Варшаве, как тот на лесах работал кистью, макая ее в горшки с краской, и в паузах попивал то венгерское, то итальянское. В 1806 году Наполеон, разгромивший Пруссию, выгнал ее из Варшавы, и Гофман вместе со множеством других людей, питавшихся от прусского жалованья, очутился надолго без службы и регулярных доходов. Гофман познал всю нескладицу и весь развал, вызванные в Германии войнами Наполеона. Он получил наконец желанную свободу от работ по канцеляриям, но вместе с ней — бродяжничество и нищету. Свои таланты художника он обратил в средство существования. Иногда к нему поступали заказы, но выполненную работу ему не оплачивали. Годы 1808—1813 Гофман провел в южнонемецком городе Бамберге, живописно расположенном, богатом барочными памятниками архитектуры. Здесь он нашел людей, неравнодушных к искусству, общение с которыми ободряло его1. Гофмана пригласили в Бамберг для музыкального руководства местным театром. Эта должность за ним не удержалась, но близость к театру он сохранил. Он числился при театре композитором, писал декорации и в конце концов исподволь направлял жизнь бамбергского театра, где в 1811 и в 1812 годах по его инициативе ставили три драмы Кальдероyа и еще никак не оцененную «Кетхен» Клейста, — силу Клейста он признал одним из первых. Чрезвычайно важно, что в Бамберге Гофман стал вполне человеком театра. Здесь сложились его театральные убеждения, тут он сделал попытку преобразовать современную сцену, далеко заглядывая вперед. Можно было бы сказать, что он предугадывал принципы и Станиславского, и Мейерхольда, а на Западе ни в XIX, ни в XX веке не было никого, кто бы приблизился к идеям гофманского диалога «Необычайные страдания одного директора театра» (1819). Напомню, что Мейерхольд искал опоры в традициях Гофмана, что его псевдоним — доктор Дапертутто — взят из новеллы Гофмана и что тени Гоцци и Гофмана витали над журналом «Любовь к трем апельсинам», который Мейерхольд издавал накануне революции.
В Бамберге он начал писать для прессы — тут были созданы его первые музыкальные новеллы, здесь он стал писать музыкально-критические статьи, составляющие большой и важный отдел его литературного наследия. Музыкант-практик и знаток истории музыки, он проявил
464
себя в музыкальной критике как первоклассный автор, равно высоки были его талант художественного вчувствования и талант основательных музыкальных разборов. Ему принадлежат превосходные страницы о музыке Гайдна, Моцарта, Бетховена, как новеллист и повествователь он целые эпизоды своих новелл и повестей тоже обращал собственно в музыкально-критические импровизации. Лучшим признанием заслуг Гофмана как музыкального судьи и интерпретатора была поздняя, от 23 марта 1820 года, записка к нему Бетховена, в которой Бетховен выражал свое удовлетворение по поводу высказываний Гофмана о нем2.
В Бамберге Гофман сложился на деле в универсального художника, о котором мечтали ранние романтики, осуждавшие распад искусства на обособленные друг от друга отрасли. Ко времени Бамберга Гофман в одном лице композитор, дирижер, режиссер, живописец, график, критик, новеллист. Со временем остались только литература и отчасти музыка. В наше время Пауль Грефф довольно строго судит композиторство Гофмана, считая, что Гофман стоит только на пороге романтической музыки. Гораздо выше оценивает он его как музыкального критика, в этой области предвосхитившего опыты Вебера и Шумана. По мнению Греффа, Вагнер обязан Гофману основополагающими музыкальными идеями3. Литература, однако, прониклась у Гофмана опытом его в изобразительном искусстве и его театральным опытом. Как писатель он сам был воспитан всеми искусствами вместе взятыми, и так же воспитывал он читавших его новеллы и романы.
В Бамберге при всей своей многообразной занятости Гофман жестоко нуждался. Его бамбергские годы — музыкальный вариант судьбы немецких гениев, молодых Гельдерлина или Гегеля. Те гувернерствовали, Гофману приходилось давать уроки музыки. Мало того — он брал на себя комиссионерство, распространял нотные издания лейпцигской фирмы Гертеля, посредничал при продаже роялей. Делая эти дела, Гофман умел не унижаться, как всегда, он гордо нес свою голову художника и человека из лучшего общества.
С музыкальными уроками связаны великие события в жизни Гофмана — любовь его к юной Юлии Марк, которая училась у него пению, была прекрасна и обладала, при высокой музыкальности, редкостным голосом. В музыке оба умели находить друг друга, их союз был в музыке и через музыку. Сколько можно было, Гофман
465
держал в тайне свои отношения с
Юлией. Он конспирировал даже в собственном дневнике, куда иной раз заглядывала
ревнивая жена. В дневнике
В 1812 году
После Бамберга продолжались связи Гофмана с театром. Его пригласил театральный директор Секонда дирижером в свой театр. Гофман стал ради труппы, которую набрал Секонда, разъезжать между Лейпцигом и Дрезденом. Это был 1813 год, и Гофман оказывался иной раз почти очевидцем происходивших тогда военных действий. В Дрездене, в обстановке войны он проводит долгие часы за письменным столом, пытается жить как ни в чем не бывало. На дрезденской улице, когда ему случилось попасть под густейший обстрел, пуля задела отворот его сапога. Хоть и слегка, но война отметила его.
В сентябре 1814 года Гофман возвратился в Берлин и здесь возобновил свою бюрократическую карьеру. В Берлине Гофман снова судебный советник, и это нужно рассматривать как житейское поражение. Ни к чему не привели опыты жить и действовать в качестве свободного художника. Искусству можно посвящать часы досуга, ве-
466
чepa и ночи, а день принадлежит полезному труду, например — казенным бумагам и заседаниям. Еще кенигсбергская родня учила Гофмана, что искусство само по себе не есть дело, что хлеб добывается не служением искусству, но государственной службой. Гофман уже с первых своих произведений и так до конца яростно нападает на бюргерскую идею, по которой искусство не смеет заключать в себе что-либо серьезное, назначение его — забавлять и тешить, быть приятностью. Как музыкант, как театральный деятель, как писатель он всюду воевал с этим пониманием искусства в качестве отдыха и потехи. Художник, по Гофману, есть человек возвышенного призвания, а искусство — ответственная духовная деятельность, требующая с обеих сторон — и со стороны творящих его и со стороны воспринимающих его — лучших внутренних сил.
В Берлине Гофман живет более чем деятельно, с удвоенной, утроенной интенсивностью. У себя по ведомству он образцово выполняет свои обязанности, отличается полнейшей точностью, обуздывая свою чрезмерную живость, свой темперамент, свои артистические привычки. По всей очевидности, он добивается, чтобы отношения между ним и службой исчерпывались начисто, он не хочет оставаться в долгу перед нею, ему нужны покой и неуязвимость на этой стороне его существования. Свои душевные силы он бережет ради иного применения. Занятия музыкой в Берлине у него отходят на вторую линию, хотя именно в Берлине в 1816 году он увидел на сцене самое крупное из своих музыкальных произведений — оперу «Ундина», к которой он приступил еще в Бамберге. «Ундина» имела заметный успех, вошла в историю музыки как едва ли не первоначальный, еще до «Фрейшютца» Вебера (который написал весьма замечательный и сочувственный разбор «Ундины»5) опыт романтической оперной драматургии, и тем не менее Гофман ко времени постановки «Ундины» навсегда упрочился не как композитор, но как писатель. Он не столько сам сочиняет музыку, сколько описывает ее и музыкантов в своих новеллах, повестях, в своем романе. Свое музыкальное призвание он как бы передает с рук на руки любимому своему персонажу Иоганнесу Крейслеру, который переходит из произведения в произведение, неся с собой высокую музыкальную тему. В 1814—1815 годах выходит новая большая книга Гофмана «Фантастические рассказы в манере Калло».
467
Отдельные новеллы стали появляться в печати еще в 1809 году. За этим сборником последовал другой, «Ночные рассказы», 1817. Гофман поступал по примеру старших романтиков — Людвига Тика и Арнима, охотно издававших свои произведения в виде циклов. В 1819—1820 годах Гофман издал четырехтомник, самое замечательное из своих собраний новелл, под именем «Серапионовы братья». То был подлинный романтический «Декамерон», с широко написанным обрамляющим текстом. Серапионовы братья — рассказчики новелл, далеко не точные последователи отшельника Серапиона, который жил одними внутренними видениями. Молодые люди, читающие в сочинении Гофмана друг другу свои новеллы, отнюдь не отрешенные от реальностей визионеры. Чем к Серапиону-пустыннику, они ближе по внутреннему своему методу автобиографической книге старого Гете, где, как там указано в самом ее заглавии, правда превращается в поэзию, Wahrheit в Dichtung, их вымыслы — это по-особому построенная правда, своеобычно размещенные факты, порою весьма злободневные и документальные. Внутреннее сходство с «Декамероном» именно в этом: как у Боккаччо его молодые флорентийцы бежали от чумы, постигшей их родной город, так у Гофмана серапионовы братья спасаются от скуки Берлина, от скуки реставрации, предаваясь художественным вымыслам, ставя между собой и действительностью ее художественную, «серапионовскую», интерпретацию. Три собрания, изданные Гофманом, — самый внушительный памятник романтической новеллистики в Германии. Обобщенный обзор наследия Гофмана не позволяет идти от сборника к сборнику, этот путь был бы для такого обзора слишком подробным, хотя сборники Гофмана и нужно бы каждый раз трактовать как некоторое художественное целое, указывая место, закрепленное в этом целом за теми или иными новеллами.
Помимо сборников, Гофману принадлежат большие повести, стоящие отдельно, и два больших романа, из которых второй не был завершен, третья часть «Кота Мурра» не написана из-за смерти автора.
Литературная работа Гофмана, огромная, богатейшая, вся улеглась в десять с небольшим лет. Она шла бок о бок с его трудом государственного чиновника, с его музыкальными занятиями. Даже в период своей писательской славы он не отказывался переводить иностранные тексты для оперного театра, когда его просили об этом.
468
Он старался ничего не упустить в жизни и увеселениях послевоенного Берлина. Подобно Клейсту, Гофман стоял вне каких-либо романтических объединений. Но он водился с Фуке, автором повести «Ундина», с Шамиссо, с Клеменсом Брентано, с Тиком, который, впрочем, глядел на него сверху вниз и брался поучать его. Гофман прославил в Берлине погребок Люттера и Вегнера, где он встречался со своим близким другом, знаменитым актером Людвигом Девриентом. Оба они бурно проводили здесь поздние часы, на радость другим посетителям погребка предавались вдохновенным юмористическим импровизациям, через Девриента по-прежнему Гофман оставался причастным к театральному миру и к его интересам.
Конец жизни Гофмана омрачился полицейскими преследованиями. В делах политики Гофман сколько мог придерживался нейтралитета, но события сами потребовали от него активности, и когда это было неизбежным, он умел вмешиваться в них, проявляя мужество и гражданственность. Когда начались волнения немецкой молодежи, когда студент Занд заколол кинжалом царского агента Коцебу, прусское правительство прибегло к жесточайшим и хаотическим репрессиям. Гофмана включили в комиссию по делам «демагогов», как именовались властями бунтовщики. Он своими глазами наблюдал беззаконие и бессудность. Хватали и бросали в тюрьму чуть ли не всякого мимоидущего, обвинения сочинялись заранее, и в качестве второго акта к ним подбирались обвиняемые. Гофман, не желая соучаствовать в делах, возмущавших его, вышел из состава комиссии, но протест его этим одним не ограничился. В повести «Повелитель блох» («Meister Floh», 1822) Гофман вдался в самую едкую политическую сатиру и очень ясно в резко шаржированном своем герое Кнаррапанти изобразил одного из самых отъявленных деятелей прусского самодержавного государства, полицей-директора фон Камптца. Рукопись, находившуюся у издателя, велели арестовать, не угодные фон Камптцу страницы были вырезаны, и повесть Гофмана в настоящем своем виде была опубликована только в 1908 году Гансом фон Мюллером. Сам король Фридрих-Вильгельм III выказал недобрый интерес к обвинениям, возведенным на Гофмана. Началось дисциплинарное расследование, и от величайших бед Гофмана избавила только болезнь, паралич, от которого 25 июня 1822 года он скончался6.
469
Гофмана позволяли себе трактовать пренебрежительно многие из его литературных современников. Ставился ему в вину и его успех у читателей. Конечно, его читали очень широко, он был тот немецкий романтик, который вышел наконец в большой мир, всех занимал и волновал. Издатели альманахов гнались за новыми произведениями Гофмана. Братья Вильмансы из Франкфурта благодарили его за «Девицу Скюдери» и признавали, что их альманах, где печаталась эта повесть, пользовался особым спросом. Письмо свое, предупреждая особые пристрастия автора, они приложили к посылке — к ящику, где находилось пятьдесят бутылок рейнвейна7. При всех трудах своих и при всей своей популярности Гофман ничего не мог оставить своей Михалине, кроме долгов, и ей пришлось отказаться от наследования ему по завещанию.
Особая тема — посмертная история Гофмана. Скажу только, что во Франции, в России и даже в Англии он добился большего признания, чем у себя на родине, в литературных ее верхах. Во Франции он отозвался на творчестве Бальзака и Мюссе, в Англии — Диккенса, у нас, в России, его высоко ценили Белинский, Герцен, Аполлон Григорьев, Гоголь, Вл. Одоевский, Достоевский. Один из парадоксов истории тот, что Гофман, полнее других осуществлявший заветы романтизма в Германии, самими же немецкими романтиками неохотно был признаваем за своего. Тем менее энтузиазма к Гофману можно наблюдать в Германии послеромантической. Его трактовали либо как поверхностно-занимательного повествователя, либо, что было не лучше, приписывали ему выдуманные трактовавшими неуследимые оккультные глубины. У себя на родине Гофман и до сегодняшнего дня еще не получил своих настоящих прав. Я сказал бы, что в Германии порою Гофману не желали простить его достоинств: его артистического блеска, его остроумия и юмора, его великой грации, его способности широких контактов с читателями, живости его и жизненности. Все это было малодоступно немецким филологам и критикам, воспитанным на литературе, полной отвлеченностей и книжности8.
Если разбирать мир новелл и повестей Гофмана по внутренним признакам и по этим же признакам, а не в порядке, какой им придан в сборниках, сопоставлять их, то в первую голову надо бы выделить те, что могут быть
470
названы прозой бидермейера — поэзией и прозой его. Беру это наименование условно, так как в литературе, в искусстве, в быту бидермейер при жизни Гофмана едва только начинался. То здесь, то там можно наблюдать у Гофмана предвосхищение бидермейера. Стиль бидермейера — широкий, покойный, благообразный, домашне-идиллический, дышащий жизнью и бытом, основанными на удобствах и достатке. Бидермейеру присущ и некоторый юмор — нисколько не опасный, не разрушающий строй жизни, но поощряющий его, юмор довольства. Бидермейер — бюргерский стиль, красивой и хорошей бюргерской жизни. Он коренился где-то в классичном для бюргерства XVII веке, во времена Гофмана и позднее он терял свою патриархальную искренность, становился стилем, который преднамеренно сохранял старые бюргерские черты и краски, тогда как бюргерство уже превращалось — или уже превратилось — в современную буржуазию. Бидермейер еще держал буржуазную жизнь в границах традиционной эстетики, вопреки тому, что буржуазная жизнь довольно решительно нарушала их. В одном недавнем исследовании сказано, что бидермейеровская манера, живи он дольше, чем жил, окончательно овладела бы Гофманом, и он стал бы рассказчиком в духе бидермейера, как это и случилось с поздним Людвигом Тиком9. Мнение это лишено основания. Отношение Гофмана к бидермейеру далеко от однозначности. Разумеется, Гофман знал соблазны бидермейера и сквозь него хорошо устроенного бюргерско-буржуазного быта. Он вполне унаследовал от поздних романтиков их движение в сторону «объекта», вещей наличных, реально бытующих, подкупающих своею осязаемостью. Еще на фоне войны и после бедствий ее он не мог не ценить прочного жизнеустройства. Мы нередко наблюдаем, как часто налаженный быт и Гофман улыбаются друг другу. Гофман как бы примеривается на бюргерский быт — нельзя ли идти на соглашение с ним. Но соглашения не произошло. Бидермейер был одним из стилей быта и искусства, не допускающих пытливости, исследовательского отношения к тому, что они в себе содержат. Бидермейер во всем и повсюду требует скромности, он требует ее и от познания: не слишком вникайте и не слишком проникайте. Бидермейер боится чрезмерностей художественного познания, разрушительного действия, к которому они ведут. Гофман не мог отказаться ни от проницательности, ни от иронии, и мир бидермейера, им
471
же самим вызванный к бытию, не способен был перед ними устоять. Новеллы бидермейера — достаточное введение в художественные миры Гофмана, так как здесь сделан опыт и приятия современной жизни как она есть, и ее разрушения через юмор и иронию.
В повести «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» (1818)10* описан старый город Нюрнберг в 1580 году, которому в среде романтиков славу создали Вакенродер и Тик. Дом и мастерская Мартина-бочара — это как бы первооснова бидермейера, отдаленные и классичные его первоисточники. Бидермейер здесь явлен нам в своей красе и бесспорности. Старый Нюрнберг — город цветущего ремесла. Гофман, как и другие романтики, не однажды возвращался к темам ремесла, этим национальным для Германии темам, ибо повсюду кишевшее ремесло столетиями определило стиль и масштабы немецкой жизни. Мастер Мартин — человек богатый, знаменитый в своем цеху. Сюжет повести намечен традиционный, как его подсказывали законы и обычаи цеховой среды. Роза, красавица-дочь старого мастера, будет выдана за одного из подмастерьев. Загадано — за кого же? У Мартина трое подмастерьев: Конрад, Рейнгольд, Фридрих — все красивые, умелые, ловкие, каждый старается заслужить Розу. Мастер Мартин не нахвалится своими подмастерьями, работа в мастерской кипит. Здесь шутят, веселятся, поют песни.
В довольно скором времени разоблачается, что ни один из этих юношей не призван к ремеслу бочара, все они — лжеподмастерья в бочарном цеху, они очутились здесь ради Розы, влюбленные в нее, им всем известно, что мастер Мартин ничего, кроме своих бочек, не признает, что бочарным цехом для него все начинается и кончается, что только за кого-нибудь из людей своего же цеха он согласится выдать дочку. Недолго эти юноши способны были выдержать свой искус. Конрад — дворянин, воин и кавалер — с шумом покидает мастерскую первым. Рейнгольд, другой ряженый бочар, на самом деле живописец. Он написал портрет Розы, и тем самым сведены его счеты с мастерскою Мартина. Заметить следует его слова о том, как нарисованный портрет освободил его от его рабства перед собственным чувством. Это поправка к
472
серапионовскому принципу. Рейнгольд говорит о действительности и образе ее, как относятся они друг к другу. Образ усиливает нас и ослабляет действительность как таковую. Наша власть над действительностью возрастает через образ ее, вызванный нами (VI, 201). После Рейнгольда и Конрада начинается коллизия третьего подмастерья — самого тихого и положительного из них Фридриха. Он литейщик, чеканщик, работающий по серебру, и он тоже не в состоянии подчинить себя бочарному делу. Но он в конце концов идет на компромисс с мастером Мартином, строит бочку, цеховый шедевр, получает в жены Розу, прекрасную дочку мастера.
У Гофмана рассказано, как изнутри разрушается архаический мир бюргерства и ремесла. Над старым Нюрнбергом повеяло духом Ренессанса, в ремеслах проснулся скованный ими дух искусства, деятельный дух не может более укладываться в традиционные бытовые формы, ему тесно в цехах, в мастерских, в бюргерских домах, в бюргерской семейственности. В приступе к этой повести изображается красивое и удобное жилище мастера Мартина, хороши были сени, полы из плиток, расписанные стены, сияло помещение с выставленной хозяйственной утварью. Из дальнейшего узнаем, как уходит от этого быта все живое и желающее жить, как мертвеют вещи быта, получившие свой смысл от человека, и как они становятся вещами по себе и для себя — вещами музея и выставки. Произошло освобождение духа и умов, они не вмещаются больше в материальные ремесла, в практику ручного труда. Им нужна собственная область. Акцент упал на личность человеческую. Она больше не цеховая единица, не переход только от предков к потомству, точка минутного отдыха в истории рода. Бюргерская культура, по Гофману, сильна не своими связанностями, но своими вольностями, не бытом, но сознанием. Бюргерство важно тем, что́ антибюргерского оно рождает, а не собственной своей природой.
В неоконченной и только посмертно изданной (1823) повести «Мастер Иоганнес Вахт» мы находим некоторую репризу «Мастера Мартина», правда, взятого двумя веками позже (XII, 101 — 141). Старый Вахт — плотник по профессии, он в антагонизме с современным миром, с новейшим поколением, уже воспитавшимся на Гете и Шиллере, с современными профессиями и нравственными понятиями. Главная коллизия связана с замужеством одной
473
из двух его дочерей: она и молодой адвокат, сын Вахтова товарища по цеху, влюблены друг в друга, но Вахт не соглашается на брак своей Нанни с Ионатаном, чью профессию он считает пустой и вредоносной; люди сами должны отстаивать свое право, а не нанимать ради этого кого-то за деньги, брать гонорары за восстановленную справедливость Вахт считает предосудительным. Знаменательно, что и в этой бытовой повести, как в тоже бытовой повести о Мартине и его подмастерьях, основная коллизия — социально-историческая. Романтики если пишут быт, то пишут его как историки, как историки культуры, как искусствоведы. В повести о Вахте не человек спорит с человеком, но с веком век, со стилем стиль, с одним историческим строем вкусов и понятий другой. Вахт сопротивляется не столько молодому Ионатану, сколько эпохальному поветрию. Даже две сестры принадлежат каждая к разным векам. Познавшая культуру ума и чувства Нанни — это один век, а сестра ее Реттель, поместившая свою душу в дела хозяйства и кухни, — это другой век, значение которого уже поколебалось. Такое же различие — историческое, историко-культурное — между Ионатаном и братом его Себастианом, грубым и диким, плотником по профессии, вслед отцу. Дело идет к компромиссу, как в повести о мастере Мартине: старый Вахт слишком умен, чтобы не уступить указаниям времени. Нанни и Ионатан получают наконец от него благословение. Фридрих-чеканщик, уже отойдя от бочаров, все же выполняет для оставленного цеха свой цехом положенный шедевр, и тем самым для Мартина как бы искупается его измена. То же самое Ионатан. Он мирит старого Вахта со своим адвокатским призванием, когда жертвует в пользу брата, попавшего в беду, десять тысяч талеров, заработанные в одном трудном, запутанном судебном процессе. Через поступок этот он поднялся во мнении Вахта над сомнительным содержанием своей профессии.
Новелла «Из жизни трех друзей» (1818) — новелла бидермейера в его современном виде. Явственным образом в нее вошли послевоенные настроения, она дышит покоем и отдыхом людей, только что уволившихся с театра военных действий. Правда, двое из них опять уходят в армию ненадолго, чтобы вскоре вернуться домой навсегда. Очевидно, здесь подразумеваются события 1815 года, закончившиеся битвой при Ватерлоо. Трое друзей попивают свой миротворный кофе на открытом воздухе в бер
474
линской ресторации. Сегодняшний
бюргерский день, конечно, имеет действие над Гофманом, но всюду сквозит очень
тонкая романтическая усмешка, исподволь заставляющая нас изменить иерархию
описанных вещей, понизить их значение сравнительно с тем, какое им будто бы
придается. Вероятно, самые заметные эпизоды в новелле связаны с домом и
наследием покойной тетки
От старой ее служанки Александр узнает, что каждый год в праздник воздвижения тетка ждала своего жениха. Был у нее некогда жених, и именно на этот день назначена была свадьба. Жених, которому известен был дурной и тяжелый нрав невесты, хотел только ее денег и в последнюю минуту устрашился, передумал, не явился под венец. Тетка из года в год в день свадьбы надевала подвенечное платье и садилась к столу, накрытому на двоих. И призрак тетки в полдень и в полночь, и эти ежегодные праздники, которые она справляла при жизни и призраком продолжает справлять посмертно, — все это фантасмагории бидермейера, его изнанка. Главный день в году тот, когда ничего не совершилось, когда не прибыл жених. Праздник в честь небывшего события — свидетельство того, как пуста эта жизнь, и этот быт. Призрак возится с ящиками комода, роется в бельевом сундуке, приходит ночью за желудочными каплями, — быт бессмертен, механизм, вставленный в быт, бессмертен, его завода
475
хватает более чем на жизнь, он независим от жизни, и он ее сильней. Бидермейер обожествлял порядок, бытовой режим, и вот порядок живет дольше самой жизни, превосходит ее, и даже чрезмерно превосходит. Высшее умирает, но режим есть низшее и поэтому не знает смерти. Старуха тетка, как прежде, занята по дому, не замечая, что умерла уже давно. Что прежде стояло гораздо ниже самого обыкновенного, то старается стать над ним, облечься в его привилегии. Бытовые вещи вышли за черту бытового времени. Желудочные капли прописаны на века, на целую вечность. Жизнь и смерть более не отличаются друг от друга, сама жизнь, будучи жизнью, уже перешла в смерть. Все мило и приятно в бидермейере, кроме того обстоятельства, что он лишен внутреннего движения. Гофман готов был его признать, так как он отменил войну и убийство. Беда бидермейера, что и он убивает бесшумно, без пролития крови. Бидермейер убивает, опекая и лаская убиваемых.
Призрак приходит за желудочными каплями — источник фантастики, нечто более чем прозаическое, небывалое сгущение прозаического. Таково одно из художественных открытий Гофмана: проза, доведенная до своего предела и после того переходящая в область фантастики. Открытие это получило новое развитие у Достоевского. К Свидригайлову входит его покойная жена Марфа Петровна и напоминает, что он забыл часы завести, или же дворовый человек Филька, которого только что похоронили, отзывается на нечаянный зов и несет барину трубку («Преступление и наказание», ч. IV, гл. I).
В новелле о трех друзьях со всей тщательностью разработаны и все приятные и нежные качества стиля бидермейер. Фабула идет без всяких потрясений; хотя она и не обходит конфликтов, она охотно о них рассказывает, и умеет их подчинить избранному стилю. Все трое — Александр, Северин, Марцелл — влюблены в одну и ту же девушку, в Паулину. Но у состязающихся сохраняется их дружба, никому не удается интрига против остальных. Двое из состязающихся отпали сами собой. В этом временном антагонизме, возникшем между каждым из них и остальными, содержится и нечто идиллическое. Если в известных положениях они и враждуют, то кажется, что они только шутят с враждой. Новелла держится на нюансах характеров. Между друзьями существуют очень легкие и очень тонкие различия. Гофман здесь против своего обычая избегает сопоставлений сколько-нибудь резких.
476
Правда, Марцелл и Северин несколько
экстатические личности, а Александр самый основательный и спокойный среди них.
Зато Марцеллу и Северину дано утешение: Александр победил их в борьбе за
Паулину и стал ее мужем не потому, что он блистал какими-то достоинствами,
недоступными для других. Его успех — это успех солидности, успех человека, у
которого семьсот печаток на цепи от часов, идущей по жилету. Те апеллировали
прямо к самой Паулине. Александр знал, как нужно поступать, — он действовал
через семью, через родителей, он искал сразу же брака и добился его. Есть нечто
безоблачное и безобидное в аварии, которую потерпели те двое. Победа
Паулина — то лицо в новелле, которое может вызвать сожаление. У Гофмана, романтического женолюба, героиня, конечно, лучше героев, хотя нигде об этом прямо не сказано. Она была и осталась нераскрывшимся, несамостоятельным существом. Сначала ее опекали бидермейеровские родители, потом она перешла под опеку мужа, тоже не выпадавшего из стиля бидермейер. Ни муж, ни его взвинченные друзья с их сочиненными чувствами так и не умели коснуться ее подлинной души. Паулина — одно из тех прелестных явлений женского мира, так и не познавших, что есть действительная жизнь сердца и души, которых так много в произведениях Гофмана.
Все выглядит светло и чисто в новелле о трех друзьях, ибо здесь не допущена глубокая раскопка быта и бытовых отношений. В художественной литературе, как, впрочем, и в других искусствах, очень существенна мера анализа — до какой глубины он доводится. Художник зачастую сам себе задает эту меру. Он мог бы копать еще и еще, но не желает этого, дальнейший анализ не входит в его расчет. От его искусства зависит — умеет ли он подать знак, что раскопка им сделана намеренно поверхностная, так сказать ради праздника, ради дружелюбия к изображенному миру, из желания что-то в нем пощадить, причем сама эта пощада — искусственная, условная, и воспринимающий это искусство должен почувствовать, что за достигнутым раскопкой слоем следуют еще иные слои, тронуть которые можно всегда, если только нужно будет, если только заключенному миру или перемирию наступит конец.
Гораздо злее и критичнее многое в «Рассказах, написанных в манере Калло», особенно же в помещенной
477
среди них большой повести «Золотой горшок», которую по праву рассматривают как одно из важнейших произведений Гофмана. Полагаю, что энергия анализа и критики в этих рассказах зависит от того, какого рода критерий вводится здесь в дело. Этот критерий, чуть-чуть приведенный в движение в новелле о трех друзьях, на не в пример большую мощность работает в рассказах в манере Калло. Главная критическая роль принадлежит здесь не самому Калло, остро-насмешливому рисовальщику, но стихии совсем иной природы и призвания — стихии музыки в романтическом ее понимании. От нее-то и заимствуется масштаб оценок, которым подвергаются вещи и люди. Первая часть рассказов в манере Калло содержит в себе «Крейслериану», листки, фрагменты, вышедшие из-под руки композитора и музыканта Иоганнеса Клейслера, его излияния на музыкальные темы, его размышления о музыке и о сущности ее. И до и после Крейслера пишется о музыке: «Кавалер Глюк», «Дон Жуан» — наполовину новеллы, наполовину критические опыты о музыке Глюка и Моцарта, тогда еще только отчасти ставшей классичною, едва-едва утратившей свою злободневность. Новелла о собаке Бергансе тоже обращена к музыке, к вопросам ее бытования, и по задним планам новеллы опять проходит тень Иоганнеса Крейслера. Во второй части рассказов в манере Калло музыка отодвинута. Однако рассказы этой части в конце концов ведут к новой «Крейслериане», составляющей эпилог второй части, куда все помещенные в ней рассказы и вливаются. Можно сказать, что излагаются эти рассказы в присутствии музыки, при ее соучастии, то явном, то подземном, как бы под ее руководством и под ее наблюдением.
Как и вся романтическая культура, Гофман подразумевает под стихией музыки слитность и целостность мировой жизни. За всеми явлениями, чья обособленность только мнимая, скрывается единая в них, себя изживающая жизнь. В музыке оглашается тайна, скрытая в недрах космоса, музыка — «санскрит природы» («Sanskritta der Natur»), недоступное, через звуки ставшее доступным. В музыке слышна песня песен деревьев, цветов, зверей, камней и вод (I, 46, 56). Несколько раньше сказано, что среди светящихся цветов пение течет серебряной рекой (I, 42). В разговоре с собакой Бергансой, по Гофману — отлично понимающей и музыку, и поэзию, и театр, искусство названо посредником между нами и вековечным все-
478
бытием («und den ewigen All») (I, 111). Музыка Бетховена — ход в сторону огромного и безмерного (I, 49). По видимости Гофман одним из первых стал сравнивать Бетховена с Шекспиром, у обоих та же великая целостность и стройность, которые не всегда и не всяким сразу же постигаются. «Разве дух музыки, как и дух самого звука, не пронизывает всю природу, как она лежит перед нами?» (I, 309) и «как сказал некий остроумный физик, слушать — это видеть изнутри, и поэтому для музыканта зрение и становится внутренним слухом, сокровеннейшим сознаванием музыки, которая вибрирует сообразно с движением его духа и звучит во всем, что только усмотрено его глазом» (I, 309).
Великие антитезы для Гофмана мир музыки и мир антимузыкальный. Природа сама себя как бы положила на музыку, а вот общественные и политические отношения людей музыке враждебны. «Сукновальня государства» — «Walkmühle des Staats», как выражается Иоганнес Крейслер (I, 43). Политическое государство страдает разорванностью, человека от человека как бы отделяют пустые интервалы, путь к ближнему бывает найден с немалым трудом, люди чуждаются друг друга, невзирая на то, что между ними существует величайшее сходство интересов, привычек, вкусов, способов вести свои дела и способов веселиться. О людях в будничном их качестве говорится, что они изделия фабрики — Fabrikarbeiten (I, 79). Постоянный предмет насмешки Гофмана — остановленное развитие, рутина там, где предполагалось постоянное обновление. Новелла «Фермата» по этому именно поводу и написана (V, 97). Ее персонажи — две молодые итальянки, певицы. Казалось бы, им-то и жить музыкой, на волне движения и перемен. Юмор рассказа в том, что обе сестры, Лауретта и Терезина, при всей их красе, таланте и живости, где-то внутри себя чрезвычайно косные создания. Рассказчик впервые познакомился с ними еще мальчиком и состоит при них аккомпаниатором. Ровно через четырнадцать лет он встречает их обеих уже не в Германии, а в Италии. Повторяется давняя сцена, которую он так хорошо запомнил. Лауретта поет, обрывает пение и бешено бранит своего аккомпаниатора — он испортил ей виртуозный эпизод. Четырнадцать лет тому назад из-за ферматы совершенно так же пострадал и рассказчик. Все то же самое, только аккомпаниатор другой — итальянский аббат. Две певицы с аккомпаниатором и гроза по поводу
479
ферматы — пережит весь комизм вечного возвращений, комизм, к которому Гофман был чувствителен более кого-либо.
«Рассказы в манере Калло» — первая книга Гофмана, где достаточным образом уяснялось, каково будет его место в истории романтизма. Гофман свел воедино главенствующие направления в литературе романтиков. Он необыкновенно расширил и усилил их движение в сторону современной действительности, художественного ее исследования. Он продолжил по-новому, придав ей дальнейшую систематичность, работу Шамиссо или Арнима, из которых первый больше, второй меньше так или иначе затронули людей и нравы современности. Но он нисколько не порывал и с традициями времен Иены, как это делал тот же Арним, как это делали друзья Арнима по гейдельбергскому романтизму Брентано или Эйхендорф. Гофман живо чувствовал эти традиции — Новалис. и именно поэт Новалис, а не христианский философ и стихотворец, был для него дорогим именем, он чтил раннего Тика и по разным поводам поминал его произведения; постоянно, пусть и не называя этих имен, он отправлялся от идей Шеллинга и ранних Шлегелей11. Предан был Гофман и великим мировым поэтам, к которым обращались ранние романтики, восторг перед Шекспиром и Сервантесом всегда был присущ ему. У него был настоящий культ комедий Карло Гоцци, одного из младших богов раннеромантической эпохи. Гофмана не отвратили от романтического предания враждебные этому преданию влияния и воздействия. Он слишком ненавидел войну и милитаризм, чтобы преклоняться перед прусским государством, как это случилось с Клейстом и, пожалуй, с Арнимом. Шведский писатель Аттербом, побывавший в Германии в 1817 году, видавшийся в этой поездке с Гофманом, пишет об эпидемии милитаризма, охватившей тогда немцев12. Это контрастно упоению мирными временами, известному нам из Гофмана. Однако ведь это упоение было у немцев также и упоением недавних побед и жаждой новых. Ни в каком смысле милитаризма этого Гофман не разделял, и как полемику против милитаризма следует рассматривать знаменитую сказку Гофмана о Щелкунчике (1818), где воинские дела описаны как эпизоды из мира детской комнаты, с участием мира игрушек, с забавными преуменьшениями, как они могут быть свойственны сказке для детей, и без славословия кровопролитию. Причем весь рисунок
480
военных действий, военного маневрирования передан очень точно и очень правильно, за что и похвалил Гофмана такой искушенный стратег, как Гнейзенау13. Реальность общего рисунка и заполненность его, расцвеченность игрушечными, сказочными эпизодами — особый шуточный прием, идущий сквозь «Щелкунчика», усиление всего, что есть забавного в нем. Арним и в особенности Клейст с их пруссачеством были вне правила, у Гофмана мы находим более обычные в среде романтиков антипрусские настроения. Так же оставался Гофман чужд церковным, конфессиональным влечениям Брентано и Эйхендорфа, Арнима, поздних Фридриха Шлегеля и Шеллинга. Католицизм, как это видно по новеллам и романам Гофмана, был для него предметом исследования, крайне внимательного норою, без того, чтобы предмет заражал собою сколько-нибудь ощутимо и самого исследующего. Мир коренных романтических ценностей обладал для Гофмана едва ли не всей полнотой авторитета, хотя и наблюдались то здесь, то там в отношении к нему скептические черточки. В области идеалов Гофмана идеал романтический не встречал опасных для него соперников. Перед Гофманом лежала современная действительность, но обращены к ней были романтические требования, хотя Гофман и не считал, как романтики Ионы, что требования эти сбудутся чуть ли не сегодня или завтра. Именно это наличие в произведениях Гофмана внутренних мотивов романтизма раннего и романтизма позднейшего придает им обобщающий характер в истории романтического движения. О внутреннем богатстве и о духовной универсальности произведений Гофмана писал Достоевский: «У Гофмана есть идеал, правда, иногда не точно поставленный; но в этом идеале есть правота действительная, истинная, присущая человеку». Специально о романе «Кот Мурр»: «Что за истинно зрелый юмор, какая сила действительности, какая злость, какие типы и портреты и рядом — какая жажда красоты, какой светлый идеал!»14.
В рассказах в манере Калло, особенно в повести «Золотой горшок», стоящей в центре книги, Гофман представил бюргерский элемент Германии помноженным на элемент бюрократический и поэтому приобретающим особую резкость и терпкость. Всего важнее, что за кулисами бюргерско-бюрократического города Дрездена, его домов и улиц в повести этой действуют грандиозные романтические силы, действует космос, действует всемирная творящая
481
жизнь, действуют романтические масштабы. Именно по поводу Гофмана, и, в частности, по поводу «Золотого горшка», уместно повести речь о романтическом гротеске, хотя он наметился уже у Шамиссо, у Брентано, у Арнима — в бурлескной форме, и предвосхищен был даже Тиком в его комедиях. В произведениях Гофмана романтический гротеск достиг наибольшей явственности и высшего развития внутренних отношений, у предшественников предъявляемых все только намеками.
Гротеском стали с конца XV века называть орнаментику, обнаруженную при раскопках Рима, в ней переплетались звериные мотивы с растительными, реальности с образами небывалого, осмысленное с бессмысленным, с немыслимым и невозможным. Гротеск держал тяжелую крышу на тоненьких стеблях, канделябрами украшал фронтоны и сажал человеческие фигуры на слабые и нежные отпрыски растений15. Критерий правдоподобия и вероятности не имел никакой силы в гротеске, вызывающе он нарушался в соотношениях одних его мотивов с другими, форм с формами. Гофман был на редкость дерзок в сопоставлениях, к которым он прибегал гротеска ради. Быть может, лучше всего романтический гротеск раскрывается для нас через некоторые замечания, сделанные философом Фихте по поводу остроумия. Фихте называл остротою, остроумием, собственно говоря, гротеск. Фихте: «Остроумие есть способ выражения глубокой, т. е. сокрытой в глубине идеи, истины в ее непосредственной наглядности». Если философу удается не только методическое изложение звена за звеном, если он еще умеет «представить целое и его абсолютное единство в едином луче света, как молния озаряющем целое в его обособленности и заставляющем всякого разумного слушателя или читателя воскликнуть: да, поистине это так, теперь я сразу узрел это, — тогда мы имеем изложение идеи в ее непосредственной наглядности или изложение при помощи остроумия»16. Хотя Фихте и держался в стороне от ромабтизма, несколько замешанный неведомо для самого себя только в его предысторию и раннюю историю, сказанное им об остроумии свидетельствует, что романтический юмор все же находился в его философском кругозоре. Как об этом и говорит Фихте, романтический юмор опускает промежуточные эпизоды, частности, конкретности и сразу же, как вспышкой молнии, освещает явления светом целого и общего. Так в «Золотом горшке» город
482
Дрезден сегодняшнего дня без предисловий и растолковываний получает освещение прямо из космоса и из правремени. От этого он становится и лучше и хуже. Лучше — видно, какие прекрасные возможности погребены в этом городе, видны недра бидермейера, кого и что он загубил. После этого поверхность бидермейера, его реальности еще более прежнего непочтенны и неприемлемы. Романтические возможности, обращенные к бытовому миру, становятся обвинительным актом и более — судом, и еще далее — приговором. Современный социальный мир, его быт и культура оцениваются как жалкий упадок космоса, как неверность ему или его извращение. У Тика в комедии «Принц Цербино» зеленый лес проснулся в столах и стульях бюргерского жилища, где о нем ничего не помнят и не знают. У Гофмана мотивы эти разрабатываются дальше. Бронзовая колотушка у дверей Линдхорста превращается в злобно ухмыляющееся лицо торговки Лизы, опасной колдуньи, что торгует яблоками у Черных ворот. В доме Линдхорста из чернильницы с тушью выскакивают чернейшие коты с огненными глазами, из кляксы, сделанной Ансельмом на драгоценном манускрипте, вырываются синие молнии, и слышен гром. Это живая, вечно неспокойная мировая жизнь проявляет себя вспышками и мятежами в мертвых вещах бюргерского обихода. У Гофмана здесь перекличка еще и с бунтом вещей в музее натуралий, описанным в философской повести Новалиса. Живая природа, по Гофману, не желает отступать, она проявляет себя в тканях, идущих на бытовую потребу человека, в его одежде она прорывается, невзирая на все усилия ткачей, суконщиков, портных навеки угасить ее. На Ансельме фрак щучье-серого цвета, hechtgraner Frack, в мануфактурном произведении вдруг всплеснулась сама мать-природа. В «Крейслериане» второй мелькнул старый адвокат, скрипач-любитель, носивший сливовый сюртук — einen pflaumfarbenen Bock. Архивариус Линдхорст из «Золотого горшка» дома рядится в живописнейший расцвеченный халат, желтый с красным, и здесь происходит обратная метаморфоза — утратившие дыхание, умирающие на его халате цветы вдруг оживают, архивариус превращается в гигантский куст огненных лилий — возгорелись лилии, вышитые на его халате. Нечто родственное в костюмах у Гоголя: смотри знаменитые фраки Павла Ивановича Чичикова, брусничного цвета с искрой и наваринского дыма с пламенем. У Гоголя ирония переходов из
483
царства природы в царство гардеробов несколько маскируется, действительность обладает над Гоголем большей силой, чем над Гофманом.
Ворвавшаяся стихия всемирной жизни дала небывалую художественную определенность человеку современного общества и государства, каков оп есть. Космос и стихия указали на бюргера во всем его антикосмическом и бесстихийном существе. Как в предметах вокруг него, так и в человеке иссякли животворящие силы. Гофман сближает современного человека со стихией жизни как таковой, человек жалок на этой встрече, все промежуточное, что отделило человека от мирового жизнетворчества, опущено, хочет или не хочет он того, вселенная остается с ним один на один, до жестокости прекрасная и своезаконная. У Гофмана оживают халаты, оживают кофейники, оживают стенные часы, по анимизации у него подвергся и сам человек, только мнимо обладающий привилегией жизни и души. Человек в социальном быту своем со всех сторон лимитирован, обеднен, ослаблен. Кто был могучим волшебником, носил в себе грозную стихию, тот сейчас всего-навсего дрезденский антиквар, ученый-химик, экспериментирующий приватно, состоятельный и только поэтому почитаемый согражданами господин Линдхорст, отец взрослой дочери, которая берет уроки музыки и поджидает женихов. Стариннейший враг его, носительница темнейшего космического начала, старуха колдунья, собственно говоря, тоже вступила в образ некоего бытового спокойствия, она имеет имя и фамилию, адрес и часы приема — Луиза Рауер, у Морских ворот в городе Дрездене, если кому понадобится искать ее по делу, как это было с Вероникой Паульман. Линдхорст и старуха Рауер — примеры обмирщения сил мифа и сказки.
Истинно лимитированные люди — это все стоящие на разных ступенях бюрократии тайные секретари, надворные советники и так далее, до самой главной строки табели о рангах. Ранг, профессия, бюджет устанавливают, что может человек и чего он не может. О молодом Ансельме говорят с уважением, что это будущий гофрат. Милая и доблестная по-своему Вероника Паульман мечтает стать женой гофрата. Эта девушка не побоялась в бурную ночь пойти на пустынный перекресток, чтобы погадать о будущем женихе. Кто бы он ни был, но предел мечтаний Вероники — гофрат. У Гофмана в повести время от времени звучит напев бесконечности, чтобы навести на эту
484
лимитированность быта и бытовых людей. Музыка и бюрократия вступают в трагикомическую коллизию друг с другом. Музыка обличает бюрократию, под напором музыки бюрократия познается во всем ее искажающем существе. Во чреве бидермейера содержится бюрократический режим, уже это одно отнимает у бидермейера его радушие и его ласковый лоск. Люди бидермейера, персонажи бюрократии тоже иногда бунтуют. Если бывают бунты вещей, то как же не бывать бунтам человеческим. Люди восстают против сухого режима, на котором их держат, они хотят, чтобы открылись их души, они ищут вдохновения. Даже конректор Паульман, который был только конректором, всегда и всюду, и регистратор Геербранд (здесь регистратор — чин), никогда не забывавший о своем положении в табели о рангах, однажды тоже возмутились. В них заговорил Вакх, в них возгорелся хмель, конректор Паульман в порыве восторга сбросил с себя парик, а регистратор Геербранд вместе со студентом Ансельмом, находившимся тут же, стали швырять в потолок посудой для пунша и стаканами. Люди лимита и стандарта ожили, воодушевились, хотя и по-своему, хотя и на минуту. Калло, которому Гофман хочет следовать, тоже изображал людей, не до конца укладывающихся в свой очерк. Фигуры и лица у Калло очень резко — пронзительно — очерчены. Но это очерченность того, что по природе своей точной очерченности не имеет и не допускает. Вероятно, от этой двойственности выражения зависит многое в искусстве Калло, ироническом и загадочном по стилю своему.
Стандарт — определение, неизбежное для этих людей и для их быта. Они стандартны и нищи духом удручающе. Весь юный Ансельм в его красивом почерке; каллиграфия, выведение букв и строк — в этом вся его связь с жизнью вокруг, в этом его карьера, в этом его оправдание. В жизни он держится на волоске — на каллиграфии. Если от других людей он отличается талантом почерка, то от других каллиграфов, героев письмоводства, он не отличается ровно ничем.
По всякому поводу Гофман ведет полемику против стандартов. Любопытны стилистически куски бытовых монологов и диалогов, стандарты бытовой речи, представленной гротескно. Куски эти появляются уже в «Крейслериане» первой. Крейслер участвует в музыкальном вечере, который у себя дома устраивает тайный советник Редерлейн. Молодежь бросается к девицам Редерлейн.
485
Суматоха, можно разобрать отдельные слова: «Красавица наша, умоляем, не откажи, порадуй нас чудным своим талантом, спой нам что-нибудь, дорогая». «Нет, нет, не могу, я совсем простужена, ах, этот последний бал, я ничего не подготовила...» Примечательно, что, собственно, здесь дается запись какого-то одного определенного разговора, что фамилия барышни Редерлейн, разговор происходит в родительском доме, она ссылается на последний бал, говорит о своем катаре, который не позволяет ей спеть для публики. При всем том разговор более чем стандартен, все одни общие места, лесть девице и ее будто бы дарованиям, она отнекивается притворно, здесь нечто весьма индивидуальное утонуло в стандарте, оставив слабые свои следы, из индивидуального делается стандартное, перед которым индивидуальное и частное бессильно. Так обычно у Гофмана. В стандартном, типовом еще барахтается индивидуальное, поглощенное им. Не успели еще покончить с барышней Редерлейн, как уже на катар ссылается госпожа финансовая советница, которую тоже просят спеть. Как диалоги, так и ситуации и сцены описываются у Гофмана под углом зрения стандарта, овладевшего ими. Резхен, дочь хозяина дома, отрабатывает ради своего папаши музыкальные номера, а у матери слезы чистейшей радости падают при этом на чулок, который она вяжет. Нечто однократное представлено как многократное: всегда и всюду если дочь поет у клавира, то отец курит трубку, а мать вяжет чулок. Однократному только и дали, что жить и дышать в многократном.
Есть у Гофмана еще один способ выразить лимиты человека — мотивом власти над человеком маленьких вещей. Ансельм то и дело спотыкается о маленькие вещи, он не в ладах с их прихотями и капризами, с мелкобесием быта. С заговора вещей и прочих мелких, но вероломных сил против Ансельма и начинается сюжет повести. У Черных ворот Ансельм опрокинул нечаянно корзину с пирожками и яблоками, от этого несчастья и пошла неурядица в его жизни. Гофман с большей последовательностью, чем кто-либо до него, вводит в литературу мотивы власти вещей, обставленности человека вещами, предопределенности человеческого поведения тем, что скажут и подскажут вещи. Разве что Лоренс Стерн в этом отношении ему предшествует. Гофман получил литературные импульсы от книги стернианца Джеймса Бирсфорда «Бедствия человеческого существования», где расска-
486
зывалось о маленьких вещах с их маленькими предательствами17.
В «Золотом горшке» уже вполне развернулась манера Гофмана инструментовать повествование вещами, уже через заглавие и вступительные строки к отдельным главам сообщать вещам значение тематического и стилистического ключа. XVIII век выдвигал в заглавиях людей, психологические и нравственные понятия: «Агатон», «Духовидец», «Поль и Виргиния», а у Гофмана в заглавии горшок. Программные строки к вигилиям: «Злоключения студента Ансельма, пользительный табак конректора Паульмана и золотисто-зеленые змейки» — вигилия первая. «Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоисступленного. Поездка по Эльбе. Бравурная ария капельмейстера Грауна. Желудочный ликер Конрада и бронзовая старуха с яблоками» — вигилия вторая. Имена вещей — самый памятный камешек в этих мозаиках. Они интригуют нас — каким образом среди явлений нравственной и эмоциональной жизни могут иметь равную им роль вещи без мысли и без души.
Гофман — один из обновителей в поэтике заглавий, от него видны пути к Гоголю, к Диккенсу, к их заглавиям, предметным и материальным: «Шинель», «Коляска», «Домби и сын», — напоминаю, что у Диккенса это вывеска конторы, а не отец и сын, две живые личности. Пушкин дразнит: «Пиковая дама». Это сразу и заглавие предметное, игральная карта, как это ввели в обиход новейшие авторы, но это и заглавие в старинном стиле: дама в самом деле — старая графиня. Такая же двойственность и у Гоголя: «Мертвые души» — сказано о душах, однако эти души из реестра, покупные души, в известном роде овеществленные.
Маленькие вещи — лилипуты — в повествованиях Гофмана становятся Гулливерами, а сам Гулливер в их среде унижен и мал. У вещей власть и активность, вещи наступают, а человек спасается.
Уже в «Золотом горшке» появляется с тех пор навсегда с Гофманом связанная тема двойника — в комедийно-сатирическом своем варианте18. Двойник здесь не назван двойником, как это станет делать Гофман в дальнейшем, и тема двойника здесь только сквозит в одном, другом, третьем фрагментах повести. Пятая вигилия: Вероника Паульман предается грезам. Ансельм стал гофратом, она — женой его, они снимают прекрасную квартиру на
487
одной из лучших улиц, у нее модная шляпа, новая турецкая шаль, все это очень ей к лицу, и в элегантном неглиже она завтракает у себя на балкончике. Мимоидущие франты задирают головы кверху, и она слышит, как франты восхищаются ею. Возвращается гофрат Ансельм, вышедший по делам еще с утра. Он поглядывает на свои золотые часы с репетицией и заводит их. Пошучивая и посмеиваясь, из жилетного кармана он извлекает чудесные серьги самой модной работы, которые он и надевает на нее. Вероника бежит к зеркалу, чтобы посмотреть, какая она в этих серьгах. Проходят месяцы, и вот не Ансельм, потонувший где-то в дебрях дома Линдхорстов, влюбленный в золотую змею Серпантину, стал гофратом, как все того ожидали, но регистратор Геербранд. В зимний день, в именины Вероники, не глядя на мороз, в башмаках и чулках, с букетом цветов к ней является Геербранд, ныне гофрат Геербранд. Он преподносит ей пакетец, откуда ей блеснули прекраснейшие серьги. Еще какие-то месяцы миновали, и госпожа надворная советница Геербранд уже сидит на балкончике давно задуманного дома, на задуманной улице, прохожие молодые люди лорнируют ее и делают по поводу нее самые лестные замечания — вигилия одиннадцатая. Эпизоды в вигилии пятой и в вигилии одиннадцатой почти тождественны. Все повторилось как бы по заказу вечного возвращения. В эпизодах те же действующие лица. Разница во временах года — в грезах Вероники было лето, в действительности Вероники — зимний день, но это ничуть не существенно. И тут и там муж, гофрат по табели о рангах. Можно опустить подробности, что героем одного эпизода был красивый и поэтически настроенный Ансельм, а другого — скучнейший прозаик Геербранд. Вероника от одного гофрата перешла к другому гофрату же, гофрат сохранился, что единственно важно. Человек может обмениваться без потерь на другого человека, если существо обоих — имущество, положение, место в бюрократической иерархии. Гофрат Геербранд — двойник гофрата Ансельма. В роли жениха или мужа каждый из них дублирует другого. Брак с одним гофратом — копия брака с другим, даже в подробностях, даже в серьгах, которые они приносят в подарок своей невесте или жене. Для Гофмана слово «двойник» не совсем точное: Ансельма Вероника могла бы обменять не только на Геербранда, а на сотни, на великое множество их. Суть не в удвоении, суть в том, что
488
подтачивается единственность человеческой личности. Если кого-то можно приравнять к кому-то другому, то почему бы не приравнять его еще к самому неопределенному множеству других. Существовал Ансельм как лицо однократно данное, через Геербранда, через брак Вероники с Геербрандом Ансельм превратился в явление, данное многократно, суммарное, типовое. Двойник — величайшая обида, какая может быть нанесена человеческой личности. Если завелся двойник, то личность в качестве личности прекращается. Двойник — в индивидуальности потеряна индивидуальность, в живом потеряна жизнь и душа. Эта обида, наносимая двойником своему оригиналу, превосходно описана Достоевским19.
По Гофману, человеку как целостному явлению, как душе, как личности не дано осуществить себя во внешнем мире, человек принят во внешний мир как деталь, по какой-то своей частности, как студент Ансельм — по таланту почерка. Остальное не имеет спроса, не считается. А по частностям каждый заменим другими. В каллиграфию Ансельма едва ли входит личность Ансельма какой-либо стороной своего существа. Только внутри себя Ансельм некто один-единственный, по счету внешнего мира он тысяча первый человек, сто тысяч первый.
У Гофмана механическая жизнь строится на бюрократах и на бюрократии. Это соответствовало мере немецкого исторического опыта. В Англии уже изображали наемного рабочего — обезволенную производительную силу как основу современной цивилизации — см. Мэри Годвин «Франкенштейн». Русская литература ближе к Гофману, но калибры явлений в ней резко изменились: что у Гофмана дано в провинциальных, почти в патриархальных масштабах, то у нас дано в масштабах огромной империи. С другой же стороны, именно Гофман помогает нам разглядеть, что сатира Гоголя, Щедрина, Сухово-Кобылина не есть сатира всего только на бюрократию как таковую — сквозь бюрократию они добирались до первопринципов механической цивилизации нового времени, обнаруживали их для русской мысли и для мысли общемировой.
Гофман находится постоянно в поисках образа, способного передать эту жизнь, лишенную жизни, эти лица, у которых украдена личность. Иногда он представляет современный мир как обезьянник, где все основано на взаимоподражательных движениях, без внутреннего смысла, который управлял бы ими. «Крейслериана» вторая —
489
послание Мило, ученой обезьяны, к подруге его Пиппи в Северную Америку (I, 284), похвальба по поводу успехов, сделанных им в человеческом обществе, где все так легко поддается имитации. Жизнь в лесу сложнее и ответственнее, чем в среде культуры. Мило сейчас умеет все — он владеет и искусством разговора, он и играет с удивительной бойкостью на рояле, изумляя всех своею техникой, наконец, он также и певец, побивающий своих соперников с обыкновенными, естественными человеческими голосами. Гофман выставляет на вид обезьяний принцип цивилизации за вражду к оригинальности и творчеству, ее противоположность тому, что он, как и все романтики, называет музыкой. Цивилизация антимузыкальна, она во всем держится стандартов, в ней спастись нельзя, тогда как в природе музыки вечные волны самообновления жизни, в которой ничто не повторяется в прежнем качестве и виде.
После обезьяны как образ для современного человека и его цивилизованного царства следуют куклы и автоматы. Общество в доме у юстиции советника словно во сне привиделось, как если бы оно было выставлена в рождественской витрине одной из лучших кондитерских Берлина. Сам юстиции советник оказался забавной засахаренной фигуркой с жабо из почтовой бумаги (I Teil), «Приключение в ночь на Святого Сильвестра»). Постоянно возвращается у Гофмана мотив разборного человечка. С живым обращаются как с механическим, и ничего — тот терпит, или же он и есть на поверку механизм. В новелле «Выбор невесты» тайный канцелярский секретарь Тусман ночью, вытянувшись на цыпочках, заглядывает в окно ратуши, тем временем кто-то подкрадывается, выкручивает у него обе ноги и потом, вернувшись, бросает их ему в лицо (VII Teil). Сам Тусман навлек на себя, чтобы его этим способом трактовали: в собственных своих глазах он только чин, только звание, только положение в бюрократический машине. У Гофмана человек порою не более чем сводка из разрозненных частей. В новелле «Ошибка» старика берут за затылок, отвинчивают у него от парика косичку, которую потом открывают, как если бы это был ящик со столовым серебром, и оттуда достают салфетку, нож и ложки. Страницей позже сходно поступают с фамилиями итальянских маэстро, говорится о музыке всех этих -ини, и -ани, и -елли, и -иги, отвинчивают от фамилий суффиксы, заставляют суффиксы функционировать
490
как части механизмов (XI, 96—97). Гофман создает целые агрегаты кукол и автоматов — коллективы, города, страны, подобия целой цивилизации. В одной из его новелл («Автоматы») у большого рояля сидит кукла в человеческий рост, рядом флейтист, с флейтой в руках, тут же дама у инструмента с клавишами и мальчик с барабаном, пианист играет на рояле анданте, флейтист прикладывает флейту к губам и вступает с темой, мальчик очень тихо и очень точно выстукивает на барабане (VI, 91).
«Щелкунчик». Игрушечный замок — создание и подарок детского друга Дроссельмейера. Этот замок стоял на зеленом лугу с пестрыми цветами, весь в зеркальных окнах и с золотыми башнями. В замке слышна была игра колокольчиков, растворялись двери, и видно было, как по залам прогуливаются хорошенькие кавалеры и дамы их в шляпах с перьями, в платьях с длинными шлейфами. Казалось, главный зал весь в огне, такое было в нем множество зажженных свечей в серебряных подсвечниках, и дети в коротеньких камзольчиках и сюртучках плясали там под музыку. Господин в смарагдовом плаще часто взглядывал в окно, подавая кому-то знаки, и снова исчезал... Замок Дроссельмейера — развернутый образ цивилизованного мира. Дети сначала восхищаются этой дорогой и хитрой игрушкой, но потом устают от нее. Они хотели бы новостей, неожиданностей, чтобы не совершались по расписанию прогулки гостей в замке, чтобы тот смарагдовый господин взял бы да и посмотрел не в то окно. Но Дроссельмейер, автор замка, объясняет им, что это невозможно. В замке его можно найти и одно, и другое, и третье, он тешит и забавляет, но в нем отсутствует свобода, жителям его отказано в автономии, все для них предустановлено.
Принцип куклы у Гофмана идет и в глубь персонажа, психология персонажа порою до чрезвычайности упрощается, в ней различимы отдельные элементы, и они связаны друг с другом, как пружины и колесики обыденнейших механизмов. Психология в таких случаях заменяется собственно технологией, механизацией внутреннего мира, что порождает комические эффекты; ожидалось, что будет рассказ о воодушевленных существах, а вместо того рассказана работа нехитрых приборов. Упрощенная психология персонажей — очень важное условие для сказок Гофмана. Без него из сказок ушла бы сказочность. Психология сказочных персонажей не только элементарна,
491
она же еще и фантастически мелочна. В сказке Дроссельмейера о твердом орехе описывается обжорное королевство, где все поставлено на службу интересам еды. Свиней, режут в день, указанный придворным астрономом, сал! распределяют по колбасам через ученого математика, у короля самые тяжкие переживания — он в горе и болезни, ибо он считает, что сала не хватает. Из-за сала же происходит великий конфликт между колбасной королевой и фрау Маузеринкс (V, 241—253). Все значительное, продержавшись недолго, уходит в мелочное, теряется в мелочном, как в других случаях в гротесках Гофмана все конкретно-индивидуальное поглощается всеобщим, потопляется в стандартном. Явления эти тождественны.
Гофман в сказках создает двухмерный мир, населенный двухмерными существами, с душами, которые наделены чуть ли не геометрическими формами. Для истории литературы небезразлично, что двухмерный этот мир еще недавно имел репутацию трехмерного. В литературе XVIII века Дефо, Свифт, Филдинг, Вольтер сводили душу человека к простейшей игре интересов, аппетитов, к механизму эгоистических инстинктов, плотских потребностей, и это считалось тогда великим углублением в душевную жизнь. У романтиков такая интерпретация живого мира опустилась в сказку, стала юмором, забавой, намеренно допущенным примитивом. Все это можно найти еще в романтических комедиях Тика, а полный расцвет этой юмористической двухмерности — у Гофмана, позднее — в сказках Андерсена. В позднюю пору литературы сказка скорее конец каких-то художественных явлений, чем начало новых.
Как замок Дроссельмейера, так и вся современная цивилизация — сделанный мир, в особого смысле произведение искусства, произведение искусных рук. Было бы неправильно рассматривать Гофмана как завзятого противника механического искусства, современной техники во всех ее проявлениях, как некоего романтического луддита. Ему присуща порой даже артистическая увлеченность сделанным этим миром, сделанным этим бытом и сделанными этими людьми.
Гофман один из тех художников XIX века, которые почувствовали, что искусство пребывает не в одних только искусствах, называемых изящными, что оно сидит во всем современном жизнеустройстве, в городском пейзаже, в быту и в обиходе современников. В этом отношении
492
Гофман предшественник всех, кого можно бы именовать великими урбанистами: и Бальзака, и Гоголя, и Виктора Гюго, и Диккенса, и Эдгара По, и Бодлера. Известные парадоксы Оскара Уайльда по поводу того, что мы живем в мире, который мы как художники сами создали и разработали, вовсе не были ошеломительной новостью, как это казалось его сверстникам. То была всего только одна из итоговых формул для давно сложившегося опыта культуры нового времени. Гофман очень любил напоминать и озадачивать тем, что люди ее повсюду окружены искусством, окружены даже там, где собственно искусство отсутствует. Об этом у него говорится то шутя, то более серьезно. Лицо одного из персонажей в новелле «Магнетизер» выражено в музыкальных понятиях — лицо его подрагивает сначала едва заметно, потом по всем мускулам распространяется crescendo, и все это переходит в некое fortissimo — лицо превращается в страшнейшую рожу. Крейслер в письме к барону Вальборну шутит насчет своей собственной персоны: если найдет на него дурное настроение, он облачится в костюм цвета Cis moll, а чтобы смягчить эффект, воротник к нему будет взят цвета Es dur, — итак: звуковой костюм, звуковой воротник, сначала живописное определение, а потом живопись, цвет переводится на музыку, которая излучается самим внешним миром, его вещами и колоритами. Забавного выражения ради элементы музыки вработаны в предметы внешнего мира, однако сама по себе мысль об этой внедренности искусства в быт у Гофмана нечто большее, чем забава и юмор. Сам замысел «Рассказов в манере Калло», трактования сил реальности как произведений искусства, как чего-то равнозначного графике французского художника, относится сюда же. Действительность, природа, по Гофману, уже сами по себе суть искусство, еще до того, как искусство в более обычном для него виде и смысле приступило к ним. У Гофмана новеллы бывают рассказаны по картине: «Фермата», «Дож и догаресса», где искусство не только завершает действительность, но еще и предшествует ей. Цитаты из мирового искусства, ссылки по поводу тех или иных реальных эпизодов на картины, на литературные произведения — один из обычаев рассказывания, принятых у Гофмана. Примеры здесь весьма многочисленны.
Есть искусство, к которому повести и новеллы Гофмана более всего приближены. Это искусство театра.
493
Гофман писатель с ярким театральным сознанием. Проза Гофмана почти всегда вид сценария, скрытно осуществленного. Кажется, что в своих повествовательных произведениях он все еще направляет спектакли в Бамберге, либо сохраняет свое место у дирижерского пульта в дрезденских и лейпцигских спектаклях группы Секонды. У него то же расположение к сценарию, как к самостоятельной художественной форме, что и у Людвига Тика. Как у отшельника Серапиона, у Гофмана страсть к зрелищам, которые восприняты не физическим оком, а умственным. Он почти не писал текстов для сцены, но проза его — театр, созерцаемый духовно, театр невидимый и все же видимый.
Человек, по Гофману, — сценическое явление, прежде всего он входит в состав зрелища, повинуясь требованиям его. По крайней мере с этого начинается всякое знакомство с заново выступающим персонажем, он по-театральному предъявлен нам, это актерский выход. В романе «Эликсиры дьявола» брадобрей Белькампо преподносит философию, по которой человек есть создание парикмахерского и портняжного искусства. Белькампо берется причесать Медарда как тому угодно, можно под Каракаллу, под Карла Великого и под Вергилия, под Тассо тоже можно. У друга его, портного, по словам Белькампо, на вешалке висят характеры на выбор, одеться можно ученым человеком, купцом, особой средних лет, но молодящейся или юнцом, при этом Белькампо делает тонкое замечание, что люди хорошего общества хотят казаться людьми вообще, они избегают в костюмах всего, что обнаруживало бы их ремесло и занятия. Философия Белькампо — философия человека, мыслящего театрально. На театре костюм — второе тело персонажа, его социальное тело, его социальный стиль. В посмертно изданной новелле Гофмана «Datura fastuosa»* описано, как платье сделало человека. Там появляются юмористические мотивы, родственные Арниму в «Хранителях короны». Как у Арнима, так и у Гофмана рассказан брак с переходящей женой, унаследованной от мужа к мужу, брак, в который вовлечена до последних мелочей вся бытовая обстановка вдовы. Юный Евгений от своего умершего старика профессора унаследовал не только жену его, тоже старую женщину, но и весь дом, весь гардероб, он стал
494
носить его шлафроки, его колпаки, его парадный сюртук и незаметным образом в этом быту и в этих одеждах стал дублировать покойника духом и телом, стал чахнуть и похварывать, подвергаться старческим недомоганиям (XII, 72—73). Над юным Евгением сбывается костюмная философия Белькампо — театральная философия. Ему сделана другая внешность, и он впадает в рабство перед нею.
В диалоге «Необычайные страдания одного директора театра» (IV, 1 — 105) участники его обозначены так: Серый, Коричневый. Диалог идет и идет, мы уже давно узнали, кто эти люди, какое у них место в жизни, каковы их судьбы и характеры, убеждения, однако же, они по-прежнему называются по цвету своих сюртуков — один Серым, другой Коричневым. Цветовую примету давно можно бы снять, она нужна была только временно, до более близкого знакомства с героями диалога. Будь то диалог литературно-философский, до конца подобный «Племяннику Рамо» например, Гофман, надо думать, так и поступил бы. Но у Гофмана диалог подмосточный, и тот и другой директор — оба ведут свой диалог с воображаемых подмостков, язык театра до конца остается в силе, и поэтому нельзя забывать вплоть до самой развязки, что общаются сюртуки — серый с коричневым. Костюмные характеристики в литературе даются на минуту-другую, сцена их удерживает, покамест длится представление.
Персонажи новелл и повестей Гофмана не столько впечатляют нас как личности, сколько кажутся нам актерами, играющими доверенную им роль. Пример: советник Креспель, адвокат Коппелиус, доктор Трабаккио, волшебник Проспер Альпанус. Можно заподозрить, что к нам выходит не сам Иоганнес Крейслер, но актер, отважно взявшийся за эту роль, требующую и трагических и комедийных красок. У персонажей Гофмана по-театральному подчеркнута внешность, жест их, мимика преувеличены, как бы для того, чтобы их мог отчетливо рассмотреть удаленный от них зритель. Описание демонического адвоката Коппелиуса, позднее выступающего под именем итальянца Копполы в новелле «Песочный человек»: широкие плечи, бесформенная, толстая голова, землисто-желтое лицо, седые кустистые брови, откуда сверкают кошачьи зеленые глаза, большой и крепкий нос над верхнею губой. Лицо Коппелиуса как будто обработано театральным парикмахером и мастером грима. Мимике
495
персонажей Гофмана свойственны театральная резкость, гипербола и громозвучность. Нам предложено самим догадаться, что к нам обращены не лица натуральные, но гримированные, гримом утрированные. Очень часто персонажи Гофмана обладают одной постоянной гримасой, по которой и бывают сразу узнаны. Нас не может не смущать лицо Проспера Альпануса. Об этом чародее, поднявшемся против Цахеса, сказано, что стоило в него пристально вглядеться, и тогда выплывали странности: в его большом лице, как в стеклянном вместилище, покоилось еще другое, маленькое личико. Это второе лицо Проспера Альпануса не может не подсказать нам идею театральной личины, театральной масочки или полумаски.
В большой новелле «Синьор Формика» идет непрестанный обмен местами событий житейских с впечатлениями театра. Обыкновенный быт сразу же, еще не опомнившись, попадает на сцену, где эпизоды из него виртуозно разыгрывает даровитый импровизатор, синьор Формика — актерский псевдоним знаменитого живописца Сальватора Розы. В зрительном зале присутствует старик Паскуале, на сцене Формика играет его же. Всем ведом нрав настоящего Паскуале, отвратительного скупца и ревнивца, который держит под замком опекаемую им племянницу и готовится к браку с нею. Сатира синьора Формика своеобразна: он вызывает смех, так как играет Паскуале в идеальнейшем виде; Паскуале, каков он на подмостках, весь сама доброта и щедрость, весь небывалое великодушие — он дает согласие на брак племянницы с молодым искателем ее руки. В театральном зале Паскуале как он есть, на сцене Паскуале, скандально, вызывающе улучшенный. Паскуале задыхается от злобы по поводу того, что с ним сотворил синьор Формика. Ведь художественный образ обязывает к чему-то подлинник, которого образ так или иначе придерживается. Настоящего Паскуале со сцены заставляют возвыситься над собственным нравом и персоной, и он этому призыву с бешенством сопротивляется. Ему устроили публичную казнь — его казнят идеализацией.
Есть особая связь у Гофмана: механизированный, на пружинах, на заводе мир, царство автоматов — театральность этого мира, даже театральщина. Механизация жизни — тоже лицедейство в своем роде, подделка человеческого образа, человеческих дел и отношений, умелое, искусное их имитирование. Царство автоматов и кукол —
496
победа заменителей, субститутов, лицедеев над жизнью в ее самобытной простоте. Вот почему у Гофмана, даже независимо от его интересов к сценическому искусству, царство автоматов всегда переплеталось с идеями и мотивами театрализации самой человеческой жизни. Где автоматы, где сама жизнь подделана, там театрализация торжествует универсальнейшую свою победу. Государство, армия, бюрократия, казенные способы воспитания, товарно-денежные отношения, юридические нормы — все это у Гофмана то схематичнее, то подробнее представлено как современные средства превращения человека в куклу, общества — в собрание механизмов, в гигантский прототип игрушки Дроссельмейера. Как в том игрушечном замке, человек следует по заранее проложенным путям, без каких-либо отступлений в сторону. У Гофмана жизнь сразу же похожа на скопище автоматов и на театральное представление. Театр марионеток — это и есть соединение двух гофманских стихий, механизации и театральности. Специально гофманское нам дано в этих движениях и действиях кукол, при таинственном свете рампы, в этих сумерках только снизу освещенной сцены.
Художники последующих за Гофманом поколений тоже исходили из сознания, что реальный мир вокруг — это сделанный мир, в нем слишком много искусства, слишком много явлений, искусно построенных. Задача искусства как такового — пробиться сквозь эти деланности, сделанности и построения к — живой природе и плоти жизни, которая давно под грубой корою цивилизации стала неузнаваема. Получался некий парадокс: интересы искусства требовали от него борьбы с искусством — вне его, и движения в природу, поиски природы и стали называть искусством, поэзией как таковой. В известном смысле в искусство входило самоотрицание, что нам так хорошо известно по русскому художественному опыту, по эстетике, которой следовал Лев Толстой, которой именно в театре, а не в каком-либо ином искусстве следовал Станиславский, именно на театре поборавший театр, театральность самого реального быта и реальных отношений человека.
У Гофмана театрализованная жизнь сумрачна, потому что далеко не достаточна. Конечно, он и ее ценил — ограниченной ценой. Ведь один из его любимых персонажей, давний друг Иоганнеса Крейслера, мастер Абрагам вечно занят своей механикой, своими приборами и экспериментами. Гофман понимал, что и в механический мир вложены
497
талант, ум, изобретательность, что мир этот по-своему причудлив, отличается привлекательными странностями, что он является поприщем для специальных видов искусства, которое у романтиков именовалось «интересным» и пользовалось правами, заранее урезанными. В механизме живет своеобразная жизнь — жизнь мысли и остроумия, жизнь мастера-изобретателя, строителя, но живет за счет жизни, отнятой у всех прочих и у всего прочего.
Театр автоматов — театр голой режиссуры, диктаторства, единой и единственной воли, сосредоточенной в режиссере-самодержце. Подавление всех ради одного — в этом порок кукольных представлений, в этом причина зловещего колорита, который им бывает свойствен и всегда подмешан к их причудливости. У Гофмана очень различается, даны ли жизнь и свобода одному только автору-инициатору, или же они — достояние всех персонажей, всех живых сил, вошедших в художественное произведение. В новелле «Состязание певцов» он представил поэтов одного и другого типа: поэт-насильник, поэт умышленного творчества, злой волшебник Клингзор — и поэт духовной свободы, радостный и благой импровизатор, которому благоволят жизнь и природа, Вольфрам фон Эшенбах. Клингзор — тиран, тюремщик душ. Своего писца, как письменную принадлежность, когда тот сделал свою работу, Клингзор запирает в ящик; всюду у него заточники, заточенные или живые души, — они в растениях, в кореньях, в книгах, отовсюду у него бывают слышны их жалобы и стоны, в доме у Клингзора зажжено искусственное солнце (VI, 50). Клингзор действует внушением. Гофман проявлял живейший интерес к явлениям гипноза, и всегда у него гипноз — особый вид рабства, эпизод из страшного мира, где человека насильственно разлучают с самим собой. Гипноз у Гофмана иной раз едва ли не вид разбоя, насилия с помощью науки.
Главный упрек искусству, которым располагает художник-диктатор, можно бы сделать с этической точки зрения. Искусство этого рода этически скудно, вместе с этикой оно теряет полноту жизни. Гофман любил подсмеиваться, какие удобства вносит в жизнь своей среды человек-автомат. Сразу же отпадает всяческая озабоченность по поводу ближнего, нет беспокойства о том, что ему надобно, что он думает, что чувствует. Великое удобство для Клингзора запирать своего секретаря в стол.
498
В новелле «Песочный человек» студент Натаниэль не мог не влюбиться в куклу по имени Олимпия, которую ему подсунул профессор Спалланцани, — она только слушает, но сама ничего не говорит, не судит, не критикует; у Натаниэля великая уверенность, что она одобряет его произведения, которые он перед нею читает, что она восхищается ими (III, 46—47). Олимпия — деревянная кукла, вдвинутая в общество живых людей, слывущая тоже человеком среди них, самозванка, втируша, l'intruse. Принявшие втирушу, обольщенные ею несут возмездие — они заражаются сами ее деревянными качествами, глупеют, оболваниваются, как это и случилось с Натаниэлем. Впрочем, Натаниэль кончил безумием.
Механическое ужасает, когда нам прямо показано живое, вытесненное механическим, когда налицо все претензии механического, вся его злость и обман. Старый оптик-шарлатан Коппола-Коппелиус достает из кармана лорнеты, очки и выкладывает их перед собой. Он достает еще и еще очки, весь стол занят ими, из-под очков сверкают и горят настоящие живые очи, тысячи очей; взгляд их судорожный, воспламененный, красные, как кровь, лучи пронзают Натаниэля. В этом эпизоде смысловой центр новеллы о песочном человеке — подмене механическим искусством живого и самобытного, об узурпации, производимой механическим. В диалоге двух директоров театра один из них, Серый, очень говорливый, приносит шумные жалобы на свое театральное дело, на всех людей театра, на их своеволие, на капризы примадонн, на эгоцентризм и эгоизм актеров, занятых каждый только собственным сценическим успехом и равнодушных к тому, что такое тот спектакль, где они играют, та пьеса, где им поручена роль. Попутно ламентациям своим Серый развивает с великим блеском и силой убеждения идею сценического ансамбля, тогда еще совсем новую и только-только осваиваемую современниками Гофмана. У Коричневого есть какая-то профессиональная тайна, он говорит, что у него особая труппа, в которой царит строжайшая дисциплина, актеры разумно делают свое дело, не доставляя директору лишних хлопот. Они отлично знают, что требуется от настоящего ансамбля, и умеют поддерживать его. В самом конце диалога он предъявляет свою удивительную труппу, этих героев повиновения, — открывает большой ящик, и в ящике Серый видит великое множество искусно изготовленных марионеток.
499
Концовка с марионетками, нет сомнения, ироническая. Замена живых непослушных деревянными послушными в этом диалоге забавна, но и печальна.
Ошибочно, как это часто делают в нашем веке, считать Гофмана праотцем условного театра, прамастером условного искусства вообще. Гофман, как и все романтики, допускал условность только в произведениях иронически направленных. В прочих случаях и Гофман и остальные вместе с ним требовали от искусства всей энергии переживания, сопереживания и сочувствия. В фрагментах «Дон Жуана», в обеих «Крейслерианах», в разговоре с собакой Бергансой и в других произведениях Гофман уличает людей бидермейера, филистеров от культуры и эстетики, — до чего они бережливы и скупы на чувство, на сочувственные переживания. Они не желают тратиться душевно, вживаясь в чужие миры, в чужие внутренние состояния, в страдания другого, да и в радости другого. В этом свидетельство их душевной скудости, их душевной неодаренности, — они едва справляются со своими собственными нуждами, где же им еще расточать себя на сочувствие ближним, на внутреннее соучастие в жизни тех. В новелле о Дон Жуане главенствует эпизод о донне Анне: великая артистка, исполнявшая эту партию, скончалась на сцене, гибель донны Анны стала собственной ее гибелью, трагедия героини совпала с трагедией самой артистки. Для Гофмана в этом апофеотика театра — в отметании условностей, в умении предаваться роли, художественному образу, ничего не приберегая для себя. Искусство, если оно чего-нибудь стоит, требует от художника героизма. В этой защите героической эстетики сказалось все презрение Гофмана к филистерскому пониманию искусства как дивертисмента, как способа с приятностью проводить время. Гофман настаивает на высокой патетичности его. Если взять страницы из «Необычайных страданий одного директора театра», посвященные Карло Гоцци, то нас поражает, с какой ясностью почувствовал Гофман патетический и вовсе не забавный стиль и «Короля-оленя», «Ворона» и даже «Любви к трем апельсинам». Конечно, Гофман не стал бы спорить, что каждый раз перед нами зрелище, полное трагизма и высокой лирики, хотя и в оправе скоморошества и с его забавами и шутками. Гофману были близки мотивы соперничества искусства с жизнью: искусство живее, чем самая жизнь. В конце концов в этом состоит и серапионовский принцип — состяза-
500
ния интенсивного с экстенсивным и победа над экстенсивным. Искусство проводит действительность через человека, через его воображение, через его духовные миры, и действительность, набираясь несвойственной ей энергии, вся перегорает в этой энергии, полученной ею.
Состязание с реальностями, конечно, есть романтическая утопия. Но она была полезна. В этом стремлении поравняться с действительностью искусство приобрело новые неведомые силы, которые послужили не столько романтике, сколько сменявшему и сменившему ее художественному реализму. Вспомним, что Бальзак рассматривал свою «Человеческую комедию» как вызов самой действительности, соперником своих романов он считал не другие романы же, но Францию, но Европу как они есть, весь мир независимых реальностей.
Из большой повести кДож и догаресса» мы узнаем, в чем для Гофмана состояла норма эстетическая и философская. Она не выполнена здесь, но с достаточной ясностью указана.
Повесть «Дож и догаресса» изображает Италию раннего Ренессанса — это начала Ренессанса, как в повести «Синьор Формика» даны его концы. Разумеется, Гофмана для повести о доже вдохновляло не само это время, когда жил и действовал Марино Фальери, но время более позднее — расцвета венецианской школы в живописи. По крайней мере нечто очень родственное колоритам Тициана, Тинторетто или Джорджоне присутствует в живописных фонах и подробностях этой новеллы. Мир ее многообещающий, пышный, золотой и золоченый. В ней действуют лица, очень удаленные друг от друга либо по возрасту, либо по судьбе и социальному положению, либо по всем этим признакам вместе взятым. Генеральное противоречие повести, однако, лежит не между персонажами. Оно отделяет прежде всего взятый целиком ансамбль персонажей от автора-повествователя. Автор владеет всем, что ему предлежит, всей Венецией, с ее дворцами и каналами, с ее богатством и празднествами. А действующие лица в том или ином смысле бедствуют. Они не живут одной жизнью с Венецией, они, находясь в этом знаменитом городе, только сосуществуют с ним. Романтическое томление. — Sehnsucht — трактуется у Гофмана по-особому. У старших романтиков оно обращается в даль — в синюю даль, его предмет — синяя бесконечная недостижимость. Если бы герои венецианских повестей Гофмана духовно
501
очнулись и поняли самих себя, то они почувствовали бы томление совсем иное — по самому близкому, которое находится прямо перед их глазами и навеки недоступно им. А если и доступно, то, однако, на самую малую минуту, как бы чуть-чуть и вскользь, без какой-либо надежды на закрепление, на истинную связь. Венецианские празднества; юная догаресса сидит на своем высоком месте, рядом с дожем, под балдахином. Юный Антонио добился того, что ему досталась роль подносящего цветы догарессе. С моря к верху башни святого Марка протянуты канаты. Машина по канату подымает Антонио с букетом цветов к догарессе, потом летит обратно вниз. Антонио на лету вручает догарессе свой букет, восторженно целует руку у нее, но машина тут же отрывает его от прекрасной госпожи праздника, по краткости своей только что бывшее кажется небывшим.
Антонио был грузчиком-гондольером, он влюблен в догарессу. Его окружают великолепные архитектурные пейзажи Венеции, ее история проходит на его глазах, но у него нет соединения с этим чудесным и многозначительным миром. Однажды ему довелось спасти жизнь старому дожу Марино Фальери, но тот швырнул ему три тысячи цехинов, с тем чтобы цехинами навсегда отрезать от себя этого юношу; их отношения, едва возникнув, сразу же исчерпываются. Великие возможности Венеции всегда в двух шагах от Антонио, но в его жизнь они не входят и не войдут. Неузнанный, переодетый, он везет дожа на политическую встречу, где решаться будет судьба Венеции, но куда и зачем едет дож — Антонио даже не подозревает, да и не та у него забота. Огромная историческая жизнь и люди возле, наглухо, наотрез от него отделенные, — вот лейтмотивы повести. Она полна тайной тоски, возможностей, у которых нет и не было с людьми внутренних связей. Прекрасная Аннунциата и жена, и не жена старому дожу, старость и величие отчуждают Марино Фальери от Аннунциаты. Сам старый дож обручен ли на самом деле со своей Венецией, где власть его нетверда, где против него строят заговор, где над ним почти открыто смеются?
Старуха, нянчившая Антонио, повсюду ходит по Венеции, всюду бывает и заводит знакомства, оставаясь между тем всем и всему постороннею. Люди отчуждены и от внешнего окружения и от самих себя. В конце концов Антонио с трудом восстанавливает в памяти свое детство,
502
своего отца — немецкого негоцианта, язык, который звучал ему в детстве как родной. Аннунциата с трудом усваивает, кто она, собственно, такая и к чему ей назначено стремиться. В повести царят печаль и горечь отчуждения, неразлучного с самоотчуждением. У героев нет опоры и призвания, данных изнутри, ничто им не подсказано и извне. Повесть косвенно сообщает нам, что именно составляет идеал Гофмана в его раскрытом виде, в его полногласии. Гофман ищет единства жизни, всех жизненных сил, жизненной бодрости и активности для всех действующих лиц, их глубокой связи с миром, на площадях которого они подвизаются. Он сторонник философии и эстетики вчувствования. Человек по горло погружен в жизнь, к которой он принадлежит, все его внешние отношения с ней есть также и внутренние. Люди охвачены богатейшей жизненной общностью, единая музыка владеет всеми. Вот это и было бы прекрасное искусство, о котором писал молодой Фридрих Шлегель, противополагавший его искусству не более чем интересному. Гофману мало было области интересного, он хотел подняться в прекрасное, в искусство, где существовала бы полнота жизни и для автора и для действующих лиц, кого только тот выводит наравне с собой.
Есть скрытая перекличка между повестью о прекрасной догарессе и новеллой «Советник Креспель» (V, 73—91). Догаресса и ее возлюбленный сходят в могилу, едва узнав, что же несли они в мир и чем был этот мир, в котором они жили оба. Сходная судьба у Антонии, дочери Креспеля. У нее высокое музыкальное дарование и удивительной красоты голос, ему дает несказанную окраску болезнь Антонии, которая постоянно держит ее под смертельной угрозой. Болезнь, страдание дают ей талант, и болезнь всегда может убить ее. Старый Креспель боготворит свою Антонию. Он держит ее в строжайшем затворе, и искусство и любовь ей воспрещены. Креспель дрожит над ее здоровьем. Человек во всем оригинальный до чрезвычайности, он в отношении дочери держится самых обыденных взглядов и приемов. Антонии судьба предложила трагический выбор: либо жалкое подобие жизни, либо великая жизнь артиста ценой ранней смерти. Гофман уже писал о том, что искусство требует жертв. Певица, певшая донну Анну в опере Моцарта, скончалась на сцене — вместе с донной Анной. Антонию отец удерживает от жертвования собой, от музыки, от любви. Она погибла бы
503
от полного познания жизни. Фридрих Шлегель прокламировал категорический императив гениальности. Та же мысль в новелле Гофмана — будь самим собой во что бы то ни стало, дай волю собственному гению, в этом твой долг. И в венецианской повести Гофмана и в новелле о дочери советника Креспеля та же тема неотвратимости самоизживания и великой печали, когда человек закрыт в самом себе. Гофман изображает человека в его лимитах, но не признает лимитов, они были и есть злая сила, и санкции им у Гофмана не дано.
Тема Антонии в новелле усилена символическими аналогиями. Антония похоронила в себе свой голос, он как в гробу живет в замечательной скрипке, которая висит на стене у советника Креспеля. Когда умерла Антония, на скрипке лопнули струны.
Креспель — фанатический собиратель скрипок. Он только и делает, что разнимает их, доискиваясь до музыкального секрета этих скрипок, сделанных великими мастерами. В эпизодах Креспеля со скрипками нам дана аналогия к истории Антонии и даны также ее продолжение и художественные комментарии к ней. Можно бы назвать эти вечные анализы скрипок и порчу их Креспелем особым видом сальеризма. Что есть дело таланта или гения, то хочет Креспель перевести на язык бесталанности, для бесталанности он хочет освоить доступное природному таланту. С Антонией он тоже обращается как человек, горестно не понимающий прав и судьбы гения, трагическое он рассчитывает лечить домашними средствами.
Гофман ищет в человеке его самоопределения, начал его внутренней свободы. С этим как будто бы худо согласуется поэтика точного и острейшего наблюдения извне, которой он следует как художник-практик. Поэтику свою он изложил в новелле «Угловое окно» (XII, 142—164), которую я назвал бы программной, не будь так далеко от Гофмана всякое проповедование по пунктам и тезисам. В этой новелле программа художества сама тоже есть художество, собрание маленьких вставных новелл.
Старый писатель, разбитый параличом, осужденный на неподвижность, сидит со своим юным кузеном у углового окна, где-то в высоком этаже высокого дома, где он проживает, и из окна этого, выходящего на большую рыночную площадь, учит гостя смотреть и наблюдать — учит его искусству видеть, как называет он это занятие. Оба всматриваются в персонажей рынка — в продавцов, в по-
504
купателей, фиксируют того или этого, и задача их поставить человеку диагноз: угадать по внешнему виду и по внешним приметам характер и биографию, кто он, чем он был и чего от него следует ожидать. Долговязый человек, по-старомодному одетый, несет по базару ящик, откидывает крышку, делая закупки, и видно, что ящик изнутри выложен жестью и устроен очень обдуманно. Женщина с воза накладывает в ящик повидло, в другое отделение идут селедки из бочки, в третье отделение отправлена зелень, куплены две ощипанные утки, куплен ощипанный гусь, это рассовано по карманам. У покупателя чудаковатый вид, он не слишком свой человек среди этих фигур рынка. Кто же он такой? Учитель рисования, пожалуй, еще и сейчас где-то служит, старый холостяк, у него есть деньги, скряга и чревоугодник, сам ходит за провизией, сам и повар, жадно истребляет блюда, им для себя же приготовленные. Но кузен предлагает и другую гипотезу. Обилие закупленной провизии объясняется не жадностью одинокого едока, а тем, что их четверо. Тут не угрюмый немец, а веселые, общительные французы — их четверо: учитель французского языка, учитель фехтования, учитель танцев и пирожник — все они когда-то прибыли в Берлин и здесь осели, сейчас они несколько не у дел, но успели себя обеспечить, живут все вместе, устраивают веселые дружеские обеды, и пирожник ходит по базару — что и как нужно для обедов, по бывшей своей профессии он понимает лучше других. Сами эти диагнозы, само это восстановление лиц и характеров по отдельным бытовым деталям не составляли новости в практике художества. Гофман ссылался на Скаррона, на Ходовецкого, мог бы еще сослаться на Филдинга, на Смоллетта, на Хогарта, на других мастеров жанризма в слове и в изобразительном искусстве. Романтик сказывается не в этих сериях наблюдений, не в этом выслеживании выразительных подробностей, романтизм Гофмана в другом — в выборе, в колебаниях; предлагается для того же явления, для тех же фактов не одно толкование, а несколько равноправных, в том же наблюдаемом человеке, при тех же внешних показаниях и признаках угадывается и один характер и другой — прямо противоположный. Угрюмый немец мгновенно переделывается в добродушного и легкого француза. Образ, в каком предстает человек, не есть неподвижность и догмат. За каждым человеческим лицом волнуются миры возможностей. Старый писатель в новелле Гофмана учит
505
своего кузена схватывать возможности людей, помещать свое трактование отдельного человека между одной возможностью и другой. Задача художника почувствовать в человеке его свободные силы и воссоздать их, сколько это доступно. «Разыскания о человеческой свободе» называется трактат Шеллинга 1809 года. Романтическое художество тоже есть «разыскание свободы», картина действительности с искомой свободой в глубине ее. Романтический художник хочет, собственно, писать свободу, а не внешне схожие портреты, не жанр, не фабулу или анекдоты. Зрению извне представляются одни человеческие лимиты, но нужен хотя бы намек, что не за ними последнее слово, что за областями, ими обведенными, возможны еще и совсем иные.
«Крошка Цахес» (1819) — знаменательная и по мысли и по характеру искусства повесть Гофмана, в циклы не пошедшая, стоящая отдельно20.
Историки литературы толковали эту повесть самым причудливым образом, показав тем самым, что старый романтик мыслил не в пример реальнее, чем наши западные современники или же полусовременники. Одни уверяли, что это повесть о роковом несоответствии тела и душевной сути, несоответствии, мучившем будто бы самого Гофмана, что в этом и состоит тайна Цахеса 21. Другие, что неимоверный успех Цахеса среди людей — это явление общего психоза, охватившего город Керепес, где Цахес подвизался22. Третьи спорили против психоза и сами предлагали не лучшее: будто город Керепес сам на свою беду придумал Цахеса23. На деле Цахес, конечно, не есть эманация духа, ни индивидуального, ни коллективного. Образ его — порождение самой низшей, зато и первоосновной сферы современного общества. Цахес — это сама материя общественной жизни в ее поразительных, хотя и повседневных парадоксах. В этой повести Гофман разрабатывает генеральную свою тему: фантастики обыденной жизни. Цахес весьма сродни уродцам, которых пестовал Арним. Его близкие: альраун, фельдмаршал Корнелпус Непот из повести об Изабелле Египетской, он же Spiritus familiaris, а в несколько иных связях — Петер Шлемиль из повести Шамиссо, или, точнее, тень Шлемиля. Как и те персонажи, Цахес взошел на почве антибуржуазного фольклора, собираемого романтиками с целью дать ему
506
новое бытие в литературе. Княжество Керепес — просвещенное княжество, иначе говоря — государи в Керепесе поощряют богатство и бюргерскую культуру, ибо бюргеры приносят хорошие доходы казначейству. Правители Керепеса нуждаются в деньгах, чем и объясняется бурная карьера Цахеса в повести. Фея Розабельверде вчесала в голову Цахеса, жалкого маленького уродца, три золотых волоска. Гофман не совсем последователен в развертывании сюжета. Глава IV: Цахес—Циннобер стоит возле монетного двора, и люди указывают на него — вот хозяин всего золота, какое там чеканят. Говоря словами из «Ревизора» Гоголя, Цахес — «господин финансовый»24, божок денежного обращения. Нельзя понять, почему связь Цахеса с монетным двором не развита и он делает при князе Барзануфе карьеру не по той части, а по части иностранных дел. Но золотые волоски определяют всю его судьбу. Ничтожнейший, бездарнейший, глупый и неказистый Цахес для всех умен, образован, прекрасен; самое удивительное, что чужие заслуги мгновенно переходят на него. В обществе читают любовный сонет — это он, Цахес, это он его сочинил, да и сама красота чувств, изложенных в сонете, она происходит от Цахеса. На кандидатском экзамене превосходный ответ сидящего рядом рефондариуса Пульхера приписывается Цахесу, а к Пульхеру перешел ответ Цахеса. В концерте все аплодируют не заезжему итальянскому виртуозу, а Цахесу, будто бы великому скрипачу, а заодно и великому композитору, ибо и исполнение музыки и сама музыкальная пьеса отнесены публикой к Цахесу. Цахес господствует в салонах города Керепеса, и княжеский двор ласкает его, он самое нужное лицо в государстве. По ходу повести Цахесу даются эпитет за эпитетом — он обезьяна, овощ, редиска, расщепленная снизу, от хвоста, мальчик с пальчик, — все это попытки закрепить трудно уловимое, тень, фикцию, призрак. По своему сверхничтожеству он является как бы предчувствием нашего Ивана Александровича Хлестакова: когда в послеобеденный час тот начинает похваляться перед уездным обществом, то это сцена некоего «цахизма»; если угодно, подобно Цахесу, Иван Александрович замещает в своих рассказах все высокие должности и авторствует при всех прославленных сочинениях. По Гофману, Цахес, существо с денежной силой, с силой притяжения к себе через деньги всех чужих трудов и заслуг, есть не более как фикция и фантом. Гофман, как романтик, смотрел на
507
мир под углом зрения творчества. Если всюду первенство за творчеством природы, за трудом и творчеством человека, то это всячески умаляет авторитет собственности. В лучшем случае собственность только результат труда, зависимый от труда результат его. Во множестве случаев собственность ни в какой зависимости от труда не находится, случайно навязываясь ему извне. Для романтиков собственник и творец — разные лица. Права творца они понимали, права собственника — нет. Романтическое воззрение совпадало с народным, фольклорным, по которому собственность не может создавать другую собственность, деньги не дают оснований для владения. Повсюду в природе и в жизни общества существуют авторы и авторское право. Собственники как таковые — плагиаторы.
Три волоска, полученные от феи Розабельверде, — это ее месть и насмешка, это же и ее доброта. Предшественник князя Барзануфа, Пафнуциус Великий, вводя в княжество Керепес просвещение, принуждал подданных к оспопрививанию, заодно очищал страну от суеверий и идейных пережитков. Феи, водившиеся в стране, подлежали изгнанию. Прекрасную фею Розабельверде тоже изгнали, своим поэтическим обликом она смущала просветителей. Золотые волоски Цахеса — возмездие гонителям. Они хвалятся рациональным строем жизни. Как предвидит фея, от трех волос произойдет великое замешательство. Фантасмагории серьезнее, чем в фейных царствах, заведутся в самой трезвенной среде25, — Розабельверде надеется на фантастику, свойственную по их природе деньгам и золоту. Золото, вчесанное в Цахеса, создает вокруг него пляску самых противоестественных отчуждений и присвоений.
Второе: Розабельверде пожалела Цахеса, страшного уродца, и матушку его, бедную крестьянку. Золотой дар должен исправить несправедливость природы. У Цахеса нет ни красоты, ни ума — позволим ему обольщать людей, дадим ему мнимые качества взамен подлинных, не отпущенных ему природой. Деньги могут поправить природу, пусть они поправят Цахеса.
Великодушие Розабельверде — специальное, оно в пользу одного Цахеса. И от этого великодушия страдают юный Балтазар, у которого овощной Цахес отманил, отворотил невесту, прекрасную Кандиду, страдает Пульхер, по его милости потерявший диплом и должность, — в конце концов, от Цахеса страдает все государство Керепес, которым он управляет, снизу до верху все познали, что та-
508
кое правление Цахеса. Возвышение этого уродца и ничтожества — надругательство над разумом и естеством. Гофман очень широко воссоздает весь мир политический и социальный вокруг Цахеса. Он, несомненно, наслаждается способностью своей и правом сочинить целое государство, князя с его политикой, с его правительством, с университетом, с подданными всех разрядов. Похождения Цахеса вовсе не персональные только, они обусловлены всем строем государства Керепес, его тайными и явными потребностями. Гофман создает некий «комический мир» — комическую страну, и Цахес с его делами целиком входит в комический этот мир, питает его своим комизмом и сам живет у него на содержании. Что бы ни творил Цахес, как бы ни были неразумны его поступки, они всегда гарантированы государством Керепес, имеют в нем поддержку. Чтобы ополчиться против Цахеса, нужно походом пойти на княжество Керепес, на весь комический мир, в ансамбле которого пребывает Цахес. Нужно выйти за пределы социальной и политической жизни вообще — в великую всеобъемлющую природу. В Гофмане, как и во всех романтиках, чрезвычайно живо чувство всеприсутствия природы, при любых обстоятельствах и при любой отдаленности от нее она все же остается лоном для вещей, одушевленных и неодушевленных, нет ничего, куда бы она ни проникала, где бы она ни была первоосновой, пусть и труднонаходимой и не сразу явственной.
Людвиг Тик писал, что филистеров, даже и не подозревающих того, всюду подстерегает природа. «Колоссальная природа стоит позади и посматривает на них с таким выражением, что сказать нельзя — сожаление ли это, или насмешка»26.
Природа поправляет то, что допустили общество и государство, не видевшие в том уклонений и нарушений. Если взять главную коллизию «Цахеса», то социальное развитие привело к такому противоприродному явлению, как разъединенность труда и собственности: труд — заслуга на одном полюсе для одних, собственность, присвоение — на другом и для других. Но гротеск сближает обе стороны, и тогда видно, до чего малодозволенной является антитеза между ними. В повести Гофмана Цахес прямо и непосредственно, без всяких экономических и правовых опосредствований присваивает себе чужое добро. Он снимает с уст поэта сонет, произнесенный им, или со скрипки виртуоза исполненную музыку, как можно бы снять с
509
чужого жилета золотую цепочку. При такой демонстрации подвигов Цахеса и они и сам Цахес становятся нетерпимы. Это явственное воровство и разбой. Нужно было изобразить акты эти в качестве актов физических, чтобы их оценили должным образом, нужно было их вернуть в физическое бытие, в природу, и тогда-то признание их решительно исключается, они опротестовываются по самому своему существу.
У Гофмана сквозь комический денежный бюрократический мирок с искусственной его жизнью всюду прорастает природа, она в прекрасных пейзажах в Керепесе и возле Керепеса, в девушках и юношах города, в искусстве и в любви. Природа дефетишизирует нарочитый, в предоставленности самому себе фантасмагорический мир — мирок княжества Керепес.
Фея Розабельверде и чародей Проспер Альпанус — двое доверенных лиц, посланных природой в людское общежитие. Розабельверде действует и ворожит по соображениям частного порядка, Проспер Альпанус как бы берет на себя защиту всеобщих интересов — он хочет освободить от Цахеса и его воздействия Балтазара, Кандиду, все государство Керепес, снять с него колдовство. Присутствие и вмешательство Проспера Альпануса превращает историю Керепеса и его людей в веселое и светлое каприччио. Налицо каприччио уже в «Золотом горшке», но там оно не явилось победоносным, как то ему подобает. Там посрамлены и низшие силы жизни и вышедшие к ним навстречу высшие, там обе стороны — и реальная и идеальная — взаимно разрушают друг друга. Студент Ансельм вместе со своей Серпентиной коронован в Атлантиде. Известно, что Атлантида Ансельма — жалкий морок, что в приданое Ансельму выдан какой-то сомнительный золотой горшок. В письме Гофмана к Кунцу сказано, что Ансельму будет выдан золотой ночной горшок, украшенный драгоценностями27. Потом Гофман отменил эти подробности, но настроение — «скурильное», как это Гофман любил называть, — осталось в повести. В повести о Цахесе представлено торжество лучших людей, не омраченное двусмысленностями или оговорками.
Каприччио у Гофмана отчасти совпадает с романтической иронией у старших романтиков. Различие в том, что каприччио всегда есть некий спектакль, рассказанное представление, обладающее зрелищной яркостью. Подобно иронии, каприччио даны привилегии вольности и произ-
510
вола, и не будет ошибкой сказать, что в каприччио эти свойства рассредоточены, они не только достояние автора, но ими наделяются, и часто в высокой степени, все действующие лица, всюду и во всех воцаряется своеволие, каприз, все предаются духу импровизации. Если обратиться к Цахесу, то замечательна величайшая мобильность всего и вся в этой повести. Изящный и изобретательный Проспер Альпапус вызывает на сцену хаос, повсюду появляются многообещающие намеки на хаос, первозданный хаос, к которому апеллировали романтики. Заколебались очертания и состав всех вещей на свете, заволновался хаос, призванный пересоздать все их вместе и каждую в отдельности. Проспер Альпанус играет подстановками, заменами элементов, передвижками, как бы непрестанным репетированием обновления то здесь, то там, а то и во всем строе жизни, вместе взятом. Проспер Альпанус едет по лесу в экипаже, похожем на открытую раковину, с колесами, звучащими музыкой. В упряжке два белых как снег единорога, серебряный фазан заменяет кучера и держит в клюве золотые вожжи. В саду у Проспера Альпануса привратниками служат две огромные лягушки с блестящими человеческими глазами. Швейцар у дома — большая птица, похожая на страуса, с блестящими золотисто-желтыми перьями. Повсюду Проспера Альпануса окружает некая преджизнь, проснувшаяся в разных существах, персонажах, вещах и готовая все опять начать сначала. Проспер Альпапус по своим ученым фолиантам наводит справку, кто же такой Цахес — Циннобер, откуда он взялся. В книгах искусно сделанные гравюры с изображениями разных уродцев, которые вылезают из книжного листа и жалобно визжат. Проспер Альпанус как бы коснулся в книгах того, что было до книг, какой-то одушевленной или полуодушевленной материи, только потом застывшей в качестве раскрашенных и нераскрашенных гравюр.
Через Проспера Альпануса заговорила природа, а вместе с нею творящая жизнь, со всей ее игрой. В шутках Проспера Альпануса обнаруживается эта неугомонная игра жизни, эта непрестанная проба сил, производимая ею. Здесь уже зашевелился творческий хаос, но в своих еще предварительных, шаловливых, первичных формах, — у студента Фабиана в наказание за его насмешки по адресу Проспера укорачиваются сами собой рукава сюртука, а с феей Розабельверде Альпанус забавляется за кофейным
511
толом — та наливает кофе в чашки, но нет струи и чашки пустые; что же касается Проспера, то у него иная импровизация — чашки переполняются, хотя у него тоже кофе не льется.
В этой повести Гофман в первый и единственный раз изображает народное восстание, — народ врывается в палаты Цахеса, чтобы покончить с его управлением. Волнение, вызванное в природе вещей волшебными силами, в повести по смыслу своему вторит мятежу, но у мятежа, как изображает его Гофман, короткая цель — сменить неугодного министра, а в деяниях Проспера Альпануса содержатся намеки на более решительное преобразование человека и вещей, к нему относящихся.
Проспер Альпанус простирает власть свою вплоть до мельчайших мелочей. Он сперва только испытывает свою власть, а позднее он через нее водворяет порядок вещей навсегда. Что было сперва игрой, то вводится на правах режима. Бальтазар и Кандида получают от него дом, сад и огород, где полно всех благ хозяйственных. У Кандиды всегда будет под рукой запас спаржи и салата. В кухне на плите горшки, из которых ничего не убегает, ни одно кушанье не портится, пусть хозяева запаздывают к обеду сколько им угодно. Ковры и другое убранство таково, что даже самым непроворным слугам не посадить на них пятен. Тут брошен ретроспективный свет на неудачи студента Ансельма и на совсем недавнее событие в княжестве Керепес — на промах князя Барзануфа, у которого масляное пятно село на казимировые его штаны. Гофман через Проспера Альпануса проектирует свободу для человека, начиная с самой элементарной и тем не менее трудно доступной, — со свободы в повседневном быту, — мотивы скатерти-самобранки и другие, ей близкие, в фольклорной сказке.
Каприччио у Гофмана можно рассматривать, и это делалось, как особый вид комического. Шарль Бодлер, пленившийся произведениями Гофмана, написанными в жанре каприччио, дал им эстетическое истолкование как юмору особого рода.
В известных своих опытах о смехе Бодлер предлагает делить область смешного, близко к тому, как делили ее оба Шлегеля. Есть комизм разоблачительный, дидактический, мало достойный внимания артиста, и есть юмор артистический, «абсолютный», юмор, как именует его Бодлер, не направленный на какие-либо частные явления, не
512
имеющий цели их исправлять, но всем существом своим преданный игре собственных сил. Есть комизм имитационный, подражающий вещам как они есть, юмор же абсолютный есть творчество, демонстрация превосходства человека над природой. Образец имитирующего комизма для Бодлера, как это было и у Шлегелей, Мольер. Абсолютный юмор, по Бодлеру, представлен в произведениях Гофмана — в его каприччио или там, где не все есть каприччио, но каприччио прорывается28.
Конечно, Бодлер неправ, приписывая каприччио полную незаинтересованность. Абсолютный юмор у Гофмана имеет связь, особую, разумеется, с природой вещей. Он будит в них творящие начала, силы преобразования, освобождает их от узости и скованности. Он склоняет к эволюции и к революции, воспитывает в них неприязнь к косности и спячке. В этом призвание каприччио, проявляется ли оно во всей полноте собственных сил, или же действует только отрывочно. Большая или меньшая степень его участия видна и в «Щелкунчике», и в «Королевской невесте», и в «Выборе невесты», и в такой намеренно запутанной новелле, как «Синьор Формика».
Каприччио большого масштаба — повесть Гофмана «Принцесса Брамбилла» (1821; X, 5—125) 29, трактующая старую Венецию в дни карнавала. Карнавал — тот узаконенный хаос, который, по Гофману, обновляет мир. Люди в карнавале теряют свою бытовую оболочку, отрешаются от всегдашней своей бытовой узости, от мелкостей собственного «я». Посредственный актер Джильо Фава, искупавшись в суете карнавала, открыл в себе еще неведомые ему силы и возможности. Карнавальный хаос оздоровил его, дал ему легкость и талант, которых ему недоставало. Надо разрушить обычное жизнеустройство, карнавал — праздник такого разрушения, в котором обретают вдохновение и язык еще не жившие в людях стихии. Карнавал — обновление и духовное воскрешение не одного Джильо Фавы, но и возлюбленной его, Гиацинты Соарди. Оба они, Джильо и Гиацинта, становятся блестящими актерами импровизированной комедии. Забавы и шутки карнавала, веселая его карусель, абсолютный юмор его меняют судьбу людей, меняют их жизненное направление. Джильо Фава в сутолоке карнавала научился глядеть на самого себя со стороны, посмеиваться над собою, то же самое Гиацинта. Оба приобрели чувство своей относительности, незакрепощенности тому, что однажды было им
513
дано. Оба приобрели воздух, а раньше ими чересчур владела земля. Фава раньше на сцене был неповоротлив, с трудом влезал в свои роли, отягощенный своими мелкими слабостями; теперь он стал артистом, если раньше был всего только актером, лицедеем, работавшим с натугой.
Карнавалом под маской шарлатана Челионати режиссирует старый князь Бастианелло, мудрейший инициатор всех творящихся на городской площади импровизаций и всех происходящих в людях перемен.
Повесть «Повелитель блох» (1822; X, 131—264) очень близка и по складу и по характеру «Принцессе Брамбилле». Можно было бы сказать, что и в ней под псевдонимами существуют темы венецианского карнавала, хотя и прямо описаны только эпизоды рождественских праздников во Франкфурте-на-Майне, старинном немецком городе, в почтеннейшем бюргерском доме, хозяин которого, правда, отличается разными странностями. Я говорил о преднамеренной сюжетной путанице в «Синьоре Формика». Еще приметнее она в «Повелителе блох». Здесь несколько историй пересекают друг друга, неясности сюжета возрастают одна за другой, создается как будто бы нечаянная имитация великопраздничной суматохи, и в конце концов из этого хаоса выплывает чистая мелодия — семейного счастья старого чудака Перегринуса Тиса, обретшего в хаосе любовь, прелестнейшую невесту, будущую жену свою Резхен, дочь переплетчика Леммергирта.
От «Цахеса» к повестям-каприччио идет преемственность жанровая и стилистическая; есть еще другая преемственность — тематическая и смысловая, от «Цахеса» к повести «Девица Скюдери» (1820; VÜ, 130—185). Истинное главное лицо в этой повести не сама Скюдери, прославленный автор галантных романов в век Людовика XIV, но Рене Кардильяк, имеющий тоже свою славу — лучшего золотых дел мастера в Париже. Повесть ведется на фоне уголовных дел, вспыхнувших в старом Париже, загадочных убийств, суть которых, как потом удается доследовать, имущественные интересы знатных и влиятельных лиц. Официальный Париж имеет свою изнанку — есть второй, темный, «ночной» Париж, царство зла и преступлений. Повесть Гофмана трактует «ночные стороны» бытия и быта, как их называют романтики, «Nachtseiten der Natur» — «ночные стороны природы».
В Париже происходят убийства более чем загадочные. Кто таков убийца, каковы мотивы его преступлений — ни-
514
чего этого нельзя разведать. По особой связи обстоятельств убийца выяснен — это Рене Кардильяк. Он ночью по пустынным улицам ходит вслед за своими клиентами, те спешат на ночные свидания с драгоценными подарками работы Кардильяка. Ударом ножа он убивает их и отбирает свою работу.
Нельзя было найти убийцу, ибо Кардильяк имел репутацию честнейшего мастера, хотя и с причудами. По всем признакам он был образцом добродетелей, не вызывая ни малейших подозрений у соседей своих, у знакомых, у заказчиков. Но Кардильяк вел двойную жизнь. Всем известен был дневной Кардильяк, буржуа как все буржуа, добрый отец своей единственной дочери, домовладелец, хозяин мастерской, первый ювелир Парижа. Никто не знал ночного Кардильяка, работавшего ножом убийцы. В этой повести Гофман снова близко подошел к теме двойников в мрачном ее, трагическом варианте, уже им разработанном в романе «Эликсиры дьявола». Но в этой повести весь интерес относится не к теме двойственности человека, не к теме двух человек в одном, но к мотивам преступлений Кардильяка. Рене Кардильяк совершал убийства из своеобразнейших побуждений, очень далеких ото всего криминального и уголовного. Кардильяком владели чувства, более чем естественные во всяком художнике. Он не соглашался, чтобы произведения, им созданные, становились товаром. Быт опрозаивает художника и все им сотворенное. Художник выдан с головою быту. Чтобы творить дальше, он должен продавать созданное накануне. Торговля собственными детьми — условие существования художника. Комический вариант истории Кардильяка в «Золотом горшке». Яблоки, проданные у Черных ворот старухой Лизой, возвращаются обратно к ней в корзину, к ней — их матери. В сказках Брентано продается и никем не может быть продана родная дочь: она возвращается к отцу, получившему за нее деньги. Кардильяк действует ножом, и ожерелья, цепи, запястья снова возвращаются к нему, его преступления — во имя нормы, ибо надлежит творению и творцу не разлучаться, составлять одно. История Кардильяка поддерживает мысль и смысл «Крошки Цахеса».
Романтик стоит на точке зрения творчества, его интересов и прав, собственность, товар — профанация, тяжелое оскорбление творчества. Творец продолжается в творимом и сотворенном, отчуждение сотворенного — ложь.
515
Кардильяк собирал отобранные им у жертв собственные произведения и ставил их у себя как в музее — одно к одному. Святое право мастера — держать при себе свои произведения, составлять из них цельное семейство и время от времени созерцать его. Святое право Кардильяк может осуществлять не иначе, как через ночной разбой и кровопролитие. В товаре умирает художественное произведение. Кардильяк свое произведение возвращает к жизни не иначе, как через убийство. По-своему Гофман приходит к теме честного убийцы, беспокоившей Клейста в «Кольхаасе».
Повесть о Цахесе и повесть о Кардильяке показывают нам, как небезразличны были для романтика реальные отношения, с какой силой он переживал их парадоксы. Александр Веселовский для последней главы своей исторической поэтики проектировал дать обзор сюжетов и мотивов романтики — предсуществование, двойники. Вряд ли Веселовский подозревал, что из фольклора взятые иррациональные образы и мотивы, такие, как двойник, например, соответствовали у романтиков явлениям общественной действительности, притом характерно современной, злободневной даже, и помогали их осветить и уразуметь. Фольклор приводил романтиков к общественным реальностям, а не уводил от них. Поэтика сюжетов, мотивов и символики капиталистического общества может быть написана как продолжение и переосмысление труда Веселовского, и Гофман вместе с другими романтиками получит в ней немаловажное место. Думаю, не случайно Маркс, великий истолкователь реальной практики современного общества и ее алогических форм, проявлял интерес к Гофману. Нам известны, правда, отрывочные факты, но одни из них притягивают к себе другие. Молодой Маркс между февралем и мартом 1837-го сочинил юмористический роман «Скорпион и Феликс», в манере Стерна и Гофмана30. Есть сведения, относящиеся и к зрелой поре Маркса, что Гофмана он помнил и помнил «Крошку Цахеса»31. По свидетельству мемуаров Элеоноры Маркс-Эвелинг, детям своим Маркс рассказывал целую эпопею, перекликающуюся с мотивами из Гофмана; называлась она «Ганс Реклэ». Цитирую из этих мемуаров: «Ганс Реклэ — волшебник типа героев Гофмана, у него была игрушечная лавка, и денежные дела его всегда были запутаны. Его лавка была полна чудесных вещей: деревянные куклы, великаны и карлики, короли и королевы, четвероногие жи-
516
вотные и птицы — в таком же большом количестве, как и в Ноевом ковчеге, столы и стулья, экипажи и ящики всех видов и размеров. Но несмотря на то, что он был волшебником, он все же никогда не был в состоянии уплатить свои долги ни дьяволу, ни мяснику, и потому он был вынужден, совершенно против своего желания, продавать свои игрушки дьяволу. Однако после многих удивительных приключений все эти вещи потом всегда возвращались в лавку Ганса Реклэ» 32. Герой этой устной эпопеи Ганс Реклэ — гений, которого деловой буржуазный быт желал бы держать в подчинении, — тут очень многое взято из биографии самого Маркса, но тут есть и связь с литературой, с судьбою Иоганнеса Крейслера. Есть еще менее сильные аналогии Гансу Реклэ — маги и волшебники, архивариус Линдхорст или Проспер Альпанус. Гению духовно принадлежит весь мир, все эти птицы, животные, великаны и карлики, столы и стулья, которыми владел Ганс Реклэ и из которых вместе взятых созидалась единая «картина мира». Но Ганса Реклэ хотят заставить обращаться с миром и вещами мира так, как если бы то было универсальное торговое заведение. Мелкие силы осаждают его, он у них должник, и прекрасные вещи, которыми окружен Ганс Реклэ, превращаются в платежные средства. Трагикомический образ космоса как универсального магазина заложен в мотивах Гофмана. Но Маркс развернул его с особой широтой и смелостью. Зато эпилог с возвращением вещей прямо восходит к Гофману — к «Девице Скюдери», к истории Кардильяка, мастера, воюющего с покупателями своих произведений, не мирящегося с тем, что произведения эти вообще могут быть проданы. Как и у самого Гофмана, здесь, вероятно, еще участвуют и мотивы фольклора — в фольклоре тоже нет признания товарной формы, фольклор тоже ищет под нею живую естественную вещь. Маркс и Гофман, Маркс и романтики, — разумеется, здесь нет однородности у сопоставляемых сторон. Гофман и романтики были художники, к тому же с далеко не полным историческим и социальным опытом. Фантастику буржуазной жизни они постигли, как это дано художникам, тогда как Маркс, ученый, философ и революционер, дал ей точное объяснение и, что всего важнее, указал, как устранить ее и как подчинить разуму общественные отношений людей. Романтики либо приходили в отчаяние, либо истощали свой юмор по поводу превращения человека и вселенной в товар. Для Маркса юмор был хоро-
617
шим подсобным оружием, а подлинная цель состояла в действенном преодолении безумия окружающего мира через революцию и практику социализма.
Гофман — автор двух больших романов, из которых первый, «Эликсиры дьявола» (1815—1816; X) написан ближе к началу его литературной деятельности, второй, не завершенный им «Кот Мурр» (1820—1822; IX) относится уже к эпилогу ее.
«Эликсиры дьявола», так называемый «черный» роман, или роман готический, — сильнейшее из произведений этого жанра, появлявшихся в Германии. «Эликсиры дьявола» ориентированы на один из самых известных в европейской литературе готических романов — на «Монаха» Льюиса33.
Этот роман, впервые вышедший в 1795 году, уже давно находился в Германии в обороте, связь свою с этим английским романом Гофман не скрывал, разумеется, и сам же на одной странице «Эликсиров» возвестил о ней. Героиня Гофмана Аврелия читает книгу, удивительным образом близкую к событиям ее собственной жизни, пророчащую дальнейший ход их, — это было в самом начале знакомства Аврелии с Медардом, и называлась книга «Монах», перевод с английского. И на самом деле Аврелия по судьбе своей сходствует с Антонией, героиней Льюиса, возлюбленной и жертвой Амброзио, монаха из испанского монастыря, которому у Гофмана соответствует Медард, монах из монастыря капуцинов в южной Германии. Гофман перекликается с Льюисом отдельными персонажами и событиями, сюжетными ситуациями, но Гофман мог идти на все это, так как общая концепция в его романе совсем иная сравнительно с Льюисом. У английского автора вся сила удара сосредоточена на церкви, на монастырских нравах. Зло от церкви, зло от ортодоксального католичества — таков исключительный предмет Льюиса. Католический монастырь заставляет человека отречься от собственной своей плотской личности, он искажает ее — она борется, и борется неистово, за собственные естественные права, и этот черный зверский мятеж оскорбленного и униженного естественного человека дает содержание очень страстное, очень драматичное роману Льюиса. Монастыри, по Льюису, не прибежище для святой жизни, но бесовские жилища, дьявол с подругами его вселяется в монастырские кельи. Отчасти этот демонизм монастыря
618
присутствует и в романе Гофмана, среди реликвий монастыря те бутылки с эликсиром, которым дьявол некогда
соблазнял святого Антония в его пустынножительстве. Капуцин Медард хлебнул из этих бутылок. Он был знаменитый оратор, но когда от болезни, им перенесенной, ораторское дарование его угасло, он вновь восстановил его глотками из этой дьявольской посуды, и отсюда нездоровый, подозрительный жар его обновленного красноречия — ораторское вдохновение Медарда, такое же антинатуральное, более чем взвинченное, каким было вдохновение волшебника и поэта Клингзора, соперника Вольфрама фон Эшенбаха, в новелле «Состязание певцов». Медарда считают святым, но над ним веет черное, он обуян отрицательной силой. Когда Медард гремит перед прихожанами с монастырской кафедры, то это может напомнить изображения на капителях старых соборов — звериной мессы, проповеди перед волками, тоже одетыми по-монашески, с оскаленной пастью, в которой их подлинная природа. Все так, но Гофман изображает не только локальное зло монастырей и церквей, чем ограничивает себя Льюис. В романе Гофмана дело идет о вселенском зле, присутствующем повсюду, даже в монастырях, — если и монастыри ему доступны, то отсюда следует, что оно повсеместно и нет нигде от него пощады. Особая сила «черного» романа Гофмана в том, что зло, по Гофману, проникло во всю современную жизнь как она есть, в обыкновенные дома, в уют домов, в бюргерские семейства, в семейства аристократические, княжеские, владеет людьми и просвещенными и непросвещенными. Зло вовсе не является некой отдельной провинцией, которую постигла эпидемия, тогда как вокруг все спокойно. Когда Медард бежит из монастыря и оказывается в некоем благополучно управляемом княжестве, где все держится в тонах гражданской идиллии, то и здесь со временем обнаруживаются свои «черные», если не чернейшие глубины. У князя при дворе играют в азартные игры, играют в фараон, но там так укрепилось милосердие, что спасают проигравшего и возвращают ему все проигранные деньги. Однако же в княжестве есть тюрьмы, и очень страшные, и в них людей содержат в самом деле, не шутя, и не обещают им счастливого исхода. Сам Медард познакомился с мраком княжеский тюрьмы. Его водили на допрос, и ему пришлось иметь дело с чрезвычайно острым следователем, который безжалостно с ним играл, не веселой игрой, но мучитель-
519
ной, в которой отчасти предчувствуются Порфирий и Раскольников. В либеральнейшем княжестве, с князем, тонким любителем искусств, во главе, существуют и тюрьмы, и пытки, и жестокие казни, и Медард только по особому стечению обстоятельств избежал эшафота. Княжество, куда отнесло Медарда, княжество в духе бидермейера, что отнюдь не означает отмены в княжестве смертной казни, например. Ее применяют здесь так же охотно, как и во всяком другом. Гофман делает очень важное для тогдашней литературы открытие: страшный мир отлично уживается с бидермейером, с добряками стиля бидермейер. В чреве бидермейера обитают преступления, суды, следствия, четвертования и повешения. Самому Гофману как художнику более всего удавалось изображение страшного мира, когда практиковалось оно в его переплетенности с обыденной гражданской жизнью. Когда же Гофман писал страшное как некий жанр, в себе самом закрытый, когда он преподносил его вытяжками, черными экстрактами, как во многих из своих «Ночных рассказов» — «Игнац Деннер», например, — то он терпел несомненную неудачу. Чтобы впечатлять, страшное нуждалось в обыденной основе, в гарантиях реальности, иначе оно только раздражало воображение и ум.
В монастыре капуцинов у Гофмана приютилась темная сила, но монастырь — одна из частностей большой жизни, выходы в которую открывает роман. Есть усадьба, есть резиденция, есть дорога в Рим, есть Рим, наконец, помимо земель немецких. И во всем большом этом мире злу дано поприще. В романе об эликсирах дьявола повсюду нас встречают запоры и решетки. Монастырские решетки меняются на решетки тюрьмы, тюремные на больничные, эти снова на монастырские. В романе как бы поддерживается традиция загражденных окон и ворот без пропуска. Люди на вольном воздухе — это всегда краткая интермедия, дивертисмент, который едва засчитывается в общем движении жизни. Так и создается концепция страшного мира у Гофмана — люди, в том или ином смысле пребывающие в заключении, отделенные друг от друга тюремными или больничными стенами, как-то и чем-то принуждаемые, угрожаемые насилиями или сами им угрожающие. Важное значение имеют в романе генеалогические изыскания о семействе Медарда и обо всей его прямой и косвенной родне. Гофман все это вводит как материал для объяснения, почему Медард таков, каков он есть, и почему
520
такова судьба этого человека. Но не дело искусства заниматься объяснениями. Что самому писателю кажется объяснением, то входит в роман под несколько иным знаком. Объяснение на деле есть выражение, факты, как будто бы призванные объяснять, всего только обозначают, служат интересам символики. Рассказаны преступления предков Медарда, убийства, предательства, братоубийства, инцесты — инцесты, без которых так редко обходились «черная» повесть и «черный» роман. По фактам это всего лишь история одной семьи, таблица наследственности для Медарда, генеалогические ключи еще к некоторым другим персонажам романа. По смыслу же это символика с ареной приложения, которая несравненно шире. Это, в сущности, символика судеб человеческого рода, утрачивавшего от поколения к поколению свою органическую стройность, забывавшего свою внутреннюю связанность — в инцесте символика грубой физической святотатственной связи там, где подсказывалась связь нежная, духовная сестры и брата и где эта подсказка не была услышана или же была извращенно понята и превратилась в брутальные отношения. Медард, сам того не ведая, все время подвизается в мире родства, его преступления — против неведомой ему родни, в ее среде он рушит и убивает. Настоящее предусловие всех коллизий этого романа — распад органического мира. Нет единого братского человечества, есть разные враги, по временам надевающие дружеские личины, тогда как жизненный принцип их — взаимное насилование. Гармония водворяется на краткие минуты, преобладающий закон — разъединение, разорванность, безобразие и убийство. Все это предпосылки к выходу Медарда на арену жизни и условия, сохраняющие значение до самого конца. Медард — человек высокой одаренности, физической и духовной, личность гениального типа. Жизнь ему тесна, он не может мириться с запорами и с запретами, повсюду наложенными. Все в этом романе по-своему бунтуют. Дерзкий граф Викторин, который ищет любовных авантюр в усадьбе барона. Жена барона Евфимия, терпеливо выдерживающая требования приличия, обязующие ее, и полная самого черного мятежа, самого неограниченного своеволия. Есть в романе и бунт комический, — того занимательного и милого маэстро причесок Пьетро Белькампо, иначе Петера Шенфельда, о котором речь уже велась. Он уверяет, что внешность делает человека, что дайте человеку иное внешнее положение, иной внешний
521
вид — например, прическу, — и он уже по существу иной. Вся эта философия служит тому, чтобы ему самому выскочить из своего жизненного амплуа. Он его превращает в шутовство и в философию, потому что оно тяготит его. Он возвеличивает значение профессии брадобрея, чтобы не задохнуться в этой профессии. То же самое друг его — философствующий мастер костюма, иначе говоря — портной. А сумасшедший ирландец, навсегда осевший в немецком местечке, ошеломляет всех и прежде всего самого себя своими чудачествами, чтобы через фантастические преувеличения, через дикий шарж на собственную личность тоже выскочить из ее лимитов, взорвать собственный национальный тип.
Монах Медард в грандиозном виде исповедует тот же бунт, что в более скромном виде исповедовали Евфимия, Викторин, а в комедийном варианте — Белькампо и безумствующий ирландец. Каждый из них по-своему знаменует неспокойство современного общественного мира, недовольство, внутри него накопившееся. Однако никто из них и не помышляет о преобразованиях, о какой-нибудь для себя роли в них. Медард по-волчьи эгоцентрик. Пусть общество находится в наихудшем положении. Задача Медарда, принимая это положение для всех, для себя одного из худшего выкроить лучшее. Увидев, как граф Викторин свалился в пропасть, он не задумался, что же ему делать дальше. Он пользуется своим поразительным сходством с графом Викторином, от его имени действует в замке и вступает в любовную связь с женой старого барона Евфимией, продолжая игру, до него начатую погибшим в пропасти Викторином. Медард и впредь охотно станет принимать обстоятельства, какими он их застает, и заботится лишь о том, чтобы они работали, как это нужно ему, на его личную пользу. Медард — великий хищник в отношении всякой судьбой ему подброшенной случайности. Он от нее добивается чего только можно. Евфимия — случайная его подруга, случайная его любовница, и он эксплуатирует эту женщину, насколько позволяют пределы ее к нему чувства и дальше этих пределов. Медард — человек с духовной властью над людьми, с силою внушения и обаяния. Все это идет на потребу завоевательной его политики в отношении людей. Свои духовные преимущества он применяет против окружающих, а не ради блага их. Медард — злой гений, агент зла. Он страдает от зла, сам будучи злом.
522
В этом романе у Гофмана не комедийно, а трагически развит мотив двойника. По временам появляются в поле зрения два Медарда, один из них смущает другого. На втором Медарде — графе Викторине — даже та самая коричневая ряса, привычная первому. Конечно, в романе разъясняется, как возможно стало это двоение: Медард и Викторин — родные братья. Но ведь суть не в том, что лицо и тело Медарда второго поразительно сходствует с лицом и телом Медарда первого. Двойник не проблема тела, но проблема психологии. Если между одним Медардом и другим Медардом точное сходство, то оно следует из внутреннего совпадения обоих. Второй Медард вынут из души Медарда первого, отсюда и тождество между ними. Второй Медард — оглашенная тайна, нечаянно показавшаяся людям и миру тайна Медарда первого. В первом Медарде скрыт некий «черный» человек, насильник и убийца; подобно тому, как у Стивенсона в мистере Джекиле притаился мистер Хайд, так и в романе Гофмана в душе Медарда спрятан великий злоумышленник. В произведениях Гофмана есть мотивы и мотивы, по которым души человеческие таятся от внешнего мира, и мотивы эти могут оказаться друг другу противоположными. Нежная душа пытается отделить себя от внешнего мира, боясь обид и поругания. Здесь действует чуждость, страх и опасения перед чуждым. У души иная природа, она не доверяется внешнему миру. Человек полон доброты, мечтательности, что же он с ними станет делать во внешнем мире, который жесток и агрессивен? Как студент Ансельм, он будет участвовать в мирских делах, но душою он будет плыть отдельно. Ансельм отделил от себя двойника — регистратора Геербранда, он же вскоре надворный советник Геербранд. Все типовое, стандартное, бюрократическое и бюргерское вынулось из Ансельма и пустилось ходить по ювелирным лавкам ради сережек для Вероники — ходить в качестве Геербранда, в котором ничего иного, кроме стандарта, не было и нету. Что именно изымается из Медарда, лучше всего показано в страшной сцене с постригом Аврелии. Он сам не понимает, что и как происходит, но вдруг на отчаянно любимую девушку, которая через постриг навсегда от него уходит, он бросается со своим разбойничьим ножом и убивает ее. В Медарде проживает еще иное существо с собственной волей и собственными поступками, человек, действующий ножом. Это и есть второй Медард. Ножом, насилием, кровью он
523
прокладывает себе дорогу через жизнь. Даже высшую прелесть, недосягаемую красоту он умеет приобщить к собственной личности только ножом — здесь напрашивается сравнение с Рогожиным, который тоже через нож и убийство приобщается к своей «королеве» — к Настасье Филипповне. Этот нож Медарда — роковой нож, наподобие тех роковых предметов, без участия которых не могла развернуть свое действие «драма судьбы». Медард получил нож по наследству, и всегда он оказывается под рукой, подсказывая, что надо делать. Отношения с людьми Медарда неизбежно связаны с оружием, он не в состоянии выйти из-под власти этого закона, диктующего удар ножом как вернейший способ осуществлять эти отношения. В студенте Ансельме, когда из него выступал другой гофрат — Геербранд, оставалась неотчуждаемая его собственная лирическая душа. Это второе содержание человеческой личности, лирическое, лишено условий, чтобы сосредоточиться, сплотиться, стать каким-то самостоятельным персонажем внутри нас, судьба его — аморфность, вечная неуверенность. Иначе — имморальные силы, развившиеся внутри человека. Хотя им и приходится вести только ночное существование, но тем не менее они получают достаточное питание извне, внешний мир провоцирует, а то и нелегально поощряет их, они его детище, только приличия и условности не позволяют им выходить на поверхность жизни и держаться там; законнейшие сыновья социального мира в подлинной его природе, они не могут расстаться с положением бастардов. «Черный» человек внутри дневного человека, хотя и не имеет простейшего прямого выхода в социальную жизнь, располагает, однако же, всеми средствами, чтобы конституироваться в законченный персонаж и достичь в тени и мраке полнейшей зрелости. Так в Медарде созревает граф Викторин, таково истинное происхождение Викторина, который, однако, получает свое место в романе через родовые связи, по цепям генеалогий. Позднее Гофман вывел из обыкновенного Кардильяка, честного буржуа, другого Кардильяка, темного и страшного, и это безо всяких генеалогий. Надо отличать повод к той или иной фигуре в романе от ее назначения, к которому и относить подлинный наш интерес. Генеалогия не более чем повод.
Этот второй, темный лик человека соответствует подтекстовым содержаниям романтической драмы. За текстом или же подтекстом роится темная действительность, кото-
624
рая не смеет показаться на людях. Двойник — подтекстовый человек. Но в романтических повествованиях он дает себе знать иным способом, чем в драме. Подтекстовый человек не только просвечивает сквозь человека, каким он дан в тексте, но вылезает наружу и занимает место рядом со своим подлинником, становится тоже действующим лицом и даже состязается с тем и смещает того, кому он вначале был обязан своим существованием: мистер Хайд у Стивенсона едва ли не равен по значению мистеру Джекилу. Уже говорилось: теневой человек в тенях внутреннего мира приобретает такую законченность, которая гонит его наружу, и он выходит наружу в качестве самостоятельного лица и характера. Медард второй по силе своего бытия не уступает Медарду первому, в «Эликсирах дьявола» присутствие двух Медардов, вероятно, самое памятное для читателя из всех мотивов этого романа, тема и мотив двух Медардов получили значительных продолжателей в европейской литературе.
Роман Гофмана «Кот Мурр» собрал воедино едва ли не все направления, по каким развивалось его писательство. Да и главное лицо этого романа — Иоганнес Крейслер — было издавна и подробно подготовлено Гофманом еще в «Рассказах в манере Калло», в разговоре с Бергансом и в двух «Крейслерианах».
Роман этот написан как бы в два яруса. Ему дана высотная композиция, в нем внутреннее движение идет сверху вниз и снизу вверх. Содержания происходящего вверху и происходящего внизу сопоставлены, события и психология низшего порядка обновляют выразительность всего, что творится в более высоком мире. Роман Гофмана строится на чередовании записок ученейшего кота Мурра, искушенного мастера прозы, эрудита и латиниста, с историей музыканта Крейслера, листы из которой забрели в кошачью рукопись в качестве промокательных. Мурр переложил свое сочинение страницами из находившейся подле рукописи о Крейслере, и в печать под один переплет попали они вместе — «Мурриана» и «Крейслериана», причем «Мурриана», как и следовало ожидать, представлена полностью, хотя и с перерывами, а «Крейслериана» — с большими пробелами, ибо только вкрапленные Мурром страницы из «Крейслерианы» нашли место в этой по нечаянности сводной книге. Итак, состав романа: «Крейслериана» со всеми ее брешами в изложении, освещенная снизу
525
светом «Муррианы», трагедия в свете комедии, ибо «Крейслериана» трагична, а «Мурриана» — животный фарс.
Иоганнес Крейслер — одна из самых замечательных фигур, создавшихся в романтике. Он весь в преданности своему музыкальному призванию, сочиняет музыку, несет ее к другим, учит ей других. Вместе с тем Крейслер находится за тридевять земель от всякой профессиональной узости. В беспокойном этом человеке поселились мировое движение и мировая смута. Крейслер — худший враг мелочности и косности. В нем не меньше язвительности и колючести, чем у какого-либо советника Креспеля, он еще более непроницаем для филистеров, еще более неподатлив на их посягательства, чем тот ценитель и истребитель редкостных скрипок. Крейслер — созидатель райской музыки и Крейслер же — неприятнейший, жесточайший сатирик, когда считает это нужным. Вход в заповедную страну великой музыки и ее радостей у Крейслера охраняют самые злые сарказмы. Юмор Крейслера выходит из границ обычной у романтиков беззлобной артистической игры, в этом юморе есть и оборона, есть и нападение.
На знаменательность фигуры Крейслера указал Освальд Шпенглер, приблизивший Крейслера к Фаусту, Вертеру и Дон Жуану34. Шпенглер имел в виду тоску по бесконечному, великую тревогу Крейслера и упустил некоторые другие, очень важные в нем черты. Крейслер — гениальная личность не только в смысле силы и масштабов одаренности, гениально само содержание его душевной жизни, в которой все есть продолжение творческих порывов, свойственных самой природе мировых вещей, все есть верность им. Мало того: Крейслер — добрый гений, вопреки всем сарказмам, которыми он себя оградил. Сарказмы направлены против злых, а исходят они от того, кто сам совсем не зол и бережет доброе в себе от его нечаянных или преднамеренных осквернителей. Если сравнить Крейслера с Медардом, то Крейслер — антитеза Медарду, в котором сидит подлинный злой гений, хотя и не на радость самому Медарду, хотя и на муку ему. Медард пользуется своими духовными преимуществами, чтобы отнимать у людей и порабощать их. Крейслер — бесконечно дающий. Ему самому дано, чтобы постоянно делиться с другими. Музыка, им создаваемая,— это и его собственное обогащение, это и обогащение для всех, к ней прикосновенных. Музыка Крейслера — это его добрая связь с людьми. В истории Крейслера и Юлии в послед-
526
ний раз прозвучал его собственный,
столь же энтузиастический, сколько и горестный бамбергский роман с Юлией Марк —
Гофман даже сохранил за Юлией подлинное ее имя. В истории Крейслера
Крейслер заметно отличается от художников и музыкантов, как
их до Гофмана описывали романтики. Художник, музыкант, поэт у Вакенродера, у
Тика, у Новалиса — это не столько очерченная человеческая фигура, сколько
абстракция своей профессии, эстетическая точка зрения на мир и вещи мира,
каждый раз названная тем или другим личным именем. Гофман не боится любимейшего
своего Иоганнеса Крейслера, носителя всех положительных ценностей, ему
известных, сделать также и персонажем не только с собственным лицом, но и с
собственной физиономией, со своими характерными жестами и поведением. Крейслер
поборник добра и в музыке, и через музыку, а также и за пределами ее. Ему дана
и гражданская характерность, он насмешлив в отношении начальства и этикета,
держится в среде сословий и чинов в высшей степени независимо. Никакие дворы и
никакие должности не в силах себе его подчинить. Крейслер по тенденции союзник
и защитник слабых и слабейших. Как видно, его даже располагают к себе в защите
нуждающиеся, те, кто уже родился подзащитным. Он не отзывается на любовь такого
умного и блестящего создания, как принцесса Гедвиг, и предпочитает ей Юлию, ибо
принцесса чересчур самостоятельна и действенна, а
Когда Крейслер попадает гостем в монастырь бенедиктинцев, где вся братия и сам аббат поклоняются музыке, то здесь ему предстоит посчитаться с немалыми соблазнами. Он вел жизнь трудную и неустроенную, а этот монастырь, по благополучию, какое он обещает, подобен утопическому
527
Телемскому аббатству, описанному у Рабле: здесь все под рукой, на всякое желание — мгновенный ответ, и можно вволю, с величайшей беззаботностью предаваться одним только занятиям музыкой. От Крейслера ничего не требуется, кроме пострига. Это все интриги советницы Бенцон, которой Крейслер портит ее затеи, она хочет избавиться от него решительным образом, и ничего нет лучше, чем если он исчезнет навсегда в монастыре. Крейслер угадывает интригу и отводит все уговаривания, он не станет монахом, какие бы музыкальные радости и какое бы довольство ни сулили ему. Художнику нужны свобода и жизнь в миру. Художнику нужен мужественный способ — жить и действовать. Вакенродер созидал культ «отшельника— любителя изящного» («eines Kunstliebenden Klosterbruders»). Положение отшельника непригодно для Крейслера, оно для него с призванием художника не совмещается. Он отважно защищает Юлию от посягательств принца Гектора, темного авантюриста, вслед Крейслеру пославшего выстрел. Отшельники выстрелов на себя не навлекают.
Гофман сохраняет романтическую тему и тип художника, он ничего не добавляет к ним со стороны и всего лишь углубляется заново в их содержание. Этику он не прикладывает к эстетике, но в самой эстетике умеет найти ее. И доброта, и гражданственность, и высокодушие Крейслера — все это лежит в его музыке. В музыке лежат его свобода и неподкупность. Не всякий музыкант умеет услышать, что ему велит музыка. Крейслер умеет.
Место действия в романе — княжество Зигхартсвейлер, где однажды ненароком очутился Крейслер и где он застал старых друзей и знакомых. Как делалось уже это в повести о Цахесе, так и здесь, в большом романе, сочиняется некая страна воображения, целое государство, с правительством и населением, с дворянами, с дворами княжескими и обывательскими. Фантастическое это государство опять-таки по примеру «Цахеса» полностью поступает в распоряжение гротеска и комедии. Княжество Зигхартсвейлер после Венского конгресса медиатизировано, однако князь Ириней тешит себя тем, что будто он как был, так и остался владетельной особой: при нем состоит прежний двор, устраиваются приемы, назначаются министры, ведутся совещания с ними. Добродушные жители Зигхартсвейлера, чтобы не огорчать Иринея, делают вид, будто они по-прежнему его подданные, таким образом иллюзия
628
уцелевшего порядка вещей поддерживается с обеих сторон. При дворе князя Иринея господствует самый взыскательный этикет, строжайше взвешивается, кто может и кто не может быть допущен ко двору, совершаются высокопарные церемонии и раздаются ордена. Вокруг двора происходят волнения, двор вызывает страсти, но самое примечательное, что двора не существует, он уже давно снесен с политической карты. Невольно вспоминается «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова — история старого князя Утятина, которого тешат, будто все осталось по-прежнему; наследники князя уговорили мужиков промолчать об отмене крепостного права: «Теперь порядки новые, а он дурит по-старому» (ч. 3, «Последыш»).
Государство Зигхартсвейлер — чистейшая фикция. Люди ищут богатства, титула, служебных, придворных возвышений, но оценка всех этих интересов заранее предрешена. Всему предшествует фикция универсального характера, после чего всякая частность, всякий успех и всякая карьера в государстве Зигхартсвейлер заведомо фиктивны. Мнимое государство с его мнимыми институтами у Гофмана символично. Экс-княжество — иронический смысл тех стран и государств, которые сохранили что имели. Экс-княжество выразительнее всякого другого говорит о настоящей их природе. У Шамиссо тень есть образ современного социального человека, у Гофмана лжегосударство, государство-тень есть образ современного немецкого государства вообще.
Персонажи романа даны каждый раз в ином стилистическом ключе. Князь Ириней — это комедийная кукла, как ему, главе игрушечного государства, и подобает. Он действует на очень коротком заводе, есть три-четыре шага, на которые он рассчитан, чуть далее он уже останавливается. Главная забота князя Иринея — не допускать ничего непредвиденного. На театральных представлениях он у себя в ложе следит по экземпляру пьесы, в местах, подчеркнутых красным карандашом, он себе положил трогаться, плакать и целовать руку у княгини. Крейслер — великий импровизатор, князь Ириней — возглавление всех сил, от природы враждебных импровизации.
По особой иронии Гофмана князь Ириней предъявлен вместе с предками и потомками. Это династия кукол. Это куклы, которые обладают даром размножения. Покойный папаша князя Иринея даже импровизации свои подчинил строжайшему расписанию. Заранее известно было о
529
старом князе, не вздумается ли ему предстать перед подданными инкогнито и нужно ли или не нужно узнавать его в лицо. Итак, у Иринея есть сын и дочь. Биологические связи, в которых участвуют куклы, подчеркивают, что куклы включены в живое, окружены живым, узурпировали его права и своим присутствием прерывают его движение то здесь, то там. Сплетения живого с притворившимся, будто оно живое, на деле с кукольным, — один из господствующих мотивов гротеска у Гофмана.
Персонажи Гофмана различаются по возрастающей или убывающей индивидуальности и свободе, приданным каждому из них. Князь Ириней, разумеется, полнейшее падение этих двух начал, их процветание — у Крейслера, у друга его мейстера Абрагама. Посредине поставлена советница Бенцон, мать Юлии, один из самых живых и жизнеподобных персонажей, когда-либо созданных Гофманом. Советница Бенцон сама от природы живая сила и живая личность, выдающийся женский ум и характер. Но она предалась неживому царству, предалась Зигхартсвейлеру. Она по крови, по уму и темпераменту сама действительность, но все свои дарования она применяет к тому, чтобы завершить свои завоевания в фиктивном мире, начатые ею когда-то. Мы застаем ее в романе в тот период, когда весь реализм своей энергии, своего ума и своей натуры она полагает на полнейшее освоение мира призраков, на окончательное свое воцарение в Зигхартсвейлере. Когда-то ей пришлось пострадать за свою самостоятельность, она передумала свою судьбу и от мятежа перешла к приспособлению, стала возлюбленной глупейшего князя Иринея, с тех пор управляет Зигхартсвейлером и ревниво бережет свою власть. Честолюбие в смысле и в масштабе Зигхартсвейлера втравляет образ советницы Бенцон в область комического, но так как удары советницы падают на достойнейших и замечательных людей, так как честолюбие это заставляет ее поступать безжалостно, то комическое чередуется с драматическим и истинно трагическим. Советница Бенцон в свое время в самой себе убила живого человека, после этого она последовательно, одного за другим, уничтожает окружающих, если только они не подчиняются ее воле.
Так как история Крейслера и остальных — это всего только вкладные листы в жизнеописание кота Мурра, то Гофман может рассказывать эту историю фрагментами, с зияниями, с пропусками, только очень медленно
530
восстанавливая связь событий. Романтики вообще любили фрагменты как способ изложения. У Фридриха Шлегеля, у Новалиса каждая отдельная мелочь живее, если она дается фрагментом, если над ней не тяготеют обязательства связности и системы, укорачивающие индивидуальные ее права ради требований целого. То же самое в романе Гофмана. Фрагмент — это большая самостоятельность индивидуальных фигур и эпизодов, большая полнота жизни для них, никого не теснят на площади, им занятой, каждому предоставлено подышать отдельно. Роман Гофмана обладает развитым сюжетом, но Гофман не спешит с развитием. Советница Бенцон осуществляет хитроумнейшую, коварнейшую интригу, которая должна рано или поздно охватить всех действующих лиц. У Гофмана очень медленно, с запозданием открываются карты, которыми играет советница. И делается это менее всего ради интереса к самой интриге, ради раздразнивания его. Гофман придерживает интригу ради того, чтобы нам лучше рассмотреть всех, кто подвержен ей. Интрига ставит их профилем, вне интриги и до интриги они обращены к нам всем своим лицом. В сюжетном развитии человек проявляется одной, другой стороной, для романтика же человек важен и тем, что в нем не проявлено, что дремлет, что заглохло. Сама советница Бенцон, управляющая интригой, лицо с острыми, раз навсегда определенными чертами. Но ведь в ней погибли великие возможности характера и воли, все это искажено, уменьшено, сокращено ее сюжетной ролью. Догадаться об ином человеке, сидящем в советнице Бенцон, нам позволено в минуту остановки движения сюжета, в минуты, когда какие-то связи сюжета еще не успели окрепнуть. Ведь мы очень долго в неизвестности, чего, собственно, добивается советница Бенцон. Знай мы ее последние цели, они погасили бы для нас ее самое, понизили бы интерес к ее качествам, которые противоречат этой цели. Проходит немало времени, покамест советница Бенцон и иронический мейстер Абрагам сталкиваются друг с другом, до того были даны в романе только мимолетные указания, что они противники, что вообще существует какое-то между ними соприкосновение.
бычное положение в этом романе таково: сюжетный интерес к персонажам еще не вызван, только весьма издалека подготовляется, а интерес эстетический свободен и предоставлен самому себе. Герои еще в достаточной степени индивидуальны, играют личными красками, кото-
631
рые сникнут, когда они станут агентами и контрагентами дворцовой интриги — типового, локального к ним прибавится, а своеобычное, и личное, и свободное уйдет.
Сам сюжет у Гофмана глубоко ироничен. Советница Бенцон, в руках которой сюжетная инициатива, похожа на гениального полководца, который издалека собирает свои отряды, действуя загадочно для окружающих, которые ждут от него чего-то чрезвычайного, и наконец наступает развязка — мизерная, убогая, хотя и страшная, хотя и кровоточащая. Фабула бесконечно хуже и ниже героев, как это неизбежно, когда фабула идет наравне с бытовой действительностью. Даже сама советница Бенцон несравненно богаче своей собственной роли в этом сюжете, от нее же и зависящем, ею же затеянном.
Советница ради того, чтобы сделать свое положение в
Зигхартсвейлере прочнее прочного, ходатайствует перед венским двором о титуле
графини Эйхенау — она его получит. Ей нужно выйти из двусмысленной роли княжеской
фаворитки и легальнейшим образом породниться с князем Иринеем — она задумала
выдать дочь свою, прекрасную, нежную, удивительную Юлию, за слабоумного принца
Игнациуса, она уже почти пришла к цели. Титул графини Эйхенау и близкий брак
Юлии с Игнациусом дают развязку роману в том виде, в каком он дошел до нас. Это
конец усилий советницы Бенцон. Игнациус — сын князя Иринея не только по крови,
но, так сказать, по стилю: оба, отец и сын, в одном стилевом ключе. Игнациус
идиотичен безнадежно, ему более двадцати, а он все еще играет оловянными
солдатиками и устраивает военно-полевой суд над провинившейся коноплянкой.
Таков Игнациус, соперник Крейслера. И
532
У Достоевского есть свои, конечно, чрезвычайно вольные
вариации к советнице Бенцон и ее интриге — «Дядюшкин сон». Марья Александровна,
задумавшая выдать дочь свою Зину за дряхлого проезжего князя, — мордасовский
вариант советницы Бенцон, а само Мордасово — русский вариант Зигхартсвейлера,
но Мордасово взято еще рангом ниже: здесь ни двора, ни блеска двора, пусть даже
фиктивного, придворных ореолов не дано персонажам. Марья Александровна, по
Достоевскому, женщина-Наполеон, женщина «вдохновенная, одаренная несомненным
творчеством». Связи Достоевского с Гофманом идут не только по отдельным фигурам
и мотивам: есть связь от целого к целому, от произведения к произведению,
обыкновенно неизбежная в литературе при связях частичного порядка. В целом
своем мордасовская хроника — в умышленно побледневшем виде новая
«Крейслериана», без Крейслера. Впрочем, в Мордасове есть у Крейслера свой
заместитель — молодой учитель уездного училища, в которого влюблена Зина, соединенная
с ним духовно, как
Дополнительный свет из «Муррианы», свет снизу, достигающий до «Крейслерианы», ставит свои акценты на событиях и персонажах верхнего яруса, в пределах того, что нужно фактически, группирует и перемещает их по
533
смыслу заново. «Мурриана» вносит в
«Крейслериану» элементы анализа. Искусство знает анализ, не прибегая к нему
непосредственно. «Крейслериана» есть некоторое целое, и «Мурриана» — тоже.
«Крейслериана» по жизненному объему есть большее, «Мурриана» — меньшее. При
сопоставлении целого, которое больше, с целым, которое меньше, в большем
развивается стихия анализа. Меньшее содержит в себе часть жизненных сил,
вошедших в большее, и при сопоставлении именно они оказываются выделенными и
подчеркнутыми в этом большем. «Мурриана»— царство кота Мурра с друзьями его,
животное царство, повседневная симфония домашних зверей, их нравов и обычаев, sinfonia d
За скобку «Крейслерианы» — человеческой трагикомедии — вынесены все животно-натуральные мотивы, ей соприсущие. Власть первичных инстинктов, эгоистическая этика, приспособляемость — все это есть и в мире совет-
534
ницы Бенцон. Более того — на мотивах этих и стоят люди и людские судьбы. Но у человека они осложнены и отуманены, в «Мурриане» же представлены в своей простоте и откровенности. Мурр хочет и не может держаться высокого идеального стиля в делах нравственности, с полнейшим простодушием и чуть-чуть себя поругивая, он соскальзывает на обыкновенные вульгарные пути. Селедочной головкой он решил пожертвовать в пользу им новообретенной голодной его мамаши, он несет ей эту головку, но соблазн велик, он сам съедает ее по дороге, с приправой маленькой покаянной сентенции. Кот Мурр — прозаик, филистер, каким был уже его романтический предок, кот Гинце у Людвига Тика. И так же, как в комедии Тика, в романе Гофмана животная проза имеет свои достоинства, это честная проза, положительная по-своему. По крайней мере здесь идет борьба за осязаемые и необходимые блага, и здесь нет тех химер и миражей, тоже прозаических, перед которыми раболепствуют люди. «Мурриана», сопоставленная с «Крейслерианой», все время вновь выхватывает из нее элементарные куски животной жизни, подчеркивает ее. Животная природа, как она проявляется в этой высшей людской среде, неразлучна с маскировкой, с изощренной лживостью. И это также подчеркивает «Мурриана», чуждая маскам и лжи, простая и откровенная. Значение «Муррианы» не в одних только усилениях отрицательного, в характерности его, которую она вносит в мир советницы Бенцон. «Мурриана» подчеркивает низкий элемент в этой сфере, тем самым отвлекает его, вычитает его из общей картины, куда он входит, — обнажаются подавленные им возможности людей, приобретают условную свободу. Происходит романтическое восстановление человека в его прекрасных данных, в тех вариантах его развития, которые не получили реального развития и тем не менее в нем присутствуют.
Человеческая проза для Гофмана и повторяет животную прозу и имеет над ней огромные преимущества. Она знает развитие, и собственное развитие ее же превозмогает. Из прозы немецкой жизни пошли и князь Ириней и советница, но оттуда же возник и Иоганнес Крейслер. Животной прозе неизвестны ни духовный рост, ни страдание. Она спрашивает наперед, обеспечено ли ей благополучие. Крейслер не спрашивает, он идет на страдание и трагедию, осуществились бы только, реальностью стали бы пусть на короткий срок силы, которые он в себе носит.
535
Значение «Муррианы» в романе Гофмана не всегда должным образом оценивалось. Существовало мнение, будто она прихоть автора, порча истории Крейслера, которую нужно освободить от нее, что и сделал Ханс Мюллер в своей «Крейслер-бух» (1903), где собрано все о Крейслере и выброшено все о коте Мурре[7]. Варварская мера Мюллера доказала от обратного, как велико значение «Муррианы» в общем строе романа35.
Двухъярусное построение романа о Мурре— Крецслере отчасти уже предвосхищено в разговоре с собакой Бергансой. Там тоже захвачено и самое низкое и самое высокое. Там это две сферы, равно доступные Бергансе. Он наблюдает и знает жизнь снизу, люди не считают нужным что-либо от него скрывать, ему известны все черные дворы. Но Берганса — героический пес с душой энтузиаста, он способен к настоящим парениям, этическим и эстетическим; таким образом, через него соприкасаются обе сферы — и мелкого, низменного, и самого значительно-возвышенного. Иное — кот Мурр, парения которого только мнимые. Высшие сферы жизни через него не открываются, ради них нужен другой роман, нужна «Крейслериана», надстроенная над «Муррианой».
Трагедия и гротеск — два направления, обратные друг другу. Трагедия движется к высотам жизни и движется во что бы то ни стало. Гротеск — регресс, движение, уходящее в животный мир, в «черную» землю. Советница Бенцон — фигура гротеска, она предалась низменным силам и фикциям, она покатилась в их сторону, она ренегат в отношении человечества и подлинных реальностей. В образ ее вошел и человек, но уступивший тени, дыму и не домашнему даже зверю, но хищному. Образ ее — сплетение многих несоглашаемых начал. Он писан с человека, кажется реальным портретом, будучи также комико-фантастическим орнаментом.
На романе «Кот Мурр» Гофман потратил богатейшие запасы своего реального опыта. В нем шире, чем где-нибудь, представлена у Гофмана Германия того дня и года, быт и нравы даны с величайшей точностью наблюдения. Но это роман романтический, ибо сквозь ограду вещей как они есть угадываются прекрасные возможные миры.
В Зигхартсвейлере затевается чернейшая политическая и бытовая интрига, но в разрывах нашего постепенного с ней ознакомления светится нечто совсем иное. Нельзя уйти из этого романа, не запомнив навсегда иные
536
его страницы. Я имею в виду нежный, простой ландшафт
Зигхартсвейлера и его окрестностей, многосодержащий и многоговорящий. В пруду
парка отражается закат, плавает лебедь,
РОМАНТИЗМ В ГЕРМАНИИ, ЕГО ПРИРОДА, ЗАМЫСЛЫ И СУДЬБЫ*
1 Основная литература по романтизму:
R. Haym, Die r
Wilh. Dilthey, Leben Schleiermachers, Berl. 1870;
Wi1h. Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung, Lpz. 1907;
Ricard a Huch, Die R
Oscar Walzel, Deutsche R
Fritz Strich, Deutsche Klassik und R
H. A. Korff, Geist der Goethezeit, Bd. Ill—IV, 1956;
P. Kluckhohn, Das Ideengut der deutschen R
Издания романтических текстов с включенными в них текстами малоизвестными и малодоступными для пользования:
«Deutsche Literatur. Sammhing literarischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Entwicklungreihen», hg. von Heinz Kindermann. В дальнейших ссылках: «Deutsche Literatur» — Kindermann, с указанием тома и страницы;
«Die deutschen R
2 Fr. Schlegels Jugendschriften, hg. von J. Minor, Bd. I, Wien, 1882, I, «Von den Schulen der griechischen Poesie». В дальнейших ссылках: Fr. Schlegel-Minor.
539
3 Fr. Schlegel Minor, Bd. II, 219 — «Symphilosophie»; там же, 223 — «Symphilosophie und Sympoesie». См. также: P. Kluckhohn, Lebenskunst, «Die r
4 Новую, более
справедливую оценку см. в кн.: Aug. Schlegel,
Kritische Schriften, Artemis-Verl., Zürich u. Stuttg., Einleitung von Emil
Staiger, 1—32.
5 А. С. Пушкин, Письма, т. 1, ГИЗ, 1928, письма от 14 марта и 22—23
апр. 1825 г., — заказы брату Льву прислать в Михайловское книгу Авг. Шлегеля о
драматической литературе, по-французски. См. также: А. С. Грибоедов, Соч. в стихах, «Библиотека поэта», JI. 1967, 17,
34. Статья И. Н. Медведевой о Грибоедове и Шлегелях. О Фридрихе Шлегеле см.: Ernst Веh1еr, Fr. Schlegel in Selbstzeugnissen und
Bilddokumenten, Rowohlt, 1966; см. также: Alfr.
Schlagdenhauffen, Frederic Schlegel et son groupe, P. 1934.
6 Caroline, Briefe aus der Frühr
7 См.: Fr. Sсh1еgе1—Мinоr, Bd. II, 209.
8 См.: Там же, 119.
9 A. W. Schlegel, Samtliche Werke, hg. von Edward Bocking, Bd. IX, Lpz. 1846 — «Über das Verhältnifi der Schönen zu der Natur». В дальнейших ссылках: A. W. Schlegel—Böcking, с указанием тома и страницы.
10 Schellings Sämtliche Werke, Stuttg. — Augsb. 1858—1860. I Abt., Bd. VÜ — «Über das Verhältniß der bildenden Künste zu der Natur». В дальнейших ссылках: Schelling, Werke, с указанием тома и страницы.
11 Об отношениях между Шлегелями
и Шеллингом см.: Fr. Schlegels neue
philosophische Schriften, hg. von Jos. Körner, F. a. M. 1935, 53.
12 W. H. Wасkenrоder, Werke und Briefe, Bd.
II, Jena, 1910, 153.
13 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 2, 136—137.
14 «R
15 «Aus Schellings Leben. In Briefen», Bd. I,
1775—1803, Lpz. 1869.
18 Там же, 289 — «Frau Venus Horst»,
540
19 Ludwig Tieск, Schriften, hg. bei G. Reimer, Bd. IV, 1799—«Der getreue Eckart und der Tannenhäuser». В дальнейших ссылках: Tieck — Reimer, с указанием тома и страницы.
20 Sсhе11ing, Werke, I Abt., Bd. I, 310 — «Philosophische
Briefe über Dogmatismus und Kritizismus».
23 Novalis, Schriften, hg. von. J. Minor, Bd. Ill, 1907, 59. В дальнейших ссылках: Novalis—Minor, с указанием тома и страницы.
24 Там же, Bd. I. 87 — «Geistliche Lieder». Строки, взятые Коневским в качестве эпиграфа:
Wer hat des irdischen
Leibes
Hohen Sinn erraten?
Wer kann sagen,
Daß er das Blut
versteht?
25 Fr. Sсh1ege1 — Minоr, Bd. II, 220.
27 Гегель, Сочинения, т. 2, 1934, 184 — «Философия природы».
28 Nоvа1is — Мinоr, Bd. Ill, 11.
30 Fr. Sсh1еgе1 — Мinоr, Bd. II, 194.
31 William Hazlitt, Characters of
Shakespeare's Plays, Ld. 1906, XVIII.
32 Fr. Sсh1ege1 — Minоr, Bd. II, 390.
34 Sсhe11ing, Werke, I Abt., Bd. VII, 146.
35 Fr. Sсh1ege1 — M i n о r, Bd. II, 348 — «Gespräch
über die Poesie».
36 N о v a
1 i s — M i n о г, Bd. IV, 173 — «Heinrich von Ofterdingen», VIII Кар.
38 Fr. Sсh1ege1 — Minоr, Bd. II, 295.
40 Fr. Sсh1ege1 — Minоr, Bd. II, 297.
43 Nоvа1is — Мinоr, Bd. II, 121.
541
48 Sсhе11ing, Werke, I Abt., Bd. V, 394—395 —
«Philosophie der Kunst».
50 Fr. Sсhlege1—Minоr, Bd. II, 387.
52 Novalis—Minor, Bd. Ill, 49—50.
56 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 21, 495—516.
57 Fr. Schlegel — Minor, Bd. II, 236.
58 См.: «Briefe von und an Friedrich und Dorothea Schlegel»,
ed. J. Körner, 1926 (письмо к X. Т. Кернеру от 30 сент. 1796 г.). Подробно
о взаимоотношениях Фр. Шлегеля и Фихте см.: Joseph Körner, Friedrich Schlegels philosophische Lehrjahre, в
кн.: Fr. Schlegel, Neue
philosophische Schriften, 1935, 15—17.
59 Sсhe11ing, Werke, I Abt., Bd. VII, 15 — «Verhältniß der Naturphilosophie
zur verbesserten Fichteschen Lehre».
60 Там же, 145 — «Aphorismen zur Einleitung in die
Naturphilosophie».
61 «R
62 Nоva1is—Minоr, Bd. III, 25.
65 Fr. Sсh1ege1—Minоr, Bd. II, 222.
67 Nоva1is—Minоr, Bd. II, 190.
70 Fr. Sсh1ege1—Minоr, Bd. II, 305.
71 Nоva1is—Minоr, Bd. III, 292.
73 Fr. Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die
Gebildeten unter ihren Verächtern, hg. von M. Rade, Berl. 68, 69.
74 Fr. Sсh1ege1—Minоr, Bd. II, 370 — «Brief
über den R
75 Fr. Sсh1ege1, Briefe an seinen Bruder August Wilhelm, hg. von O. Walzel, Berl. 1890, 15—16 —письмо от 26 авг. 1791 г.
76 Fr. Sсh1ege1—Minоr, Bd. II, 140—164 — «Über Lessing».
542
81 Nоvа1is — Мinоr, Bd. II, 245.
83 Sсhе11ing, Werke, I Abt., Bd. V, 445—446.
87 О мифе у романтиков см.: Ю. Н. Давыдов, Искусство и элита, М. 1966, гл. Ü.
88 О Фр. Шлегеле и Винкельмане
см.: R. Haym, Die r
89 A. W. Sсh1ege1, Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst, 3 Т., 1801—1804. См.: «Deutsche Literaturdenkmaler XVIII und XIX Jhdts», Bd. XVII—XIX, hg. von J. Minor, Heilbronn, 1884. В дальнейших ссылках: «Berliner Vorlesungen».
90 A. W. Sсh1ege1 — Вöсking, Bd. V—VI, «Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur 1809—1811». В дальнейших ссылках: «Wiener Vorlesungen». См. также изд. Amoretti, Bonn, 1923. Переводы «Венских чтений» в 1814 — на французский и английский, в 1817 — на итальянский, в 1810 — на голландский (ч. I). Французский перевод делал «Чтения» доступными для всей Европы, в частности для России.
91 Sсhе11ing, Werke, I Abt., Bd. V — «Vorlesungen
über die Methode des akademischen Studiums», 1803.
92 Там же — «Philosophie der Kunst», 1802—1803, 1804—1805.
93 Fr. Sсh1ege1 — Minor, Bd.
I, 15 — «Von ästhetischen Werte der griechischen K
94 Там же, 126 — «Über das Studium der Griechischen Роеsie». См. статью В. M. Жирмунского «Комедия чистой радости». — Журн. «Любовь к трем апельсинам», кн. 1, Пг. 1916, 85—91.
95 Fr. Sсh1ege1 — Minor, Bd. I, 11—20; см. уже отмеченную статью о греческой комедии.
96 A. W. Sсh1ege1 — Вöсking, Bd. XII — «Раrny, La Guerre des Dieux».
97 Там же, Bd. V — «Wiener Vorlesungen»; из них 11—14 посвящены античной комедии.
98 Fr. Schlegel — Minor, Bd. I, 18.
99 «Nachtwachen von Bonaventura», Weimar, 1917. Вопрос об авторе текста не решен окончательно. Книгу приписывали Шеллингу, Клеменсу Брентано; по всей же очевидности, сочи-
543
нил ее малоизвестный литератор Фр.-Готтлоб Венцель, ничем, помимо нее, не успевший проявить себя.
100 Schelling, Werke, I Abt., Bd. V, 620; в живописи пространство «значит» (bedeutet), говорится здесь.
102 Fr. Sсh1ege1 — Minor, Bd. II, 110.
103 A. W. Sсh1ege1 — Вöсking, Bd. VII — «Etwas über Shakespeare bei Gelegenheit W. Meisters».
104 Sсh1ege1, Werke, I Abt., Bd. V, 500.
105 См. Schleiermacher в его главных сочинениях: «Über die
Religion», 1799; «Monologen», 1810. Особое его сочинение о «малых формах»
общения светского и дружеского —«Versuch einer Theorie des geselligen
Betragens». См. также: P. К1uсkhоhn,
Lebenskunst, в изд.: «Deutsche Literatur» — Kindermann, Reihe R
106 Fr. Sсh1ege1 — Minor, Bd. I, 103 — Über das Studium der griechischen Poesie».
107 A. W. Sсh1ege1 — Вöсking, Bd. VI, 217 — «Wiener Vorlesungen».
110 A. W. Schlegel, Berliner Vorlesungen, 3. Т., 198.
111 О. Walzel, R
112 Ad. Мü11еr, Vermischte Schriften tiber Staat, Philosophic und Kunst, Wien, 1817, 1. T. — «Über europaische Kunst».
115 Об откликах на высказывания Авг. Шлегеля у русских романтиков, в частности в эстетике Галича, см. Ю. Тынянов, Архаисты и новаторы, Л. 1929, 319, статья об «Аргивянах» Кюхельбекера. В той же статье см. некомментированные цитаты из самого Кюхельбекера (313), стоящие под явственным влиянием оценок античного театра у Авг. Шлегеля.
116 A. W. Sсh1ege1 — Вöсking, Bd. VI, 77 — «Macchiavel lismus der Triebfedern».
118 Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel, Bd. II, 1826, 551 — «Beurtheilung der Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur».
119 A. W. Sсh1ege1 — Вöсking, Bd. VI, 38 —«Wiener Vorlesungen).
544
122 R. Кöрке, L. Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters, 1. Т., 1855, 258.
123 В этом одна из заслуг Оскара
Вальцеля в его ранних работах по романтизму. См.: О. Wа1zе1, Deutsche R
124 M-mede Stаё1, De l'Allemagne, éd. P. Garnie frères, 224. «Cette nature ondoyante, dont parle Montaigne, est banni de notre tragédie» (II Partie, chap. 18).
125 A. W. Sсh1ege1 — Вöсking, Bd. VI, 157—158 - «Wiener Vorlesungen».
127 Fr. Sсh1ege1 — Minor, Bd. II, 296.
129 К. W. F. Sо1ger, Erwin, Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst, Berl. 1907, 111.
130 Sören Kierkegaard, Über den Begriff der Ironie mit standiger Rücksicht auf Sokrates, München — Berl., 1929.
131 Вeda A11emann, Ironie und Dichtung, Pfullingen, 1956.
132 Sсhe11ing, Werke, I Abt., Bd. V, 618.
133 Tieсk-Reimer, Bd. XIII — «Die Geschichte von den Heymons-Kindern in Zwanzigaltfränkischen Bildern», 1796.
134 О литературных, в частности жанровых, идеях романтиков см.: Bruno Markwardt, Geschichte der deutschen Poetik, Bd. III, Berl. 1958.
135 Nоva1is—Minоr, Bd. III, 6.
136 A. W. Sсh1egel, Berliner Vorlesungen, 3. Т., 241.
138 Fr. Sсh1ege1, Briefe an seinen Bruder Aug. Wilhelm, hg. von O. Walzel, Berl. 1890, 390. Письмо от 28 апр. 1798. Фр. Шлегель пишет брату, что ради Шекспира ему необходимо прочитать Дон Кихота.
139 См.: М. М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского, М. 1963; Творчество Франсуа Рабле, М. 1965. См. также: В. В. Кожинов, Происхождение романа, М. 1963.
140 A. W. Sсh1ege1 — Вöсking, Bd. V, 16 — «Wiener Vorlesungen».
141 См.: «Античный роман», сб. под ред. М. Е. Грабарь-Паcсек, М. 1969. Статья Т. Н. Кузнецовой (365—402) дает обзор современных зарубежных истолкований античного романа. В нем хотят видеть торжество иллюзионизма, декаданс, мистику — символистскую и какую угодно, по только не ту борьбу за действительную жизнь, что ворвалась в него и завладела им как
545
стойкое, долговечное его содержание. Замечают, что греческий роман ведет свое происхождение от перелома в духовной жизни античности, но перелом объясняют в смысле возрастающего упадка. Говорят об ухудшении античных традиций, на деле же происходило известное их оздоровление й улучшение.
142 Еrwin
Rоhdе, Der griechische R
143 См.:
Richard Ullmann und Helene Gotthard, Geschichte des Begriffes
«R
144 См.:
Eugeniusz Klin, Die frühr
145 Fr. Sсh1ege1 — Minor,
Bd. II, 369 — «Gesprach über die Poesie. Brief an den R
146 A. W. Sсh1ege1 — Вöсking, Bd. V. 16 — «Wiener Vorlesungen»: «Die Poesie der Alten war die des Besitzes, die unsrige ist die der Sehnsucht».
147 Fr. Schlegel — Minor, Bd. II, 221.
148 Erwi n Rohde, Der griechische R
151 См.: К. Маркс, Капитал, т. Ill, М. 1955, 815. Общеизвестные строки о феодальном крестьянине: «Возделыватель и владелец земли, неоплаченный прибавочный труд которого непосредственно идет к собственнику земли».
152 Nоva1is—Minоr, Bd. Ill, 12.
154 A. W. Schlegel, Berliner Vorlesungen, Bd. Ill, 14.
155 Fr. Schlegel —Minor, Bd. I, 94—«Über das Studium der griechischen Poesie».
156 R. Köpke, L. Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters, 2. T. 1855, 173.
158 Там же, 238. «Unpoesie» — минус поэзия, отсутствие
546
поэзии.
159 См.:
Th
160 Fr. Schlegel —Minor, Bd. II, 315.
161 A. W. Sсh1ege1 — Вöсking, Bd. XI, 410—413 — «Don Quixote übersetzt von L. Tieck».
162 Fr. Schlegel —Minor, Bd. II, 316 (Notizen).
163 К. H. Державин, Сервантес. Жизнь и творчество, Гослитиздат, М. 1958, стр. 162.
164 См.: Leo Spitzer, Linguistics and Literary History, Princeton, 1948 — статья «Linguistic Perspectivism in the Don Quixote». Лeo Шпитцер обращает внимание на то, что в романе Сервантеса имена тех же персонажей даны неустойчиво, они именуются то так, то этак, в чем Шпитцер видит не ошибку Сервантеса, но проявление общей стилистической тенденции романа: ничему не давать окончательного решения, все держать в колебании, все изображать многоликим, многоаспектным, что Шпитцер и называет «перспективизмом». Колебаний в оценке героя касается также и статья С. Г. Бочарова «О композиции Дон-Кихота». — Сб. «Сервантес и современная литература», издво «Наука», М. 1969. О других вопросах, относящихся к роману Сервантеса, см. там же, статья И. А. Тертерян «Философско-психологические переживания образа Дон-Кихота и борьба идей в Испании XX в.».
165 Fr. Schlegel, Werke, Bd. II, Upsala, 1816, 418—419 — «Geschichte der alten und neuen Literatur. Vorlesungen gehalten zu Wien in Jahre 1812».
166 D. Diderot, Extraits, Publies par J. Texte, P. 1907, 76—79.
167 «R
169 Nоva1is—Minоr, Bd. III, 195.
170 Fr. Schlegel — Minor, Bd. II, 195.
171 Fr. Schlegel — Minor, Bd. III, 171, о Мейстере: «Отовсюду
несут нам золотые плоды на серебряных блюдах... Эта удивительная
проза является прозой, и все же она поэзия» (1798).
172 Nоva1is—Minоr, Bd. II, 243: «Meister ein R
173 Fr. Schlegel — Minor, Bd. II, 173 — «Über Goethes Meister».
547.
175 Fr. Schlegel — Minor, Bd. II, 225.
177 Fr. Schlegel — Minor, Bd. II, 285.
178 См.: И. А. Виноградов, Борьба за стиль, Л. 1937, 9 — «О теории новеллы».
179 Fr. Schlegel, Lucinde. — См.: «Deutsche Literatur» — Kindermann,
Reihe R
180 Fr. Schleiermacher,
Vertraute Briefe über «Lucinde». — «Deutsche Literatur» — Kindermann,
Reihe R
181 Fr. Schlegel — Minor, Bd. II, 280.
182 «Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe», Bd. II, Lpz. 1912, 241—242. Письмо от 19 июля 1799 г.
183 Fr. Schlegel — Minor, Bd. II, 188.
184 Dorothea Schlegel, Florentin. См.: «Deutsche Literatur» —
Kindermann, Reihe R
185 Carolie, Briefe aus der Frühr
186 См.: A. Stern, Der Einflufi franzosischer Revolution auf das deutsche Geistesleben, Stuttg. — Berl. 1928, 20.
187 Fr. Schlegel, Reise nach Frankreich. См.: «Deutsche National Literatur», hg. von J. Kürschner, Bd. 143, 287.
188 Там же, 242: «...дух ростовщичества как господствующая сущность современной жизни».
189 См.: Н. Kleist, Werke, hg. von Erich Schmidt, Bd. V, 235 — письмо от 18 июля 1801 г. к Каролине фон Шлибен.
190 Там же, 253 — письмо от 16 авг. 1801 г. к Луизе фон Ценге.
192 См., напр.: Clemens Brentano, Gesammelte Schriften, hg. von Chr. Brentano, Bd. IV — «Bilder und Gesprache aus Paris».
193 Кar1 Marx, Chronik seines Lebens in Einzeldaten, Marx-Engels Verl., Moskau, 1934, 3.
194 См.: Bernhard von Brentano, A. W. Schlegel. Geschichte eines r
195 См.: Robert Curtius, Kritische Essays zur europäischen Literatur, Bern — München, 1963, 95 — «Friedrich Schlegel und Frankreich».
196 См., напр.: Benno von Wiese, Friedrich Schlegel. Ein
Betrag zur Geschichte der r
548
гель, связав себя с церковью, отказался от всякого состязания с Шеллингом и Гегелем, пожертвовав своим интеллектом, тогда как, по мнению автора, оба они поначалу дарованием не превосходили его. Церковь соблазнила Фр. Шлегеля духовными удобствами и избавила его от романтического смятения. Впрочем, есть сведения, что в последние годы своей жизни Фр. Шлегель стал отходить от церкви и церковности. Таковы показания старых его друзей — Шлейермахера и Тика. Он снова возвращался к философии, как к вечному исканию, не знающему окончательного покоя,— к философии своей юности. См.: Е. Behler, Fr. Schlegel, Rowohlt, 146.
197 См.:
Louis Reynaud, Le r
198 Fr. Schlegel — Minor, Bd. II, 247.
199 См. прим. 73.
200 H. Heine, Werke, Bd. V, Lpz. 1910, 241.
201 См.: R. Haym , Die r
202 «R
203 Fr. Schlegel —Minor, Bd. 11, 239.
204 Sсhe11ing, Werke, Bd. V, 1859, 152—163.
205 В e n g t Algot Sorenson,
Symbol und Symbolismus in den aesthetischen Theorien des 18. Jahrhunderts und
der deutschen R
206 Klaus Lanheit, Die Frühr
207 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 367.
208 В. И. Ленин, Философские тетради, 1947, стр. 231.
209 R. Benz und A. Schneider, Die Kunst der deutschen R
210 Sсhe11ing, Werke, I Abt., Bd. IV, 243 — «Bruno, oder das göttliche und menschliche Princip der Dinge, ein Gesprach», 1802.
211 Там же, Bd. VII 155—156 — «Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie», 1805.
212 Там же, Bd. III, 349 — «System des transcendentalen Idealismus», 1800.
213 Там же, Bd. IV, 242—43, 251 —«Bruno».
549
214 Там же, Bd. VII, 400: «Die aktivierte Selbstheit ist nothwendig zur Schärfe des Lebens... («Philosophische Untersuchungen liber das Wesen der menschlichen Freiheit»).
215 О Бёме и романтиках см.: R. Кöрке, L. Tieck, Erinnerungen aus
dem Lebens des Dichters, 2. Т., 1855, 252—254. Также: A. Ederheimer, Bohme und die R
216 Fe1ix Vоigt, Beiträge zum Verständniß Jacob Böhmes, см. сб.: «Jacob Böhme. Gedenkausgabe des Stadt Görlitz zu zeichen 300 Jährigen Todestage», 1924, 84—92. Данные о влиянии на Бёме оппозиционной мысли через проповедников ереси, через учения антицерковных сект.
217 Аl. Вrand1, S. Т. Coleridge und die englische R
218 Hegel, Sämtliche Werke, hg. von H. Glockner, Bd. XIX — «Geschichte der Philosophie», Bd. III, 3. Т., Abschn. 1, B. — «Jacob Böhme».
219 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 2, стр. 142.
220 Fr. Schlegels neue philosophische Schriften, hg. von Jos. Körner, Frkf. a. M. 1935, 155-156.
221 Nоva1is—Minоr, Bd. II, 220: «Die Welt ist noch nicht fertig».
222 См. прим. 99.
223 Ср. важные для готического жанра замечания Новалиса: «Мы несем на себе бремя наших отцов, как от них же мы восприняли и доброе. И так на деле люди живут целиком в прошлом и в будущем, и меньше всего в настоящем» (Nоva1is—Minоr, III, 23).
224 «Nachtwachen von Bonaventura», 221—223.
225 Wi1h. von Sсhütz, Über den katolischen Character der antiker Tragödie, 1843. О христианизации образа Эллады см.: Walt. Rеhm, Griechentum und Goethezeit, Lpz. 1938, особенно гл. IX («Interpretatio Christiana»).
НОВАЛИС
1 Gerhar d Schulz , Novalis in selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rowohlt, 1969, 18.
2 Nоva1is—Minоr, Bd. I, LVÜ (биография, написанная Юстом).
3 «Novalis, Briefwechsel», hg. von J. Raich, Mainz, 1880, 12.
4 Nоva1is—Minоr, Bd. II, 185-186.
5 Там же, Bd. I, 259 («Distichen»).
550
6 Там же, LV (биография, написанная Юстом). Как о покровителе Фихте в монографии Куно Фишера говорится только о бароне фон Мильтитц. См.: К. Фишер, И.-Г. Фихте, СПб. 1909, 143).
7 Тh. Саrlуlе, Critical and Miscellaneous Essays, Ld. 1869, vol. II
— «Novalis» (1829); H. Heine,
Samtliche Werke, Lpz. 1910, Bd. VII — «Die r
8 См.:
Ernst Heilborn, Novalis der R
9 Nоvalis—Minоr, Bd. I, LI, LVI (биография, написанная Юстом).
10 См.: И. И. Шафрановский, А. Г. Вернер, знаменитый минералог и геолог, изд-во «Наука», JI. 1968.
11 См.: W. Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung, Lpz, 1907, 271.
12 Ж. Жорес. История Великой французской революции, т. III, вып. 2, 1923, 10.
13 Nоvalis—Minоr, Bd. II, 222.
20 См.: Ж. Жорес, Цит. изд., 13.
21 Georg Forster, Werke, Bd. IX, Academie-Verl., Berl. 1958, 94—95.
22 Nоvalis—Minоr, Bd. I, LXXIV (биография, написанная Юстом).
23 См.: Justinus Kerner, Briefwechsel mit seinen Freunden, hg. von Th. Kerner, Bd. I, Stuttg. 1897, 95 — письмо к JI. Уланду от 25 янв. 1810 г.
24 Fr. Hardenberg (Novalis), Eine Nachlese aus den Quellen des Familienarchivs, Gotha, 1873, 43.
25 А. В. Луначарский, Романтические юбилеи. — «Известия», 1922, 13 июля. Опыт пересмотра общепринятой трактовки Новалиса см. также в статье известного социолога и экономиста Jürg. Kuczynski «Diltheys Novalis — Bild and die Wirklichkeit», — «Weimarer Beitrage», 1968, H. 1.
26 Nоvalis—Minоr, Bd. IV — «Die Lehrlinge zu Sais». См. также русск. пер.: «Немецкая романтическая повесть», т. 1, изд-во «Academia», М. — Л. 1935.
551
30 Nоvalis—Minоr, Bd. IV — «Heinrich von Ofterdingen, ein
Nachgelassener R
31 Nоvalis—Minоr, Bd. IV, 258.
33 Еm. Staigеr, Goethe, 1749—1786. Atlantis-Verl., 1957, 432; «Вильгельм растет как человек и художник, но также и немецкий театр бурно растет в эти годы».
34 Современную попытку уяснить Офтердингена как историческую личность см. в кн.: Fr. Mess, «Heinrich von Ofterdingen», Weimar, 1963.
35 Nоvalis—Minоr, Bd. II, 304.
38 «Der deutsche R
39 Jean Paul Richter, Werke, Bd. VÜ, 9. T. — «Vorschule der Aesthetik», I Abt., § 2.
40 Nоvalis—Minоr, Bd. IV, 120.
41 О
диалогах в «Офтердингене» см.: «Der deutsche R
42 Nоvalis—Minоr, Bd. Ill, 284.
44 Там же, Bd. II, 176 («dephlegmatisieren, vivifizieren»).
46 См.: К. J. Оbеnauеr, Hölderlin, Novalis. Gesammelte Studien, Jena, 1925 — «Das Marchen des Novalis von Eros und Fabel», 231—290.
47 Nоvalis—Minоr, Bd. II, 244.
552
59 А. В. Луначарский, Романтические юбилеи. — «Известия », 1922, 13 июля.
60 Nоvalis—Minоr, Bd. IV, 224.
64 См.: Там же, Bd. I, 4—57 —«Hymnen an die Nacht», 61—90 — «Geistliche Lieder».
67 См.: Там же, Bd. II, 75 —Journal 1797.
68 См.: Ed. Jоung, Klagen oder Nachtgedanken. English und Deutsch, Hannover, 1760, 20. Этим изданием, очевидно, и пользовался Новалис.
69 См.:
R. van Tieghen, La poesie de la Nuit
et de T
70 Nоvalis—Minоr, Bd. I, 52 — «Hymnen an die Nacht»:
Die Lust der Fremde ging uns aus,
Zum Vater wollen wir nach Haus.
73 Там же, Bd. II, 3 — «Apologie von Friedrich Schiller»,
74 См.: W. Dilthey , Leben Schleiermachers, Berl. 1870, 434—436. О «Речах» и их воздействии на Новалиса.
75 Jos. Eichendorf, Über die ethische und religiose Bedeutung
der neueren r
76 См.: Gerh. Schultz, Novalis, Rowohlt, 1969, 131.
77 Nоvalis—Minоr, Bd. I, XXXIX — предисловие Эд. фон Бюлова.
78 Nоvalis—Minоr, Bd. Ill, 283.
82 См.: Fr. Hiebel, Novalis, Franke-Verl., Bern, 1951, 84—88 — «Die scientifische Bibel».
553
83 Nоvalis—Minоr, Bd. II, 22—45 — «Die Christenheit oder Europa».
84 К истории статьи Новалиса см.: «Novalis Briefwechsel», hg. von J. Raich, 145—149.
85 G. Schmitt—Dorotic, Politische Theorie und R
86 Александр Блок, Собрание сочинений, т. 9, изд-во «Алконост», 1923, 263 («О романтизме»).
87 См.: Gerh . Schulz, Novalis, Rowohlt, 1969, 117—118.
88 «R
89 См.: Gerh. Schulz, Novalis, Rowohlt, 1969, 151.
ТИК
1 L. Tieck, Schriften, hg. bei Reimer, Bd. XI, Berl. 1828 — «Аllа-Moddin». В дальнейших ссылках: Tieck — Reimer.
2 См.: R. Benz, Marchendichtung der R
3 См.: Rud. Кöpke, Ludwig Tieck, Erinnerungen aus dem Leben des Dichters, 1. Т., Lpz. 1855, 199
4 См.: Tieсk — Reimer, Bd. VI—VII — «William Lovell».
5 Отзыв о «Ловелле» см.: Fr. Schlegel—Minor, Bd. II, 278.
6 Tieck —Reimer, Bd. VII — «Lovell», Buch VI, Brief 13.
7 Marianne Thalmann, R
8 L. Tieck , Franz Sternbald Wanderungen. — «Deutsche National Literatur», hg. von. Jos. Kürschner, Bd. 145.
10 См.: L. Tieck's Ausgewählte Werke, hg. von G. Witkowski, Bd. II, Lpz. 1904 — «Leben und Tod der heiligen Genoveva».
11 L. Tieck's Werke, hg. von Ed. Berend, 3. Т., Bong-Verl. — «Kaiser Oktavianus». В дальнейших ссылках: Tiek — Berend.
12 «Das Mögliche, was doch unmoglich ist» (сц. «Garten»).
13 L. Tieck’s Ausgewählte Werke, hg. von G. Witkowski, Bd. I — «Der Abschied».
14 Nоvalis—Minоr, Bd. Ill, 292.
15 A. W. Sсhlegel—Восking, Bd. VI, 33 — «Wiener Vorlesungen».
16 Nоvalis—Minоr, Bd. II, 151.
17 A. W. Schlegel, Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst, 3. Т., 1884, 149. О соотношениях драмы Тика с народной
554
книгой см.: Anneliese Bodensohn, Ludwig Tiecks Kaiser Oktavianus als r
18 A. W. Schlegel—Böcking. Bd. VI, 180 — по поводу драмы Шекспира «Ричард III».
19 Fr. Gundolf, R
20 «Ritter Blaubart», «Der gestiefelte Kater», «Prinz Zerbino», «Die verkehrte Welt», «Leben und Tod des kleinen Rotkappchen» — см.: Tieсk—Reimer, Bd. II, V, X. «Ritter Blaubart», «Der gestiefelte Kater», «Leben und Tod des kleinen Rotkäppchen» см. также: Tieck — Berend, 2. T. — «Märchendramen».
21 К вопросу о Тике и Гоцци см.: Adriana Marelli, Ludwig Tiecks frühe Märchenspiele und die Gozzische Manier, Stuttg. 1968.
22 Hans Georg Beyer, Ludwig Tiecks Theatersatire «Der gestiefelte Kater» und ihre Stellung in der Literatur und Theatergeschichte, Stuttg. 1960.
23 Novalis—Minor, Bd. Ill, 9. «Создавать поэзию — значит порождать ее, всякое поэтическое создание должно быть живой личностью («ein lebendiges Individuum»).
24 Th. Carlyle, Critical and Miscellaneous Essays, vol. I, Ld. 1869, 245.
25 Попытку трактовать
иронические комедии Тика обобщенно см. в кн.: Ingrid
Strohschneiderkohrs, Die r
26 Tieсk—Reimer, Bd. XIV—XV — «Peter Lebrecht. Eine Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten».
27 См.: R. Haym, Die r
28 См.: L. Tieck—Berend, 1. T. — «Märchenerzählungen» («Merkwürdigen Lebensgeschichte Sr. Majestät Abraham Tonelli»).
29 См.: Edwin H. Zeydel,
Ludwig Tieck, the German R
30 См.: Tieck—Berend, Märchendichtungen («Der Runenberg»). См. также русск. пер.: «Немецкая романтическая повесть», т. 1, изд-во «Academia», М. — Л. 1935.
31 Острые замечания по эстетике Гоголя см. у В. В. Гиппиуса («Гоголь», JI. 1924): «Вторжение демонического в прекрасное», — говорится на стр. 49. К сожалению, в дальнейшем автор отступил от наблюдений и открытий, сделанных в этой его ранней книге.
32 Об
этом соединении у романтиков популярного и в высшей степени изысканного писал
Томас Манн — см.: Th
555
Wagners». О том же см.: Там же, 767 — «Versuch über Schiller». См. там же статью о Шамиссо.
33 См.: L. Tieck—Berend, 1. Т. —
«Märchenerzählungen» («Der blonde Eckbert»). См. также русск. пер.:
«Немецкая романтическая повесть», т. 1, изд-во «Academia», М. — Л. 1935. Среди
более новых попыток толковать «Экберта» см.: Josef
Kunz, Die deutsche Novelle zwischen Klassik und R
ГЕЛЬДЕРЛИН
1 См.: Erik Wolf, Das Wesen des Rechts in der Dichtung Hölderlins. — «Zs. für deutsche Kulturphilosophie», 1940, Bd. 6, H. 3.
2 Fr. Beißner, Rilkes Begegnung mit Holderlin. — «Dichtung und Volkstum», 1936, Bd. 37, H. 1.
3 См.: Philipp Josep Rehfueß, Bilder aus dem Tübinger Leben zu Ende des vorigen Jahrhunderts. — «Zs. für deutsche Kulturgeschichte», Neue Folge, 1874, Bd. III, 99—120; см. также: Wilh. Michel, Das Leben Friedrich Hölderlins, Bremen, 1940, 52—53.
4 «Die Briefe der Diotima», hg. von Carl Viëtor, Lpz. 1923.
5 Fr. Hölderlin, Sämtliche Werke, Stuttg. 1943, hg. Von Fr. Beifiner, Bd. VI, Briefe, hg. von Adolf Beck, № 161. В дальнейших ссылках: Hölderlin — Stuttg. Ausg. Ввиду малой доступности его ссылки на это издание даются лишь в особых случаях.
6 Fr. Hölderlin, Samtliche Werke und Briefe, Bd. II, Aufbau-Verl., Berl. Weimar, 1970, 370—372. В дальнейших ссылках: «Hölderlin — Aufbau Verl.».
7 Там же, Bd. I, 334 — «Achill» («Herrlicher Göttersohn...»).
8 Hölderlin — Stuttgart Ausg., Bd. VI, 177.
9 С недавних пор мы располагаем русским Гельдерлином — см.: Ф. Гельдерлин, Сочинения, М. 1969.
10 См.: Joh. Becher, Verteidigung der Poesie, Berl. 1952, 53.
11 Wi1h. Michel, Das Leben Friedrich Hölderlins, Bremen, 1940, 144.
12 Paul Böckmann, Hölderlin und seine Götter, München, 1935; W. F. Otto, Der Dichter und die alten Götter, F. a. M., 1942.
13 Hölderlin — Aufbau Verl., Bd. II, 182.
14 См.: R. Hауm, Die r
556
15 Heinz Stо1te, Hölderlin und die soziale Welt. Eine Einführung in «Hyperion» und «Empcdokles», Gotha, 1949.
16 См.: W. Rehm, Griechentum and Goethe-Zeit. Geschichte eines Glaubens, Lpz. 1938; гл. X, посвященная Гельдерлину, стр. 345—431.
17 Русс-к. пер. см.: «Смерть Эмпедокла», предисловие А. В. Луначарского, пер. Я. Голосовкера, «Academia», Л. 1931; новые переводы Е. Эткинда «Смерть Эмпедокла», «Эмпедокл на Этне» см.: Ф. Гельдерлин, Сочинения, ИХЛ, М. 1969.
18 Willih Dilthey, Gesammelte Schriften, Bd. IV, Berl. 1921, 73 — «Die Jugendgeschichte Hegels».
19 Rud. von Unger, Herder und der Palingenesis-Gedanke. — «Herder, Novalis and Kleist». F. а. M., 1922; см. также: Fr. Вeißner, Palingenesis. — «Iduno-Jahrbuch der Holderlin-Gesellschaft», 1944, H. 17, 76—82.
20 См.: Diogen Laertius, Leben und Meinungen berümmter Philosophen, Bd. II, Academie-Verl., Berl. 1955, 143—144.
21 А. Пиотровский, Античный театр. — В кн.: «История европейского театра», изд-во «Academia», 1931, 65.
22 Hölderlin — Stuttg. Ausg., Bd. VI, Briefe, № 167.
26 См.: А. Маковельский, Досократики, Казань, 1915, 152.
27 Hölderlin — Stuttg. Ausg., Bd. VI, Briefe, № 125.
28 W. Dilthey, « Gesammelte Schriften, Bd. IV, Berl. 1921, 67 — «Die Jugendgeschichte Hegels».
30 Jоh. Вeсher, Verteidigung der Poesie, Berl. 1952, 426.
31 Alfred Bäumler, Hellas und Germanien, Berl. 1937; Kurt Hildebrandt, Hölderlin. Philosophie und Dichtung, 1939.
32 Bettina von Arnim, Die Günderode, Bd. I, Lpz. 1904, 362 u. w.
33 Wi1h. Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung, Lpz. 1907, 431.
34 Nоrbert von Hellingrath, Holderlin Vermachtnis, Munchen, 1936.
35 Hölderlin — Aufbau Verl., Bd. II, 378.
36 Hölderlins Werke, 1. Т., hg. von M. Joachim — Dege, Berl. — Lpz., Bong Verl., 217.
37 R
557
АРНИМ
1 Rеinh. Steig, Achim von Arnim und die ihm nahe standen, Bd. I—III, Stuttg. 1894—1904.
2 «Des Knaben Wunderhorn», hg. von H. G. Thalheim, Bd. I—III, Berl. 1966.
3 «Zeitung für Einsiedler». В том же 1808 году все вошедшее в журнал было издано отдельной книгой под названием «Tröst Einsamkeit alte und neue Sagen und Wahrsagungen, Geschichten und Gedichte». Hg. von A. von Arnim.
4 Aug. und Fr. Schlegel,
Deutsche National Literatur, hg. von Jos. Kürschner, Bd. 143, 366. См.: О. Walzel, Jenauer und Heidelberger R
5 Hegel, Aestetik, Aufbau-Verl., Berl. 1955, 297—298.
6 H. Heine, Sämtliche Werke, Bd. VÜ, Lpz. 1910, 113 —
«Die r
7 R. Steig, Achim von Arnim und Clem. Brentano, Stuttg. 1894, 153.
8 Там же, 51 — письмо Арниму, окт. 1802.
9 Herma Becker, Achim von Arnim in den wissenschaftlichen und politischen Strömungen seiner Zeit, Berl. 1912.
10 H. Heine, Sämtliche Werke, Bd. VÜ, Lpz. 1910 — «Die r
11 R. Steig, Achim von Arnim und Jacob und Wilhelm Grimm, Stuttg. — Berl. 1904, 457—458 — письмо от 1 декабря 1819.
12 См.: Аrnims Werke, hg. von Reinh. Steig, Bd. I, Lpz. 1911 — «Raphael und seine Nachbarinnen». В дальнейших ссылках: Arnim — Steig.
13 R. Steig, Achim von Arnim und Jacob und Wilhelm Grimm, Stuttg. — Berl. 1904, 70, 74, 78.
14 См.: Arnim — Steig, Bd. I — «Rembrandts Versteigerung».
15 «Halle und Jerusalem» — см.: Arnims Werke, hg. von Monty Jacobs, 3. T. Berl. — Lpz., Bong-Verl.
16 «Armut, Reichtum, Schuld und Bufle der Graf in Dolores». — См.: Arnim — Steig, Bd. II.
18 «Die Appelmänner». — См.: Arnims Werke, hg. von Monty Jacobs, 3. Т., Berl. — Lpz., Bong Verl.
19 «Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau». См.: Arnim — Steig, Bd. I.
20 См.: R. Steig, Achim von Arnim und Jacob und Wilhelm Grimm, Stuttg, — Berl. 1904, 86.
558.
21 Обе части романа см.: Arnims Werke, hg. von Monty Jacobs, Berl. — Lpz., Bong-Verl., 1. T. — «Die Kronenwächter».
22 См.: К. Wenger, Historische R
23 R. Steig, Achim von Arnim und Jacob und Wilhelm Grimm, Stuttg. — Berl. 1904, 208 — письмо от 13 июня 1812 г.
24 «Hugh Schapler und sein Vetter Simon». — См.: Arnim — Steig, Bd. I.
25 «Die drei liebreichen Schwestern und der glückliche Farber». — См.: Arnim — Steig, Bd. I.
26 «Die Gleichen». См.: Arnim — Steig, Bd. III.
27 «Isabella von Egypten, Karl Kaiser des Fünfsten erste Jugendliebe». — Там же, Bd. I. Более полный текст см.: Arnime Werke, hg. von Monty Jacobs, 4. Т., Berl. — Lpz., Bong-Verl., Русск. пер.: «Немецкая романтическая повесть», т. 2, изд-во «Academia», Л. 1935.
28 «Der Brutpfennig». — См.: «Die deutsche Sagen», hg. von den brüder Grimm, Berl. 1956, № 87.
29 «Der Alraun». — См.: там же, № 84.
30 См.: Beate Rosenfeld, Die Golemsage und ihre Verwertung in der deutschen Literatur, Breslau, 1934.
31 См.: Arnims Werke, hg. von Monty Jacobs, Bd. IV, Berl. — Lpz, Bong-Verl., 104, примечание. См. также русск. пер.: «Немецкая романтическая повесть», т. 2, изд-во «Academia», Л. 1935, 122.
32 См.: «Симплициссимус», изд-во «Наука», Л. 1967, комментарии А. А. Морозова, гл. 2, «Симплициссимус и немецкие романтики».
33 «Les livres surréalistes», Librairie José Corti, P. 1931.
34 Andre Breton, Point du jour, P. 1934, 167.
35 H. Heine, Sämtliche Werke, Bd. VI, Lpz. 1910, 128 — «Die r
БРЕНТАНО
1 «Clemens Brentanos Frühlingskranz, aus Jugendbriefen ihm geflochten, wie er selbst schriftlich verlangte, an Bettina von Arnim». — Samtliche Werke, Bd. I, hg. von Wald. Oehlke, 1920. В дальнейших ссылках: «Frühlingskranz».
2 Там же, 7, предисловие Oehlke.
3 Там же, 86: «...aber mich durchreißen, ich selber zu bleiben das sei meines Lebens Gewinn».
559
8 См.: Clemens Brentano, Samtliche Werke, hg. von C. Schüddekopf, Bd. V — «Godvvi», hg. von Heinz Amelung, München — Lpz. 1909—1910. Это великолепно начатое издание, к сожалению, не было окончено. В дальнейших ссылках: Clemens Brentano— Schüddekopf.
9 Из музыкальной комедии «Веселые музыканты» (1802).
10 Brentano— Schüddekopf, Bd. V, 8.
12 Там же, 31 («metrisches Leben»).
14 Н. d e Balzac , La Rabouilleuse, Caiman Levy, P. 1879, 189.
15 Альфред Kepp говорит об
иронии Брентано — «derbe Ironie». См.:
Alfred Kerr, «Godwi», ein Kapitel deutscher R
16 См.: Brentano —Schüddekopf, Bd. V, 334.
17 См. стихотворение «Die lustigen Musikanten».
18 См. стихотворение «Als ich in tiefen Leiden».
19 См.: Clemens Brentano, Gesammelte Schriften, hg. von Chr. Brentano, Bd. Ill, 1852—1855; см. также: Brentano—Schüddekopf, Bd. IV, hg. von Vict. Michels, вступит, статья.
20 Подробный анализ поэмы
Брентано со стороны ее философской мысли см. в книге В. М. Жирмунского
«Религиозное отречение в истории романтизма», М. 1919. Анализ менее
обстоятельный во вступ. статье Vict. Michels (Brentano — Schüddekopf, Bd.
IV). Книга Жирмунского — до сей поры лучшее исследование по истории позднего
романтизма, выдвигающее должным образом первоосновную для него проблематику зла.
Книга эта написана под наитием поэзии
21 Фридрих Гундольф
странным образом утверждает, что по стиху «Романсы» Брентано «предформа» («eine
Vorform») стиха поэм Гейне «Атта Тролль» и «Германия». Об «Атта Тролль»
замечание верное, но стих «Зимней сказки» совсем иной — немецкий песенный
дольник, из чего следует, что Гундольф, так сурово судивший поэзию Гейне (см.
кн. Гундольфа о Стефане Георге), очень плохо помнил ее. См.: Fr. Gundolf, R
560
22 «Aloys und Imelde». — См.: Brentano—Schüddekopf, Bd. IX, 2.
23 «Трагедия, собранная из комедийных эпизодов», — так определяет стиль «Алоиза и Имельды» Агнеса Гарнак, впервые издавшая это произведение. — См.: Brentano—Schüddekopf, Bd. IX, 2, hg. von Agnes Harnack, XLI.
24 «Die Gründung Prags». — См.: Brentano—Schüddekopf, Bd. X, hg. von Otto Brechler und Aug. Sauer.
25 См.: Renata Matthaei, Das Mythische in Clemens
Brentanos «Die Gründung Prags» und den «R
26 См.: Brentano—Schüddekopf, Bd. X, 365.
27 Andreу von Kayssarow, Versuch einer slavischen Mythologie, Gottingen, 1804.
28 В. П. Адрианова-Перетц, «Слово о полку Игореве». Библиография переводов и исследований, изд-во АН СССР, М. — JI. 1940, 29 (библиография первых немецких переводов).
29 См.: Emil Staiger, Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters, Atlantis-Verl., Zürich, 1903. Глава о Брентано посвящена одной из общих проблем его поэтики — времени, «die reißende Zeit»; Hans Magnus Enzensberger, Brentanos Poetik, München, 1961. Наблюдения за поэтической манерой Брентано с некоторыми попытками выйти за пределы формальной поэтики.
30 Bettina von Arnim, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, Bd. II, Jena, 126.
31 См., напр.: «О lieb Mädel, wie schlecht hist du!».
32 Knittelvers — излюбленная форма Ганса Сакса, нюрнбергского сапожника и поэта.
33 См.: В. М. Жирмунский, Религиозное отречение в истории романтизма, ч. II, М. 1919, гл. XVIII — «Тема Манон Леско».
34 «Geschichte v
35 См.: Brentano — Schüddekopf, Marchen, hg. Von R. Benz, Bd. X—XII. Во вступит, статье R. Benz дает сводку исследований по сказкам Брентано. Из более новых работ см.: Marianne Thalmann, Das Marchen und die Moderne, Stuttg. 1961. В ГДР постоянно появляются популярные издания сказок Брентано: Lambert-Schneider, Aufbau-Verl, 1963; Dieterichsche Verlagbuchhandlung in Leipzig, 1965.
561
36 Материал полемики Гриммы — Брентано собран в кн.: R. Steig, Clemens Brentano und die Brüder Grimm, 1914, Кар. VIII — «Die Märchen».
37 Rud. Gоttsсhall, Die deutsche National-Literatur des 19. Jahrhunderts, Bd. I, 1875, 445.
38 «Die mehreren Wehmüller und ungarischen Nationalgeschichter» — см.: Cl. Brentano, Wunderbare Erzahlungen und Märchen, Dieterichschen Verlagbuchhandlung in Leipzig, 1965.
39 См.: Gerhard Schneider, Studien zur deutschen R
40 Winfried Hümpfner, Cl. Brentanos Glaubwürdigkeit in seiner Emmerikaufzeichnungen, Würzburg, 1923. См. об этой кн.: К. Viёtоr, Der alte Brentano. — «Deutsche Vierteljahrschrift», 1924, Н. З.
КЛЕЙСТ
1 «Heinrich von Kleist Nachruhm», hg. von Helm. Sembdner, Bremen, 1967, 80.
2 Сочинения Клейста см.: H. Kleists Werke, hg. von Erich Schmidt, Bibl. Inst., Bd. I—IV. (В дальнейших ссылках: Kleist—Schmidt.) См. также русск. пер.: Г. Клейст. Собрание сочинений в двух томах, II. — М. 1923; «Михаэль Кольхаас», пер. Г. Петникова, изд-во «Academia», JI. 1928; «Немецкая романтическая повесть», т. 2, изд-во «Academia», JI. 1935 (вступ. статья Н. Я. Берковского); Г. Клейст, Драмы. Новеллы, М. 1969 (серия «Всемирная литература»).
3 М. Горький, О литературе, М. 1953, 603 — статья «О пьесах».
4 См.: Kleist—Schmidt, Bd. I, 6 — «Tragedy of Errors».
5 «Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden» (1805). — Kleist—Schmidt, Bd. IV, 74—80.
6 R. Steig, Achim von Armin und Clemens Brentano, Stuttg. 1894, 344.
7 См.: Кleist—Sсhmidt, Bd. IV, 163 — «Betrachtungen über den Weltlauf».
8 Fr. Gundоlf, Heinrich von Kleist, Berl. 1924, 49.
9 Кleist—Sсhmidt, Bd. IV, 133—142 — «Über das Marionetten-Theater».
10 См. осторожный и весьма правдоподобный опыт восстановления утраченных частей трагедии в кн.: Otto Brahm, Das Leben Heinrichs von Kleist, Berl. 1911, 125—132 (изд. 1-е — 1884).
11 См.: H. Я. Берковский, Литература и театр, изд-во «Искусство», М. 1969, 466—472 — разбор комедии Мольера «Амфитрион».
562
12 Fr. Gundоlf, Heinrich von Kleist, Berl. 1924, 83.
13 См.: Кleist—Sсhmidt, Bd. I, 200.
14 Th
15 См.: Марк де Вилье, Женские клубы и легионы амазонок, изд-во «Современные проблемы», М. 1912.
16 В драме «Битва Арминия» у Клейста по-новому повторяются инвективы против добрых и нежных чувств. По утверждению Арминия, чувства эти делают нас слабыми, худший из наших врагов тот, кто способен вызвать наше милосердие, желание пощадить его (см. акт IV, сц. 9).
17 См. попытку социального истолкования: Н. A. Wolff , Kleists Amazonenstaat im Lichte Rousseaus. — «Publications of the Modern Language Assoc. of America» (P. M. L. A.), 1938, I. Вольф подробно сопоставляет «конституцию» царства амазонок с «Общественным договором» Руссо. Разумеется, нет никакой нужды сводить правовые идеи Клейста к одному-единственному источнику, настолько идеи эти составляли тогда общее достояние; к тому же Клейст идет куда дальше одних только идей «государства добродетели» по Руссо.
18 Ср.: Кleist—Sсhmidt, Bd. V, 358 — «der ganze Schmerz zugleich und Glanz meiner Seele» (письмо к Heinr. Hendel-Schütz).
19 «...auf den Knien meines Herzens...» — Там же, Bd. V, 369.
20 G. H. Schubert, Die Symbolik des Traumes, 1840, 40 u. w.
21 Кleist—Sсhmidt, Bd. V, 380—381.
22 E.-Т.-A. Hоfmann, Briefwechsel, Bd. I, München, 1967, 335 — письмо от 28 апр. 1812.
23 Из более новых разборов комедии см.: Hans Jachim Sсhrimрf, Das deutsche Drama von Barock bis zur Gegenwart, hg. bei Benno von Wiese, Bd. I, 1960, 339—362.
24 См.: Кleist—Sсhmidt, Bd. I, 463.
25 Fr. de la Motte Fouqué, Gesprach über die Dichtergabe Heinrichs von Kleist. — «Morgenblatt», 1816, № 53—54.
26 См.: Кleist—Sсhmidt, Bd. IV, 84—87 — «Brief eines jungen markischen Landfräulens an ihren Onkel», 1809.
27 См.: E. Сassirer, Heinrich von Kleist und die kantische Philosophie. В его кн.: «Idee und Gestalt», Berl. 1921, 194—200.
28 Фридрих Геббель в разборе «Принца Гомбургского» писал о «принципе субординации» как об основном мотиве этой драмы. См.: Hebbels Werke, hg. von Theodor Poppe, 8. Т., Berl. — Lpz., Bong.-Verl., 161—170.
563
29 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 29, стр. 69.
30 Siеgfr. Streller, Das dramatische Werk H. v. Kleists. — «Neue Betrage zur Literaturwissenschaft», Bd. 27, Berl. 1969, 162—171.
Э.-Т.-А. ГОФМАН
1 См.: О. Krenzer, Е. Т. A. Hoffmann und Bamberg. Bamberg, 1922.
2 E. Т. A. Hoffmanns Briefwechsel, hg. von H. von Müller und Fr. Schnapp, Bd. II, München, 1967, 245, в дальнейших ссылках: Hoffmann, Briefwechsel, с указанием тома и страницы.
3 Рaul Grеff, Е. Т. A. Hoffmann als Musiker und Musikschriftsteller, Koln, 1948.
4 Hoffmann, Briefwechsel., Bd. II, 249.
5 Статью Вебера см. в цит. кн.: P. Grеff, 55, 59.
6 О предсмертных гонениях на Гофмана см.: G. Еllingеr, Das Disziplinarverfahren gegen Е. Т. A. Hoffmann. — «Deutsche Rundschau», Bd. CXXVIII, 1906.
7 Hoffmann, Briefwechsel, Bd. II, 238.
8 Сохранили свою ценность старые обобщающие работы: G. Еllingеr, Е. Т. A. Hoffmann, Sein Leben und seine Werke, Hamb. — Lpz. 1894; W. Harich, E. T. A. Hoffmann, Das Leben eines Künstlers, Bd. I—II; Berl. 1920; С. С. Игнатов, Э.-Т.-А. Гофман. Личность и творчество, М. 1914.
9 Тh. Cramer, Das Groteske bei E. T. A. Hoffmann, München, 1966, 96.
10 E. T. A. Hoffmanns Werke, hg. von G. Ellinger, 6 Т., Berl. — Lpz. — Wien — Stuttg., Bong-Verl., «Die Serapionsbrüder», 4. Abschn. — «Meister Martin der Küfner und seine Gesellen».
11 См. В дневнике Гофмана запись от 17 апр. 1812 (Бамберг) по поводу Новалиса и Шеллинга: ...читал Новалиса с отрадою душевной... Штудии в натурфилософии — Шеллинг». — Е. Т. А. Hоffmann, Tagebücher und literarische Entwüife, hg. von Hans von Müller, Bd. I, Berl. 1915, 124.
12 Per Daniel Amadeus Atterb
13 Hoffmann, Briefwechsel, Bd. II, 152 — письмо к Гитцигу от 15 дек. 1817 г. и там же письмо к Кунцу от 8 марта 1818 г.
564
14 Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений, т. XIII, ГИЗ, М. — Л. 1930. Статьи 1845—1878 гг., 523 — «Три рассказа Эдгара Поэ» (1861).
15 См.: W. Kayser, Das Groteske, 1957, 20-21 — «Sache und Wort».
16 И. Г. Фихте, Основные черты современной эпохи, Сб. 1906, 66.
17 James Beresford, The Miseries of Human Life, 1806. Нем. пер. «Menschliches Elend» вышел в 1810 (см.: Hoffmann, Briefwechsel, Bd. I, 453).
18 О теме двойника в многообразных ее вариантах см.: Natalie Rеber, Studien zum Motiv des Doppelgängers bei Dostojevskij und E. T. A. Hoffmann, Gießen, 1964.
19 S. Freud, Zur Psychopathologie des Alltagslebens, Berl. 1910, 24—25. Приводится маленькая история: некий господин Ледерер, отдыхая в Венеции, знакомится там с другим немцем и затем безнадежно забывает его фамилию. Он должен был забыть ее, она была неприятна ему — того немца тоже звали Ледерер.
20 Hoffmann — Ellinger, 4. Т. «Klein Zaches genannt Zinnober». Придерживаюсь основ своего толкования этой повести, предложенного в статье 1936 года: Э.-Т.-А. Гофман, новеллы и повести», 68—77.
21 Walth. Наrich, Е. Т. A. Hoffmann, Bd. II, 175; сходные мысли в кн.: Marianne Stradal, Studien zur Motivgestellung bei E. T. A. Hoffmann, Breslau, 1928.
22 Ernst von Schenk, E. T. A. Hoffmann. Ein Kampf um das Bild des Mensches, 1939.
23 H. А. Коrff, Geist der Goethezeit, Bd. IV, 625; Gustav Egli, E. T. A. Hoffmanns Ewig- und Endlichkeit seinen Werk, 1927, 105.
24 Купец Абдулин так и писал в своей челобитной Хлестакову: «Господину финансову».
25 Н. А. Коrff, Geist der Goethezeit, Bd. IV, 627. «В «Маленьком Цахесе» мир просветительства уничтожает самого себя, ибо он считает за истину вещи, на деле являющиеся мороком и безумием».
26 L. Tieck, Kritische Schriften, Bd. I, Lpz. 1848, 180.
27 Hoffmann, Briefwechsel, Bd. I, 408 (письмо от 19 авг. 1813 г.).
28 Сh. Воdеlaire, Œuvres c
565
29 Hoffmann — Ellinger 10. Т. — «Prinzessin Brambilla, ein Capriccio nach Jakob Callot», 1821,
30 См.: Karl Marx, Chronik seines Lebens in Einzeldaten, Moskau, 1934, 4.
31 См.: «Воспоминания Франциска Кугельмана», в кн.: «Воcпоминания о Марксе и Энгельсе», М. 1956, 301; Мих. Лифшиц, Вопросы искусства и философии, М. 1935, 282 — о Марксе и Энгельсе, которые придавали особое значение его (Гофмана) новелле «Маленький Цахес» — ироническому изображению буржуазно-филистерского мира и силы денег.
32 «Воспоминания о Марксе и Энгельсе», 258.
33 См.: М. G. Lewis, The Monk. A R
34 См.: О. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Bd. I, München, 1923, 356.
35 См.: Hans von Müller, Das künstlerische Schaffen E. T, A. Hoffmanns in umrissen angedeutet, Lpz. 1926.
СОДЕРЖАНИЕ
А. Аникст. Н. Я. Берковский 3
Романтизм в Германии, его природа, замыслы и судьбы 17
Новалис 167
Тик 208
Гельдерлин 263
Арним 324
Брентано 351
Клейст 396
Э.-Т-А. Гофман 463
Примечания 539
Наум Яковлевич
Берковский
РОМАНТИЗМ В ГЕРМАНИИ
Редактор Б. Томашевский. Художественный редактор А. Гасников. Технический редактор В. Алексеева. Корректор Л. Никульшина. Сдано в набор 3/IX 1973 г. Подписано к печати 4/XII 1973 г. М-45263. Тип. бумага М 1. Формат 84x108752—17,75 печ. л. 29,82 усл. печ. л. 32,416 уч.-изд. л. +1 вкл.-32,44 л. Заказ № 760. Тираж 10 000 экз. Цена 1 р. 61 к.
Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, Ленинград 191186, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград 198052, Измайловский проспект, 29.