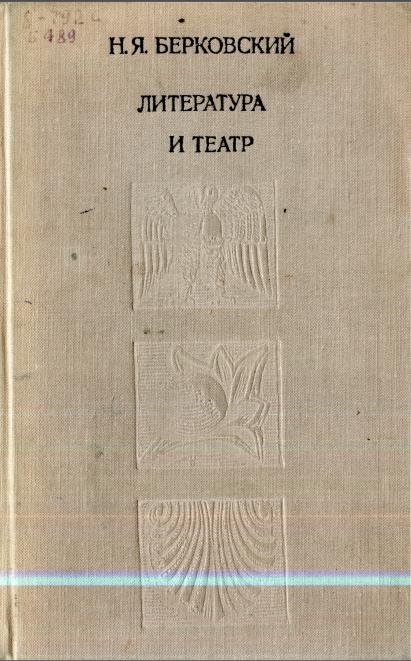
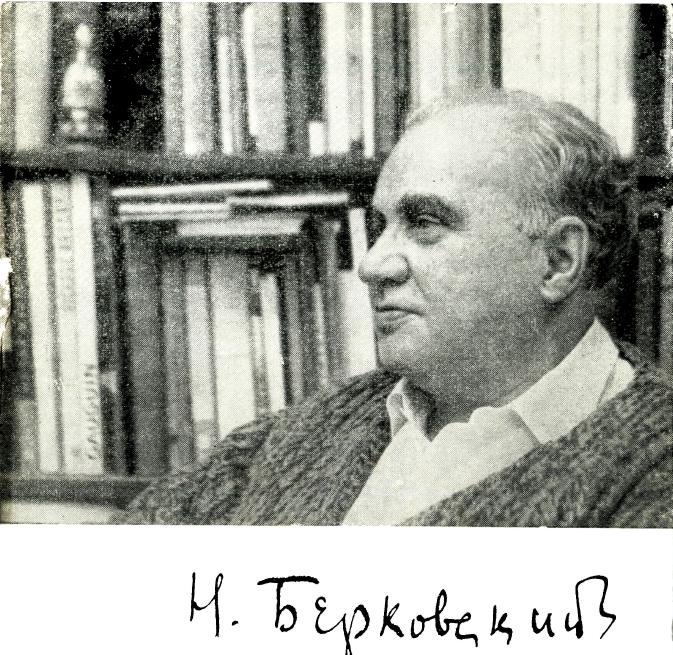
Н. Я. БЕРКОВСКИЙ
ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР
СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Редактор — Б. И. Зингерман
СОДЕРЖАНИЕ
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА», ТРАГЕДИЯ ШЕКСПИРА
ЧЕХОВ: ОТ РАССКАЗОВ И ПОВЕСТЕЙ К ДРАМАТУРГИИ
СТАНИСЛАВСКИЙ И ЭСТЕТИКА ТЕАТРА
ТАИРОВ И КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР И ДУХ МУЗЫКИ
ДОН-КИХОТ И ДРУГ ЕГО САНЧО ПАНСА
«КОРОЛЬ ЛИР», ПОСТАВЛЕННЫЙ Г. М. КОЗИНЦЕВЫМ
МАРИВО, МОЛЬЕР, САЛАКРУ И ПАНТОМИМА
МАНЕРА И СТИЛЬ
ШЕРИДАН В МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
КОМЕДИЯ ИМПЕРИИ
ЦАРСТВО ТЕНЕЙ И ЛИРИЧЕСКАЯ ТЕМА
НОВЫЙ «ЛЕС»
ДОСТОЕВСКИЙ НА СЦЕНЕ
I. «ИДИОТ», ПОСТАВЛЕННЫЙ Г. А. ТОВСТОНОГОВЫМ
II. «ИДИОТ» У ВАХТАНГОВЦЕВ
РУССКИЙ ТРАГИК
ЗАЩИТА ЖИЗНИ V
ОТ АВТОРА
В сборник вошли статьи, некоторая часть которых уже была
в печати. Даты, поставленные под статьями, указывают, когда они были написаны.
Во многих случаях это же и дата первой публикации. Однако же в статьи,
написанные давно, иной раз вставлены указания и ссылки на явления
художественной жизни, на издания более поздних лет. Эти случаи — их немного — в
тексте не оговорены.
Автору случается в разных статьях возвращаться к тем же
предметам. Более ранняя трактовка предмета сохраняется в сборнике, хотя дана и
более поздняя.
Трактовка темы зависит от контекста,
который каждый раз вносит свои существенные оттенки. При ином контексте оттенки
будут иными. Вот почему позволено о том же человеке искусства или о тех же
явлениях его говорить в той же книге и по два раза, иногда и по три, не
вытягивая свои высказывания в одну линию и не спеша их окончательно обобщить.
Нам кажется, так лучше и для читателя и для дела.
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»,
ТРАГЕДИЯ ШЕКСПИРА
Трагедия о Ромео и Джульетте, написанная, «по всей видимости, в 1595 году, опубликованная в 1597-м, являет собою первый опыт Шекспира прямо и открыто говорить с трагической сцены о своей современности, без посредничества сюжетов, взятых из времен исторически отдаленных. «Ромео и Джульетта»—трагедия Ренессанса в двойном смысле. Ренессансу принадлежат ее идейные мотивы, но так всегда и всюду у Шекспира. Новость здесь та, что сам Ренессанс с его людьми, с их делами и с их внутренним состоянием непосредственно представлен здесь во всей своей зримой природе: в комедиях Шекспира это бывало, в трагедии это впервые. Перед нами жизнь Ренессанса раскрыта как некоторое театральное зрелище; костюмы, лица, по-вадки, пейзаж — все из Ренессанса, причем на сцене Ренессанс в Италии, самый классичный и выразительный ко времени Шекспира. Английский Ренессанс только через самого Шекспира, через его поэтические деяния мог спорить с превосходством Италии и культуры Италии.
Трагедия о Ромео и Джульетте по стилю своему сложнейшая партитура. В ней звучат многообразные стилистические партии, то размежеванные, как будто
11[1]
взаимно равнодушные, то вклинивающиеся друг в друга. Как всегда у Шекспира, партиям, стихиям стиля соответствуют стихии исторической жизни, каждая имеет свой язык, свой способ поведения. Картина сразу же поставлена на широкое основание. С первой же сцены зрителя вводят в публичную жизнь города Вероны. На подмостках враждующие семейства Монтекки и Капулетти, слуги, господа, родня господ и друзья господ, герцог Веронский со стражей. Кругозор трагедии важен сам по себе, и только понемногу фабула им овладевает. Шекспир заранее подготовляет нужные события и нужных действующих лиц. Такие авторские меры, принятые заблаговременно, стали в поздней драматургии (и в позднем романе) тривиальным 'правилом писательской техники: герои автора хорошо знают свое дело, еще лучше знает его сам автор, у которого все резервы на своих местах и ждут, когда им скажут действовать. Новеллисты, которые предшествовали Шекспиру и еще до него пересказывали каждый по-своему фабулу Ромео и Джульетты, распоряжались своим материалом иначе. Официальный жених Джульетты граф Парис появлялся со сватовством лишь после тайной свадьбы Джульетты и Ромео. Неистовый Тибальд вырывался из-за кулис рассказа лишь в минуту своей фатальной схватки с Ромео, о родстве с которым через Джульетту он ничего не ведает. У новеллистов, у Артура Брука, превратившего новеллу о Ромео и Джульетте в пространный роман в стихах[2], тот или иной персонаж вводится как бы нарочно ради этих центральных действующих лиц — ввиду их, с целью помогать им или препятствовать. То была не слабость литературной техники, то был принцип, хотя и наивный. Новеллисты мыслили наивно — эгоцентрически. Есть Ромео, есть Джульетта, все остальное в мире только и важно в отношении обоих. Прочие люди — добрые и злые духи, вызываемые по мере надобности, все они одним только и заняты — положительным или отрицательным обслуживанием главных лиц. У Шекспира мир и кругозор существуют раньше лиц, очутившихся в центре фабулы. Каждое лицо живет по-своему, с собственной целью и с собственным пафосом. У Париса есть пафос сва-
12
таться, и он следует ему загодя, еще до того, как Ромео и Джульетта впервые встретились. У Тибальда пафос драки, и пафос этот обнаруживается, едва только поднялся занавес. Город Верона живет и волнуется, не думая о будущих веронских любовниках, не угадывая, что возникает эта любовь. Шекспир, уже создав город Верону, уже создав Италию Ренессанса, только потом и как бы невзначай достает ;из недр этого мира своего Ромео.
После схватки слуг и бравад Тибальда, когда наступает замирение, графиня Монтекки спрашивает о своем сыне, где Ромео, кто его видел, как хорошо, что его не было при этой стычке. Тут впервые произносится имя Ромео, оно как бы всплывает с самого дна событий. О Джульетте еще никто не подозревает. Ее вводит третья сцена, послушной девочкой, довольно равнодушной к переговорам, которые по поводу нее ведутся между матерью и нянькой. Мир прежде людей, историческое бытие прежде отдельных лиц — такова поэтика Шекспира, без чего он не был бы трагическим художником: трагедия требует мощи и примата мира всеобщего и объективного.
Мир, общий всем, неизбежный для всех и каждого, различается у Шекспира по своим стихиям, внутри которых подвизаются и действуют люди, поддерживая свою стихию, либо преодолевая. Ренессансу принадлежит не все, он далеко еще не власть в Вероне, в Италии, в мире. Есть жизнь традиционная и чрезвычайно сильная, на ее стороне обычай, нравы, законодательство. Кроме того, в самом новом обществе образовалось свое продолжение старых традиций, своя трансформация их. Шекспир отлично знает, что такое быт, сложившийся веками, и отлично владеет им как художник. Дом старых Капулетти, их кухня, пиры и пироги ощутимо обозначены в трагедии. Слышна музыка передвигаемых столов, ножей, ложек, суеты служителей и поварят, затрапезных или околотрапезных шуток. Случатся ли похороны, случится ли свадьба, для них в доме Капулетти есть свой чин. Форма предшествует человеку, и всегда известно, что ей делать с ним. Другая же стихия трагедии — Ренессанс как он есть, как понимает его Шекспир, художник и философ, Ренессанс — совлечение форм, отказ от предвзятостей. Улица Вероны с друзьями Ромео, готовыми возникнуть на каждом углу, это улица Ренессанса и улица юности. В доме Капулетти есть свои праздничные даты и свой праздничный сбор гостей. Юная Верона
13
празднует юность свою с утра и до ночи, без календаря, без дат. Меркуцио, конечно, первый среди этих вольноживущих и вольномыслящих. Он — игрок, игрец и пародист. Ренессанс, по Шекспиру,— празднество развязавшихся, пробившихся к свету человеческих сил, музыка их первоброжения. В Меркуцио она резка и блистательна. Он еще ни к кому и ни к чему не определился. Роли, которые мог бы ему продиктовать старый жизненный строй, все не по нем. А роли новые, он, как видно, может выбирать и пользуется с неограниченной широтой правом выбора. Меркуцио высмеивает всякую определенность, всякую верноподан'ность, всякую приписанное к чему-либо, всякую принадлежность человека к силам, вне его и над ним стоящим. Нельзя вообразить Меркуцио на дороге в церковь, а по этой дороге со своими целями ходили не раз и Джульетта и Ромео. Меркуцио — родственник герцога, и Меркуцио непредставим с официальным выражением лица, где-нибудь на герцогском приеме. Неверно, если скажут, что Меркуцио человек, лишенный связей с живым миром по своей к ним неспособности. Он уже, конечно, не скуден ни умом, ни духом, постоянно находится во внутреннем движении. Умеет быть другом Ромео — другом насмерть, из-за ссоры Ромео с семейством Капулетти он и погибает. Но к тому же Ромео он и безжалостен, по всякому поводу вышучивая поклонение Ромео Розалинде. Влюбленность самого Меркуцио немыслима, влюбленность — против назначения, полученного им от Шекспира, вопреки указаниям первоисточника: в поэме Артура Брука, напечатанной в 1562 году, от которой Шекспир отправлялся, говорится о Меркуцио как о блистательном дамском кавалере, по Бруку, Меркуцио — лев среди ягнят, а ягнята — это робеющие перед ним девушки Вероны. Во влюбленности, даже мимолетной, содержится нечто позитивное, что не совместимо с натурой и призванием этого человека. Меркуцио шутит во все стороны и отрицает все подряд, ибо он хочет выбрать наилучшим образом. Старые ценности утратили для него цену, он не так легко пойдет на признание новых — нет ли и здесь дешевки и обмана. После веры слепой нужна зрячая вера, Меркуцио всячески отдаляет водворение новых богов, подвергая их пристрастным испытаниям. Он находится «в состоянии эпиграммы», едва ему мерещатся новые ценности и новые боги: как бы здесь не навязали ему новое рабство.
14
В нем есть жар жизни, и он им не жертвует как придется. Ненависть его к Тибальду искренняя, любовь к Ромео — тоже. Когда же он погибает от шпаги Тибальда и ради Ромео, он не может не воскликнуть — чума на ваши оба дома, на дом Монтекки и дом Капулетти, из-за вражды которых разыгрался этот поединок. Он видит, что умирает глупой смертью ради фетишей, чуждых ему, ради чьих-то родовых счетов.
Колридж, романтический поэт и критик, восхвалял Меркуцио: «О, как мне описать этот задор, эту изысканность и этот избыток юности, разлившейся по волнам наслаждения и радости. Порой это подобие легкомысленной красавицы, которая нарочно кривит свое лицо, уверенная, что поклонник им не перестанет восхищаться, морщит ло-б, зная, какой он гладкий у нее»[3]. Кажется, Колридж прибрал верные сравнения. Меркуцио — гримасы красоты, которая не спешит открыться, согнать гримасы, ибо каждая из них — это примерка личин и лиц, проба внутренних сил, прежде чем красота найдет для себя образ, ей подобающий, и возьмет свое из брошенного по дороге к последнему, заключительному образу. Меркуцио — весь в игре, у него еще нет окончательного направления, он пробует всякие и отвергает — одни начисто, другие — отчасти.
Речь Меркуцио о королеве Меб есть как бы его поэтическое исповедание веры. Королева Меб — повивальная бабка сновидений, зачинщица игр, распорядительница человеческой фантазии. Ода — крохотная, величиной с драгоценный камень в перстне олдермена. В своей карете она ездит по носам спящих. Карета — с белкин орех; комар в кучерах, бич кучерский из косточек сверчка. Эта уменьшительность уже сама по себе есть претворение вещей действительных в небылицу. Выражаясь несколько громоздко, сокращение масштабов и убавление веса вещей, изменение их с количественной стороны есть также и эмансипация от их качеств,— в самой своей материальности они сходят на нет, становятся фантомами. Рассказано о снах, которые спящим посылает королева Меб. Во сне они видят свои реальные дела — самые прозаические и профессиональные: законнику снятся служебные гонорары, священнику, что его перевели в при-
15
ход получше. Солдату снятся битвы, добрые попойки и стук барабана. Игра снов освобождает спящих от тягостей и прозаизма, испытанного ими в часы бодрствования, она разрушает их реальный мир, как он есть, она улучшает его, и она же готовит их вступить в него вновь. Солдату снится его испанский меч,— он им действовал вчера, он будет им действовать завтра. Девушке снится брачное сожительство — то, чего она еще не знает и что еще узнает. Шутки королевы Меб, игра ее, как всякая игра, чья бы то ни было, перестраивает жизнь в ее обычном виде, готовит переход от вещей, которым люди подвергаются против их собственной воли, к вещам, где скрывается исполнение их желаний. Игра — великое междудействие. И сам Меркуцио — фигура междудействия, юные сны Ренессанса и разрушение из веков переданных традиций. В Меркуцио соединяются скепсис и поэзия,— Шекспиру уже было известно это соединение, оно и в самом Меркуцио и в его монологе о королеве Меб. Поэзия Меркуцио совмещается со скепсисом, и она существует вопреки скепсису. Поэзия и красота могут — и так у Меркуцио — явиться в оболочке отрицания и даже всеотрицания, временного, ибо Меркуцио отрицает не одни наследственные ценности, он покамест недоверчив и к выдающим себя за открытые впервые.
О Меркуцио много и часто писали, как об одном из шекспировских «характеров». Нужно предостеречь, что у Шекспира отсутствуют «характеры» в их обыкновенном смысле, присущем последующей литературе. Психологическим исследованиям ради них самих Шекспир не предается. У него нет и обособления; здесь эпоха, там ее люди, здесь причины, там следствия. Люди у Шекспира прямое, без пропусков, без зияний продолжение эпохи, ее сил, ее стихий. Люди — они же и эпоха, ее концентрация, ее ипостаси, ее направление и ступени. У Шекспира мы читаем историю наций и человечества в ее живых лицах. Если угодно говорить о следствиях и причинах, то у Шекспира причины в следствиях своих помещаются всецело, входят в них без остатка, силы эпохи есть также и человеческие лица, ими изнутри построены эти лица.
Так как Ренессанс положил начало обществу и культуре нового времени и так как Шекспир глубоко овладел этим началом, то у Шекспира мы находим удивительные прообразы и предугадывания. Есть явления, полу-
16
чившие свою законченность у Шекспира много раньше, чем это произошло в реальной истории Европы. Шекспир предугадывает стили людей, стили художества и стили мысли. Яго у Шекспира —прообраз будущих доктринеров эгоистической пользы; грубо-прозаическая, презрительная к красоте картина мира прокламируется этим человеком, который был как бы Гоббсом прежде Гоббса. От Гамлета, .принца датского, исходит некоторое веянье, предвещающее картезианство и спинозизм, очищение страстей и проповедь умственного созерцания как высшего человеческого дара. Принц датский, вероятно, нашел бы некоторое успокоение, будь ему позволено зарабатывать свой хлеб шлифовкой оптических стекол, как это делал Спиноза. Вероятно, Гамлет хотел бы, как Спиноза, оставаться незамеченным среди современников и свести свой обиход к переписке с двумя-тремя умами дома у себя и в Европе. А ради Меркуцио надо глядеть дальше, в очень поздний век. Можно было бы сказать, что в нем предсказан человеческий и умственный тип Генриха Гейне, поэта, окружающего поэзию колючей изгородью, сатирика и полемиста против спорных ценностей ради сохранения избранных, бесспорных, тоже находящихся под угрозой фальсификации и загрязнения. Если внести в текст поправки на манеру XIX века, то монолог о королеве Меб — одно из будущих стихотворений Генриха Гейне.
Из акта в акт в трагедии Шекспира слышен этот звук проснувшихся с Ренессансом человеческих сил. Все стали человеческими личностями, у каждого своя активность. У Шекспира можно найти и большие и меньшие роли, но глухих ролей нет. Каждый персонаж наделен способностью самоутверждения, каждый жив, у каждого свое,— «каждый человек в своем юморе» — как называется, одна из пьес Бена Джонсона. Увеличился объем общественной жизни, так как каждый считается, аннулированных нет. Какой-нибудь персонаж мелькнет, и все же он был, он проявил себя. Когда накрывают столы в доме Капулетти (акт I, сцена 5), один из слуг говорит другому: припрячь марципан, это для Сюзен и для Нелли, пусть привратник впустит их. Какая-то из них Джульетта этого Ромео, марципан — знак нежности. Любовь имеет и тех и этих героев, говорит на разных наречиях, лакомства, взятые с господского стола, могут посредничать в любви. Боккаччо задолго до Шекспира рассказал
2
о поваре Кикибио, который отрезал бедро у жареного журавля, приготовленного к господскому ужину, и так угостил незаконно свою милую, — из этого эпизода Боккаччо развил целую новеллу («Декамерон», VI, 4).
Люди у Шекспира идут своими путями. Новости одного не скоро станут новостями другого, а то и никогда не станут. Страсть Ромео и Джульетты в полном развитии, а Меркуцио все еще твердит о любви Ромео к Розалинде (II акт, сцена 1) после сцены между Ромео и Джульеттой в саду. У каждого свой день, своя собственная ночь, каждый видит небо по-своему, сколько людей — столько же восприятий, разновидностей того же ландшафта. Меркуцио говорит другу, что ночь сырая, что ему хочется поскорее домой, в свою удобную постель (акт II, сцена 1). Это ночь первого свидания Ромео и Джульетты, для них обоих волшебная. Меркуцио сетует на сырость и высказывается как прозаик возле дома Капулетти, у ограды сада. За оградой — другая ночь, поэзия Ромео, поэзия Джульетты. Пейзаж у Шекспира создается совместно с людьми, входящими © пейзаж, пребывающими 'В нем; пейзаж нуждается в содействии человеческих душ, в их соучастии. Есть один пейзаж и есть два мнения о нем, два чувства. Как это свойственно манере Шекспира, образ пейзажа обогащается и колеблется, предложен выбор, нужно выбрать, что глубже и вернее, догматы отсутствуют.
Впечатление многонаселенности драматических произведений Шекспира зависит не только от того, что список действующих лиц очень длинный, длиннее, чем у драматургов античности и классицизма. Важнее всего, что никто не сводится к одним сюжетным функциям, всякий персонаж существует еще и для себя и по себе. И это не все. Мы имеем дело со своеобразным умножением персонажа. Он представлен еще и в своих отражениях, каким его видят другие. Есть Тибальд собственной персоной, есть Тибальд, описанный Меркуцио (акт II, сцена 4), — отличный портрет, где все сокращено и согнано в одну точку. Портрет — дополнительный образ и самого портретиста. Когда Меркуцио рисует нам Тибальда, то виден и этот забияка, виртуоз убийств по Всем правилам фехтования, виден и сам Меркуцио -с его ненавистью гуманиста к виртуозам этого порядка. Текст Шекспира полон отражений персонажей и их взаимоотражений, это как бы маски и слепки, которые предшеству-
18
ют лицам, добавочные души, сверх воочию известных и исчисленных. То же с событиями. Они удваиваются, они сначала показаны, а затем еще кем-то рассказаны: донесение Бенволио о битве слуг (акт I, сцена 1), его же донесение о гибели Меркуцио и Тибальда (акт II,,сцена 1). Происходит игра событий и версий о них, игра персонажей и откликов по поводу персонажей. События и персонажи становятся проблемой, образ их не сразу и без споров вырабатывается. Жизнь у Шекспира ищет своей свободы, как художник он поиски эти поддерживает.
Самоутверждение — порыв настолько всеобщий, что он захватывает и людей старого закала. Кормилица — персонаж происхождения патриархального и даже допотопного, а чувствует он себя у Шекспира по-новому. Артур Брук в своей поэме уделял няньке Джульетты немало внимания — и страсти ее к денежным подаркам и наивной низменности мыслей. Как Брук, так и Шекспир ценит доброту няньки к Джульетте, доброту, не препятствующую тому, чтобы эта старая женщина была весьма занята собою и ролью своей среди окружающих. У Шекспира она выступает крупно и всегда старается занять несравненно больше места, чем это ей назначено движением событий. Дважды она томит и мучает Джульетту, когда та ждет от нее известий. И один раз и другой кормилица, сколько позволено и не позволено, тормозит свой рассказ: если она принесла важные известия, то, значит, не менее важна она сама и пусть как должно восчувствуют это. Она тянет и тянет с предисловием к своему рассказу и так создает пространство, в котором достойным образом хочет поместить самое себя. В сцене на улице, посланная разыскать Ромео, торжественная, с веером в руках, со сподручным слугой, который тут же, она ведет себя как особа первейшего ранга. Таковы внешние признаки, и они соответствуют внутренней сути этого персонажа. Женщина эта как бы мобилизовала все свои внутренние возможности. Подсобное лицо на женской половине дома, она не сомневается, что своими навыками и опытом может освоить все происходящее и на другой половине его, может освоить весь мир. И духовное, и высоконравственное, и поэтическое — все она подводит под уровень своего понимания, давая советы и наставления Джульетте. Знает она только жизнь женского тела, производящего и кормящего, но этого с нее довольно, чтобы с этой точки зрения судить о всех
19
предметах. Все получили уверенность в самих себе, все стали универсальны. Кормилица — тоже, по-своему. Кажется, это старое амплуа няни и наперсницы подошло к самым своим краям и вот-вот перельется, так оно переполнено собственным своим содержанием, так небывало вдохновилось им. Кормилица как бы играет собственной своей ограниченностью — знает, что наступили новые времена и ограниченность кончается. Из истории экономики нам известно, как люди со старыми хозяйственными навыками, патриархальными или феодальными, старались, оставаясь самими собой, все же занять место в экономических отношениях нового времени. Нечто комически сходное совершается и в нравственном мире. Кормилица — один из шекспировских примеров. Эту роль, в которой с особой навязчивостью обозначен пол, на шекспировской сцене, как и все женские роли, исполняли мужчины. Вероятно, этим усиливались игровое начало и юмор.
Игра жизненных сил в трагедии Шекспира — разложение старых отношений и примерка новых, проба, смена черновых в поисках наилучшей беловой. Мы находим в готовом тексте Шекспира известное нам по брошенным листам художников Возрождения, где несколько раз, с возрастающей верностью, прорисовано согнутое колено или же дано пол-лица и лицо не закончено, так как вкралась ошибка, и тут же рядом рисунок лица повторен и доведен до конца, на этот раз соответственный замыслу. Игра и вариации у Шекспира не являются мастерской или архивом художника. Они присутствуют в окончательном тексте, ибо воспроизводят работу самой реальной жизни, тоже пробующей, тоже не сразу приходящей к решению. Каждая фигура у Шекспира имеет собственную законченность и только соотносительно с другой, с другими она получает значение эскиза или варианта. Историческая эпоха вырабатывает самое себя, в лицах своих она имеет те или другие свои варианты, где равноправные, где нет. Одно лицо может оказаться только подступом к другому. Тот поваренок, поклонник Сюзен или Нелли, только беглый и комический эскиз к любви Ромео и Джульетты. Меркуцио и Бенволио — вариации, равноценные или почти равноценные теме самого Ромео.
Стихия игры, смысл ее очевидны в каламбурах, в остротах, к которым столь пристрастны люди у Шекспира.
20
Меркуцио весь унизан каламбурами, каламбур —это он сам. По примеру словесного поединка между Меркуцио и Ромео (акт II, сцена 4), одно и то же слово не однажды выворачивается наизнанку, ставится то на одно ребро, то на другое, опробуется с разных своих сторон и в разных связях. Нет неприкосновенных слов и нет неприкосновенных понятий, все проверяется, должно пройти через искус пародий и (бесцеремонного к себе отношения.
В том, что игра у Шекспира может явиться неким действом, предваряющим трагедию, в этом скрыто самое глубокое основание, почему у него трагедия и комедия родственны друг другу и почему в трагедию вносятся у него комические эпизоды и фигуры. Обе рождаются из стихии игры и только потом расходятся в разные стороны. Из игры, из проб игры как лучший исход возникают возвышенные и прекрасные люди, подчиняющие себе игру, а то и исключающие ее из своего уклада. Когда же игра остается необузданной, когда из нее выходят незаконченные экземпляры человека, претендующие на законченность, когда решение, приносимое игрой, — бракованное или полубракованное, то это дает комедию. Кормилица — комедийный и побочный продукт игры, пробовавшей разные направления и нашедшей главное, на котором сама игра оттесняется и возникает трагедия Джульетты и Ромео.
Конечно, Ромео пришел с площадей и улиц юной Вероны, из неслучайного для него общества Меркуцио и Бенволио, из пены морской их выходок, шуток, нравственно его родившей. Веселая дружба с ними — предварение возвышенной любви, героем которой он станет. Истолкователи немало спорили по поводу Розалинды, предшественницы Джульетты, зачем и почему сначала введена любовь Ромео к Розалинде. Мотив Розалинды смущал уже в XVIII веке. Актер Гаррик, играя трагедию, вовсе вычеркнул Розалинду из текста. По поводу Розалинды ответ ясен: «Розалинда подсказана всем стилем Шекспировой трагедии. Розалинда — первый эскиз влюбленности Ромео, после чего последует влюбленность подлинная. Август Шлегель в известной своей статье о трагедии Шекспира писал, что вторая влюбленность Ромео собственно и есть его первая[4]. У Шекспира многое
21
не обрисовывается сразу же. Нужны приближения и приближения. Нужиы набег за набегом, чтобы прийти к подлинному и окончательному. В трагедии Шекспира жизнь развивается волнообразно.
Верона юных друзей — положительная экспозиция к истории Ромео и Джульетты, как Верона с ее раздорами и враждой родов — экспозиция отрицательная. От юной Вероны в пьесе вдохновляющие мотивы, от Вероны междоусобиц — препоны, которые в конце концов смертельны.
Внутренняя тема всей предварительной игры Ренессанса, изображенной в трагедии,— совершенство и правильное развитие человеческой личности. Тема решается в истории любви. По Шекспиру, человек может найти собственную личность только через другого,— через другую. Любовь — высшая форма такого самораскрытия. Нужен отказ от внешних атрибуций личности, отказ с обеих сторон, чтобы люди познали друг друга. «Зачем ты зовешься Ромео»,— говорит ему Джульетта в первой ночной сцене. И дальше: «Ведь ты останешься самим собой и не именуясь одним из Монтекки. Что такое Монтекки? Это не рука и не нога, это не лицо или какая-то иная часть, относящаяся к человеку». Совлечение с себя фамильного имени, положения — это и акт утвердительный, не только негативный. Устраняется все, что не есть ты сам. Люди предстают друг перед другом в человеческой своей наготе. Ренессанс смотрел оптимистически на имена и положения, он считал их чем-то внешним, в сердцевину личности не вошедшим. Они и были тогда такими, исторически износившимися, в драмах и в новеллах Ренессанса их сбрасывают, как чужое платье, надетое по ошибке.
Любовь Ромео и Джульетты — чудо глубочайшей взаимности. В сонетах Шекспира, которые по справедливости принято сопоставлять с этой трагедией, предстает совсем иное. Они написаны от личности сильной и богатой, глубоко сидящей в жизни, и они едва ли не сплошь, едва ли не подряд меланхоличны. К каким бы лицам ни были они обращены, всюду мучения взаимности неполной, проблематической, непрочной. Тот, от кого исходят сонеты, их постоянный герой собственно молит, чтобы его признали,— как государство признает другое государство. Как ни интенсивно его существование, этот герой остается темным, он есть и его нет, он нуждается,
22
чтобы его осветили любовью, в которой ведь содержатся санкции для его личности, утверждение ее извне. Самосознание недостаточно, сознание и признание других необходимо для жизни действительной вполне. Позднее Шекспир изобразит, как Отелло живет признанием Дездемоны, «санкциями», полученными от нее. Изобразит и Гамлета, который может получить свое признание от Офелии, но оно не ценно, Офелия бедна и мала для Гамлета. Признание стоит чего-то, если обе стороны поднимаются рост в рост, а это и происходит в истории Ромео и Джульетты. В сцене в ночном саду Ромео говорит о цветении своей души — «Sothrive my sonl». Но и Джульетта в любви уже не та, какой была еще накануне. Также и она узнала свой расцвет, быстрый и бурный. Полнейшая взаимность,— следовательно, нет и тени порабощения и рабства, против чего не смеет, но хотел бы роптать герой сонетов. Любовь Ромео и Джульетты — освобождающая. Каждый из них как бы получил от другого в дар самого себя. Это выражено как особый дар речи, вдруг присущий им обоим,— речи литературной и лирической. Даже о своем расставании они говорят с подъемом мысли и воображения, с удивительной находчивостью в тропах, в сравнениях. Метафоры, уподобления выхватываются изо всех уголков мира и сознания. Ромео вспомнил детство и школьную скамью, Джульетта—птичку на шелковой привязи, которую тянет к себе обратно девушка, решившая выпустить птичку на волю и все-таки взревновавшая к этой воле. Для Ромео, для Джульетты в эти минуты все освещено и все доступно, какой угодно период человеческой жизни, и то, что сейчас перед глазами, и давно минувшее, и крупное и малое, и живое и неживое, разница между которыми пропадает. В них заговорил талант любви, в их речах та игра жизни, которая теперь совсем иная: они не бродят, не волнуются неясно, так как не знают собственной цели, напротив того, цель найдена, самое серьезное, самое главное в их власти, и именно поэтому они могут отходить от цели, играть с нею, представляться, будто потеряли ее,— ведь каждую минуту им позволено снова вернуться к ней. Через одну сцену Ромео встретится с Меркуцио и впервые позволит себе втянуться в каламбуры Меркуцио, поддаться его озорному настроению. Этого не было, покамест Ромео воображал себя влюбленным в «хладную Диану» —в Розалинду. Им овладел
23
под наитием Джульетты тот юмор, который Достоевский называл «остроумием глубокого чувства»[5].
Сцены первого и второго свидания Ромео с Джульеттой находятся под неслабеющим влиянием ночного пейзажа. Ночь идет, и оба они слышат и видят, как движется ночь, как меняются краски неба, как месяц серебрит верхушки плодовых деревьев в саду, как голос ночной птицы — соловья уступает голосу птицы утра — жаворонку, но тут между Ромео и Джульеттой возникают споры. Природа у Шекспира, конечно, не есть декорация. Природа — первооснова. Она объявилась обоим влюбленным. Ромео и Джульетта нашли самих себя, нашли свою первооснову, и поэтому они как бы прорастают до первоосновы всех вещей. Природа принимает обоих, укореняет их. Любовь Ромео и Джульетты — исполнение закона. Шекспиру неведомо будущее раздвоение классицизма: здесь страсть, там долг. По Шекспиру, страсть и есть долг, могучее указание, в чем состоят закон и долг. Ромео и Джульетта заодно с природой, им покровительствует природа, следовательно, оба они живут и поступают как должно, как им предназначено. Это проявляется в героизме их любви: героизм предполагает внутреннюю опору. Лиризм любви у Шекспира сочетается с внутренней ее стойкостью. Трагедии о Ромео и Джульетте свойственны истинно шекспировские сочетания сладостного и героического.
Один из современных шекопиристов — Н. В. Charlton — полагает, что «Ромео и Джульетта» — трагедия, построенная на случайностях[6]. Иначе говоря — на том, что подлинным трагическим стилем исключается. Charlton называет «Ромео и Джельетту» художественным экспериментом и думает, что лишь талант позволил Шекспиру создать трагедию на столь сомнительных предпосылках. Конечно, все это чистейшие недоразумения. Талант не есть счастливое заблужение, как допускается при таком истолковании. Произведение от начала до конца великолепное, — а таким является трагедия о Ромео и Джульетте,— могло возникнуть при условии, что талант-гений Шекспира последовательно угадывал, в
24
чем содержатся закономерности жизни, а в чем нет.
Сохранись ложная предпосылка этого шекспириста, Шекспиру могли бы блеснуть счастье и удача по отдельным частям и частностям, а произведение как целое оказалось бы косым и неверным.
Случайностью у Шекспира представлена только первая встреча Ромео и Джульетты: Ромео является на бал в доме Капулетти ради Розалинды и знакомится с Джульеттой, которая и оказалась его судьбой. Случай свел Ромео и Джульетту, но в самой их любви нет ничего случайного. Только по контексту быта, официальных отношений любовь Ромео и Джульетты остается случайностью и подлинных прав не имеет. Все напряжение трагедии в том, что Ромео и Джульетта не могут, не хотят довольствоваться случаем и его правами, точнее говоря — бесправием. В них обоих заложен закон, хотя и не принятый во внешнем мире. Там господствует закон, совсем иной по содержанию и смыслу. У Ромео и Джульетты — закон человеческой личности, у окружающих — закон имен и внешних положений. Борьба Ромео и Джульетты за себя, за свою любовь — борьба закона против закона. Один образ жизни, еще далеко не ставший историческим, сталкивается с другим, который историчен издавна, веками и только меняет свои формы.
Н. В. Charlton, если вернуться к нему, смешивает Шекспира с его источниками. Новеллисты Ренессанса действительно поклонялись случаю и не имели ни малейшей склонности выходит за его пределы. Сама новелла по жанровой своей природе была записью случая или цепи случаев. Артур Брук, прямой предшественник Шекспира по фабуле Ромео и Джульетты, в поэме своей постоянно взывает к фортуне, она же высший судья в делах человеческих. Новелла соответствовала Ренессансу на первых ступенях его. Буржуазная по своему пафосу, она до поры до времени совпадала с тем, что вообще доступно было по историческим условиям. Новелла занята интересами отдельного индивидуума, — как может он устроить собственное счастье в недрах распадающегося средневекового мира. Случай — та внезапно образовавшаяся трещина, та брешь, через которую индивидуум может прорваться.
Собственно, устроение индивидуума навсегда осталось главной фабулой буржуазной литературы. Но Ренессанс, подымаясь со ступени на ступень, стал обго-
25
нять литературу, буржуазную по смыслу и характеру. Средневековье все более отступало, водворялось общество, по-новому устроенное. Человек овладел случаем, что же дальше? Возьми от случая, что позволено и сколько можешь, уклонись от новых колебаний фортуны, учила буржуазная новелла. У Шекспира совсем иное понимание человеческой личности, а следовательно, и ее путей в жизни, чем у традиционных новеллистов. У Артура Брука, у всех прочих авторов, до Брука и до Шекспира писавших историю Ромео и Джульетты, любовь — это разговор плоти с плотью: Ромео и Джульетта были оба молоды и красивы, нравились друг другу и поэтому хотели плотского союза — так у Брука, так у всех писавших на этот сюжет прежде Брука. Новелла ведала и чрезвычайность страсти, но писала об этом как о философском и психологическом анекдоте, заслуживающем особых размышлений. Рождение личности через любовь и высота страсти, соразмерная с высотой этого рождения, — тема характерно-шекспировская. В трагедии Шекспира речь идет о целостном человеке, не об отдельных его интересах, «аппетитах», как называла их эпоха. Отдельно взятые интересы — в той или иной степени случайность по отношению к самой человеческой личности. Если она только и ценит случайное в своем внутреннем мире, то, не колеблясь, примет она случайное и в мире внешнем, — у личности нет собственного противовеса, нет подлинного критерия. Философы буржуазного общества так часто ставили вопрос о «свободе воли» — отдельных актов и отдельных поступков человека — и так редко о свободе человека как целостного существа. Шекспир, для которого человек целостен, не соглашался на какие-то временные и случайные убежища для него, на свободу от случая к случаю. Целостному человеку нужен целый мир. В человеке лежит закон, нельзя допустить, чтобы вне человека господствовала фортуна. Когда Шекспир включает своих героев в целый мир, уже до них и без них обозначенный, то это не делается с целью подготовить для героев ловушку и западню. Есть вещи, не входящие в кругозор героев, из чего не следует, что это вещи лишние для них, что только насильственно могут они вступить в связь с героями. Напротив того, за кругозором этой минуты, этого часа могут находиться и, конечно, находятся вещи, нужные героям, внутренне обязательные для них, составляющие условие человече-
26
ского бытия и процветания. В конце концов в этом смысл всего большого мира, в котором герои живут, далеко не всегда зная о нем. Большой мир рано или поздно проявляет над героями свое значение и власть. Он мог бы служить дружеской силой для них, и так часто он на деле становится силой вражеской. Участь героев Шекспира тогда тем трагичнее. В большом мире лежат поля, пастбища и колодцы для них, и вот они отрезаны от полей и пастбищ, колодцы отравлены или засыпаны. Своим героям Шекспир проповедует всемерное расширерение[7] жизни. Таков смысл и первых семнадцати сонетов Шекспира, обращенных к юному другу. Ему преподносится совет жениться, его увещевают произвести потомство, — надо, чтобы красота его закрепилась в жизни, нельзя оставаться прекрасным и удивительным исключением, надо положить начало правилу, надо распространить себя на дальние поколения, завоевать через них время и пространство.
Все прекрасно в обеих сценах свидания Ромео и Джульетты. Но уже в первой из них присутствует некоторый гнет. Есть простор, но есть и теснота, есть полная жизнь и есть ущерб. У влюбленных договор с космосом, в котором ощутим оттенок заговора против публичной жизни. Космос им благоприятствует, но тут же за окнами дома спят люди, которые все — враги. Во второй, предутренней сцене, уже гораздо явственнее даны неполнота и мрак. Любовь и личность воплотились, и все же от одной сцены к другой растет тоска неполного воплощения. На картине Боттичелли Афродита воплотилась, она стоит в волнах обнаженная и прекрасная, дуют ветры, развевают ее волосы, у ног ее раскрытым веером лежит выпустившая ее раковина, а с берега к Афродите устремляется женщина с богатым, пышным покрывалом, готовая принять ее, для воплотившейся уготовано укрытие, человеческий быт и тепло быта. Ромео и Джульетте, новым людям, быть может, и дано воплощение, но бытования им не дано. Значит, и воплощение их отчасти мнимое, неокончательное.
Шекспир расположил тему Ромео и Джульетты на нескольких осях. Драматическая экспозиция не относится у Шекспира к одному только ходу событий. Внутренние идейные темы тоже имеют свою экспозицию, внутреннее значение как бы набирается — со всех сторон. Одно направление темы любви в физиологических
27
шуточках кормилицы, в ее толковании любви как грубого удовольствия, в ее потакании всему плотскому. Другое направление — первая влюбленность Ромео, его воздыхания о Розалинде, выспренняя устремленность к ней. У няньки Афродита земная, здесь Афродита небесная. Есть еще третья: Афродита цивильной жизни, брака и семьи, и она представлена графом Парисом, который честь-честью через родителей Джульетты сватается к ней. Как каждое из этих начал, так и начало цивильное представлено в чистом виде. Парис по-своему любит Джульетту, однако столь патриархально действует через старого Капулетти, избегая прямого обращения к самой невесте, что вызывает у Капулетти удивление — старик был расположен к вольнодумству в то утро. В любви Ромео и Джульетты направления скрещиваются, и простое и духовное, и материальная любовь и возвышенно-героическая. Причем смысл каждого из направлений существенно изменился: духовное стало великой действительностью, тогда как в период Розалинды было оно пустой спиритуалистической выдумкой, Сочиненным переживанием, а плотское приобрело благородство, и намека на что не содержалось в вульгарно-игривых речах кормилицы. Каким поэтически прекрасным стало плотское, об этом говорит вторая сцена свидания Ромео и Джульетты, где чувственность совмещается с удивительным целомудрием. Итак, два направления любви подвластны Ромео и Джульетте. Однако же направления в гражданскую жизнь любовники не получили, того направления, которым владеет граф Парис. Оба сделали, что было возможно—тайно обручились в келье Лоренцо. Конечно, дело не в каких-то брачных оформлениях, сами по себе у Шекспира они ничего не значили. Но цивильная форма дает выход к людям, в большой мир. Тайный брак ничего не решает, нужно, чтобы именно тайна была снята с любви. В сонетах Шекспира мучения любви отчасти происходят оттого, что любовь здесь тайная, что любовника, очевидно, принимают с черной лестницы. Ренессанс и Шекспир не ценили тайны, не ценили уединенного чувства. Им нужно было, чтобы двери и окна были открыты, чтобы был свет, была гласность. Сама любовь ценилась не только как любовь, но как вдохновенное напутствие ко всем делам жизни, о чем уже в «Тщетных усилиях любви», первой по времени комедии Шекспира, говорится достаточно внятно. То исподволь гне-
28
тущее чувство, которое неустранимо в высоких поэтических сценах «Ромео и Джульетты», без спору связано с обстановкой тайны, воцарившейся здесь. Любовь здесь заперта в собственной своей сфере или будет заперта. Ее предположительно окружает сегодня и уж наверное окружит завтра море вражды. Давно замечено, что предутренняя сцена между Ромео и Джульеттой имеет свои аналогии в старинной лирике, в провансальской альбе, в немецкой утренней песне, — точнее: песне наступающего дня, об этом написано специальное исследование[8]. В этих лирических песнях женщина удерживает, возлюбленный спешит, между ними ведется спор, это ли ночь все еще продолжается или же наступил рассвет, опасный для обоих. В альбе трактуется любовь с чужой женой, в немецкой песне героиней может быть девушка. И тут и там различий нет, речь идет о любви сокрытой, боящейся огласки, подстерегаемой мстителями и карателями. Ромео и Джульетта, венчанные у Лоренцо, свой брачный диалог ведут под знаком альбы или утренней песни — уже это одно кладет на их отношения тревожную тень. Есть еще одно оттенение глубокой, фатальной нелегальности этого брака — оттенение комическое, со стороны кормилицы. В своей статье Август Шлегель говорит о ней: «Ей доставляет несравненное удовольствие пестовать брачные отношения, самое интересное, что она только знает в жизни, как если бы это были запретные любовные дела»[9]. Кормилица ведет себя при этом браке, как сводня, — как честная сводня, поправляет Август Шлегель в той же статье и на той же странице.
В трагедии Шекспира важны даты. Он заметно отступает от дат в поэме Артура Брука. По Бруку, история Ромео и Джульетты длилась пять месяцев (слова патера Лоренцо, стих 2051). У Шекспира — чуть больше, чем четыре дня. У Шекспира не было склонности сжимать драматическое время. Здесь оно сжато, не по соображениям драматической формы. Четыре дня Ромео и Джульетты означают краткость их счастья, означают, как велик и обширен был фон беды, обступившей их. Четыре дня отмечают, сколько было ими завоевано и сколько осталось во вражеских руках. Косвенным обра-
29
зом это призыв к распространению — четыре дня, как это мало, как надо бы идти дальше и дальше. Огромная страсть Ромео и Джульетты требует для себя всю бесконечность времени и пространства. Четыре дня — трагическая диспропорция изнутри необходимого и вовне осуществленного. У Брука вялая, нейтральная, бытовая цифра. Трагическая цифра Шекспира — призыв к восстановлению внутреннего права, так грубо разрушенного внешним миром.
По Бруку, Джульетте — шестнадцать лет, по Шекспиру, — неполных четырнадцать. В трагедии Шекспира (акт I, сцена 2) есть попытка оправдать возраст Джульетты-невесты нравами Италии, мать Джульетты напоминает дочери об очень раннем своем замужестве, указывает дочери на свой пример. Однако же нет оснований думать, что Шекспир стремился к бытовой точности. Он нигде не поправляет и не дополняет Брука по части бытовых подробностей, на которые тот не скупится. Дата Джульетты у Шекспира тоже трагическая, ее надо сопоставить с датой самого романа Джульетты и Ромео. Четырнадцать лет — это художественный образ. Тут наглядно представлено, сколько пройдено Джульеттой по жизни, сколько не пройдено, сколько у нее отняли непрожитых лет. У Брука в конце поэмы, в сцене у гробницы, говорится о преждевременных смертях Тибальда, Ромео. Шекспир все это опустил, тема же эта у Шекспира сохранилась. Четырнадцать лет Джульетты — выражение оскорбительного дележа; как мало досталось жизни, как много осмелилась взять себе смерть, сколь многое она украла. Четырнадцать лет Джульетты — тоже предъявление иска.
В речах Джульетты и Ромео есть поэтические тропы, есть сравнения, которые повторяются и перекликаются. Они говорят о том же: какой черной бедой окружены они даже в самые прекрасные свои минуты, как издалека предчувствуют ее. Ромео сказал о Джульетте, когда он впервые увидел ее: она сияет в темной ночи, подобно драгоценной серьге в ухе эфиопа, это красота, слишком богатая, чтобы пользовались ею, слишком дорогая для жизни на земле (акт I, сцена 5). Джульетта, поджидая вестей о Ромео, называет Ромео днем среди ночи, белейшим снегом на оперенье ворона (акт III, сцена 2). И, наконец, последнее: когда под утро по веревочной лестнице Ромео спускается из окна Джульетты, та говорит, что
30
он спустился, ей кажется, на дно могилы (акт III, сцена 5).
Ромео и Джульетту соединил случай, все было подобно «молнии», по ее же словам, и как оба они ни рвутся за черту случая и случайности, случай по-прежнему ограничивает их. Фактическая сила закона на другой стороне. Любовь Ромео и Джульетты небывало превзошла повод к ней, но она не может отделиться от повода. Случай не в состоянии ее питать, ей нужна другая основа, которую она более чем заслужила и которой нет. Любовь так и остается во власти случая, несмотря на все ее внутреннее сопротивление, и отсюда эта черная кайма вокруг любовных сцен. Ромео и Джульетта находятся во вражеской среде, и та, конечно, не замедлит перейти к действию,— да она и действовала не переставая. Сватовство Париса, затеянное еще в первом акте, продолжается и в третьем, когда Ромео и Джульетта уже стали тайно мужем и женой. Установленный порядок жизни совершается, не глядя на все попытки уклониться от него, — через головы уклоняющихся. Его мелодия, приглушенная то более, то менее, присутствует и во всех эпизодах, высоколирических и трагических. Ночная сцена в саду: трижды из-за сцены кормилица кличет Джульетту, трижды быт отзывает ее, проникая в любовную патетику. Голос кормилицы — это еще ласковый голос быта. Акт четвертый, сцена четвертая: у себя в комнате усыпленная Джульетта, наступило подобие смерти, и в доме Капулетти ночь превратили в день, идет возня кухонная, печная, таскают дрова, стряпают, готовятся к свадьбе Джульетты и Париса. Здесь быт, мнимо-невинный, по контексту — злобная сила. И завершение всему в том же акте, в сцене пятой, когда являются музыканты от графа Париса,— музыканты к свадьбе с мертвой невестой. Бытовая партия развивается и развивается по собственному своему ключу, каждый раз причиняя партии героической и лирической все более глубокие повреждения и даже не ведая о них. На первом месте, разумеется, дела общего значения. В Вероне, в Италии, в эпохе держится и всякий раз побеждает закон положений и имен, закон вражды, принуждения и насилий. Поэтому ничто не может отменить претензий графа Париса и тирании старого Капулетти. Тот грубейшим образом бранит Джульетту, отвергающую домогательства Париса, и заносит руку на нее. Быть может,
31
это самое явственное выражение того, насколько внутренняя эволюция жизни бесплодна и бессильна там, где царствует традиционный быт. Мы знаем, чем стала Джульетта к четвертому акту, мы знаем душу, ум, характер, проснувшиеся в ней. А Капулетти обходится с ней — драгоценной и необыкновенной — как грубиян, неуч и насильник. Если бы он велел ломать скрипки, отнятые у свадебных музыкантов, и топить ими печь, то это был бы поступок сходного значения.
Уличная схватка Тибальда с Меркуцио и Ромео, окончательно повернувшая события в худую сторону, показывает, что вражда неугасима и пользуется всяким поводом, чтобы разгореться вновь. Шекспир не подчеркивает архаичности родовой междоусобицы Монтекки и Капулетти. Нет впечатления, что вражда — старый порядок жизни, а любовь — новый. Скорее, это две силы, принадлежащие тому же новому времени. Родовая вражда как таковая давно выдохлась, поводы к ней забыты, в первом акте старый Капулетти настроен примирительно. Форма вражды потеряла свое оправдание, но сама вражда сильнее и живучее, нежели та или иная форма ее. Когда писалась трагедия о Ромео и Джульетте, у Шекспира еще не было столь ясных представлений о внутренних коллизиях своей эпохи, как во времена «Отелло», например. Он еще не видел с полной ясностью, что и он сам, детище культуры Ренессанса, и его любимые герои, тоже детища ее, оказались в отчуждении. Ренессанс произвел исподволь людей по-другому направленных, реальными хозяевами положения выдвинулись буржуазные силы, и они-то сместили гуманистов, артистов и героев. Одно из важнейших и горчайших переживаний зрелого Шекспира: любимый сын эпохи, он стал себя сознавать ее же пасынком, люди с периферии эпохи вторглись в центры ее и вытеснили оттуда Шекспира с его друзьями. Трагедия о Ромео и Джульетте — приближение к этому переживанию. Ромео, и Джульетта поднялись на большую человеческую высоту, и именно поэтому они притягивают к себе силы противодействующие. Почва Ренессанса их родила, и они не могут вернуться к ней, лучшим возможностям эпохи не дано отстоять себя в качестве ее реальностей. Ромео и Джульетта — любовь, внутреннее отношение человека к человеку, утверждение одного через утверждение другого. Их губит порядок жизни, где закон — вражда, где все отношения —
32
внешние, где всякий нечто значит, действуя против кого-то другого, против остальных. Шекспир взял фабулу со старыми феодальными раздорами, которая в общих чертах ложилась и на антагонизмы, внутри присущие эпохе.
История крушения и гибели Ромео и Джульетты, попыток их спасти представлена у Шекспира очень близко к тому, что он нашел в источнике, а по духу вполне своеобразна. Сравнение Шекспира с другими рассказчиками фабулы о Ромео и Джульетте весьма поучительно для понимания судеб литературы нового времени. Как принято считать, Шекспир черпал прямо из Брука. До поэмы Брука о Ромео и Джульетте рассказывали Мазуччо, Луиджи да Порто, Банделло, Буато[10]. Каждый в чем-либо совершенствовал свой рассказ, все заботились о большем реализме. Все они — до Брука включительно — оставались внутри интересов героев, следили за их инициативой, не покидали их точки зрения, пытались как бы снова повторить путешествие через океан на том же плоту, которым герои пользовались в свое время. Никто не пытался взглянуть на малый мир героев из большого мира, как это сделал Шекспир. Поэтому у новеллистов нет интерпретации истории Ромео и Джульетты в целом, они стараются усилить правдоподобие каждого эпизода в отдельности, все же эпизоды, вместе взятые, остаются под знаком «фортуны», целое — иррационально, мотивировки эпизодов, взятых порознь, иррациональности целого не устраняют и устранить не могут. Луиджи да Порто первый ввел мотивировку враждующих родов, у Мазуччо, у которого герои еще носят другие имена — Мариотто и Джаноцци, — оставлено неясным, что именно препятствовало им соединиться обыкновенным браком. В новелле Луиджи да Порто присутствует весь почти состав подробностей. Банделло должен был довольствоваться дальнейшим их расщеплением. У да Порто вестник, посланный к Ромео, запаздывает. Банделло сообщает, почему запаздывает: вестник в Мантуе, в монастыре св. Франциска, ищет провожатого, но один из братии умер, подозревают, что от чумы. Банделло дает подробности подробностей: на животе у монаха опухоль величиной с яйцо. Посланца задерживают, так как на монастырь наложен карантин.
33
Артур Брук, собственно, написал роман, его поэма о Ромео и Джульетте любопытнейший опыт большой формы в буржуазной литературе, идущей от малых форм — от новеллы. В шекспировской литературе принято о Бруке отзываться свысока и нехотя. Между тем у Брука был свой талант и были даже свои тонкости. Его упрекают в длиннотах. Они происходят не столько от неумения, сколько по принципу. Удлинение — метод Брука. Он тоже весь внутри эпизодов, наделяет героев эгоцентризмом и разделяет его с ними. Личные дела — это все, он ни на шаг не отдаляется от них. Все причудливые обороты судьбы Ромео и Джульетты пересказаны у него. Он и не пытается уяснить, отчего и почему у судьбы причуды. Реализм Брука, тот, что Брук старается обставить причуды великим множеством бытовых деталей. Предшествуя будущей буржуазной литературе, он охотно мирится с иррациональными основами событий. Дело его—«е трогая иррациональностей по сути их, освоить их житейски, прижиться к ним, пристроиться, ослабить необыкновенное, приложив к нему обыкновенное. Для Брука не важно почему, ему важно как, он уделяет все свое внимание технике событий. Он очень подробно рассказывает, как Лоренцо удалось устроить обручение Джульетты и Ромео, какие при том применялись уловки. Когда описана мнимая смерть Джульетты под утро cвадьбы ее с Парисом, то упомянуты мельчайшие подробности, в которых должен отразиться этот эксцентрический поворот судьбы и показаться, таким образом, менее эксцентрическим; гости, позванные на свадьбу в дом Капулетти и там очутившиеся на похоронах, меняют свадебные перчатки на траурные, похоронные. Новелла выделяет только острые эпизоды. Брук старается заполнить все промежутки между ними — это и есть любимое им удлинение. Он и время событий удлиняет и время рассказывания тоже. Следовать за героями сплошь, никогда не упуская их из виду, — по Бруку, наивысшая достоверность. Он никогда не оставляет их одних, комментирует их психологию, заставляет произносить исчерлывающие внутренние монологи. Желая до конца доведаться о внутренних мирах героев, Брук предвосхищает романы Ричардсона. Как позднейший буржуазный роман, так и Брук в эпилоге сообщает, что сделалось потом со всеми действующими лицами: как почетное увольнение получил Лоренцо, как менее
34
почетно обошлись за ее провинности с кормилицей и как повесили аптекаря — того самого, что, вопреки статье закона, продал яд Ромео. В эпилоге и еще другие из персонажей не забыты. В романе Артура Брука недостает подлинного начала — общей, эпохальной завязки всех событий. Он компенсирует это разработанностью концов, множественностью их. Универсальный пролог отсутствует, зато в обмен эпилог состоит из множества ветвей. У Брука, как и у других европейских писателей его типа, наметился тот серединный компромиссный буржуазный реализм, который пробился к главенству много позже — к XVIII веку. Шекспир, прибегнувший к Бруку как к источнику, задержал успех литературы школы Брука, вероятно, на целый век, да и позднее воскрешенный Шекспир был сильнейшим противодействием литературе, следовавшей этим методам. Буржуазный метод в искусстве Шекспир победил, хотя и не мог победить методов буржуазии в реальной общественной жиз'ни. Могучая экспозиция трагедии Шекспира, где сразу видна вся эпоха, все ее главные течения, дает общий ключ к событиям. Охвачено целое, поэтому все эпизоды и связи их предстают по-новому. Сравнительно с Бруком и с другими новеллистами Шекспир сокращает подробности. Ему незачем сообщать о животе мертвого камоника, он располагает более крупными средствами художественной достоверности. Когда над головами героев с их частными делами и частными интересами поднялся у Шекспира общий свод эпохи, то стали местами меняться случайное и необходимое, производное и первичное. По примеру Банделло, Буато, Брука также и у Шекспира несчастная развязка наступает из-за путаницы с гонцами: гонец от Лоренцо запаздывает, и Ромео от своего человека, прибывшего сразу же, получает известие о похоронах Джульетты,— и этот гонец и Ромео не сомневаются, что Джульетта умерла, о замысле Лоренцо оба ничего не знают. По новеллистам, по Бруку, произошла несчастная случайность. По Шекспиру, обратное: случайностью было бы иное,— если бы посланный Лоренцо пришел вовремя и успел бы посвятить Ромео в тайну похорон и мнимой смерти Джульетты. У Шекспира прочувствованы одиночество и исключительность Ромео и Джульетты. Весь установленный автоматический порядок жизни против них. Они посмели посвятить в свою тайну только
35
одного францисканского монаха. Джульетта под конец успела потерять единственного своего союзника — кормилицу, и та тоже приняла сторону Париса. Все держится на волоске, на мерах, принятых Лоренцо, на его послании к Ромео, и сроки для всего даны самые сжатые — Джульетта вот-вот проснется в своей гробнице, снотворный порошок, принятый ею, действует только двадцать четыре часа. При таком строе обстоятельств натуральнее всего несчастный исход. Успей Лоренцо и его доверенный все выполнить ко времени и наступи счастливая развязка, у Шекспира она казалась бы сказочной. По общему строю эпохи вся власть у вражды, и логика эпохи, она же логика трагедии Шекспира, не может не вести к гибели любви. Есть и другое отличие Шекспира от новеллистов: энергия действия. Новеллисты и Брук заботились о сцеплении эпизода с эпизодом, у них была мелкая бестемпераментная работа. У Шекспира сквозная логика, заряженная эпохой, она действует с энергией, неизвестной тем сюжетослагателям, и у Шекспира эпизод с эпизодом сочетаются как бы сами собой, через внутреннюю силу, бегущую от одного к другому.
В поэтике «Ромео и Джульетты», где постоянно возникают контрасты, один контраст, очевидно, важнее всех прочих — контраст простого и усложненного. Внешние события в этой трагедии громоздятся, на улице происходят настоящие битвы, блестят клинки, живые тела падают замертво, льется кровь, танцуют на балу, справлена тайная свадьба, готовится шумно и хлопотливо другая, с той же невестой, необычайные дела совершаются у гробницы — поединок соперников, воскрешение мертвой, два самоубийства. И все же интерес автора направлен не к этим событиям и происшествиям. Он мог бы еще увеличить внешние эффекты, больше подчеркнуть отдельные поступки и дела. Артур Брук очень увлечен пестротой и необычайностью того, что совершается. Его занимает не одна психология действующих лиц, у него жадное отношение к фактам криминального и уголовного порядка, в них он усматривает нечто заманчивое, способное увеличить ценность его романа. Два события у Брука преподносятся как факты уголовной хроники. Лоренцо отпускает Джульетте снотворное зелье, — это незаконное пользование своим искусством и своей наукой, преступление
36
против установленных правил. Второе: аптекарь, торгующий ядом. Недаром Брук распорядился повесить аптекаря: торговля ядом — уголовное деяние. Знаменательно это смешение интересов у Брука, в этом раннем буржуазном романе, им написанном, психологический анализ и психологические изыскания уживаются с уголовщиной, с откровенным пристрастием к ней. Шекспир не стал расписывать сцену в аптеке, как это сделал Брук, в трагедии Шекспира мы совсем не замечаем, что Лоренцо грешен в элементарно уголовном смысле, если мы станем судить его, то, уж конечно, не судом юристов. У Брука, у новеллистов, писавших историю Ромео и Джульетты, весь рассказ выстраивается как последовательность сенсационных происшествий и в центре его происшествие наиболее разительное — мнимая смерть и мнимые похороны Джульетты. У Шекспира центр не тот, он вовсе и не лежит в изображении внешних событий. Вершина Шекспировой трагедии — две сцены ночных свиданий Ромео и Джульетты, сцены лирические, с лиризмом, широко и многообразно развитым. Во всех прочих сценах господствует внешняя динамика, люди интригуют и препираются. В этих двух, да позволено будет это слово — люди поют. Лирические «певческие» сцены окружены тишиной событий, из-за кулис события только издали угрожают, они надвинутся не сразу. В лирических сценах — душа трагедии, она ради этих сцен написана, если изъять их лирику, вся трагедия в целом взятая станет неузнаваемой. Внешняя фабула в трагедии Шекспира служит подмостками к двум царственным лирическим сценам, в этом ее назначение. Контраст же тот, насколько хитроумно, насколько запутано движение в них событий и насколько просты эти сцены лирики, обладающие нерасколотым внутренним единством. Спросим, что же создает различие между лирическими сценами, двумя единственными, и всем остальным множеством сцен, фабульных, внешне действенных, спросим и ответим: тут каждый раз даны иные типы и стили человеческих отношений. В лирических сценах воссоздаются отношения людей изнутри, на основе их самоопределения и свободы, и этот высший тип отношений выливается в нечто простое и ясное. Вокруг Ромео и Джульетты жизнь другая по своей природе: там каждый день и каждый час творятся насилия и принуждения, там управляют людьми извне, а для
37
этого низшего типа жизни неизбежны сложность и хитросплетенность, там нужны шум оружия, там нужен нарочно приспособленный инструментарий. Вне Ромео и Джульетты находится царство внешних положений, диктующих людям, что они должны делать, там люди действуют безлично, пользуясь традициями рода, класса, семьи, профессии, прибегая к домашнему и юридическому, к профессиональному, церковному и религиозному ритуалу.
У Ромео и Джульетты все начинается с них самих, с их личности, чувств, влечений, расположений. Вокруг люди похожи на передаточные инстанции, вещи их определяют, они составляют часть большого и малых механизмов, отношения людей техничны, они понукают друг друга силою оружия, деньгами, статьями законов, писаными обязательствами, родовыми и групповыми мерами воздействия. Свобода от этих посредств и средств ведет Ромео и Джульетту к поэзии. Они потому и не могут вернуться во всеобщий мир своих современников, что миром этим правят враги,— все приобретенное будет вновь потеряно в этом мире. Возвращение необходимо и невозможно. По сути своей отношения Ромео и Джульетты чисты от всего, что является интригой и авантюрностью. Обдуманные приемы, интрига и авантюра — признаки отношений, создающихся на внешних путях от человека к человеку, это язык принуждения косвенного или прямого. Поэзия свиданий Ромео и Джульетты вряд ли в том, что Ромео должен проникать в сад и дом Джульетты украдкой, что он должен перелезать через заборы, пользоваться веревочной лестницей. Положительная поэзия начинается после всего этого, когда оба поставлены наконец лицом друг к другу. В одолении оград и лестниц — неизбежная дань внешнему миру, энергия противодействия ему, его же приемы, направленные против него, техника, отрицающая его технику. Лестница Ромео дважды вызывает в трагедии мрачные ассоциации. III акт, сцена 2 — после убийства Тибальда и назначенного герцогом изгнания Ромео — в комнату Джульетты входит нянька с траурными вестями, она бросает веревки, которые передал ей Ромео еще до того, как все фатальное свершилось. В этой сцене веревки напоминают, что сам Ромео не придет, что все рухнуло. Веревки — вестник из внешнего мира, откуда один за другим следуют
38
удары. В сцене «альбы» (акт III, сцена 5) лестница Ромео помянута только в развязке, когда Джульетта выпускает его из окна: тут-то Джульетта произносит свои слова о том, что лестница кажется сходнями на дно могилы — лестница ведет во внешний мир, она приспособление к его коварству и жестокости.
Советник и пособник Ромео, а также Джульетты — францисканский монах Лоренцо, философ, созерцатель, знаток природы, собиратель трав. Роль его в трагедии Шекспира далеко не ограничивается одними вспомогательными действиями. Лоренцо вносит от себя весьма многое в смысловой состав трагедии, окрашивает трагедию дополнительными цветами. Чтобы выяснить значение Лоренцо, нужны раскопки и нужно справиться, как понимал его роль Артур Брук. В поэме Брука Лоренцо выводится очень обстоятельно, у Шекспира многое опущено, тем не менее Шекспир, предоставляя Лоренцо говорить и действовать, держал в памяти текст Брука и сообразовался с ним. Комментаторы давно уловили один эпизод в трагедии Шекспира, из которого следует, что Шекспир даже способен был смешивать собственный текст и текст Брука: сказанное Бруком он принимал за сказанное им самим, хотя на деле повторить Брука там, где нужно было сделать это, он забыл. Акт III, сцена 3, в келье Лоренцо, после того как Ромео приговорен к изгнанию, Лоренцо говорит ему: «Зачем ты клянешь свое рождение, землю, небо…» В тексте Шекспира Ромео ничего не проклинал, так было в тексте Брука; у Шекспира Лоренцо отвечает на тираду, которой Шекспир не привел, он возражает Ромео словами Артура Брука, воображая, что перед ним Ромео Шекспира.
В написанном прозою обращении к читателю Брук весьма резко отзывается о «суеверном монахе» Лоренцо, чьими советами пользовались его герои. Обращение сплошь ханжеское, в пуританском духе, и францисканскому монаху не дано пощады. Артур Брук, храбрый моряк, через год после появления своей поэмы утонул в морской экспедиции, посланной на помощь гугенотам. С читателями своими он менее храбр и заверяет их во вступлении, что ни сами Ромео и Джульетта, ослушники перед своими родителями, ни этот католик Лоренцо сочувствием его, автора, не пользуются. В поэме многое меняется сравнительно с пре-
39
дисловием, Брук забывает свои обещания, свое пуританство, и все же он пускает Лоренцо в жизнь с памятными оговорками. В самой поэме есть важные сообщения о Лоренцо: оказывается, он свой человек и в семействе Монтекки и в семействе Капулетти, поэтому столь охотно обручает Ромео с Джульеттой, надеясь примирить и тех и других своих патронов, приобрести заслугу перед ними. У Брука Лоренцо выдерживает свою роль елейного и вкрадчивого монаха, он делает добрые дела, однако не без заботы о самом себе. Героизма Брук от людей не требует. Ту же этику, очень покладистую в отношениии личных интересов, мы встречаем и у итальянских новеллистов.
Шекспир, привыкший в исторических хрониках работать по документам, обращался с новеллистическими источниками, как если бы это были документы особого рода, а Лоренцо, после Брука, был для него как бы историческим лицом с устойчивой репутацией, с которой следовало считаться, хотя и допустимо было интерпретировать ее по-своему. Облик францисканского монаха, профессионального примирителя сторон, маленького осторожного политика, не рассеялся и у Шекспира, хотя в своем Лоренцо он выдвинул по преимуществу философа и мудреца. В сценах третьей и шестой (акт II) Лоренцо ведет многозначительные речи, в них содержится близкая чувству и уму Шекспира ренессансная диалектика: добро оборачивается злом, а зло добром, что служит спасению, то может оказаться также и мотивом гибели. Однако у мудрости Лоренцо есть свой подшерсток обыкновенной пастырской назидательности и резонерства. Из диалектики добра и зла она делает вывод: живи умеренно, люби умеренно (акт II, сцена 6, тирада, обращенная к Ромео). Старый шекспирист Гервинус, в котором ученость и ум не могли убить филистера, эту проповедь умеренности, умелого пользования благами не убоялся объявить верховным смыслом трагедии Шекспира[11].
Лоренцо у Шекспира полон добрых намерений, однако нельзя отделаться от чувства, что ведет он себя неполноценно и что за ним копится вина. В последнем акте, в семейном склепе Капулетти, когда слышен шум с улицы, он исчезает и оставляет проснувшуюся Джуль-
40
етту без помощи. Об этом мы читаем и у Брука. Но сцена обладает той степенью наглядности, какой лишено литературное слово. На сцене моральные оценки усугубляются. Показанный на сцене немужественный поступок оценивается несравненно резче, чем только рассказанный в литературном произведении.
Лоренцо без колебаний взял на себя устройство тайного брака Джульетты и Ромео, хотя это и был запретный акт. Иначе он ведет себя, когда предполагает инсценировать смерть Джульетты и так скрыть ее от преследования родных.
Лоренцо идет на это, переложив все на Джульетту, сам он хотел бы отстранить от себя всякую ответственность. Джульетта грозит самоубийством. Что же, если так, то мнимая смерть предпочтительнее, самоубийство, конечно, дозволено обменять на мнимую смерть. Но в мнимой смерти, в мнимых похоронах у Шекспира содержится ечто в философском и поэтическом смысле предосудительное.
Лоренцо, который дал Джульетте снотворное зелье, отправил ее на сутки в могилу, в трагедии Шекспира виноват иной виной, чем это представлялось Бруку и старым новеллистам. У Шекспира Лоренцо преступник по той причине, что берется шутить со смертью, с жизнью, с любовью,— с первостихиями, с которыми шутить нельзя. В трагедии Шекспира проступает нечто фольклорное. По фольклору, нельзя играть со смертью. Если смерть послана тебе чьей-то злой волей, то народная сказка может воскресить тебя. Если же ты сам фамильярничал со смертью, то народный эпос этого тебе не простит. Наша былина о Святогоре рассказывает, как Святогор расположился в гробу, как в постели, и велел закрыть себя дубовой доской. Илья Муромец старается освободить Святогора, но доски не оторвать, он бьет по гробу палицей, и после каждого удара нарастают железные обручи. Сходная мысль в западной легенде о Дон-Жуане, который вздумал шутить с мертвым Командором.
Новеллисты, передавшие историю Ромео и Джульетты, очень далеки от фольклора, от народного сознания, каковы истинное значение и истинные масштабы вещей и стихий. В новеллах жизнь, любовь, смерть — почти заурядные бытовые величины. Буржуазный город утратил чувство к ним. Новеллисты, городские по-
41
вествователи типа Артура Брука, пишут истории человеческих занятий, жизнь — некое занятие вообще, суммирующее, содержащее в себе все остальные, любовь — сладкое занятие, смерть — прекращение всех занятий. Любовь, жизнь и смерть у новеллистов названы, у Шекспира они вдохновенным образом прочувствованы. Ромео и Джульетта «взрывают ключи», они приблизились к первозданным стихиям, у них жизнь превосходит самое себя настолько, что подходит к границам смерти, у них любовь есть любовь на самом деле. Шекспир уходит от буржуазного прозаизма, он воссоединяется с фольклором. Как великому художнику, ему известно, из каких качеств слагается настоящая действительность, ему доступна истина жизни и смерти. Напомним о Пушкине, о его, поэта, борьбе с профанациями жизни и смерти в «Каменном госте», в «Гробовщике», в «Пиковой даме».
Так как у Шекспира и любовь, и жизнь, и смерть даны в своей сущности, в настоящем объеме своего значения, то Лоренцо преступен против них. У Брука у других повествователей истории Ромео и Джульетты эти стихии представлены были номинально, поэтому и преступление не осознавалось. У Шекспира жизнь, смерть, любовь не имена, но реальнейшие силы бытия, и Лоренцо грешит против сущего, профанирует подлинники. Маленьким кабинетным способом, с помощью какой-то рецептуры он вмешивается в величайшие человеческие дела, хочет обмануть и природу и историю, перехитрить их, повернуть в свою сторону. Он обманывает и традиционную Верону и молодую Верону. Фальшивые похороны Джульетты — средство отменить преследование любовников. Но это же эксперимент над человеком, над Джульеттой, над Ромео. Лоренцо все рассчитал по часам, послал вестника, положился на технику письменных сношений и упустил из виду, в каком душевном состоянии Ромео, — у того нетерпеливая логика страсти и отчаяния, тот не ждет, не проверяет сведений и спешит к гробнице Капулетти. Лоренцо маленькими средствами надеется нарушить порядок истории. Против Ромео и Джульетты — исторически сложившиеся формы жизни. Маленьким расчетом часов и сроков Лоренцо собирается победить исторические вещи, за которыми стоят века. Свадьба с Парисом назначена на среду, в среду ночью Джульетта
42
примет снотворное, проснется через сутки, а тем временем из Мантуи будет вызван Ромео. Делами со среды на четверг Лоренцо надеется остановить дело нескольких столетий. Он интригует против истории, против природы, прилагает технику к тому, что по сути своей нетехнично. Сначала была техника медицинская — порошки для Джульетты, сейчас он является к гробнице с инструментами в руках, с мотыгой, которая удивительно неуместна в этой сцене душевной потрясенности и предсмертного пафоса.
Инсценировка смерти Джульетты, им затеянная, — игра. По вине Лоренцо игра в трагедию продолжается, когда для игры нет места, когда наступило время для патетичного и возвышенного, не смешанных с чем-либо иным. Не Лоренцо виновник гибели Ромео и Джульетты, гибель обоих, гибель их любви была неизбежна. Но любовь не только погибла, ее также и оскорбили, — способом, которым хотели спасти ее.
В поэме Артура Брука подчеркиваются соответствия, — нянька состояла советчицей при Джульетте, Лоренцо — советчиком при Ромео. В трагедии Шекспира симметрия эта получает еще и внутренний смысл — оба советчика малокомпетентны, каждый по-своему. Если вспомнить все сказанное у Брука, то в трагедии Шекспира улавливается еще и такой оттенок: Лоренцо действовал чересчур профессионально, весь его замысел — монашеский, францисканский, все его поступки от профессиональных навыков соглашать стороны, посредничать. У Шекспира человек, ограниченный собственным положением, внутренне им проникнутый, это человек не высшего порядка, подлинные люди у Шекспира умеют вырваться из своего положения, идти против него, как это и было с Джульеттой, с Ромео. Философу не подобают бытовые черты, философ Лоренцо в самых великодушных и обдуманных своих поступках все тот же духовник, он применил к великим делам жизни приемы исповедальни, келейной, домашней политики и так приблизил катастрофу.
После трагедии о Ромео и Джульетте Шекспир еще не однажды станет вводить в свои трагедии мотив инсценировки. Лоренцо инсценирует смерть Джульетты, Яго инсценирует перед Отелло измену Дездемоны, Гамлет инсценирует перед датским двором свое безумие. Каждый раз инсценировка перерастает в дейст-
43
бительность, к тому же гибельную, трагическую. Люди у Шекспира успешно лицедействуют, когда их театр идет навстречу самой действительной жизни. Яго провоцирует ссору Отелло с Венецией, с Дездемоной, венецианкой, — есть реальные основания заподозрить не Дездемону, конечно, а венецианскую республику, не слишком добросовестную в отношении Отелло. Притворяясь безумным, Гамлет и на самом деле жертвует своим духовным здоровьем. Подделки рано или поздно превращаются в действительность. Они ее собственность, они ведь и сочинялись в виду ее, из желания предупредить собственное ее развитие. Банк по бесспорному своему праву конфискует фальшивые деньги — они делались под настоящие деньги банка. Так и действительность у Шекспира. В трагедии Ромео и Джульетты ложная версия смерти возникала по поводу обоих. Когда кормилица приходит со своими вестями о сражении с Тибальдом, то Джульетта плохо понимает, о чем идет речь, думает, что убили Ромео, и исступленно его оплакивает. Ложная смерть Ромео предшествует ложной смерти Джульетты. В пятом акте воцаряется действительность: мнимая гибель Ромео, мнимая гибель Джульетты тут становятся подлинной гибелью. Действительность имитировали, сами того не зная, забегали вперед, быть может, предчувствуя, что скажет она сама, и, наконец, она подчиняет себе все имитации, осуществляет свои права, не торопясь, но верно. По Шекспиру, сама действительность — трагический художник, отстраняющий сомнительных своих соперников и подражателей.
Трагедия Шекспира имеет как бы два окончания. Смерть Ромео и Джульетты — одно, и примирение Монтекки и Каттулетти над телами погибших — другое. В эпилоге трагедии Шекспира устанавливается равновесие, по образцу классического античного театра. На самом же деле реального равновесия у Шекспира нет. Для трагического театра Шекспира, в отличие от античного, характерно отсутствие равновесия и однозначности. У Ромео и Джульетты — моральная и эстетическая победа. Фактическая победа — у врагов. Потерпевшие реальное поражение духовно могут считаться победителями, и обратно: реальным победителям нечем гордиться. Окончание трагедии у Шекспира не окончательно: процесс сторон, собственно, продолжает-
44
ся и после пятого, заключительного, акта. Примирительная сцена между Монтекки и Капулетти не более чем предвосхищение того, как завершится этот процесс где-то и когда-то, далеко за пределами времени Ромео и Джульетты да и самого Шекспира.
Античная трагедия знала два вида равновесия. Либо одна сторона побеждает безусловно, и как сила моральная и как сила фактическая: пример — «Эдип» Софокла, где нет оговорок к победе Апполона Дельфийского, хотя и нельзя не сострадать Эдипу. Либо же в античной трагедии стороны «примиряются, чему лучший пример — «Орестея» Эсхила с ее заключительной частью, в которой и силы матриархата и силы патриархата, и эвмениды и Аполлон, и истцы от имени Клитемнестры и убийца матери Орест приходят к взаимному соглашению. Агон в греческой трагедии имел прообразом простейший и реальнейший агон — состязание гимнастов, всадников, борцов. Такие состязания не могли не иметь простой и однозначной развязки: на ипподроме победитель тот, чья колесница первой приходит к цели.
Античной трагедии неведомы колебания Шекспира, кто и в каком смысле победитель или пораженный. Историк античной трагедии Поленц1[12]говорит о том, что «Прометей» Эсхила обязан своей популярностью в новое время одному несколько случайному обстоятельству: изо всей Эсхиловой трилогии сохранилась средняя часть, где решение колеблется, Прометей прикован по приказу Зевса к скале, но Прометей не признает своеего поражения, он прежний мятежник. По всей очевидности, в трилогии Эсхила, остальными частями не дошедшей до нас, все завершалось примирением Зевса и Прометея. Новое время могло восхищаться фрагментом трилогии Эсхила и отвергло бы трилогию в целом, будь она известна ему.
Греческий агон не допускал отложенного решения. Как на палестре гимнастов, так и на трагической сцене приговор следовал немедленно. Либо есть победа здесь и сейчас, либо нет никакой победы. Палестра знала только настоящее время, так и трагедия у греков: она исключала даль времен, перспективу истории.
45
С этим связан пластический стиль античной трагедии. Ее герои морально оцениваются тут же и вполне точно, они уходят со сцены, как участники олимпийских игр, с венком или же без венка, они приобретают к развязке трагедии каждый свою полную моральную очерченность.
В трагедии Шекспира присутствует даль истории, неизвестная античности, и это приносит огромные перемены. Победитель на сегодня не есть еще победитель на завтра. Сегодня повергнутый, он завтра может войти в силу. Фактическая оценка и оценка моральная, эстетическая — расходятся. Замечательны в трагедии Шекспира широта и размах экспозиции. В трагедии о Ромео и Джульетте в экспозицию входит вся эпоха, весь Ренессанс, и в том, что в нем сбывается и что не сбывается, едва только бродит, беспокоит, просится в жизнь. У Шекспира экспозиция шире фабулы. Ренессанс в трагедии о Ромео и Джульетте, разумеется, не исчерпан историей обоих. Их отношения и воплотились и не воплотились. Сам Ренессанс не воплотился, не приобрел пластической законченности по образу античности. Следовательно, и после развязки трагедии все в трагедии поднятое не может не жить дальше. Равновесие, которое наступает в заключительном эпизоде трагедии Шекспира, объединяет трагедию нового времени с трагедией античного стиля. В отличие от античности это не есть реальный исход борьбы, только что совершившейся, это орнамент, который окружает историю драматической борьбы и указывает, что в обобщенном своем смысле она некогда придет или же может прийти к счастливому концу. Что на античной сцене дано было как реальный факт, то у Шекспира дается как идеологическое напутствие.
Лопе де Вега, держась новеллы Банделло, тоже написал для сцены историю Ромео и Джульетты — драму «Castelvines у Monteses» («Капулетти и Монтекки»). В драме этой Джульетта, мнимоумершая и похороненная, является перед своим отцом, поверившим, что перед ним дух покойной дочери. Отец обещает, что простит Ромео, с которым Джульетта тайно обвенчана. Все порешаетея родительским благословением. Лопе де Вега ради счастливого конца вторгнулся в самые недра истории Джульетты и Ромео. Шекспир материи фабулы не тронул, реализм не пострадал ради гармонии развяз-
46
ки. У Шекспира все свершается, ;как должно свершиться, по своей необходимости; между историей веронских любовников и счастливым орнаментом, окружающим ее, Шекспир оставляет свободное пространство, которое и позволяет судить, что есть орнамент и что относится к самой истории в ее реальном составе и в ее реальных качествах. Реальная история Ромео и Джульетты почти не втягивается в шекспировский орнамент равновесия. Орнамент окружает реальную историю, находясь на отступах от нее. В центре равновесия — Эскал, герцог Вероны. В трагедии Шекспира он единственный был лишен материальных и характерных красок. Он исподволь был подготовлен на эту роль — носителя идей гражданской гармонии, глашатая добрых отношений между людьми, которые ожидаются, материал для которых едва ли собран и едва ли -находится где-нибудь вблизи от нас.
1964
ЧЕХОВ: ОТ РАССКАЗОВ И ПОВЕСТЕЙ К ДРАМАТУРГИИ
Когда последний из династии Романовых, Николай II, был свергнут и дворец его в Царском Селе был открыт для осмотра, то можно было там увидеть его библиотеку, книги, бывшие у него под рукой, и среди этих книг Антона Павловича Чехова, хорошо переплетенного. Мы знаем, что великие князья и великие княгини смотрели в театрах пьесы Чехова. Обстоятельство это не может не затронуть воображения. Удивительной экзотикой должно было казаться царю всея Руси созерцаемое, познаваемое по книгам Чехова. Цари и царский дом, а с другой стороны, пьесы и книги Чехова — два мира, две природы. В книгах Чехова перед читателями их действительно лежала вся Русь, но в доподлинном виде, ничуть не схожем с казенной версией о ней. Нет великого писателя, менее официального, чем Чехов, менее склонного ко лжи, к парадному показу и к подчисткам. Через Чехова последний царь, последние цари могли узнать с величайшею наглядностью, какой страной они управляют на самом деле, какие люди ее населяют, чем заняты, что думают и чего ждут. Из сочинений Чехова следовало, до чего одиноко правительство в собственной своей стране, как исключается оно всем ее жиз-
48
ненным строем, как оно везде и всюду неуместно. Царствующим и правящим сочинения Чехова могли бы поведать, что их правление и дарение, вместе со всем издавна заведенным порядком жизни, идут к концу. Чехов — поэт конца. Сказав так, мы очень далеки от того, чтобы исчерпать Чехова, но литература конца — первое, первичное, по всей вероятности, что можно ощутить, читая Чехова.
Есть еще и другие свойства, основополагающие в писательстве Чехова. Как Чехову предшествует долгое развитие русской жизни, развязка которого приближается, так предшествует Чехову и богатейшее, могучее множеством талантов развитие классического реализма в русской литературе,— оно воспитывает Чехова, помогает ему, и оно же обременяет его: он должен сказать собственное слово, когда, казалось бы, уже все слова сказаны и трудно людям растолковать, зачем пришел в литературу новый писатель, какими надобностями вызван его приход. Когда Чехов умер, Амфитеатров говорил в некрологе, что все в России описано Чеховым: и улица, по которой ты идешь, и дома по улице, и каждый, кого ты встретишь по дороге, и даже ты сам, сочиняющий эту статью, и наборщик, который будет набирать ее,— «Всюду Антон Павлович! Всюду его зеркало…»[13]. Все это очень верно, однако нужно добавить: описывая Россию дом за домом, человека за человеком, Чехов никогда не забывал, что все это уже описывали другие, да и другим пишущим советовал помнить о предшественниках. Так, брату своему Александру Павловичу — письмо от 8 мая 1889 года — он преподносит целый реестр, о ком и о чем уже нельзя писать, ибо темы эти неоднократно бывали в литературе[14]. Сам Чехов описывал уже описанное — это было неизбежным, но действовал при этом очень осторожно, как если бы переносил с места на место предметы, сделанные из стекла. Во французской литературе по исторической роли отчасти аналогичны Чехову Мопассан, Жюль Ренар, тоже сознававшие, что они пришли не первыми, делавшие свое дело в литературе сообразно этому своему
49
сознанию. В предисловии Мопассана к роману его «Пьер и Жан» можно найти важные признания по этому поводу.
Однако важнее в Чехове, чем отношение его к наследию русской литературы, отношение его к вековому опыту русской жизни. Чехов сознавал, что приближается огромное обновление России, человечества, что под великое сомнение поставлен длиннейший исторический путь, пройденный людьми. Чехов родился в 1860 году — через два года после его рождения праздновали тысячелетие России. В драмах, повестях, рассказах Чехова изображаются люди чеховских десятилетий, но тысячелетняя Россия стоит за ними. В драмах его непременно присутствуют старые, очень старые люди, старинные слуги, как Анфиса и Ферапонт в «Трех сестрах», как Фирс в «Вишневом саде», помнящий, что и как было еще до воли — до освобождения крестьян. Люди простые, неграмотные, они мало податливы мелким влияниям сегодняшнего дня, они выражают ход истории монументально, в его крупных чертах и деяниях. Есть в драмах и другие старики, помоложе, взятые из цивилизованного слоя, как Сорин в «Чайке», как Чебутыкин в «Трех сестрах». В осложненном виде у них то же назначение, что у Фирса или у Ферапонта. Старики и старцы, «геронты», наподобие тех, что выводились на античной сцене, должны указать, как давно уже началась жизнь, какой окружены молодые, насколько эта жизнь старше их самих, как нелегка будет предстоящая борьба с нею.
Чехов— писатель тогдашнего дня, воспринявший бытовой стиль своих современников во всех его мелочах. Как из исторических монографий Гонкуров мы узнаем все до мелочей о быте, вкусах, нравах Франции к концу XVIII века, так когда-нибудь по Чехову восстановят до последних подробностей русскую жизнь чеховских десятилетий. Он передает нам своих современников в том свете, каким они сами себя освещали, и только исподволь подвергает их собственному своему истолкованию. Женщины в корсетах и с высокими рукавами, мужчины в пенсне со шнурком, в длинных сюртуках и в брюках в клетку наполняют его рассказы. Мужчины и женщины, мы сказали,— не совсем так звучало это на их собственном языке—они говорили: дамы и господа, блондины и брюнеты, блондинки и брюнетки. Блондины
50
и брюнеты — рубрики, которые кажутся исторически безразличными. Между тем Пушкин ими не пользовался, в них тоже есть что-то свойственное именно современникам Чехова, именно они любили сортировать людей по мелким и случайным признакам. Описывая своих людей, Чехов исходит из того, как они сами называли и определяли друг друга, из стиля их фотографий и визитных карточек, медных дощечек, которые они прибивали к своим дверям. В рассказах Чехова перед нами проходят судебные следователи, помощники судебных следователей, прокуроры судебной палаты, землемеры, ветеринары, учителя гимназий, причем с точной специализацией, один — греческого языка, другой — латинского, третий—словесности, то есть русского языка и литературы.
Разительно, что при всей связанности Чехова с современностью, со злобою дня, даже с модою дня он делает иной раз отступления в темнейшую глубину времен. В этом лишнее свидетельство, насколько для самого Чехова суть дела не в специальных летучих подробностях сегодняшнего дня, но в каких-то более массивных и неподвижных, фундаментальных его свойствах. Иначе как он мог бы по поводу работ на строящейся железной дороге вспоминать о лагере воинствующего ветхозаветного народа — амалекитян или филистимлян (рассказ «Огни»). В повести «Три года» одному из действующих лиц, литератору Ярцеву, в раннее летнее утро пригрезились под Москвой половцы. Один из лучших характернейших рассказов Чехова называется «Печенег». Эти древние ассоциации, ведущие к временам днепровской Руси и борьбы ее с дикой степью, не одиноки у Чехова. Здесь печенеги, там половцы, а в «Моей жизни» содержится мрачная ссылка на времена Батыя и татарщины. Преддревность и древность, тысячелетняя Россия приходят Чехову на память с особой силой, когда описывается деревня. В рассказе «Жена» мы читаем: «А деревня такая же, какая еще при Рюрике была…» В нравах чеховской деревни — мрак времен, говор чеховских мужиков кажется древнейшим наречием, их нравы — полупервозда.нными. С этим связан интерес Чехова к церкви и к церковности: религия, церковь — это древность в современности, это дорога в Древность. Рассказ «Студент», где описан темный, студеный вечер в деревне, в канун пасхи, связывает через
51
слова и образы Евангелия мир сегодняшний со старинным, древнейшим миром людей, Чехов не упускает из виду этой связи.
Как ни удивительны эти заходы Чехова в правремена, в старую, совсем старую, стариннейшую Русь, а все же нам известно, еще будучи студентом Московского университета, он заглянул однажды в аудиторию Ключевского, и, как видим, это не прошло бесследно[15]. Мы у Чехова находим подобную Ключевскому свежесть чувств в отношении к старой старине, почти фамильярность к ней. Позднее он приобрел еще и собственный опыт историка, когда стал работать над не доведенной им до конца диссертацией: «Врачебное дело в России». Тут сходились в одно интересы медицинские, фольклорные, археологические. Диссертация заставила Чехова углубиться в первоисточники, встретиться с прошлым лицом к лицу[16].
Есть особый отпечаток во всем, чего коснулся Чехов. Мир у Чехова кажется устаревшим в своих основах, всюду чувство обветшания. Поздний Жуковский говорил о собственной жизни — «обвечеревшая». Чехов мог бы так сказать о людях, им описанных, о мире, который они населяют. Вероятно, возраст и состояние мира, описанные им, лучше всего видны по тому, как близко, как интимно связаны все вещи в этом мире с душой и с умом человека. В очень позднем рассказе «У знакомых» человек приезжает погостить в усадьбу своих друзей. У человека этого по ходу рассказа несколько раз меняются настроения, он то добр к этим своим старинным друзьям, то сердится на них и презирает, принимает решение не помогать им, хотя они ради помощи и совета пригласили его к себе. Быт, пейзаж, люди соответственно этим колеблющимся настроениям каждый раз освещены по-разному, как если бы велась непрестанная игра в переодевания. Герой рассказа как бы облачает все окружающее то в одни, то в другие одеяния своей души и делает это с поразительной свободой, легкостью, незаметно для самого себя. Какая-то вдруг проглянувшая деталь мгновенно восполняется, досочиняется в его сознании, и притом восполнение это происходит каждый
52
раз по-иному, каждый раз в ином смысле и в ином характере. Совершается как бы работа осветителя, очень умелая, очень артистичная, предполагающая, что осветителю наизусть известны все частности и все закоулки освещаемой картины, почему он и может ей придавать то тот колорит, то этот. Герой этого рассказа может достать до каждого предмета. Для чувства, для мысли, для способностей освещения всякий предмет доступен, всякий обнаруживается без труда и поворачивается, как человеку этому будет угодно и удобно. Герой как бы играет с видимым миром; только очень знакомый, до сердцевины своей изученный, освоенный мир поддается такому вольному обращению с ним. За героем стоит автор, который уж никак не менее героя вжился в пейзаж и в быт русской усадьбы, что и позволяет ему с такой несравненной свободой распоряжаться в этом кругу.
Каким бы ни было чудесным искусство Чехова в этом рассказе, оно имеет изнанку. Нужен очень консервативный, хуже того — косный мир, чтобы подобное искусство могло выйти из его среды. Рассказ как бы вдвойне называется «У знакомых»,— имеются в виду знакомые в простейшем смысле, знакомые адвоката Подгорина, и можно почувствовать здесь более обобщенный смысл — знакомый, чересчур знакомый, тоскливо знакомый всем и каждому мир старой, в жизненном строе своем устаревающей России. Мы с удивлением читаем сердитый отзыв Чехова о собственном рассказе: «…рассказ далеко не глазастый, один из таких, какие пишутся по штуке в день»[17] (письмо к А. С. Суворину от 6 февраля 1898г.). Мы восхищаемся свободой, с какой рассказ написан, а Чехов сам считает, что это рутинная манера, что он всего-навсего набил руку — написал привычным образом о вещах, более чем привычных.
Вильям Джерарди, один из первооткрывателей Чехова на Западе, писал о чеховском реализме: «Особое его искусство состоит в том, чтобы созидать убедительные изображения жизни как она есть. А жизнь как она есть — это жизнь, представленная в качестве материальной реальности, плюс все наши романтические иллюзии и сновидения, плюс все наши крадучись живущие, .приватные, полусознательные восприятия, предугадыванья,
53
чувства, пребывающие бок о бок с официальною скудною жизнью фактов»[18]. Очень верно этот критик говорит о составе действительности у Чехова. В ней отсутствует резкое размежевание между миром вокруг человека и миром в человеке. Вещи вокруг человека впитали в себя его чувства и мысли, трудно разобрать, ему ли они принадлежат или же сами вещи так и родились с этим характерным для них моральным колоритом. Долговременное сожительство, срастание человека со своей материальной средой, некое побратимство с нею составляют предпосылку для такого способа чувствовать мир и для такого способа художнически писать его. Сама эта манера писать мир сквозь человека, в нем живущего, создает чувство, что и мир этот и человек его издавна соединились друг с другом той связью, какую мы находим между ними сейчас.
Более чем зрелый мир — он сказывается в шутках Чехова, ему одному свойственных. Он любил и в литературе и в разговорах с людьми играть в некие сверхобобщения. О лавочнике Андрее Андреевиче (рассказ «Панихида») сообщается: «он носил солидные калоши, те самые громадные, неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно-убежденных». Из повести «Степь» мы узнаем: «Все рыжие собаки лают тенором». О знакомце своем, молодом тогда Сереброве (Тихонове) Чехов сказал: «—Как же, помню!.. Такой горячий, белокурый студент.— И после паузы прибавил:—Студенты часто бывают белокурыми…»[19]. Шуточность в том, что Чехов совершенно уничтожает все случайное и специальное в явлениях жизни; вольные признаки становятся общеобязательными и непременными: религиозные убеждения связаны с фасоном калош, есть связь между цветом собачьей шерсти и собачьим голосом, студенты имеют привычку быть белокурыми. В этих чеховских шутках весь горизонт закрыт, все заполнено, всюду густо, не пройти, не просочиться чему-либо иному, кроме того единственного качества, которое предуказано.
54
Чехов шутит с истиной, почти совпадая с нею. Чехов шутит с закрытым горизонтом, ибо считает, что он и в самом деле закрыт. Зачастую Чехов пишет так, что весь смысл его рассказа—плачевный, трагический смысл — в этом горизонте, который на наших глазах зашелся, утонул. Стоит только обратиться к тем его новеллам, которые по тилу и строению своему соответствуют новеллам Мопассана. Повествовательное искусство Чехова гораздо шире и вольнее, чем у Мопассана. В искусстве Чехова мопассановская новелла — одна из его разновидностей. Чеховские новеллы без горизонта, они-то и родственны мопассановским, срезанный горизонт — тот умышленный эффект, к которому они стремятся.
В новелле «Хористка» рассказано, как к хористке Паше неожиданно пожаловала жена Колпакова, Николая Петровича, ее обожателя. Бодрая дама ведет с хористкой уничтожающий разговор. Колпаков растратил девятьсот рублей казенных денег, растрату нужно немедленно покрыть. Дама не сомневается, куда ушли эти деньги,— на хористку, и требует, чтобы хористка тут же вернула их. Паше от Колпакова перепадали только самые жалкие подарки, она терроризована непрошеной гостьей и в припадке страха и стыда отдает все, какие есть, вещи и вещички, полученные от других. Новелла эта — парадокс. Богатая красивая женщина, убежденная в своей правоте, грабит нищую певичку, взимает с нее непосильный налог. Люди порядочного общества уверены в обратном: это Паша их губит и разоряет. Чехов со всей непреложностью восстанавливает истину — бедных женщин обирают и будут обирать, эксплуатируют их тело, чувства, их самих, наконец, залезают в их имущество. Что хористка Паша — предмет всесторонней эксплуатации, что сама общественная нравственность существует за счет Паши и ее подруг, эта общая истина получила наглядное выражение в рассказе Чехова.
Рассказ поражает тем, что общая истина и частный случай полностью совпадают, обобщенное представление и реальный факт необычайным образом пригнаны друг к другу. Госпожа Колпакова нагрянула на дом к певичке Паше, единолично, как мог бы сюда явиться в полном своем составе весь класс эксплуататоров как таковой. Нет разницы между лицом этой женщины и маской касты, класса, хотя перед нами лицо чрезвычайно живое. В данном случае лицо и социальный тип слип-
55
лись, слились друг с другом. Читая эту новеллу, мы испытываем резкую смену чувств. Сначала все очень странно в ней, все эксцентрично, более чем индивидуально: порядочная женщина грабит среди бела дня непорядочную, покровитель оказывается на содержании у своей содержанки, величайшее зло причиняют той, о ком считали, что она-то и есть первопричина зла, родоначальница его. Второе же чувство, вызываемое рассказом, совсем иное, и оно контролирует, подчиняет себе первое. Что показалось нам эксцентрикой, то на деле есть только правило — правило, которое сбывается до конца, без остатка. Эксцентрика в том, что центр находится повсюду. Нет более свободных лиц и свободных происшествий, ничто не упущено, на все наложены общие законы, горизонт закрыт. В этом же природа характерно-мопассановской новеллы. Что представляется в ней игрой судьбы, капризом, парадоксом, то при первом же усилии мысли становится для нас созерцанием закона, исполнившегося с избытком. У Мопассана отдельный случай равен закону, и в этом состоит необычность его новелл, в этом их острота и странность. Через эксцентрику мы проталкиваемся к закону и тут узнаем, что она более, чем закон, что она закон, подобравший под себя последние исключения.
Примером может служить новелла Мопассана об учителе Муароне, Moiron. Учитель Муарон убивает своих воспитанников одного за другим тайным способом: толченым стеклом начиняются лакомства и пирожки, которыми кормят этих детей. У Муарона когда-то умерли его собственные дети, все трое. Муарон был верующим человеком и возроптал после этого. Убийства, которые он совершает, это его счеты с создателем. Тот не выполнил договора, своих обязательств перед Муароном, и вот Муарон восстанавливает мировую справедливость собственными усилиями. Буржуазная логика, буржуазная юрисдикция и буржуазная мораль проникли в области, казалось бы, заповедные для них. Муарон как истинный буржуа все на свете рассматривает с точки зрения убытков и прибыли. Смерть собственных детей — убыток, пусть чужие дети возмещают его. Убыток, понесенный в одном деле, всякий коммерсант желает возместить в другом. Виноват ты или нет, ты должен платиться за мои убытки. По Муарону он сам, Муарон, затем господь-бог, затем дети, собственные и чужие —
56
все это деловые агенты и контрагенты, жизнь и смерть — монета, которой он рассчитывается. У Мопассана законы буржуазной жизни никого и ничего не оставляют незатронутыми. Они настигают людей в последних им оставшихся убежищах.
По месту своему в истории и в истории литературы Мопассан во многом соответствует Чехову. Как Чехов завершал классический русский, так Мопассан завершил реализм французский. Мопассан занимается «гланажем», подбиранием неубранных в дни жатвы колосьев в поле, тем самым «гланажем», права на который так отстаивали накануне французской революции крестьяне. Предшественники изображали жизнь в ее законе. Молассан обратился к мнимым исключениям, где, оказалось, царствует тот же закон. «Гланаж» превратился у Мопассана в великое дело, а закон, захвативший и незаконные области, породнившийся с эксцентрикой, предстал как некий грандиозный личный характер, полный цинизма и безумия. Отчасти это же относится и к Чехову. Отчасти — ибо у русского писателя была еще и свобода действий, недоступная Мопассану, у русского писателя была свобода лирики и юмора, вносившая важные — великие отличия в существо всего написанного им. Снова вспомним о характерных шутках Чехова. Да, и Чехов видит, что горизонт закрыт. А все-таки Чехов способен к шуткам и юмору по поводу закрытого горизонта, ибо горизонт для Чехова исчерпан не навеки и еще будет день — тот день, в который Мопассан не умеет верить.
Рассказ «Хористка» написан в одном году — 1886-м — с рассказом «Знакомый мужчина». Эти рассказы соответственны друг другу не по одной лишь тематике — характер внутреннего развития в них тот же. Прелестнейшая Ванда, а по паспорту Настасья Канавкина, — женщина бурного образа жизни. По выходе из больницы она потеряла на время развязность, свойственную ее профессии, стала робка и приниженна. Она является к Финкелю, зубному врачу,— к «знакомому мужчине», который, она надеется, поможет ей деньгами. Финкель ее не узнает, она подчиняется обстановке зубоврачебного кабинета, садится в кресло и позволяет Финкелю, чтобы тот вырвал зуб, который вовсе у нее не болел. Финкель требует гонорара, свой последний Рубль Ванда и отдает ему. После больницы Ванда дей-
57
ствует как заведенная. Поступки ее предначертаны. Все в этом рассказе вопиюще типично. Ванда — персонаж, лицо, но Ванда — это мир многих женщин, поставленных в жизни так же, как она. Финкель — это «господин все», «господин как все» — Herr Omnes, действующий безошибочно, как все действуют, имея дело с женщинами этого лорядка: вырвал зуб, забрал последние деньги, обидел, ограбил. Эти женщины безропотны, «господин все» действует слепо, не встречая препятствий. В этом рассказе Чехова тот же избыток закона и типа, что и в рассказе «Хористка».
«Хороший конец» (1887) — новелла, по смыслу родственная новеллам о хористке Паше и о Ванде. Оберкондуктор Стечкин, человек немолодой и солидный, задумал жениться. Призвана сваха, перед ней он излагает, какая невеста нужна ему. Договариваясь с нею, жених ближе присматривается к свахе. И по доходам своим, и по нраву своему она именно та женщина, какую он ищет. Стечкин делает предложение свахе, та свахой пришла, ушла невестой. Сватовство — старинный сюжет в литературе. Когда сама сваха становится невестой, то сюжет разрешается самым остроумным и неожиданным образом. Но это дает и полную исчерпанность сюжета. Можно провести сравнение с сюжетами детектива, они исчерпаны, когда преступником оказывается сам сыщик. Сваха по роли своей посредник, она — орудие сюжета, как в детективном сюжете орудием является сыщик, полицейский агент. Всякий сюжет состоит в том, что люди чего-то ищут, движутся к поставленной цели. Можно перебрать разные варианты сюжета, но есть вариант, который заранее исключается: орудие поисков не может заменить самих поисков, средство не может отодвинуть цель, не может вытеснить ее. Чехов избирает в своей новелле именно этот исключенный вариант. Посредник становится действующим лицом, средство сливается с целью, путь к цели отпадает, она достигается сразу же, с первого шага. «Хороший конец» — новелла с нулевым движением, с нулевым сюжетом. Она предполагает некий неподвижный мир, в котором нет изменений, хотя и бывают перестановки.
Новелла — «новость»,— как понимали ее итальянцы Ренессанса, впервые создавшие новеллу. Новелла — история обновлений, вносимых в жизнь людьми. В классической новелле жизнь податлива, она пластична,
58
она — добрый материал для лепки в руках умелого индивидуума, каждый нажим на этот материал открывает нам, какие бесконечные эволютивные силы и средства скрываются в нем. В ослабленном виде и новелла романтиков говорила о том же, о силах творчества, заключенных в жизни европейских наций, о призвании всех и каждого извлечь наружу эти силы.
Мопассан — крушение новеллы классической и романтической. Новеллы Мопассана —собственно антиновеллы, новеллы обращенные. Они не к новости готовят нас, а к тому, что новостей не будет. По Мопассану, все остановилось, вновь отвердели поверхности жизни, стали непроницаемы или малолроница-емы. Неподвижность, отсутствие свободы проникли в самые недра сущего. В статье о Н. М. Пржевальском (1888) Чехов писал: «В наше больное время… европейскими обществами обуяла лень, скука жизни и неверие …всюду в странной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти…». О европейской «скуке жизни» Чехов узнал через литературу, через Мопассана, и что еще важнее — через собственные путешествия на Запад. Уже в 1886 году он написал повесть под названием «Скука жизни» — скука дней, идущих за днями, скука существования. Русская скука была особым проявлением того, что наблюдалось во всей Европе.
Между тем Чехов был по призванию великий фабулист, как и Мопассан, впрочем. Особые формы повествования у обоих вырабатывались через особую коллизию между их призванием фабулистов и тем, что предлагала им как повествовательный материал историческая эпоха, или вернее: и тем, чего она им предложить не могла.
Уже у раннего Чехова в .полной силе сказывался порыв к фабуле, к дерзкому повествованию, к игре сюжетными положениями. В 1884 году Чехов сочинил роман «Драма на охоте», едва ли не самое обширное из своих художественных произведений, наделенное прекрасными описательными деталями, сложное по сюжету, весьма динамичное и в целом своем и в отдельных частях, в эпизодах. Любопытны тема и фон этого романа — дворянский упадок, имущественный, моральный. В центре романа запущенная графская усадьба, дегенеративный граф, все допивающий и неспособный допить свой поздний стакан вина. В романе царят алкоголь, воров-
59
ство, прелюбодеяние, смерть и убийства. Чехов с увлечением наивного повествователя переходит от одного события цвета крови к другому того же цвета. Еще ранее того, в 1882 году, Чехов написал роман «Ненужная победа», с видами венгерской степи, с историями иноземных аристократов, окруженных тем же ореолом разорения и безудержных страстей. Рассказ «Барыня» в 1892 году, в котором действие возвращается на русскую почву, держится сходных тем; в нем изображена помещица, сельская Мессалина, вносящая смуту в нравы крестьян. Едва взявшись за перо, где-то в первой половине 80-х годов, Чехов уже пишет о социальной смерти дворянства. Надо думать, как и много позднее, так и тогда, в те ранние его писательские годы интересы Чехова не в пример шире, чем вопрос о дворянском сословии, о судьбах его. Юный Чехов впервые чувствует «конец века». Для Чехова дворянство представляет все общество в целом, отвечает за его состояние. Конец дворянства у Чехова именно и означает конец целой общественной системы, жизненные мотивы которой далеки от совпадения с классовыми целями аристократии как таковой, хотя но форме правит обществом и государством она.
В «Ненужной победе» очень важен авторский комментарий к поведению героев: «Бароны Гейленштрали, истаскавшиеся и разорившиеся, ищущие спасения и не находящие его, предчувствуя смертную агонию, махнули на все рукой и потеряли всякую способность обращать на что-либо внимание»[20]. Следовательно, вот каковы источники активности героев в этих новеллах и романах упадка, вот каков смысл всех фабул, действенных и драматических, рассказанных здесь: все это психология последнего разгула. Если завтра конец, то на сегодня не нужно более сдерживающих уз и скреп — люди выходят на дикую волю.
Среди произведений этого цикла весьма примечателен рассказ «Цветы запоздалые» (1882), названный так по одной полустроке из стихотворения Апухтина. Условие всего рассказанного — опять дворянское вырождение и разорение. Несчастная старуха княгиня, с трудом привыкающая к позору нищеты, сын, князь Егорушка, идиот и негодяй, шулер и алкоголик, и трогательно-пре-
60
лестная, наивно-мечтательная княжна Маруся — таково семейство, о котором речь. Княжна Маруся — первое лицо в рассказе, второе — доктор Топорков, из бывших крепостных, сейчас великолепно преуспевающий, модный в городе, весь в практикой заработанных рублях. Княжна Маруся влюблена в Топоркова, предполагает в нем человека таинственного и могущественного. На последние деньги ходит к нему на приемы, платит каждый раз по пяти рублей, добытых унижениями и лишениями. У княжны злая чахотка, но она не лечится, все рецепты Топоркова остаются при ней, она их собирает как автографы — они имеют для нее цену любовных писем, а дни .приемов у Топоркова для нее, как любовное свидание. Однажды в кабинете топорковском открылась тайна княжны Маруси: она упала в обморок, изо всех оборочек, щелочек и закоулков платья посыпались топорковские рецепты, карточки, визитные и фотографические. В этом рассказе налицо острота и изобретательность сюжета. Но это далеко не все, здесь лрисутствует еще и лиризм, необыкновенный по доброте и нежности. Чехов здесь фабулист, однако же на свой единственный манер. Рассказана некая фабула чувства, нам сообщают, какими тайными тропами пользуется бедное чувство, какие лазейки оно выискивает, чтобы проникнуть в обыкновенный прозаический быт и, проникнув, одолеть его.
В рассказе о княжне Марусе и докторе Топоркове нетрудно угадать ранний эскиз «Ионыча», написанного шестнадцать лет спустя. Этот поздний герой Чехова — тот же городской врач с отличными доходами от врачебной практики, но при нем нет княжны Маруси, которая привела бы его в движение. Однажды он пытался изведать, что такое чувство, ходил на кладбище ради романтического свидания, был осмеян и с тех пор успокоился навсегда, в жизни его никаких событий, ничего, кроме быта. События возникают только от княжны Маруси, от ее экзальтации, от ее безумства, от ее наивности.
Итак, энергия действия во многих ранних произведениях Чехова диктуется вовсе не приходом в жизнь новых сил,— это силы упадка и доживания, это анархия чувств и поступков. Иной раз, как бы ненароком, здесь возникает и печальная лирика, как в новелле о княжне Марусе.
61
Зрелый Чехов только изредка допускает себя до рассказов, по-прежнему фабульно острых. Рассказы эти, однако, скептичны; если это новеллы, то без новостей, не новые двери в жизнь открываются здесь, но на старых появляются дополнительные засовы. Старому быту, поскольку тот верен себе, Чехов отказывает в какой-либо способности к движению, к воодушевленности.
«Попрыгунья» (1892) — каноническая новелла, с неожиданным поворотом темы, с тем радикальным пересмотром отправного пункта, к которому обыкновенно и ведет каноническая новелла. Женщина из всех сил искала замечательных людей, искала их везде и повсюду, а самым замечательным человеком и по таланту и по характеру был собственный ее муж, которого она ценила так мало. Все обстояло бы хорошо в рассказе «Попрыгунья», не будь того, что открытие, кем был ее муж, героиня сделала только после его смерти. Открытие бессильное, оно не улучшает будущее, оно ухудшает прошлое.
Страшный рассказ — «Печенег» (1897), рассказ о тоске и мраке, в котором жила степная Россия,— рдяном мраке, ибо тайно, тихо и незримо во мраке этом непрестанно совершалось некое кровопролитие. Печенегом у Чехова именуется отставной казачий офицер Жмухин, Иван Абрамыч. С поезда зазывает он гостя ночевать у него на хуторе. Гость по убеждениям вегетарианец. Жмухин стоит своего прозвания: он — темного ума, жесткий и жестокий, на веку своем загубил, очевидно, не одну чужую жизнь, в доме его проживают загубленные им душевно онемевшая жена и сыновья-подростки.
«Печенег» — новелла внутренних контрастов. Вегетарианец попадает в гости к людоеду и должен приспособляться к своему хозяину. Людоед — любитель задушевных разговоров, он нуждается в хорошем собеседнике, вернее,— в слушателе, перед которым можно бы длинно и косноязычно доказывать свою людоедскую правоту[21]. Гостя он утомляет общими местами, которые
62
ему не терпится перед гостем высказать. Чехов не однажды изображал ужас общеизвестных истин. Не один только Жмухин в рассказах Чехова терроризует общеизвестным. Есть еще, например, некто Ипполит Ипполитович в рассказе «Учитель словесности». Человек этот в смертельной болезни, в бреду все продолжал уверять, что Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес и сено. Замечательно в рассказах Чехова, что эти ревнители общепонятного и общеизвестного создают вокруг себя пустыню. Казалось бы, изрекание всем доступных изречений должно бы связывать людей, — нет, оно их неумолимо разъединяет, от афоризмов этих и аксиом бегут, как от инфекционных болезней, от тифа или сапа. Общие места кладут конец общению. Сама эта способность только к сверхзнакомому у Чехова — один из важнейших симптомов, что жизнь остановилась. Мысль умеет только твердить и подтверждать все то же, умы коснеют, как закоснела и жизнь, вовне идущая.
Когда гость въезжал во двор печенега, его сыновья забавлялись: один одичавший мальчик .подбрасывал курицу, другой одичавший стрелял в нее из ружья. Ранним утром гость уезжает и застает во дворе то же самое: младший подбрасывает петушка, старший стреляет, петушок падает как камень. Папаша-печенег путался в одинаковых словах и мыслях, сынки удручают одинаковостью действий. В рассказе тождественны пролог и эпилог — это как бы знак бесконечного повторения: все будет, как было, перемены не предполагаются. К такому же знаку ничем не ограниченных повторений нередко прибегал и Мопассан. Еще в предсказаниях своих на новый, 1884 год Чехов писал о тех же нескончаемых вещах: «Летом вода будет теплая, зимою холодная. Воду возить будут, по-прежнему, водовозы, а не чиновники и не классные дамы»[22]. Таков был ранний эскиз будущего Ипполита Ипполитовича, его предсмертных афоризмов, а также и философии Жмухина, Ивана Абрамыча, завлекающего к себе на беседу, очень похожую на растянутое убийство.
Зрелый Чехов — автор больших повестей, по масштабу содержания приближающихся к роману. Все же при более точном рассмотрении и здесь найдем мы признаки
63
чеховской новеллы — новеллы обращенной, отрицательной. Классическая новелла предполагает рост жизни, открытия, находки, взры-вы новых жизненных качеств, радостные трансформации. У Чехова все это есть, но в обращенном смысле — жизнь не растет, а деградирует, энергия рассеивается, явления, состоящие в многообещающем конфликте, уподобляются друг другу. Нужны великие изменения, русская жизнь не может развиваться на старом своем основании.
Большие повести Чехова рисуются перед нами тем «силуэтом», который один современный нам зарубежный теоретик считает характернейшим признаком новеллы[23]. Мы прочли «Скучную историю» (1889), и вот ее «силуэт»: поначалу перед нами были старый профессор, всеобщий наставник, и юная девушка, ученица его, надеявшаяся на ум его и мудрость, а кончается тем, что в самую важную минуту учитель ничего не может сказать ученице, он так же несведущ в вопросах жизни, как и она. В прологе нам даны учитель и ученик (ученица), в эпилоге только два ученика, старый и юный, равно растерянные перед лицом истины, неявственной для них обоих. Покойный И. А. Виноградов считал, что для новеллы существенно сопоставление конца и начала[24], — в «Скучной истории» налицо такое сопоставление, хотя оно и не столь явственно, ибо конец и начало здесь очень отдалены друг от друга повествовательным временем. Форма рассказывания как бы погашается в самом рассказывании, концепция явлений жизни (и это обычно у зрелого Чехова) представлена как принадлежащая самой жизни, как ее собственная внутренняя речь, — автор ничего не вынуждает у природы вещей, он только ее выслушивает.
Концы и начала «Палаты № 6» (1892): сперва перед нами больной психической болезнью и врач его, а кончается повесть двумя койками в той же палате, врача
64
тоже превратили в больного, он лежит на койке, что напротив. Все идет к безразличию, к взаимопогашению, где были больной и врачеватель, там сейчас больной и еще другой больной, там болезнь превращается в эпидемию — местную, всероссийскую.
Известно, как впечатляла В. И. Ленина эта повесть Чехова. Вот его слова в передаче сестры его А. И. Ульяновой-Елизаровой: «Когда дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6»[25].
«Рассказ неизвестного человека» (1893): политический деятель, народоволец, террорист, замысливший убийство важного сановника, поступает в лакеи к сыну его, чтобы оказаться таким образом ближе к отцу. Проходит время, и террорист слишком вживается в жизнь этих людей, которых наблюдает он со своего лакейского места. Упущен случай, когда старик сановник был в его руках; террорист отходит от террора, от прежних своих убеждений, бросается в погоню за личным счастьем, за любовью. Романтик Виктор Гюго представил историю лакея, который превратился в государственного человека, в правителя Испании, в наперсника королевы («Рюи Блаз»). В повести Чехова обратное движение: политический деятель растворился в бытовой среде, надев лакейскую ливрею. Как видно, он уже давно усумнился в своей программе действий. Столь странная для него должность лакея в большом доме поставила его близко к обыденной жизни людей, и это был важный повод проверить старую, устаревшую программу. По Чехову, ветшает не только официальная Россия — ветшают и известные до сей поры способы борьбы с нею. «Рассказ неизвестного человека» об этом и написан.
Он написан также и как некое заключение к старой
литературной традиции. «Рассказ неизвестного человека» едва ли не последняя в
XIX веке петербургская повесть. Любопытно, что восходит она не столько к классикам
повести этого рода — к Пушкину, Гоголю и Достоевскому, сколько ко Льву
Толстому, к «Анне Карениной». Связь эта довыясняет для нас, что «
65
обилие и богатство московских эпизодов. Петербургский моральный климат — важная действующая сила и у Льва Толстого и у Чехова[26].
Так как у Чехова связь с Толстым идет по концепции и
колориту, она не может не сказаться на множестве подробностей. История Зинаиды
Федоровны — некоторая аналогия истории Анны. Если
66
бытком понимания умственного склада этого человека, — ему подобало бы в этом случае быть менее восприимчивым. Вероятно, важнейший эффект следования за связями литературных произведений тот, что, соотнесенные, они доразъясняют друг друга. Вероятно, и сами писатели пишут, задевая произведения предшественников, с целью нечто доузнать в них,— достучаться там, где не сразу отвечают.
История Зинаиды Федоровны у Чехова — это как бы продленная
история Анны Карениной; произошел разрыв с Вронским, и вот
«Рассказ неизвестного человека» — произведение, в котором ясна двоякая историческая роль Чехова. Он пишет не только о прожитом страною и отживаемом, он пишет и об описанном уже другими. Он как бы снова пишет, вторым слоем, по текстам Льва Толстого да и по многим другим текстам. Чехов пишет свою петербургскую повесть, как бы полагаясь отчасти на сказанное уже другими. Столь обязательные для петербургских повестей описания у него отсутствуют — нет почти ничего о петербургском небе и ни слова о петербургском архитектурном пейзаже. Все это подразумевается, и все о Петербурге сказать, на все указать прямо или косвенно должны три главные фигуры, двое Орловых и «неизвестный». Пейзаж Петербурга из живой природы, из камня и железа сделанный, подразумевается как нечто лежащее за ними тремя. Французский литератор Жюль Легра, бывавший у Чехова в Мелихове, сообщает в книге своей о России: «Один русский писатель мне сказал, Петербург — это мозг, Москва — это чрево»[27]. Быть может, сказавшим был Чехов, или кто-либо из его окружения, или кто-то иной: антитеза двух городов была общепринятой, и метафоры эти — одно из ее развитии. Петербург в «Рассказе неизвестного» — город мозга, просвещенного, промышленного, коммерческого, а наи-
67
паче — бюрократического, поэтому оба Орловых и передают нам, что такое Петербург. В Петербурге не столько живут и работают, сколько служат, и поэтому жители его так -скептичны ко всякой жизни в ее непринужденности.
Провинция у Чехова ушла в некий духовно-животный быт, как в «Палате № 6», где животное существование ведут городские обыватели, а все любомудрие у доктора Андрея Ефимовича, который тоже несвободен от ленивой животной стихии. В Петербурге нет ни того, ни другого, ни погружения в быт, в элементарную плотскую жизнь, ни философской созерцательности. Огромные массы населения этого города отбывают собственную жизнь как воинскую повинность. Петербургские бюрократы, такие, как молодой Орлов, отличаются не только неведением живого, но и презрением к нему: ведь у них позиции превосходства — они поставлены командовать живым, обращаться с ним, как если бы оно было мертвое. У Чехова тот же Петербург русской литературы, изображенный с краткостью, сгущенностью последнего слова о нем: город миражей и наваждений, но и расчета, трезвости, иногда чрезмерной и тоже опасной поэтому, разрушительно действующей. Как у Гоголя, Щедрина, Л. Толстого, так и у Чехова: Петербург — город, обладающий могуществом, но жестокий, но несговорчивый во всем, что относится к жизни и к душе людей. «Неизвестный», в недавнем прошлом наивно верующий и фанатик, находится в поединке с этим городом, и поощряющим и охлаждающим его. Зинаиде Федоровне Петербург нанес тяжкие и непоправимые удары.
Повесть «Три года» (1895) тоже обладает некоторым новеллистическим «силуэтом». Рассказана история семейства Лаптевых, богатых московских купцов. Семейство это тает. Сначала умирает в провинции дочь, Нина Федоровна. Затем выбывает из строя отец — старик Лаптев, он слепнет и выпускает из рук управление семьей и имуществом. Психически заболевает сын его, Федор Федорович. Женитьба Алексея Федоровича, доброго, умного человека, на Юлии Сергеевне, которая не любила его и не любит, не приносит счастья обоим. Ребенок, родившийся у них, умирает от дифтерита. Семейное древо Лаптевых теряет ветвь за ветвью. Живое гибнет, растет мертвое — растут и растут лаптевские рубли. Соотношение это и дает повести ее «силуэт».
68
В минуты, когда управление фирмой переходит от старика к Алексею Федоровичу, состояние Лаптевых равняется шести миллионам рублей. Важная особенность сюжета: дело Лаптевых идет само по себе, помимо их стараний копятся миллионы. У капитала самостоятельная жизнь, он не нуждается в людях. В неживом — в капитале — больше жизни, чем в живом, в людях, в хозяевах. Убывающие Лаптевы и прибывающие миллионы — в этом сходство повести Чехова по внутреннему ее строению с Бальзаком, с «Евгенией Гранде». Алексея Лаптева давят его миллионы, каждый миллион — новая тягость. Происходит отделение человека от собственных его материальных интересов, что составляет один из важнейших мотивов и в других повестях, рассказах, драмах Чехова.
Чехов подчеркивает, из какой галиматьи, из каких мелочей и мелочишек составились лаптевские миллионы. «Лаптевы в Москве вели оптовую торговлю галантерейным товаром: бахромой, тесьмой, аграмантом, вязальною бумагой, пуговицами и проч. Валовая выручка достигала двух миллионов в год; каков же был чистый доход, никто не знал, кроме старика»[28]. «И при взгляде на эти помятые бумажные свертки и коробки не верилось, что на таких пустяках выручают миллионы и что тут в амбаре каждый день бывают заняты делом пятьдесят человек, не считая покупателей»[29].
Бальзак тоже любил рассказывать, как возникают богатства; пафос Бальзака тот, что .нам указано — глядите и удивляйтесь, из ничего составилось небывалое великолепие. У Чехова обратное направление мысли: не то важно, что получилось богатство, важно, как мелки, ничтожны его первоисточники. У Пушкина рассказано, откуда взялись и те и другие червонцы скупого рыцаря. Чехов, русский писатель, тоже сохранил неверие художника (в абстрагированные силы жизни, он не упускает из виду, какие реальные величины стоят за ними. Происхождение лаптевских миллионов есть также и художническая характеристика этих миллионов, по существу своему они сводятся к этим мишурным своим первослагаемым. Как есть рассказы о корабле-призраке, так Чехов рассказывает о богатстве-призраке.
69
Ошибкой было бы думать, что уходящая Россия у Чехова — это дворянская только Россия и что она уступает, по Чехову, место свое капитализму и буржуазии. Как все русские писатели, большие, да и малые тоже, Чехов никогда не относил своих надежд на будущее к буржуазным силам. Он отлично видел их действие, многократно их описывал, изображал буржуазное накопление на селе, изображал городских купцов, хозяев фабрик и заводов, дельцов железнодорожного дела, целые новеллы посвящены у него темам собственности: «Холодная кровь», «Бабы», «Бабье царство», «Убийство», «Крыжовник», «Ионыч», «По делам службы», «В овраге» — все подряд новеллы собственности, где надо всем царит ее тяжелый профиль. Это не значит, что Чехов ждал воцарения буржуазии на долгие сроки. Буржуазия и буржуазная собственность у Чехова только деталь тысячелетней России, идущей к своему концу, — деталь появилась недавно, и не она указывает на будущее. По Чехову, буржуазия не меняет судьбу старой России, но разделит ее с нею, да и делит уже. Чем далее, тем основательнее укреплялось в Чехове убеждение, что тысячелетнюю Россию сменит Россия совсем новая, что новизна будет гигантской. Зачастую у Чехова описанные им дельцы выглядят как некая странность. Какая-нибудь Аксинья, зверь, молодой и лютый, прибирающая к рукам и деньги одних, и деньги других, там у себя в деревне, кажется фигурой в некотором смысле труднопостижимой. Целое — Россия, как она есть сейчас, идет к полному разрушению, а эта женщина, по Чехову часть старой России, живет с грубой и наивной энергией новосела. Стал во всю свою силу работать некий местный низший центр, в то время как подлинные центры глохнут и из работы выбывают. Повесть об Аксинье называется «В овраге» (1900), по видимости, название тут нечто большее, чем топография, оно художественный образ. Новые богачи, Цибукины и Хрымины, вместе с их богатством помещаются «в овраге», — отделились от общего хода вещей, держатся где-то в стороне и ниже его. Здесь можно найти и иную символику — родственную повести «Три года». Анисим Цибукин привез из города фальшивые деньги, старик Цибукин их перемешал с настоящими и теперь не умеет различить, все деньги стали фальшивыми, вся злая сила цибукинских, хрыминских денег —фальшь и призрак. У Чехова в обычае
70
вводить в повествование эпизод совершенно реальный, который в общем контексте становится также и символическим, распространяющим свое значение далеко за собственные свои границы.
Аксинья, преступница, детоубийца, описана у Чехова так: «У Аксиньи были серые, наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное; зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову»[30]. В новых и самоновейших дельцах, по Чехову, есть нечто наивно-невинное, они творят зло, считая его за свое право и за свою добродетель. Тут нет различий между героиней «оврага» Аксиньей и крупнейшим дельцом, строителем железных дорог Должиковым (повесть «Моя жизнь»), во внешности которого тоже подчеркивается, сколь невинным и правым, не судимым людьми считает себя этот деятель, при всей своей полезности вор и хищник. В страшном рассказе «Бабы» (1891) выводятся темные звери, мещане-собственники, без малейших авторских интонаций и однако же беспощадно изображаются дела этих существ, без права на то числящихся по человеческому миру, и передаются речи их — наивно-бесстыдные, удивительное смешение самохвальства и нечаянного самообличения. Проезжий мещанин описывает другому мещанину, хозяину трактира на дороге, как правильно он в жизни поступал и рассуждал: свою возлюбленную выдал мужу ее, когда тот вернулся из солдатчины, держал его сторону, когда шла расправа над неверной, а потом показывал на нее в суде и шомог присудить ей каторгу. Нельзя поверить, но он красуется: мол, не считался с личными чувствами и действовал как велено законом. По жестокой причудливости этических красок в рассказе этом можно видеть предпосылку для будущих рассказов Бабеля из старого быта, с тем различием, что Чехов причудливостью не играет, а Бабель к такой игре тяготеет, ибо может считать и краски эти и их переливы музейным феноменом, утерявшим свое недавнее мрачное значение. Буржуазные собственники у Чехова
71
воспринимаются и как нечто очень современное и как самая древняя древность, как австралопитеки, однако же очень ловко считающие и рассчитывающие, имеющие всегда под рукой нужную справку, нужную статью закона. Буржуазная собственность — обнажение зла долгих веков, зла, которое пряталось под разными прикрытиями, религиозными и моральными, и, наконец, выглянуло на свет во всей своей первозданной природе, объявив себя добродетелью. Герои собственности у Чехова совмещают в себе два (противоположных направления по времени, они будто бы и передний край сегодняшнего дня и, по нравам своим, — период пещеры. Герой повести «Моя жизнь» говорит: «Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных наблюдается и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же, как во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным»[31]. Следует вспомнить, что в рассказе «Огни» Чехов заговорил о стане древних амалекитян по поводу железной дороги, которую строят тут же. Сюда же следует отнести описания подмосковной фабрики в рассказе «Случай из практики»: «Пять корпусов -и трубы на .сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло все, имели особенный вид, не такой, как днем: совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы…»[32]. В этих словах — перекличка с символикой и образами, положенными в основу индустриальной повести Куприна «Молох».
Современные собственники у Чехова по-первозданному уверены в себе либо, едва народившись, чувствуют себя уже отмененными. Замечателен ра.нний рассказ «Холодная кровь» (1887), где описан некий «грузоотправитель», старик скотопромышленник. Подробно регистрируются все его деловые действия по перевозке скота, но сделанное им похоже на отвисший пустой рукав у безрукого, в его поступках нет одушевленности целью, задачей, смыслом — он хлопочет ради хлопот, он занят
72
ради занятости и как бы все побаивается, не поймает ли он сам себя, не поймают ли другие, что он старик пустопляс, что вся его суетливость — одно притворство, без малейшего коммерческого пафоса. Что-то дразнящее, загадочное есть в этом рассказе, целиком сводящемся к записыванию мелких, мельчайших действий. Некоторая разгадка в названии: если люди так стараются, если оли так стремительны, то можно думать, что сказывается горячая кровь, но нет — кровь холодная, и в этом парадокс рассказа. Душевные и умственные силы больше не работают подлинным образом на прежние цели, они симулируют эту работу. Умирают интересы — прежние интересы, деловые, наживательские.
В людях освобождаются внутренние силы. Чего ради освобождаются, к чему, на что — остается неизвестным, но прежние души прежних людей стоят праздными, в ожидании, чем же их, наконец, займут по-новому. Холодная кровь — она у людей с вакантною, втайне бездействующей душой. Внешнее волнение налицо, внутреннее отсутствует.
Рассказы позднего периода «Бабье царство» (1894), «Случай из практики» (1898) -очень близки к смыслу и к тематике повести «Три года»: и здесь говорится о богатстве, которое растет и растет, и о собственнике богатства, которого клонит долу, ибо он не знает, как распорядиться с самим собой, да и с богатством. Деньги как бы возводят человека на престол, из отношения остальных к нему уходят искренность и простота. Капиталист подобно королю Филиппу ищет, где же маркиз Поза, которому он мог бы открыться сердцем. Богатую женщину в рассказе «Бабье царство» все балуют, нежат, все ей льстят, и все от нее далеки, малоуловимы. Собственность, по Чехову, то, от чего человек становится беднее, скудеет, так как скудеют внутренние его связи с людьми вокруг.
Приятельница Чехова Т. Л. Щепкина-Куперник писала в своих мемуарах: «По-моему, самое существенное в Чехове — это раскрепощение рассказа от власти сюжета, от традиционных «завязки и развязки»…[33] Щепкина, по всей вероятности, записала слышанное от других, такое мнение существовало. Нужна точность: завязка и развязка в поэтике Чехова не отпали. Напротив
73
того, мы видели, как важны бывают у него соотношения завязки и развязки, своеобразное их взаимоотрицание. Иное дело, что Чехов ввел также в оборот рассказы не фабульные, не антифабульные, но попросту к фабуле безотносительные. От рассказов, где фабула находится в критическом состоянии, от аномалий и парадоксов фабульного жанра, естественным был переход к рассказам, вовсе равнодушным к какой бы то ни было фабульности. Чехов восхищался Гоголем, «Коляской», рассказом, в котором ничего не происходит и в котором, однако, сказано многое: «Одна его ”Коляска“ стоит двести тысяч -рублей…»[34] Но у Чехова есть рассказы, где даже ожидание происшествия отсутствует, а ведь ожиданием держалась «Коляска». Многие рассказы Чехова — простое сопоставление фактов: есть А., есть В., ищите и найдите, какая связь между ними. Такие рассказы стали у Чехова появляться очень рано. Пример — рассказ «Анюта» (1896). Рассказ этот пронзительный, хотя и очень скромный по манере письма. Анюта, милая, добрая девушка, по призванию друг, подруга. Она ютится при плохеньких меблированных комнатах. Молодые люди, один, другой, пятый, удостаивали ее своим вниманием, покамест учились, покамест не делали карьеры. С нею делили свою бедность, и никто не подумал бы делить с нею свое богатство. Она помогла одному, другому, пятому, покамест те не дошли до ворот успеха. Она была для этих молодых людей возлюбленной, служанкой, товарищем — всем. В рассказе только два эпизода. Студент-медик, которого она опекает и который уже грозит, что бросит ее, зубрит анатомию. Анюту он превращает в учебную модель — чертит угольком на груди Анюты линии, параллельные ребрам. Шопенгауэр написал, что нет ничего ужаснее, чем изучать анатомию на живом теле. Студент Клочков, однако, предается этому занятию не ужасаясь. Приходит сосед по номеру, студент Фетисов, и просит, чтобы ему позволили часа на два взять Анюту в натурщицы — он пишет Психею. В этом, собственно, весь рассказ: эпизод и еще эпизод. Внешняя связь — минимальная: связь по коридору. Тем глубже связь смысловая. В обоих эпизодах Анюта — безгласное тело, в одном случае тело
74
учебное, в другом — натура для мастерской живописца. Новелла написана о том, как буднично, как незаметно, как вяло превращают человека в вещь, будь он только уступчив в этом отношении[35]. Анюта предлагает знакомцам свою доброту, свою женскую душу — она прообраз «душечки» в этом отношении. Но тем надобно другое, и предложение души им удобнее понимать как предложение тела и вульгарно-бытовых услуг.
В литературе и фабула и фабульность существуют ради раскрытия некоторого смысла. Новелла бесфабульная отличается тем, что направление в сторону смысла в ней дается с большей откровенностью, чем это бывает в новелле фабульной. Когда рассказана фабула, когда имеются начало и конец, то фабула кажется самодостаточной и она как будто бы не обязывает нас беспокоиться, что же она означает. Когда же перед нами эпизод и эпизод, то мы не можем не задуматься, почему же сопоставлены эти эпизоды, довольно чуждые друг другу или даже вовсе чуждые. Из такой новеллы, где нет единства события, явствует, что законченность она может получить только через мысль — смысл. Новелла-сопоставление, новелла-смысл есть явление более общего порядка, чем новелла-фабула, которая только разновидность новеллы-смысла. Однако же к новеллесопоставлению литература приходит сравнительно позднее, после долгой практики с фабульной новеллой. Логически — первое в реальной истории литературы оказывается вторым, последним, некоторой странностью и порою производит впечатление резкого новаторства. Чехов в новаторских своих, бесфабульных новеллах, в сущности, как бы зашел в тыл новеллы обыкновенной, фабульной, обнажил ее предпосылки. Есть особый метод новаторства — раскрытие первооснов привычного, известного; свет, внесенный во тьму предпосылок, несознаваемых предварительных условий, приводит к новаторству, быть может, самому глубокому.
Факты, которые Чехов сопоставляет в своих рассказах, могут лежать в разных областях жизни, один из них может относиться к внешнему быту, другой к внутреннему миру человека. Мы читаем, внимаем, и вдруг как бы понижается дно рассказа, связь между факта-
75
ми лежит на большей глубине, чем мы того ожидали, она только и возможна на этой глубине. Эстетическая, общефилософская ценность рассказа в этом внезапном нашем углублении в жизнь, лежащую внутри рассказа.
О рассказе Чехова «Почта» (1887) Вирджиния Вульф, ценившая Чехова и понимавшая его, писала, что рассказ этот как будто бы не имеет центра,— мы прочли и нам кажется, что мы не заметили сигнала и проскочили остановку[36]. И на самом деле, читатели, привычные к рассказам с округленной фабулой, не сразу найдутся в том, где тут нужна остановка, где центр, ради чего он написан. Студент иа осеннем рассвете едет с почтой, студенту все интересно, он оживлен и ищет разговора с почтальоном. Разговор не ладится, почтальон держится угрюмо, а когда они приезжают на станцию, то студент слышит от почтальона откровенно-злобные слова: зачем он сел к нему в тарантас — возить посторонних воспрещается. Студент искал общения со своим спутником и был грубо отвергнут. Для содержания рассказа этого мало, да мы и чувствуем, что имеем дело с чем-то гораздо большим. Тема общения затронута в рассказе дважды. Она дана прямо, и она же дана косвенно, скрыто. Когда студент проезжал мимо усадьбы с завешенными окнами, он, продрогший от утреннего холода, представил себе, как тепло и сладко люди спят в господском доме. «Поглядел студент на пруд, который блестел около усадьбы, и вспомнил о карасях и щуках, которые находят возможным жить в холодной воде…»[37]. Ведь и усадьба и пруд — тоже общение, мысленное, воображаемое, происходящее всецело на внутренних путях. С почтальоном студент разговаривал, усадьбу, пруд он воспринимает внутренним чувством, он «вникает», если вспомнить слово, облюбованное Иеронимом, перевозчиком, из другого рассказа Чехова («Святой ночью»). Чужая жизнь, чужое бытие на внутренних путях доступны, а вот когда хотят проникнуть в чужую жизнь на самом деле, хотя бы только через разговоры, то чужая эта жизнь отвечает вам одною злобой, как и слу-
76
чилось между студентом и почтальоном. Думаем, в таком сопоставлении и состоит смысл рассказа, в этом центр его, который так боялась упустить Вирджиния Вульф.
Тема общения — одна из важнейших в рассказах Чехова.
Незадолго до «Почты», в рассказе «Тоска» (1886), недоступность общения трактуется почти трагически. Старик извозчик потерял сына, он хочет рассказать о своем .несчастье людям, но те не слушают, тогда он рассказывает лошади, ее-то он, быть может, заинтересует.
У людей, описанных Чеховым, настоящий голод по собеседнику. Собственно, в этом тема рассказа «Случай из практики» (1898). В Москву посылают за профессором, ради больной дочери фабриканта Ляликова. Профессор сам не поехал и вместо себя отправил к Ляликовым доктора Королева. Тот едет поездом, потом на лошадях и, наконец, прибывает. Лиза нуждается не в медицине, но в беседе. Нужно сесть у ее постели и послушать, что станет высказывать эта девушка с расстроенной душой.
И тот «печенег», в степи, и тот другой печенег, «в усадьбе», они хотят, чтобы собеседовали с ними. Люди у Чехова ищут, чтобы общение подтвердило перед ними их самих: я общаюсь, следовательно, я существую. Есть у Чехова еще высшая тема, царящая над темой общения, — тема заботы человека о других, через эти заботы человек как бы усиливает свое существование, обогащается душевно и духовно. Об этом написан рассказ «В ссылке» (1892). В книге об острове Сахалине весьма настойчиво говорит Чехов о том, как важно, чтобы при поселенце были дети, семья, как это возвышает его морально, возвращает в среду существ одушевленных, как дик он без этого. Тоска о другом человеке, тоска о действенных и духовных связях с ним, есть, по Чехову, тоска о собственной реальности. В этом смысл одного из самых грустных рассказов Чехова — «Архиерей» (1902). Щепкина-Куперник пишет: «…трагедия «Архиерея» — беспощадное одиночество человека, имеющего дело с толпами…»[38]. У этого человека много и других мотивов к одиночеству: и высокий сан, и ученость, тогда как окружен он людьми простыми и неучеными, и при-
77
надлежностъ к черному духовенству, что исключает для него собственную семью. Он служит пышную пасхальную службу, а в нем уже работает губительная болезнь, перед людьми он глашатай воскресенья, когда сам он полон смерти. Любил мать, хотел помочь ей, помочь маленькой и нищей племяннице и не успел помочь, какие-то простые связи с людьми готовы были протянуться в последний час его и не протянулись. И неожиданная церковная карьера его, сына простой женщины, и одиночество, в котором он оказался по условиям своей карьеры, (сделали его самого человеком-небылицей, ушедшим из жизни, как если бы он никогда в ней и не присутствовал.
Замечательно: когда в рассказы Чехова приходит свет, приходит осмысление, вместе с тем достигает и своей настоящей меры наше чувство действительности. Покамест мы имеем только фрагменты, только эпизоды, только описания —-как, например, чудесные описания холодного, со звездами осеннего утра в рассказе «Почта»,— покамест мы остаемся при одних ощущениях, как бы богаты ни были они, полного впечатления действительности у нас нет. С какой бы силой ни были написаны эти фрагменты, у нас нет еще последней убежденности, что мы имеем дело с реальностями жизни. Для окончательной полноты чувства необходимы не новые чувства и ощущения — необходима мысль. Нужен ответ: что это такое, к какой области бытия относятся эти явления, какое место занимают в нем. Рассказ «Почта» мы хотим понимать как рассказ из области общения, побед и неудач человека, который в нем нуждается. Если так, то все устанавливается, приобретает для себя основу. Когда завоеван смысл, когда фрагменты соотносятся друг с другом, когда явление, изображенное перед нами, получает свое место в общей картине бытия, тогда-то возникает у нас и максимальное чувство реальности этих фрагментов. Пусть фрагменты — это реальность на три четверти, тогда обретенный смысл, определенность «к месту» — это уже вся реальность, с недостающей последней четвертью, дающей окончательное решение. Существует мнение, что реализм в искусстве заключается в передаче чувственного образа вещей, а осмысление их есть как бы добавление извне, порой даже будто бы разрушительное, — элемент интеллектуальный будто бы ослабляет художественный образ, под-
78
рывает иллюзию самостоятельной жизни, которая создается в нем. На деле же тут мы имеем превосходный пример диалектики: переход, подъем к мысли и к смыслу есть завершение всего, что дано нам было в чувственном, в эмоциональном содержании художественного образа, смысл (появляется изнутри, смысл — это доразвитие; нужно, чтобы вполне сложилось духовное, без чего не довершается и чувственное. Осмысление не додаток (К реализму, осмысление — реализм как таковой, картина вещей без осмысления подобна живому существу, не имеющему имени, — хотя оно и налицо, однако же его нет, оно не признано. В известном романе Франца Верфеля «Barbara» («Барбара») рассказано о ребенке, так и оставшемся без имени. Родители, люди весьма своеобразные, привычные к богемному образу жизни, забыли назвать его, и ребенок живет без имени в бельевой корзине, что стоит на столе. О нем, безымянном, нельзя даже сказать, существует он или не существует. Обыкновенное имя ввело бы его в жизнь, а то он только заглянул в нее и не получил приглашения войти и остаться. Имя — второе рождение, подтверждающее, что названный им человек уже родился однажды, в оголенно-физическом смысле. Без названия, имени, смысла нет в искусстве впечатления объективности, автономного существования. Казалось бы, понять, дать имя — до чего это субъективный акт, наша собственная деятельность; на поверку же именно этот акт придает миру, изображенному в искусстве, характер объективности, чего-то существующего собственной своей силой, от нас независимою. Бунин, который начинался и разворачивался на глазах у Чехова, в поэтике своей менее реалист, чем Чехов, по недостаточному развитию у Бунина духовной стороны. Бунин великолепен по чувственным своим краскам, по интенсивности их; чувственное живописание у Бунина чуть ли не галлюцинация, нередко кажется, что у Бунина имеешь дело не столько с художественным реализмом, сколько с наваждением. Иное в прозе Чехова — чувственная действительность как бы уложилась в свой смысл, при всем лиризме Чехова сохраняется некое философское расстояние между нами и картиною живых вещей в его рассказах. По-видимому, Чехов очень высоко ценил дарование Бунина, но прозу Бунина воспринимал отчасти отчужденно. О рассказе Бунина «Сосны» Чехов пи-
79
шет: «…это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона»[39]. Именно эта густота, эта компактность и сверхкомпактность чувственная, эмоциональная, отличающие Бунина, Чехову в его собственных рассказах были чужды и не нужны. У Бунина — пафос количеств, деталь набегает на деталь, они теснят друг друга, чувственное содержание его поэтики разрастается и может разрастаться безмерно, доведенное до гула, до ослепительности. В прозе Бунина нет той строгой дисциплины внутреннего смысла, (которою все проверяется у Чехова. Если смысл, если силы интеллекта приглушены, то нет предела количествам внешних впечатлений, неизвестно, где же и когда же все они будут собраны и сосредоточены сполна. В прозе Чехова смысл — очень точный регулятор, он дает общий очерк, он подтягивает к себе одни подробности, отвергает другие, хотя он действует безо всякого аскетизма, хотя он и достаточно либерален, он тем не менее бодрствует всегда. Бунин в воспоминаниях о Чехове рассказывает, как вместе они придумывали художественные детали, как тешились, как это было весело. Чехов говорил Бунину: «Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: «море пахнет арбузом»… Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку — другое дело…— Про какую курсистку? — А помните, мы с вами выдумали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший поезд… А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстому господину, высунувшемуся из окна…»[40]. Подробности про курсистку с чайником действительно ближе к Чехову, чем к Бунину. В подробностях этик содержится многое, чуть ли не все: и (природа, и быт, и люди. Чай летит по ветру — это длина поезда, как бы измеряющая длину степи, это совместная жизнь быта, техники и природы.
Курсистка в жару, в степном поезде едет домой на каникулы, ведь не в степи же она учится, а где-то много севернее, от учения до дому очень долгий путь,
80
как это было, например, у чеховской Нади в рассказе «Невеста», учившейся далеко, в Петербурге. В подробностях о курсистке заключены многие часы езды и многие версты. Вагон третьего класса — демократический, студенческий. Чай, который садится на лицо толстому господину, очевидно, из другого, привилегированного вагона,— веселая месть молодости привилегиям и хорошо оплаченным удобствам. Часы, версты — это Россия в ее пространствах, это русская география, Чехов еще не знал, что в подробности эти уже входит и история. Чайник, взятый в дорогу, архаизм сейчас, когда в вагоне кипятильник и проводник отпускает чай стаканами. Огромный синий чайник с .кипятком и заваром, чайник дальних странствий, вероятно, стал уже или скоро станет достоянием музеев быта. Подробности, которые пересказывает Бунин, — замещающие подробности, две-три они замещают целый мир, мирок. Так было у Чехова, искавшего через подробности характерность и характеристику вещей. Бунин же не отбирал подробности точно, не высматривал тщательно. Подробности у него шли скопом, с преднамеренной безвыборностью, не заменяя, не замещая чего-либо, но взаимно усиливая друг друга. Характерность их была более смутная, сквозь интенсивную жизнь ощущений и эмоций, притязающих на самостоятельное значение.
Через все писательство Чехова тянутся новеллы-сопоставления, без единства фабулы, но с единым смыслом. Нередко особую остроту им придает богатство внутренних отношений на фоне скудости и случайности внешних. Под рождество старый человек и молодая девушка встретились на станции и очень хорошо поговорили, и вот большой рассказ «На пути» (1886) написан о них. Дворник с друзьями в сарае играют в карты, напротив во дворе дом, там за окнами лежит самоубийца, барин, из-за несчастной любви сегодня застрелившийся, — рассказ «В сарае» (1887). В рассказе обе стороны внешне связаны разве что картами: в окна видно, как в жилище самоубийцы сдвигают исписанные мелом ломберные столы, чтобы положить на них покойника. Рассказ написан, конечно, не ради общедоступного мотива — игра в карты долговечнее игроков, и не ради контраста: в доме играли и перестали играть, в сарае же играют по-прежнему. Русская литература ценила контрасты только на линии Гоголя — Достоевского, к которой Чехов не принадлежал. Он любил менее эффектные отношения сторон, где стороны в чем-то отрицают друг друга, а в чем-то — и это заметнее — друг к другу равнодушны. В этом рассказе сарай и господский дом — два мира, два миросозерцания, две этики, но без каких-либо «напряженных антитез, и, пожалуй, отсутствие антитез здесь более всего замечается. В сарае не понимают самоубийства из-за любви, но самоубийцу искренне жалеют — играют в карты, следят за движением в доме, где случилось несчастье, сочувствуют и продолжают играть. В позднем рассказе «На святках» (1899) сначала дана деревня, потом дан город, связь между ними — письмо из деревни, полученное в городе. В город с .его фальшивыми занятиями и с его фальшивым лоском благополучия проникает естественный голос деревни, живущей дико, безобразно и знающей тем не менее правду, которая в городе забыта. Это заново, с предельной экономией и сжатостью выраженная тема «Мужиков».
Любопытен замысел рассказа «Чужая беда» (1886). Счастливые молодожены покупают чужую усадьбу, — хозяева разорились и вынуждены продать ее, это и есть чужая беда. Новые владельцы всюду находят следы прежней жизни. В усадьбе прежде жили дети. То тут, то там забытые игрушки, расписание уроков, за своей подачкой прилетает синица. В рассказе этом быт одних ложится на быт других, рассказ подобен палимпсесту, когда старый текст, чтобы не терять писчий материал, записывали новым текстом. В рассказе этом быт приходится на быт, тогда как в других рассказах Чехова даны быт против быта.
Рассказ «Гусев» (1890) по-особому входит в эту серию новелл с сопоставлениями. Всюду сопоставления принадлежат автору, он сопоставляет, соотносит явления, в самой природе вещей едва видные друг другу или даже друг друга чурающиеся. В страшном рассказе «Гусев» сама действительность играет сопоставлениями, причудливыми и в причудливости своей жестокими. Больных русских солдат и моряков возвращают с Дальнего Востока домой через Индийский океан. Солдат Гусев в туберкулезе, он страдает от тропической жары, непрерывно бредит — ему видится родная деревня. Русская зима, замерзший пруд, снег, жар тропиков, жар собственного горящего тела мешаются и
82
мешаются в его сознании: «Мысли у Гусева обрываются, и вместо пруда вдруг ни к селу, ни к городу показывается большая бычья голова без глаз, а лошадь и сани уж не едут, а кружатся в черном дыму»[41]. Наши современники скажут: это картина сюрреалиста, быть может — это Шагал, быть может, это переложенные в прозу стихи поэта с безудержными ассоциациями. У Чехова это социальный и психологический реализм, самый непреложный — ад в голове несчастного солдата, которого правительству вздумалось оторвать от его родной русской деревни, забросить неведомо куда, в обстоятельства, не согласимые ни с его душой, ни с навыками, ни с воспитанием. Бред этот — вся его жизнь, вся его судьба, все, что учинили с ним, (представленное в самом сжатом виде.
Пишет ли Чехов фабульные рассказы, пишет ли бесфабульные, как у всех классических русских писателей, главный интерес его — жизнь в ее обыденном течении, в ее «самодвижении». Так было завещано еще от Пушкина, так обстоит и у Чехова. Правильность, здравость, честность повседневной жизни — такова, по Чехову, основа основ, фабула только выводит наружу, что же скрывается в повседневности — застой, болезнь или же там присутствуют и живые силы. В конце концов и чеховские сопоставления — та же диагностика обыденного бытия. Чехов объяснял Л. А. Авиловой, что литература позволяет увидеть в жизни «то, чего раньше не видали, не замечали: ее отклонение от нормы, ее противоречия…»[42]. Главный интерес — в норме, отклонения и открывают нам, в чем эта добрая норма. Поэзия, возвышенное, трогательное — все это у Чехова только тогда подлинно, когда возникает из нормы, опирается на обыкновенную жизнь людей, ухожено ею, поддержано ею. Как у Пушкина, Тургенева, Льва Толстого, так и у Чехова поэзия взята из прозы. Думаем, короче всего об этом скажет маленький диалог из повести «В овраге», всего в полторы строки, стоящий большой поэмы. Липа к ночи через поле возвращается домой с мертвым ребенком на руках. Она не избалована людским участием, а тут у костра, ко-
83
торый кончается, застает она в поле парня и старика, чуть освещенных — как некие лики — последними угольками, и оба очень добры к ней. «Вы святые? — спросила Липа у старика. — Нет. Мы из Фирсанова»[43]. В этом весь Чехов. Первое: святые в самом деле бродят по земле[44]. Второе: если они настоящие, то не иначе как из Фирсанова, с подводами, из них одна с бочкой, другая с мешками. Нужна расположенность души к сверхобыкновенному в обыкновенном, нужны простые обстоятельства, как здесь чуть-чуть подцвеченные, загадочно освещенные, и тогда будет «поэзия.
Кажется, уже покончено с имевшими когда-то популярность россказнями о Чехове, элегическом добряке, настроенном в пользу слез и всепрощения[45]. Уже поняли, уже почувствовали, до чего требователен, до чего взыскателен Чехов к людям и :к жизни. Когда речь идет о норме, то Чехов не простит ни малейшего ее убавления. В рассказах его изображается быт, как будто бы благообразный, сытый, здоровый, приветливый, даже изящный, все, что можно рассказать в пользу этого быта, все рассказано, но минутами освещение меняется, и оценка всего, что мы увидели, колеблется тогда резко. Чехов то здесь, то там велит нам «заглянуть за кадр», после чего из заключенного в кадре уходит весь его прежний смысл. Это похоже на инсценировку-пародию: на оцене разыгрывают повесть или роман, причем нарочно текста дается больше, «чем нужно, со сцены произносят и авторские ремарки, и то, что автор сказал о героях, и то, что герои сами о себе думают, — все невыгодное для героев, разрушительное для их диалогов, которые одни только и должны были бы сохраняться на сцене, все как есть преподносится зрительному залу. Так и у Чехова, в рассказ вносятся как бы некие излишества, сообщения о том, что делается по бокам повествовательных кадров, или где-то внизу, в подвальных помещениях, и сообщения эти, как ни кратки они, губят добрый образ, который скла-
84
дывался и готов был окончательно сложиться. Так в последнем рассказе Чехова «Невеста» (1903). И богат, и хорош, и светел дом Шуминых, а вот же неистовый человек, Саша, сообщает Наде, невесте, любимому дитяти дома: «Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы…»[46]. Красоте дома и жизни в доме делается проверка с черных дворов, с кухни, и она влечет к важнейшим выводам. У Чехова поэзия должна держать экзамен перед многими и многими инстанциями прозы. Нет поэзии в быту людей, если быт строится на эксплуатации, да еще самой черной, если кто-то живет в грязи ради того, чтобы другие жили чисто. Критерии человеческой пользы и здоровья Чехов не задумываясь включает в свою эстетику, и от нее требуется непротиворечие с ними. Саша так определяет жизнь и в этом доме, и в этом городе: «неподвижная, серая, грешная жизнь»[47].
Рассказ «В родном углу» (1897) — более ранняя вариация «Невесты», в иных отношениях более выразительная. Уютные представления об усадебном быте рушатся под одним, другим ударом живописующей кисти. Дедушка, хозяин усадьбы, старый обжора, все и вся поставлено в хозяйстве на службу дедушкину благоутробию. О Вере, внучке: «…и от каждого обеда у Веры оставалось такое впечатление, что когда потом она видела, как гнали овец или везли с мельницы муку, то думала: «Это дедушка съест»[48].
Рассказ этот написан об ужасе участия в жизни через одно только потребление, когда оно расползается по всей жизни, по всем часам и дням ее, вытесняя деятельность, производительность, работу.
Нечто сходное звучит и в рассказе «Учитель словесности» (1894), рассказе о том, как удручающе действует на человека бытовое счастье, когда оно несопутствующее[49] обстоятельство, но цель жизни, когда человек становится рабом его[50]. Надо с этими рассказами
85
соотнести фантастического «Черного /монаха» (1894). Молодой ученый, философ, задыхается, как тот учитель словесности, от благополучия, за ним слишком ходили и слишком его выхаживали. У него появляется двойник — черный монах: это его собственная духовная жизнь, которой нужно было, чтобы спастись, обособиться, выбраться из недр его личности, из недр чересчур счастливого быта, в котором личность эта погрязла, а вместе с нею и дарования и таланты. Потребность Чехова «заглядывать за кадр» однажды приняла гигантские размеры: когда он в лучшие свои годы отправился в путешествие на Сахалин и потом стал шисать большую книгу о сахалинокой каторге. На этот раз он заглянул за кадр не чьей-то домашней жизни, но за кадры Российской империи, всей как она есть, с теми явлениями, страшными и постыдными, которые гак старательно она таила от непосвященных.
По-пушкински, по-толстовски Чехов стоит за простую мирную жизнь, полную деятельности, не отравленную преступлениями, большими и малыми против человека и человечности. Чехов не жаловал событий ради событий, презирал классическим презрением русских писателей литературные эффекты. Самое существенное в повести «Дуэль» (1891), что дуэль не состоялась, добрые люди в последнюю минуту не допустили до убийства, и поэтому отрадным для читателя разочарованием кончается эта повесть, по ходу своему сулящая торжество жестокости.
Напоминаем о «Каштанке» (1897): затерявшаяся эта собака сделала внезапно блестящую карьеру, стала выступать с клоуном в цирке. Но былой ее хозяин, Лука Александрыч, и сынок его узнали Каштанку в самом разгаре представления, позвали ее, и она бросилась с арены к ним на галерею. Каштанка вернулась в детский мир, в жилье, где пахло столярным клеем. Хозяин был существом далеким от идеала, жизнь в старом хозяйском доме была бедная, но был в ней честный минимум, пересиливший всякую мишуру, которую познала Каштанка в период артистической своей карьеры.
На параллелях к «Дуэли» и «Каштанке» написан рассказ «Белолобый» (1896): волчиха ночью крадет из сарая, как она думает, ягненка, но оказывается, то был веселый щенок, вместо убийства получаются ми-
86
лые игры волчат со щенком, позволяющие им забыть на время голод. Волчиха, старая, больная, делает попытку съесть щенка и не может. Волчий рассказ со счастливым концом, без крови, как раз тот, какой и хочется рассказать Чехову.
Изображение старой России с остывающей в ней жизненной практикой, старой России, где остывание распространяется и на новые как будто бы явления — на практику коммерсанта, буржуа, предпринимателя, изображение это у Чехова дополняется и особой трактовкой духовного мира, возвышающегося над миром практическим. Читатели Чехова присутствуют при подлинных «сумерках богов» — один за другим поникают старые авторитеты, с чьей бы стороны они ни поддерживались. Разумеется, прежде всего отмена касается авторитетов официальных. Актеру Вишневскому Чехов сказал, слушая перезвон колоколов: «Это все, что осталось у меня от религии»[51]. Но Чехов более не доверяет и известным ему течениям русской общественной мысли, хотя в иных случаях готов признать исторические заслуги того или иного из них. Герой рассказа «На пути», скитавшийся и телом и духом, перечисляет довольно «продлинновенно», чему он верил и во что перестал верить: сюда входит чуть ли не все, начиная со славянофильства. Хорошо известен отход Чехова от народников, еще влиятельных в те дни. С литературой народников он довольно явственно ведет полемику своими крестьянскими повестями: «Мужики», «В овраге», «Новая дача»[52]. Он считает, что и народовольцев отвергла история,— об этом можно узнать по «Рассказу неизвестного человека». Нужны другие способы борьбы со злом. В рассказе «Хорошие люди» (1886) изображается мелкий приверженец обветшавших либерально-демократических идей. Сестра его, неспокойная женщина, раздражает его своими поисками чего-то иного. Она проявляет интерес к доктрине Льва
87
Толстого о непротивлении,— не видно, чтобы она принимала эту теорию; по всей вероятности, непротивление для нее только временный перерыв, отказ от устаревших способов противления сопротивлению, в ожидании перехода к новым. Очевидно, так оценивал толстовскую идею и сам Чехов. Народники и либералы громко обвиняли Чехова в безыдейности. Об этом же при жизни Чехова и после по-своему писали символисты, хотя и признававшие безусловно высокую силу Чехова-художника (таков, например, некролог Чехову, написанный Андреем Белым). Были охотники удержать Чехова навсегда в этом промежуточном состоянии, от одних идей отошедшего и к другим идеям не пришедшего. Старые идейные программы вызывали у Чехова отвращение, он написал в письме однажды, что в слове «идеал» ему слышится нечто мармеладное[53]. Замечательно, однако, письмо к Суворину, которое все целиком стоило бы цитирования и из которого приводим самое насущное, сравнение классических писателей с современными: «Лучшие из них (—классики) реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но от того, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас. А мы? Мы! Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше ни тпру, ни ну… Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати»[54]. В другом письме к Суворину со всей решительностью Чехов отбрасывает тезис «жизнь для жизни», за которым он чует тезис обывательский: «цени то, что есть»[55]. По Чехову, нельзя утрачивать цели — понимание цели может меняться, само же наличие цели есть вечная потребность в человеке. Свой период Чехов считал междуцарствием целей, по-своему плодотворным, ибо исподволь вырабатываются новые, более широкие, от решения «вопросиков» переходят к «вопросам», как говорится в том же рассказе «Хорошие люди». Рост и
88
широта требований у зрелого, у позднего Чехова — симптомы приближения русской революции.
Люди, описанные у Чехова, его современники, утратили веру в свой мир и, последовательно, утратили веру в самих себя. Все шатко, все сомнительно, все может быть, как говорит старик маляр в повести «Моя жизнь». В повести «Дуэль» говорит дьякон: «А вот у меня есть дядька-поп, так тот так «верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера!»[56] Вера, заложенная на камне, именно то, чего лишены люди, описанные в повести. Именно в этой повести и слышно постоянное «никто не знает правды». Герой повести Лаевский ни в чем не тверд. Когда он застает свою жену в самой подозрительной обстановке, это не вызывает в нем прямого эмоционального отклика, он едва ли знает, как отнестись ему к увиденному. Кажется, что он потерял собственную реакцию, как это случилось у Гоголя с гостями Чертокуцкого, когда они нашли его, хозяина, спрятавшимся от них в коляске: «А вы здесь! — сказал изумившийся генерал», — генерал, который успел изумиться раньше, чем разгневаться, как требовали того обстоятельства. В повести Чехова человек с непреклонными убеждениями — ученый зоолог фон Корен, исповедующий идеи социального дарвинизма, по природе своей злой и нравственно бездарный. Фон Корен верует в дуэль, в право свое устранять из жизни людей, не выдерживающих критерия видового отбора, например, Лаевского, «макаку», по определению фон Корена. В повести Чехова плох Лаевский, еще хуже фон Корен, настоящие люди не даны, но заданы, налицо есть материал для них, как в добряке дьяконе, в добряке докторе Самойленко.
Люди у Чехова уязвимы со стороны случая. В классической новелле человек овладевал случаем. У Чехова обратное, случай становится хозяином человека. Чехов — великий мастер показывать, как один человек меняется в присутствии другого, как люди окрашивают друг друга, исподволь, сами того не зная, дают направление один другому, поощряют, сдерживают, ограничивают.
89
Рассказ «Соседи» (1892): помещик мчится к соседу-помещику, весь дымясь от оскорбленности. Сосед, как он считает, соблазнил его сестру, нужна месть и скорая расправа. Соблазнителя он застает у дома, под мелким дождиком. Соблазнитель без шляпы, в ситцевой рубахе, за ним несут ящик с гвоздями, он собирается чинить ставню. Ото всего веет скукой столь примирительной, что сразу же обвинения, дурные слова, драка, дуэль, становятся невозможными.
Чехов ничуть не склонялся к тому, чтобы лелеять человека, слабого в своем самоопределении, растерянного перед лицом счастья, когда оно само идет к нему в руки. В рассказе «Верочка» (1887), как бы загодя, предваряя многие другие рассказы, вырабатывается у Чехова формула осуждения: бессилие души. Чехов людям своим не прощал робости, внутренней издерганности, тусклого сознания собственных своих прав, отказа от личной свободы, от любви, от красоты. Современники Чехова, как видим по его рассказам, изверившись в спасении человеческой личности, перестали доверять ей самой, не находя средств спасения, стали отрекаться от цели, и тут Чехов не делал современникам уступок, был тверд с ними. Нужно различать, где Чехов и где его персонажи. «Дама с собачкой» (1899) — превосходнейший рассказ, из чего не следует, что Чехов всецело на стороне двух главных персонажей, что их любовь и по Чехову идеал любви. В поведении их есть что-то рабское: над дамою с собачкой господствует муж, над ее возлюбленным господствует жена, оба они встречаются за спиной господ, крадучись и прячась. В юности Чехов написал рассказ, «где дается героический прообраз негероической истории Анны Сергеевны и Гурова. Рассказ назывался «Агафья» (1886). Агафья, (молодая баба, приходит на свидание к Савке — пастуху, известному в деревне женскому любимцу, — приходит в поле, майским вечером. Хорошо видна железная дорога, хорошо виден поезд, которым, как известно, возвращается домой на ночлег стрелочник, муж Агафьи. Но она остается с Савкой до утра, готовая потом принять на себя зверские побои стрелочника, от которого, как она знает, пощады не будет, — стрелочник готов убить ее. Агафья возвысилась до бесстрашия страсти, а Гуров с Анной Сергеевной не возвысились.
90
По рассказам Чехова самые широкие требования к жизни более всего сообразны сути ее. Широта входит в природу человека; когда взывают к широте, то взывают ко всему человеку, ко всему, что его составляет, и в ответ являются энергия, настоящая способность жить и действовать. Всякая узость идет против истинных масштабов жизни, и поэтому она кончается насилием над нею. Так, в рассказе «Дом с мезонином» (1896) спор идет между узостью и широким отношением к вещам. Узость, догмат — это Лида, учительница. Чтобы одерживать идейные победы, ей нужно изувечить себя, изувечить судьбу сестры, художника, который осмелился повести с ней этот спор. Не случайно за интересы жизни стоит художник — искусство призвано опровергнуть бездарную и тираническую доктрину. Быть может, в этом рассказе яснее, чем в других, чувствуется, что силы жизни освобождаются в людях от привычных форм, что жизнь потекла не так, как ей навязывали и приказывали. Лида действует с ожесточенностью, потому что веет уже отменой догматов, которыми она так дорожит. В этом рассказе с грустной фабулой присутствует настроение свободы и счастья, неведомо чем и как зароненное. Видно, что люди, которых считают правильными, заблуждаются и что неправильных ведет верный инстинкт. Первое впечатление рассказчика от ландшафта, от человеческой среды, куда он попал, и оно же самое несомнительное, впечатление «хорошего сна».
Весь Чехов в ожидании новых и свободных сил, которые овладеют положением. Пали и падают авторитеты, Чехов не верит в теоретиков больших и малых, которые доселе брались учить и направлять. Эти «хорошие люди» — вчерашние люди. Чтобы продлить свою власть над умами, они не откажутся насиловать умы. Чехов рассчитывал на так называемых «средних людей», на водимых, не ведущих, ожидая, что новая мысль и новая инициатива выйдут из этой среды, что новые необыкновенные родятся от этих обыкновенных.
С первых шагов его в литературе Чехова восприняли как писателя, по темам своим не столичного, провинциального, но провинциальные темы у Чехова имеют только предварительное значение, он совсем не собирался как писатель запереться в провинции — он там искал большое будущее России, материал для сме-
91
ны умов и душ. В писательстве своем
Чехов поступает, как скифы с войсками царя Дария: он заманивает нас в глубь
страны, мы не заметили, как уже очутились в самой глубине России, и тогда Чехов
дает нам понять, куда мы зашли, — обыкновенно по отрицательным знакам. В
рассказе «На пути» описан какой-то трактир, где пережидают проезжающие, всякий
люд из неведомой России. Подчеркнут портрет шаха Наср-Эддина, висящий на бревенчатой
стене, — удивительный здесь своей неуместностью, своей дальностью от трактира и
его гостей. Этот портрет — знак того, сколь много верст от этих людей до
официальной политики и цивилизации. То же самое в повести «Мужики»: в избе у
старосты, отобравшего самовары у недоимочных мужиков, висит портрет
Баттенберга. Старик Чикильдеев входит в избу и крестится, как на икону, на
Вероятно, жизнь в Мелихове была тем периодом, когда Чехов приблизился к систематическому познанию подлинной, невидимой, скрытой России. Где-то в конце года 1900 или в начале 1901-го Чехов жаловался Максиму Ковалевскому по поводу обреченности своей на Ялту и вспоминал подмосковное Мелихово: «Я, живя в Московской губ., на десятки верст в окружности знал чуть ли не каждую избу и мог писать о том, что видел и слышал»[57]. Мелихово давало выход в страну, мелиховские впечатления — тот образ, через который страна открывалась для Чехова.
92
Вероятно, следует начать обзор людей «глубокой России» с рассказа «Иван Матвеич» (1896). Ивану Матвеичу, собственно, не подобает еще по юности лет называться то имени и отчеству — ему лет восемнадцать. Так именует его старый профессор, к которому он ходит на дом, чтобы под диктовку переписывать профессорские сочинения. И вот в рассказе, как мы начинаем замечать, отношения перевернуты против обыкновенного, не профессор преобладает в разговорах и завлекает речами, а незаметным для обоих образом скромнейший и милейший Иван Матвеич. В рассказе этом Чехов выводит профессора ненужного, но добродушного, позднее будет он выводить ненужных, но злобствующих, как профессор Серебряков в драме «Дядя Ваня».
Сообразно умонастроению Чехова сюжет на том стоит, что старому профессору нечего сказать этому юнцу, занесенному в дом к нему с полей, с улиц, добравшемуся в науках не далее четвертого класса гимназии. А у юнца полон рот рассказов — рассказов с воли, о вещах одна прекраснее другой: например, о том, как дома у них в донской области весной тарантулов ловят и как осенью ловят птиц. Профессор заслушивается, Иван Матвеич для него сама конкретная жизнь, сама природа, забытая им. Иван Матвеич описан весь с головы до ног — до сапогов с подстилкой, до того сапога с дырой, откуда выглядывает белый чулок. Конкретность Ивана Матвеича поддерживается способом выводить его, тоже конкретным. Когда же выводится профессор, то совсем опущено описание наружности, фигуры, повадки, одежды. Жена профессора где-то в другой комнате, перед читателем она не показывается, профессор только издали переговаривается с нею. Профессор распустился в абстракциях, все к нему относящееся тоже абстрактно, безвидно, дом его только и оживает, когда в переднюю входит Иван Матвеич: вещи становятся вещами, люди — человеками, а жизнь превращается в подлинное течение жизни.
Профессор, как явствует из текста, по специальности экономист, социолог, один из тех, кого печатали в либеральных тогдашних журналах, что потолще. В письме к брату Александру Чехов предостерегал его против «продлинновенных словоизвержений политико-социаль-
93
но-экономического свойства»[58], — тут как бы имелся в виду профессор из этого рассказа. Диктант профессора Ивану Матвеичу протекает так: «Суть в том… запятая… что некоторые, так сказать, основные формы… написали? — формы единственно обусловливаются самой сущностью тех начал… запятая… которые находят в них свое выражение и могут воплотиться только в них… С новой строки… Там, конечно, точка…»[59]. В фразе профессора — туманный трудный синтаксис и ни одного реального, жизнеподобно звучащего слова. Передача фразы через диктант разоблачает эту фразу, обнаруживает, насколько она по смыслу своему маломощна. Точка, запятая или красная строка, представленные графически, сами словами, конечно, не являются. Когда же они названы вслух, как при диктовании, то неизбежно из них делаются тоже слова, добавочные, лишние в предложении. Они получают равноценность с настоящими, основными словами, ставят их под сомнение, усиливают сомнение, под которым они и без того находились. Идет диктант, и фраза за фразой кажутся не больше как упражнением для голоса, все утопает в дикции и в фонетике, возрастает та подозрительность относительно содержания и смысла, которую вызывало профессорское сочинение с самого начала. Сквозь диктант, с его помощью получают свое выражение не столько мысли профессора, сколько чувство наше, недоверие наше к ним.
Другая встреча наша с диктантом, как особой формой выразительности, в рассказе Чехова «Дом с мезонином» (1896). Заключительное появление строгой Лиды, гонительницы художника и его любви к младшей сестре: она диктует девочке из басни Крылова — «вороне где-то бог…». Все педантство Лиды просвечивает сквозь это превращение самого Крылова, его стихов, его вороны и вороньего сыра в материал по орфографии и пунктуации. Довольно медленно пропускает Лида стих Крылова через мясорубку диктанта; чем сильнее нажим, с которым выговариваются и повторяются отдельные слова, тем вернее освобождаются они от смысла, художественного, элементарно логического, всякого, и тем труднее соединяются (потом снова друг с другом. Роко-
94
вую роль играют повторения: кусочек сыру, кусочек сыру… — через них-то фраза и превращается в заводной механизм, который подкручивают и еще подкручивают.
Когда диктуют, то отвлекаются от смысла, хотят только, чтобы друг за другом все слова и знаки пунктуации были начертаны, — смысл же не дело диктующего в ту минуту, когда он диктует, ни того, кто пишет под диктовку. Поэтому диктант становится у Чехова средством подчеркнуть бессмыслие, выказать его. У профессора, у Лиды, у каждого по-своему диктант — занятие, связанное с их профессиями. Чехов заставляет их диктовать, разумеется, не ради того, чтобы усилить их профессиональный облик. Диктант у Чехова применяется не описания ради — описания профессионального быта привычных занятий, но применяется метафорически. Так высветляется человеческая суть этих людей, стилистика диктанта как бы становится стилистикой их душ, раскрытием ценности их душ и дел, бедного смысла, а то и вовсе бессмыслия, царящих в их внутреннем мире.
Быть может, юмор диктанта подсказан был Чехову Л. Толстым. В повести «Детство» учитель Карл Иванович, которого хотят уволить, выражает свои обиду и огорчение через немецкий диктант. Он тоже диктует по слогам и по дороге указывает, где писать с большой буквы. Диктант у него — особый род лирического высказывания, но и учебные цели при этом нисколько не забыты. Карл Иванович слишком добросовестен, чтобы в диктанте иметь в виду одни лишь потребности собственной души, поэтому и клокотание чувств, и учебная полезность — все идет вместе
Рассказ об Иване Матвеиче — образец юмора у Чехова, юмора по природе своей лирического, сочувственного. Из Чехова можно хорошо увидеть, что такое юмор: положительные силы жизни, обставленные, однако, комически, предстающие в комическом контексте, который изнутри затрагивает их самих. С юмором, сквозь юмор изображается Иван Матвеич, у которого бескорыстно доброе отношение к природе, к жизни, не отвечающих ему той же добротой. Он расхаживает полуоборванным, полуголодным, но без житейской его неустроенности не было бы и его беспечности, его способности созерцать вещи и радоваться им. Будь он при месте, будь кандидатом в дельцы, в чиновники, он бы душу свою потерял,
95
а так она цела и невредима. Те же условия, что делают его смешным, немножко мешковатым, потерявшимся, они же поддерживают в нем поэтическую личность. Одно и то же играет в этом человеке и за и против, не будь комизма во всей фигуре Ивана Матвеича, профессору было бы не так легко допустить, чтобы Иван Матвеич поучал его и открывал перед ним мир, но комическому человеку многое прощается. Комизм ограничивает положительные силы, обкрадывает их, и он же их охраняет, им позволено существовать, покамест они заключены в свою комическую форму. Комизм делает положительные силы безобидными для тех, кто им противится.
В рассказе «Злоумышленник» (1885) юмор проникает туда, где, казалось бы, для него нет места. Мы имеем здесь дело с юмором преступления, и даже серьезного. Судят мужика за отвинчивание гаек, которыми прикрепляются рельсы к шпалам. Это прямая угроза поездам, так происходят крушения. Мужику нужны были грузила для рыболовных снастей, гайки очень хороши для этого. Своей преступности обвиняемый понять не может, что бы ни внушал ему следователь. В рассказе сталкиваются мир с миром, техника с техникой. Замечательно, что обвиняемый, не представляющий себе, что такое железная дорога, отлично разбирается в другой технике, своей, деревенской. Значит, дело не в технике как таковой, а в ее внутренних качествах, в каждом случае иных, оцениваемых то по-одному, то совсем по-другому. Бедняга злоумышленник отлично разбирается в технике рыболовства; здесь для него всякая техническая деталь — живая, так как она входит в живое для него занятие. А железная дорога для него мертва, абстрактна, мужики в поездах не ездят, поэтому ее не понимают и не могут понимать. Герой этого рассказа совершает преступление в непонятном ему мире, в котором он пребывает, не участвуя в нем. Он виноват перед железной дорогой, но прежде того железная дорога была виновата перед ним, исключив его из числа пользующихся ею. Обвиняемый говорит о своих рыбах, как поэт и знаток, по качествам души он менее всего преступник. Его держат под судом, а по душе своей он сама несудимость. В самом своем преступлении он смешное доброе дитя, не подозревающее, чтобы в его деяниях могло содержаться сомнительное и дурное. Он приучен жить в живом для него мире, и, если угодно, вот социальная мо-
96
раль рассказа: сделайте так, чтобы мир цивилизации с гайками и рельсами тоже стал для этого человека своим, живым, тогда не будет надобности применять к нему статью закона.
Рассказ «Ванька» (1886): Ванька Жуков, привезенный из деревни в Москву и отданный на выучку сапожнику, с Москвою плохо освоился, хотя и живет там три месяца. В жалобном письме, которое он шлет домой в ночь под рождество, написано: «А Москва город большой. Дома все господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит…»[60]. Очень странно начинать описание Москвы с описания животного мира в ней, что есть в московской фауне, и в чем она отказывает. От животного мира Ванька и далее не отрывается, после рыб Ванька опять возвращается к тетеревам, рябцам, зайцам, которых видел он в мясных лавках. Ванька духовно так и остался в деревне. Животные, рыбы, птицы — те же подробности домашнего хозяйства деревни, рыболовства и охоты. Преимущество Москвы в большем выборе принадлежностей для рыболова — крючки прямо с леской. Москва — гигантская и странная метаморфоза леса, поля, реки, возле которых вырос Ванька. В письме Ванька просит, чтобы золоченый орех с елки спрятали для него в зеленый сундучок. Подробность о зеленом сундучке важная, она говорит, насколько Ванька весь принадлежит своей деревне, все помнит там, ничего не забыл. И ясно, отчего это: в деревне над Ванькой не было хозяина — сапожника, зверской нескончаемой работой Ваньку не тиранили, выволочек не устраивали, по ночам он спал, а не баюкал хозяйское дитя. Деревня — воля и приволье. Ванькина душа и память там, где была воля, сама душа — жизнь на воле.
«Иван Матвеич», «Злоумышленник», «Ванька» — все рассказы о живых душах, притаившихся в глубине России, в глубине русской жизни. Ни тот, ни другой, ни третий — никто из них не стал приспособляться. Каждому была отпущена его мера страданий и неудобств за это, но в награду они располагали каждый внутренней сво-
97
бодой, пусть малой, пусть маленькой. Все они ропщут по-своему, но, должно быть, Ванька Жуков громче всех, на всю Россию. Ванька надписывает свое письмо, через которое, он надеется, будет он услышан и спасен: на деревню дедушке. По представлениям Ваньки, существует одна только деревня и один только единственный дедушка. С адресом Ванька сделал печальнейший промах, зато в этом адресе сказалась, как и во всем остальном, Ванькина конкретная душа — все мы любим Ваньку не только за его письмо, но и за наивный адрес. До дедушки Константина Макарыча письмо не дошло, до нас — дошло, уже сменилось несколько поколений, и до всех оно доходит.
Рассказ «Мечты» (1896) о бродяге, которого ведут через лес сотские. Вся жизнь у него была несчастная, мальчонком без вины попал на каторгу, бежал оттуда и вот теперь сказывается бродягой, чтобы получить плети и поселение, а не снова каторгу. Поселение в Сибири он сотским описывает как светлый рай — это и есть его мечта. В Сибири у него будут и удивительная природа, и дом, и хозяйство, и семья и дети. Страшный юмор: размечтался о будущем человек тщедушный, слабый, которому, как он знает, дадут не то тридцать, не то сорок плетей. Мысль о счастье перед плетьми, перед трудной многоверстной дорогой, которую после плетей тоже нужно выдержать. Это рассказ о неувядаемости человеческой души, ее несоответствии обстоятельствам. Человеческая душа способна устоять, удержаться в самом трудном, косом положении, в какой-нибудь ложбинке, в тесном месте, когда нужно подбородком уткнуться в собственные колени и когда неизвестно, что делать с руками. Чеховский бродяга как будто умеет жить и дышать свернувшись. Похоже на детей в доме людоеда, спрятавшихся от хозяина, чтобы их не было слышно. Юмор живой души, при обстоятельствах, всесторонне ее отрицающих, это и есть юмор рассказа «Мечты». Крохотная свобода и та хороша, бродяга старается прильнуть к ней всей душой, расширить ее. Рассказать о такой угнетенной и загнанной, но не сдавшейся душе — это и значит расширить ее права, подоспеть к ней на выручку. Рассказ Чехова — укрупнение того, что бывает в действительности.
Рассказ «Душечка» (1898), как известно, очень трогал Льва Толстого. В послесловии к «Душечке» Лев
98
Толстой писал, что Чехов в этом рассказе отказался от своего первоначального намерения и поступил вопреки ему: хотел осмеять героиню, а чувство художника велело ее прославить, и он прославил. Мы теперь знаем, что это подтверждается и самой историей написания рассказа[61]. В первом проекте рассказа Чехов склонялся к фарсу, потом фарс вытравил, но в основе рассказа остался комизм, по сути рассказа необходимый в нем. История душечки у Чехова рисовалась вначале так: сперва была за артистом, потом за кондитером…[62] Одного человека с эфемерной профессией сменил другой со столь же эфемерной, душечка оказывалась в малореальной, водевильно-фарсовой среде. В окончательной редакции мужья у душечки более прозаические, зато и более солидные люди, с их приходом растет в рассказе правдоподобие: антрепренер, дровяник, ветеринар. Профессии очень важны, ибо каждый раз душечка через своего нового мужа влюбляется в его деловые интересы и в предмет этих интересов — то в театральные предприятия, то в дрова, то искусство врачевания скотов. Глубокое содержание рассказа в непрестанной борьбе с комизмом — нежнейшая лирика все время здесь соседствует с комизмом, опаснейшим для нее. По Чехову, в жизни, как она, есть, лирическое и прекрасное возможны только в чуть-чуть скептических формах, даже двусмысленных. Прелестные качества душечки возникают на комическом корне, она существо почти безличное, поэтому так предается чужим делам и интересам, она хороша лицом и телом, она приносит людям собственное тело, чтобы те поделились с нею душой, которой ей недостает… Может показаться, что она Манон или Ундина дровяных складов, как Манон, она забывает в одной любви другую, как Ундина, она ждет, кто бы вселил в нее личную душу. Но она несравненно лучше и добрее обеих, и многими преданностями она зарабатывает себе, наконец, настоящую жизнь души — была душечкой, маленькой Психеей, а стала душой, какую надлежит иметь взрослому человеку. Последняя история душечки, история о том, как опекала она чужого мальчика, маленького гимназиста, снимает с душечки всякий комизм. Тут она проявляет са-
99
моотверженность в чистейшем ее виде, без примесей низшего порядка, эгоистических и биологических. Со страниц рассказа она уходит возвышенною и просветленною.
Очень много писали о стыдливости Чехова в отношении вещей прекрасных и высоких. Лучше бы говорить о другом, о том, как Чехов учил прекрасное и высокое не пряткам от враждебных глаз, но самообороне. До поры до времени прекрасное допускает в свою среду чуждые подмеси, чтобы под конец освободиться от них и восстать перед нами во всем своем совершенстве. Именно так ведет себя прекрасное у Чехова.
Рассказ «Душечка» как бы ответ Чехова другому, его же собственному рассказу, написанному несколько раньше, — рассказу «Ариадна» (1895). Ариадна — женщина, которая всем была сильна: происхождением, воспитанием, умом, образованностью, красотой, и при всем этом в ней скрывалась какая-то отвратительная тайна. Чехов вводит одна за другой подробности, очень странные, мало согласующиеся с обобщенным нашим представлением об Ариадне: оказывается, она нравственно весьма неряшлива, распутна, без темперамента, впадает в вялые похождения с одним случайным и малозначительным господином, необыкновенно для женщины прожорлива — ест и ест перед сном, а ночью просыпается, чтобы опять потребовать еду. Загадка Ариадны, которую Чехов нам загадывает, очень проста, хотя и отгадывается не сразу. В этой как будто бы незаурядной женщине можно отыскать что угодно, кроме одного — у нее нет обыкновенной человеческой, женской души. К этому рассказу особенно уместны легкие параллели с «Манон» и с «Дамой с камелиями». Ведется он у Чехова от имени молодого изящного господина Ивана Ильича Шамохина, московского помещика, профиль в профиль с кавалером де Грие и с Арманом Дювалем. Подобно Манон или Маргарите Готье, Ариадна уже издавна терзает его, он любит эту женщину и мучительно не понимает ни ее самое, ни ее поведение. Он не решается думать, что его возлюбленная, жена, невеста — кукла, изнутри отвратительно пустая, такой родилась и такой ходит. Замечательно, что отсутствие души Чехов считает самым странным из парадоксов, той игрой природы, которая более всего смущает. В конце концов будто бы блестящая Ариадна оказывается банальнейшей женщиной — «дамой», каких на земном шаре миллионы. Это и следует запи-
100
сать за Чеховым: банальный и сверхбанальный человек Чехову не представляется естественным явлением, нет, банальность — тайна, мучительная головоломка. Чехов при всех противопоказаниях держится доброго мнения о человеческой природе. Если нрав Ариадны — правило, то и правило становится для Чехова предметом удивления.
Чехов очень дорожит живыми душами, найденными там, где их не всегда ищут, проявившими себя среди величайших трудностей. Старый мир распался вплоть до отдельного человека в нем, обновление и восстановление тоже должно начаться с отдельных душ.
В рассказе «Невеста» говорится о связи одряхления и новизны, выступающих вместе, как бы одним-единым актом, новизна выглядывает непременно из-под старого, устаревшего, осуждает и отменяет его одним своим присутствием. Надя вернулась погостить в родной город, у родных, которых так стремительно и неожиданно покинула не так давно еще. «Надя ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в городе все давно уже состарилось, отжило и все только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего»[63]. Для Чехова чрезвычайно важны были в современной жизни задатки будущего, пусть робкие. Недоговоренное для него порою дороже сказанного всеми словами.
Не было для Чехова вернейшего признака, что человек туп, омертвел умом и душой, если тот не способен был вообразить несходство дня сегодняшнего с днем завтрашним, если тот знакомое и привычное возводил в степень абсолюта. Страшный человек, описанный им под именем «печенега», совсем растерялся, когда услышал про вегетарианство: как же это свиней резать перестанут и как же это из свиней не будут делать ветчины?
Очевидно, рассказ «Человек в футляре» (1897) как бы назрел в среде других рассказов Чехова, должен был родиться с неизбежностью. Ужас застоя, боязнь движения и будущего так часто бывали описаны у Чехова в тех или иных своих подробностях, что все это должно было сосредоточиться где-то ради полного и окончательного расчета с ним, и так появился «Человек в футляре». Учитель Беликов всегда и всюду прибегал к футлярам и еще футлярам, гроб — последний его футляр, верней-
101
шая гарантия против опасностей дышать и жить. Учитель Беликов, когда его уложили в гроб, как бы достиг своей верховной цели, собственные похороны — высшее торжество для него. Но это же и избавление от Беликова для гимназии, для города, для общества. Новелла о человеке в футляре обладает весьма явственным «силуэтом», на решающей точке она получает поворот в обратную сторону. Гроб оградил Беликова от жизни, чтоб оградить и жизнь от Беликова. Футляр — та метафора, которая скользит вслед за Беликовым, примеривается к любому эпизоду его биографии, всегда получает новые подтверждения и новые добавочные черты. Но гроб-футляр — это и последний высший расцвет метафоры, это и полное ее опадание. Во всякой метафоре налицо некоторый элемент игры. В метафоре, которая идет через всю биографию Беликова, игра под конец чрезвычайно разгорается, чтобы тут же и погаснуть. Гроб — футляр: мы тут прощаемся с поэтическим образом, чтобы получить взамен незыблемое обозначение вещей как они есть, Все выпрямляется и деревенеет в этой истории человека, искавшего для себя футляров и нашедшего под конец самый несомненный. Форма рассказа приходит к пунктуальнейшему совпадению с внутренним смыслом его, сквозной поэтический образ превращается к развязке в понятие, чуть ли не в термин, к чему он втайне и стремился как к своему пределу.
Живые души, тронутые будущим, носящие его в себе, — это поэзия, это лучшая эстетика Чехова. Рассказ «Красавицы» (1883) своеобразнейшее введение в эстетику, поэзия по поводу поэзии, как бы декларация Чехова по поводу основ прекрасного. Феномен красоты и то, как он переживается, описаны у Чехова с глубиной и достоверностью, напоминающими Льва Толстого, как у Льва Толстого, это бывает перед нами не чья-то мысль, но изнутри ее же самой прояснившаяся природа вещей. Сама природа вещей благоволит раскрыться и изложить перед нами, что же в ней заложено. Перед нами тот единый внешне-внутренний опыт, удивительные образцы которого так хорошо известны через Льва Толстого.
По рассказу Чехова красота разбросана и здесь и там, но собрана красота в изображении двух девушек — «красавиц». Уже то обстоятельство, что в русском языке (впрочем, не в одном русском) красота грамматически
102
женского рода, уже оно одно побуждало русских писателей, от Гоголя до Чехова, выводить красоту в образе женщины. Описание одной, потом другой у Чехова равносильно целому трактату о двух типах в мире прекрасного.
Чехов, как все русские художники, очень подчеркивает внутреннюю духовно-душевную природу красоты. Где отсутствует это начало, там обман, там, быть может, подкупают вас, но ненадолго. В его повестях попадаются совсем иные красавицы, чем описанные в этом рассказе. Тут настоящие — там мнимые, добрые звери, как Фекла в «Мужиках», или же злые и опасные, как Аксинья в повести «В овраге». Красота заложена внутри вещей, поэтому и постигают ее только на внутренних путях. Ее нельзя присвоить, ее можно только усвоить через собственную духовную работу. Можно находиться рядом с красотой и остаться чуждым ей, если в нас не заговорит внутренняя жизнь, встречная внутреннему миру красоты. Такое состояние духовной разрыхленности, вспаханности и изображает Чехов в этом рассказе: оно у всех, кто созерцает красоту, вбирает ее в себя. «Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и з лужах, дрожит на деревьях; далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток… И подпасок, гонящий коров, и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа — все глядят на закат и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота»[64]. ПоЧехову, переживание красоты есть нечто очень личное, малопонятное, интимно затрагивающее человека отдельно взятого, и в то же время нечто непременное, обязательное для всех без исключения. Это и высшая субъективность и высшая объективность, и величайшее самоуглубление человека и величайшая его связанность с другими. В самом заветном своем «я», переживая красоту, отдельный человек в себе находит всех других, как свойственно это явлениям совести: эстетические переживания и этические строятся родственным образом, по совпадающим .принципам.
В рассказе Чехова очень хорошо передано действие красоты: она как бы подымает высоко свод, тяготеющий
103
над жизнью людей. По Чехову, тут налицо и восторг, и, что может казаться загадкой, тут и чувство потери, грусть. Чехов пишет: «Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон… как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем[65].
Возле этих строк и ближе к концу рассказа говорится, о чем же эта грусть: человеку красота указывает на утраченное им в себе же самом. Красота, однажды осветившая мир, так изменяет все, что нам становится боязно за наше место в мире, мы красоту признали, неизвестно, признает ли нас она. Наконец, в человека входит грусть о самой красоте. Она могущественна и в то же время, как говорит Чехов, «не нужна» — люди немеют перед нею и все же требуют, чтобы ее перед ними оправдывали, к чему она и какие у нее права.
По поводу девушки, внучки армянина, говорится в рассказе: «…вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие большие, темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд…»[66] Вместе с красотой канонизуется ее носитель, все в нем делается нормативным, все его качества, все его свойства, которые, собственно, красотой и не являются. Думается, это связано с происхождением красоты. Красота должна иметь широкое основание. У Чехова, у русских писателей основание по-особому широко, они очень многое забирают вокруг красоты. Цветок втягивает в себя целый метр почвы, ее ресурсов, нужен целый метр почвы, чтобы возник один-единственный цветок. Именно потому, что по происхождению своему красота гораздо шире красоты в собственном смысле, именно поэтому мы и чтим в красоте решительно все к ней относящееся, канонизуем ее носителя всего как есть и часто идем еще дальше, канонизуем всю его жизненную почву и все его жизненное окружение. Ведь и на самом деле все это повинно в красоте, содействовало ей, произвело ее. У Чехова святые происходят из Фирсанова — художнику нужно захватить все Фирсаново, чтобы святые получили свой настоящий смысл. В рассказе «Учитель словесности» описывается лирический восторг
104
героя, влюбленного в свою невесту, но мы должны вместе с героем воспринять и его в высшей степени прозаического приятеля, соседа и сослуживца, Ипполита Ипполитовича, да и семейство невесты, да и самое невесту, в которой немало прозы. Такой рассказ похож на лирическое стихотворение, потерявшее свою строго монологическую форму, в котором автор позволил бы возле собственного своего голоса звучать еще и иным голосам из мира прозы, то по-своему полезных для лирики, то разрушительных. Проза, окружающая поэзию, питала и питает ее, но она же может уничтожить поэзию в конце концов, после начального ей попустительства, — так и случилось в рассказе «Учитель словесности».
В рассказе «Красавицы» каждая из девушек неотделима от своей среды — почвы. Внучка армянина вся погружена в степное хозяйство этого старика, «вся в хлопотах по дому, в заботах о множестве предметов. Заботам она предается с легкостью и грацией, но ведь будет некогда недобрый час, дом и хозяйство будущего мужа съедят эту необыкновенную красоту. Вторая, девушка на станции, тоже слита со станционной обстановкой, с людьми, которые здесь живут, с их бытом и занятиями. Для всех проезжающих эта девушка — праздник, празднество, но выплыла она из станционной повседневности и там останется. О девушке с армянского двора Чехов говорит, что красоту ее художник назвал бы классической и строгой. О девушке со станции у Чехова сказано, что красота ее мотыльковая, быстро облетающая и блекнущая. Классическая красота врезана в черты, мотыльковая не столь выявляется вовне, классическая прочнее, мотыльковая кажется наносной, не пробившейся к сильной жизни. Но у Чехова и та и другая находятся под угрозой, обе требуют культуры, ухода, борьбы за них. В красоте мотыльковой больше обольщения, она больше тревожит нас, мы должны удерживать ее, иначе она уйдет. К зрителям она более требовательна, их задача упрочить ее, придать ей из собственных средств то, в чем она нуждается и чего недостает ей. Быть может, красота мотыльковая — переход к высшему типу, к красоте классической, в классическом типе мотыльковая красота получает свое окончание, она успокаивается в нем. Девушка со станции точно солнце, показавшееся в небе, по действию ее на людей. Поезд отходит от станции, где появилась перед проезжающими та «мотыльковая»
105
девушка. «Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне». И далее, последняя фраза рассказа, с абзаца: «Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи». Очень лаконично и точно передана перемена: над людьми было солнце той девушки, теперь солнца нет, вместо него свечи.
Красота, которую Чехов мог находить вблизи себя, по типу своему, конечно, сродни была «мотыльковой», лишь отчасти обнаружившая себя, лирически-затаившаяся, в окружении прозаизмов и комизмов.
Много писалось и пишется о Чехове — импрессионисте[67]. Эпизоды импрессионистические, конечно, налицо в прозе Чехова. Тем не менее Чехов был и остается великим мастером классического реализма, по общей системе своей далеким от искусства импрессионистов, хотя по частностям у него и встречаются совпадения с ними. Начались они еще в ту пору, когда, по всей вероятности, импрессионизм не был известен Чехову даже по имени. Импрессионизм тоже есть красота «мотыльковая», если говорить языком самого Чехова. Главный признак импрессионистической красоты, полагаем мы, тот, что она не рождается изнутри явления, из его недр, а приходит извне, из постороннего источника. Реалист Жюль Ренар написал в своем дневнике: «Чего только солнце не может сделать со старой облезлой стеной» (запись от 15 марта 1905 г.). Не из старой облезлой стены родилась красота в эту минуту, а от счастливых случайностей освещения. У того же Жюля Ренара по совсем иному поводу мы читаем запись, характерную для принципов художественного реализма: «Чтобы описать крестьянина, не следует пользоваться словами, которых он не понимает» (дневник от 11 февраля 1899 г.). Реализм держится локального принципа — он все извлекает из данных местных условий, он усиливает местный характер, а не отвлекается от него. Когда солнце светит на старую стену, то это равноценно эпизоду с человеком, которого описывают словами, чуждыми его собственному языку. Импрессионизм равнодушен к локальным краскам, его занимает лишь то, в какие одежды одевают предметы воз-
106
дух и свет. Импрессионизм забывает о старой облезлой стене и видит перед собой одно — что сделало с нею освещение. Импрессионизм либо вовсе отходит от качеств предмета как он есть, либо воспринимает их, но ослабленно, а для реалиста этическая природа предмета, внутри присущая ему характерность всегда и всюду будут обязательны и вполне отчетливы. Если художник-реалист широк, подобно Чехову, то он не станет пренебрегать игрою света на изображаемых им вещах по той причине, что свет идет извне. Ведь ,и солнце светит нам извне, а солнце — величайшая надежда, и пусть безотрадны сами по себе предметы, все же человек бывает счастлив, когда оно прогуливается по их поверхности. Пусть красота приходит извне, тем не менее следует ценить, что где-то лежат источники ее, пусть и далеко от тех мест, которые важны для нас сейчас, сию минуту. Само присутствие в мире красоты, независимо от того, чем обусловлено сейчас ее происхождение, содержит в себе обещание счастья повсюду и для всех. Необходимо воспитание в красоте для тех, кто мог бы приблизить ее приход в свою жизненную среду, в свой бытовой социальный мир. Красота стучится — откройте дверь. Дается знак, по которому должна что-то новое сказать жизнь во внутренних покоях. Стук со двора — ответ изнутри. У реалиста Чехова вырисован сполна весь трудный, некрасивый мир, который опустили бы импрессионисты, но Чехов не забудет и о том, что свет и солнце посещают этот мир и ведут с ним время от времени свой веселый разговор. Так, уже в очень раннем произведении Чехова, в «Драме на охоте» (1884), описаны очень душная среда, мрак распада, беспутств, предательства и преступлений. Почти все люди — темные, как мужчины, так и женщины. В целом своем произведение это — роман нравов и интриг, роман сюжетный и разоблачительный, тронутый, однако, в разных местах лирико-импрессионистическими описаниями, подробностями, метафорами. Первое появление следователя, одного из самых отвратительных героев романа: «За дверную ручку или за шляпу он берется, как за бабочку: нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами». В этом описании жеста содержится нечто неожиданное — изящество, грация, присущие этому человеку. Но нет, он ими пользуется, чтобы тем вернее продавать и убивать тайно, ускользая от суда и ответа. Оленька, играющая в романе столь двусмыслен-
107
ную роль, описана так: «Она была в ярко-красном, полудетском, полудевическом платье. Стройные, как иглы, ножки в красных чулках сидели в крошечных, почти детских башмачках»[68]. В этих людях, в следователе, в будущей любовнице его Оленьке, выносится на вид хотя бы отчасти свободное от их характеров, от роли, которую они играют или станут играть в жизни. Эти описания как бы окружены воздухом. Домик лесничего: «Митька с шумом, сопя, дуя и громко чиркая спичками, зажег две свечи и осторожно, как молоко, поставил их на стол»[69]. Сравнение «как молоко» — сразу же разрежает мрак в картине. Среди мрака и бед, уже надвигающихся, дается минута отдыха, свободы.
Эпизод импрессионизма в рассказе «Счастье» (1887): «Объездчик закурил трубку и на мгновение осветил свои большие усы и острый, строгого, солидного вида нос. Мелкие круги света прыгнули от его рук к картузу, побежали через седло то лошадиной спине и исчезли в гриве около ушей»[70]. Весь образ обновляется и омолаживается через игру света. В этом эпизоде очень видно, сколь свободная стихия свет, — свободная от предмета, который им освещается. Там же описано утро в степи, когда в степи все радостно пестреет, «принимая свет солнца за свою собственную улыбку»[71]. В этом все дело, по Чехову: свет и радость не твои собственные, но они кажутся твоими, они подают тебе надежду, что ты и сам, из собственных сил способен на них, раз ты умеешь на них откликаться. Реалист Чехов стоит за подлинную реальную реформу вещей в светлом смысле, но эта их реформа через блики огня и солнца имеет значение ободрения, напутствия, предыгры, пролога к реформе, которая и на самом деле будет проведена. В повести «Мужики» описан пожар в деревне: «Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то наверх»[72]. Можно бы сказать, что в этом эпизоде открывается нам, насколько письмо реалистическое и письмо импрессионистическое не покрывают друг друга, насколько один спо-
108
соб писать и видеть не сходится с другим. Здесь импрессионизм возможен ценою отказа от серьезности, от той серьезности, которую Чехов, художник-реалист, всегда считал основой дела. Да, очень живописны и необычайны красные овцы и розовые голуби в дыму, если думать только о цвете, но это картина несчастья, и это первое, главное, о чем забывать никому не позволено. Все было бы хорошо, живи цвет отдельно, но цвет отдельно не ходит, всегда к чему-то и к кому-то привязан, делит судьбу явлений, обладающих им.
Бывает, что краски положены на предмет, положены ненадолго, чуть повернется время — и краски сбегут. Нечто схожее в сюжетах тех новелл Чехова, которые именовали мы новеллами-сопоставлениями. Рассказу «На пути» предпослан эпиграф из Лермонтова: «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана…» Старый, очень истрепанный всякой непогодой и не павший духом человек встретился на пути, в ночь под рождество, с юной девушкой, которая добирается до отцовского хутора. Они-то двое и соответствуют внутренним темам эпиграфа: «утеса» и «тучке золотой». У них удивительный ночной разговор, вернее, говорит этот человек, а девушка умеет его слушать. Мелькнуло что-то сулящее счастье им обоим, мелькнуло и тут же рассыпалось, ибо очень уж они различны и по годам, и по настоящему своему, и прошлому. Время их дружбы — один этот единственный разговор. Девушка собирается к утру продолжать свою зимнюю дорогу. Когда она приехала, описывалось ее раскутывание из дорожных одежд, сейчас она укутывается, происходит «превращение живого человека в бесформенный узел». В этом содержится своя символика: какие-то часы человек побыл человеком, открылся другому, и вот он снова дорожная кладь, багаж, снова он существует перед другим по образу вещи[73].
Рассказ «На подводе» (1897) о том же, с некоторой переменой ролей, он счастливее, она несчастнее. Невесело живущей молодой учительнице померещилось в холодный, весенний вечер, когда на подводе она добиралась к себе в деревню, что жизнь прекрасна. Помогли
109
весна и встреча в дороге с мимоедущим в своей коляске помещиком Хановым, красивым, богатым, свободным, молодым. Эта девушка, заеденная нуждой, работой, как будто бы повстречалась с самой свободой, с простором жизни. Мы сказали: ей померещилось, это не совсем точное слово, ибо, по Чехову, такая встреча, такой вечер не напрасны, они оставляют след и им посвящается целый рассказ.
Обычно в рассказах люди бывают соединены друг с другом общим бытом, действенно, через практику жизни в тех или иных ее формах: дело, семья, любовь, дружба — вот что связывает их. Чехов имеет смелость сочинить рассказ, где ничего этого нет, вся суть в негласном, без слов, влиянии, которое оказал на минуту один человек на другого, сам о том не ведая. Человек влияет на человека издали, одним своим присутствием, одним светом лица и глаз. Увидеть человека — это уже значит испытать влияние, такое влияние и составляет тему рассказа. Взгляд пересекается со взглядом — довольно: можно считать, что произошло событие. Значит, жизнь людей не так уж бедна. Но это же говорит нам, как, по Чехову, ответственны люди друг перед другом, даже когда они об ответственности своей и не догадываются. Движение глаз есть уже поступок.
Лев Толстой, прочитав рассказ «На подводе», вынес приговор: «Превосходно по изобразительности, но риторика, как только он хочет придать смысл рассказу». Для самого Толстого не был новостью мотив действия на расстоянии, мотив нечаянных влияний одного человека на другого, мотив взаимозаражения, он сам научил этому Чехова, но Толстой не допускал, чтобы эпизод такого содержания оказался сутью целого произведения. В риторичности Толстой обвинил Чехова напрасно. Именно из желания избегнуть ее Чехов строит рассказы, подобные этому. Он откалывает от произведений Толстого отдельные фрагменты, придает самостоятельность тому, что у Толстого было бы только дробью, частностью. Центры, к которым частности эти тяготели у Толстого, для Чехова потеряли силу притяжения. Он не мог верить в эпопею этических связей между людьми, какой является, например, «Воскресение», последний великий роман Толстого. Покамест отыщутся новые идейные центры, Чехов предпочитал значительные подробности выписывать отдельно, отдельными рассказами, чем возводить
110
большое художественное здание, в подлинности скреп которого он сомневался.
Как своеобразные рассказы о «влияниях», о духовном действии людей друг на друга издали, можно рассматривать и рассказы «В сарае», «На святках». Мальчишка — свидетель непостижимого для него события самоубийства из-за любви. Вероятно, как от далекой звезды, смысл этого события дойдет до него через годы и годы, если дойдет («В сарае»). Деревня входит в город через малограмотное, но всякому читателю внятное письмо («На святках»).
Внутри большой повести «Моя жизнь», наполненной реальными событиями, связующей всех лиц, в ней выведенных, так или иначе явственными отношениями, есть лицо очень важное, однако же оставленное в резерве. Оно присутствует где-то в последней глубине рассказанного, действует издалека и тайно, не называясь, и в практическую связь событий так и не вступает до самого конца. Это Анюта Благово, девушка — Диана, красивая, строгая, молчаливая, великодушная, она любит героя и не смеет его любить, тайно помогает ему и сестре его в их бедствиях, он только догадывается каждый раз, чья дружеская рука здесь действует, но речей об этом нет. Очевидно, герой не делает никаких попыток приблизиться к Анюте, потому что связь с ним, человеком, выбывшим из общества, была бы для Анюты гибелью. И сам герой и автор щадят Анюту Благово, не унижают ее объяснением, почему живет она так, как живет. Скорее всего, над Анютой имеют власть предрассудки общества или же она считается с предрассудками родительского дома, не хочет наносить старшим удары. Если и напрашивается объяснение, как-то и в чем-то роняющее Анюту, то Чехов все же его не выговаривает. Чехов подает примеры рыцарского отношения автора к своим персонажам. Так в «Скучной истории» Чехов позволил нам прочесть в письме, которое писал Михаил Федорович, только полслова: «страстн…». Читать это слово до конца было бы безжалостным поступком. Михаилу Федоровичу совсем не пристало объясняться в любви, да еще в страстной. Ведь перед той же Катей он громил и отрицал весь мир, выходило, что нет ничего для него в этом мире. К тому же он стар, а Катя юная, и вот он пишет Кате письмо непочтенного содержания, показывающее, что все его прежние пессимистические речи и сарказмы были
111
только средством угодить Кате, смотревшей на вещи мрачно. У Михаила Федоровича совсем седая голова и черные брови, — в письме его к Кате заговорили одни только молодые брови. Владимир Благово, доктор, брат Анюты, — личность чрезвычайно эмансипированная, без предрассудков, и, однако, он неизмеримо слабее, ниже, чем Анюта, он даже пошловат со своими речами в пользу прогресса. Собственно, доктор Благово хочет, чтобы от предрассудков отказывались другие, когда это для него полезно. Он не позволяет сестре героя ссылаться на предрассудки, ибо тогда не состоялся бы роман его с этой девушкой. Чехов внимательно обходится с Анютой Благово, так как она существо чистоты необычайной, и чистота ее держится более глубокими и долговечными мотивами, чем те, на которые могла бы указать она сама или же окружающие. Анюта Благово — обещание лучшего устройства жизни среди современного.
В повести этой веет воздухом времен, еще не наступивших, но ожидаемых. В ней хотят найти влияние идей Льва Толстого. Герой повести как будто бы стоит за толстовское опрощение. Но опрощение в повести Чехова только тема и вовсе не проповедь. Опрощение у Чехова — частность, центр тяжести не в нем. Ни Чехов, ни герой его вовсе не собираются отменить высокий тип современной цивилизации, они хотят еще повысить этот тип через социальное и нравственное переоборудование ее.
Чехов и герой Чехова — против искусственной иерархии в обществе, основанной на сплошных случайностях и несправедливостях, наследственных правах, на привилегиях, на черных грехах против интересов общества в целом, которые, однако же, хотят узаконить навсегда. Герой Чехова стоит за естественную иерархию, основанную на призваниях, на качествах человека, на природе дарований и степени их. Герой повести — дворянин, сын известного в городе человека — становится маляром, вопреки всем насмешкам, возражениям и даже угрозам. Он выбрал ремесло маляра не потому, что отрицал другие, более высокие и сложные, профессии. Нет, он решил только за самого себя: малярное дело именно то, какое он будет делать хорошо. И, что не менее важно, дело это имеет свой очевидный смысл. Его могли бы бросить куда-нибудь по письменной части, но он презирает канцелярии за ненужность их. Антагонист героя — собственный его отец, городской архитектор, изуродовавший весь город
112
зданиями, которые он построил. Сын не отрицает искусство, он отрицает только бездарное искусство, ненавидит узурпацию бездарностей, захвативших дело, которое должны бы они передать в руки других. Отца своего, с его ужасными, лишенными воображения и подлинной мысли проектами домов и дач, герой считает преступником перед людьми, перед здравым вкусом их, перед самим искусством. От старого городского архитектора, чего бы он ни коснулся, исходит насилие — он дал детям своим нелепые, претенциозные имена Мисаила и Клеопатры и тем самым совершил над ними насилие на всю жизнь, запятнал своих потомков собственным безвкусием. Герой этой повести гнушается продажности, которая царит вокруг него, он не может закрыть глаза на взятки, подкупы, открытый грабеж, совершаемый с полной безнаказанностью, широтой и даже живописностью, как это, например, он наблюдает в инженере Должикове. Чехову писала читательница его В. Г. Малафеева — письмо от 18 ноября 1897 года, — в чем она видит содержание этой повести: «…подмеченное… в глухом, далеком от всяких веяний захолустье глубокое томление ищущего духа…»[74]. Отсюда она выводила, что лучшее будущее уже при дверях. Внутренний замысел и странность повести «Моя жизнь» именно в этом: в городе, где все посредственно и грязновато, проживает некто как бы заброшенный сюда из будущих времен человеческой честности и чистоты. Вокруг этой странной личности царит особый «микроклимат», чудо и соблазн для прочих, по-прежнему дышащих воздухом обманов, фальшивых репутаций, навязывания миру плодов собственной непризванности и тупости. Когда в повести появляется старик архитектор, мы замечаем между строк авторскую ярость. «Взгляни! — говорил он сестре, указывая на небо тем самым зонтиком, которым давеча бил меня. — Взгляни на небо! Звезды, даже самые маленькие, — все это миры! Как ничтожен человек в сравнении со вселенной!»[75] Не сам по себе жест с зонтиком компрометирует речь старого отца. Этот прозаический мотив врывается в уже готовую брешь. Возвышенные речи этого человека — сплошное пустословие. Человек, которому неведо-
113
мы ни возвышенные мысли, ни возвышенные чувства, весьма охотно артикулирует возвышенные слова. Жест с зонтиком только подчеркивает это — пустое небо над архитектором, тусклые звезды. Весь контекст тут скрытно-прозаичен, поэтому вступающая в дело прозаическая подробность усиливает прозу, вокруг лежащую, вступает с нею в опасный союз, выявляет ее. Зонтик, попав в литературный текст, уже не есть вещь, он становится мотивом, одной из сил литературного стиля, которая и сама движет и движима другими через их совместное воздействие. В повести «Три года» Лаптев, влюбленный, просидел целую ночь под раскрытым зонтиком Юлии Сергеевны, что было чуть-чуть смешно, а более — лирично, через этот прозаический предмет лирика откупалась от сентиментальности. Зонтик, которым архитектор целит в звезды, убивает самого архитектора и все слова, им произнесенные. Чехов — великий мастер пользоваться realia, они служат ему с необыкновенной верностью и разнообразием. Чувство тех или других realia у него почти столь же точное, как у Пушкина.
Чехов, по примеру Пушкина, Тургенева, Гончарова, Льва Толстого, строго держится в прозе своей той картины мира, какая была у него перед глазами, а также и перед глазами всех. Настоящее во всей его полноте, вся зримая поверхность жизни, какова она сегодня, изображены у Чехова с величайшей точностью. Соблюдается соотношение сил, как оно дано в самом объекте, без передвижек, без перестановок, без бросающихся в глаза усилений или преуменьшений. И, однако же, Чехов ни в малейшей степени не рабствует перед этой картиной вещей, как они есть. Он проверяет их, старается освоить их мыслью. Он дает свою оценку им, воспроизводя и ту оценку, которая общепринята. Какие-то малозаметные акценты, какой-то особый прием повествования — и тогда вещи принимают вид, нужный Чехову в его художественных и идейных целях. Нет никаких деформаций, повседневная, сегодняшняя оболочка жизни сохраняется. Работа в пользу новых оценок, новых осмыслений и переосмыслений ведется у Чехова на значительной глубине и прямо этой оболочки не затрагивает. Чехов весь в сегодняшнем дне, а если очень присмотреться, то оказывается, что Чехова не в пример больше заботит день завтрашний. Не выходя из рамок сегодняшнего дня, Чехов, тем не менее, умеет держать тонкие и многосторонние
114
связи с днем завтрашним, у него многое, что кажется только наличностью, какой располагает современная жизнь, на деле является сдержанным, осторожным указанием на будущее. В зрелых произведениях Чехов не прибегает ни к гротеску, как это бывало у него вначале, ни к утопии, которая и с самого начала была чужда ему. Он не разрушает картины сегодняшнего дня, как это делают писатели, склонные к гротеску и сатире, и он же не строит утопических образов дня, которого он ждет. У Чехова та ровная манера письма, какая известна нам по опыту Пушкина, Льва Толстого. Нет гипербол ни в одну, ни в другую сторону, ни в сторону добра, ни в сторону зла. И все-таки у Чехова, как и у прежних русских классиков, изображение современной жизни в целом своем изнутри подвергнуто решительным оценкам и переоценкам, все осмыслено и где можно, указано, каковы ее средства и в чем ее надежды, чтобы выйти к лучшему и высшему. Как все русские классики, Чехов отклоняет и натурализм и визионерство, он отклоняет и живописание как цель в самой себе, и безмерную преданность мечтанью, и чересчур навязчивое выдвижение наружу внутреннего смысла, как это после него делали экспрессионисты. Чехов изучает внутреннее движение современной жизни, что оно такое, что оно обещает, всегда помня о том, как выглядит ее поверхность, напоминая нам об этом всей своей поэтикой, всеми приемами своего художественного письма. Точно, до иллюзии переданная картина жизни в ее сегодняшнем, актуальном виде служит проверкой, насколько истинен внутренний анализ; скрытое, глубинное должно же иметь соответствия в том, что существует открыто, что вышло на поверхность, что видно всем. Если сегодняшний день пишется во всем его наличии, если перед нами зримый образ его и в то же время внутри этого образа идет постоянная работа осмысления, то она должна быть чрезвычайно тонкой, более того — утонченной. Художник связан изображением жизни в ее наличном виде, нужны необыкновенное умение, дар, чувствительность, чтобы при всем том довести до нас и незримое простым глазом, предстающее как внутренний закон, как указание на будущее. Такое искусство, как у Чехова, как у русских классиков, обладает сразу же двумя как будто бы отрицающими друг друга свойствами: оно и очень утонченно, оно и в высшей степени популярно, вседоступно.
115
С большими человеческими массами его соединяет именно изображение жизни, как она есть сегодня и как она представляется на глаз, — все здесь знакомо, узнаваемо, а если и незнакомо, то знакомство завязывается быстро и легко. Сохранение этого образа мира в его наличности делает искусство художника и очень точным — точным при всех заходах вглубь, и оно же приводит его к массам. Художественный реализм, изобразительный, жизнеподобный, воссоздающий чувственный образ времени, является как бы новым фольклором, новой фольклорной формой, его поэтика фольклорна в том отношении, что на нее откликаются все и каждый. Этот вседоступный видимый образ косвенно делает вседоступной и очень сложную внутреннюю суть, скрывающуюся за ним. Русские писатели XIX века много сделали для этого великого фольклора, и среди них — Чехов.
Экскурсы в жизнь наивных и даровитых душ, закрепление хотя бы беглых, ускользающих намеков на свободное существование — это еще не все способы, какими Чехов добивается для себя и для современников своих выхода в большее, в лучшее. Остается еще ландшафт, который был для Чехова огромнейшей живописной и смысловой силой[76].
Жизнь у Чехова делится как бы на две части: есть меньшая, «земля людей», область, завоеванная ими, освоенная, и есть другая, несравненно большая область, лежащая перед ними для освоения, не имеющая ни конца, ни предела, область, которая, собственно, и называется ландшафтом, природой. Сент-Экзюпери с высоты самолета очень хорошо почувствовал великое деление, где лежит «земля людей» и где начинаются земли, еще закрытые человеку. Чехов усмотрел то же самое с полнейшей художественной рельефностью, не сходя с безрессорной брички, покатившей в хороший день в нескончаемую степь. Ландшафт у Чехова не безгласный фон, не декорация, приданная к изображению людей. Ландшафт у Чехова скрытно-активен, он ведет речи к человеку и о человеке, зазывает его. Ландшафт — образ задач, предстоящих человеку и для него неисчерпаемых, ландшафт говорит о том, чего человеку недостает, что он хотел бы
116
иметь, Порою мог бы иметь и чего не имеет. Собственно, у Тургенева, у Льва Толстого, у Бунина, в стихах у Тютчева и Фета значение ландшафта то же. Но Чехов создал целый эпос с коллизиями между человеком и ландшафтом, с изображением того, сколько счастья и сколько трагизма скрыто для человека в этих коллизиях. Мы уже коснулись чеховского эпоса природы, повести «Степь», сразу же возвысившей литературную репутацию Чехова. Были критические замечания к «Степи», однако же никогда позднее Чехов не слыхал столь веских похвал, как те, что произносились по поводу этого произведения. «Степью» восхищались Салтыков-Щедрин и Гаршин, Плещеев и Михайловский, люди разных вкусов в литературе. И те, кто считали, что литературе подобают только аскетизм, поучительность и черные цвета, и те отступили перед этим произведением, совсем по-иному дышавшим.
Сочиняя «Степь», Чехов писал Д. В. Григоровичу: «Быть может, она раскроет глаза моим сверстникам и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются еще нетронутыми, и как еще не тесно русскому художнику»[77]. Надо бы дописать фразу Чехова: «Степь» доказывает, сколько еще непочатого пространства осталось не одним художникам, но и на долю всякой жизни, в чем бы и как бы она ни проявлялась.
Повесть «Степь» — огромное, порою оглушительное по своему великолепию празднество пяти чувств. Ворота их раскрыты настежь, и льются, перегоняя друг друга, зрительные впечатления, описания запахов, звуков, земного зноя, речного холода. Уже к одному человеческому восприятию, если оставить в стороне остальные человеческие способности, степь, изображенная Чеховым, предъявляет требования много и много выше обычных. Кажется, они обращены не к ординарному человеку, но к человеку, помноженному не однажды на самого себя. После зрительных образов всего сильнее у Чехова образы слуховые, того, что звучит в степи и как оно звучит. Среди описаний, как поется песня и как она слышится, — описание Чехова в «Степи» одно из самых поразительных, наравне с тем, что нам дано у Гоголя и у Тургенева. В самый зной баба что-то просеивает сквозь
117
решето и поет свою песню, которая неизвестно когда началась и можно думать, вовек не кончится, которая как бы перешла с певицы на природу вокруг, так что кажется, будто поет сама степная трава. Чеховская степь по генеральному своему признаку — пространство в его необозримости, и признак этот подчиняет себе все прочие стихии поэтического описания. Время бесконечно удлиняется заодно с пространством: «точно и оно застыло и остановилось», говорит Чехов, удлиняется и песня, она становится многоверстной. Пафос протяженности овладевает изображением этого гигантского ландшафта, всякой жизни, проявляющейся в нем.
Чехов — писатель предметный, слово у него предметно, живет связями от предмета к предмету[78]. Известный рассказ Чехова «Лошадиная фамилия» так и построен: хотят вспомнить фамилию акцизного, который умеет зубную боль заговаривать, и перебирают: Кобылий, Жеребцов, Жеребятников, Кобылицын, Кобылятников и т. д. и т. п. — целая серия фамилий, и всё не то. Наконец нашли: фамилия врачевателя — Овсов. Фамилия у него и в самом деле лошадиная, наткнуться на нее потому не умели, что искали по цепи чисто словесных ассоциаций — Кобылин, Кобылицын, а надо было иначе, вместо поисков от слова к слову надо было искать от предмета к предмету, — от лошади к овсу, к Овсову. «Лошадь» и «овес» — слова без родства друг с другом, предметная же близость между ними велика. И так всегда у Чехова. Как стилист, как автор тропов, метафор и сравнений, он следует импульсам вещей. Цель его стилистики — обнажение природы вещей, приближение к ней через слово.
В описательных частях повести «Степь» наблюдается в сильнейшем развитии обычная метода Чехова подчинять слово интересам предмета, стоящего за ним. «Мягко картавя журчал ручеек» — характерно-чеховская метафора: картавя,следовательно, запинаясь на пути, запинаясь о камешки. Необычность сравнения позволяет лучше почувствовать вещи, захватить все подробности. Ручеек сквозь камешки звучит по-особому, «с оспинкой,
118
рябовато, картаво. Когда картавят, то для нашего слуха (русского слуха, непривычного к картавому произношению) всякое «р» кажется запинкой, неточностью и выделяется. Так и для ручейка — всякий встречный камешек — заметное преткновение. Рифма требует, чтобы совпадали звуки, начиная с последнего ударного, когда же совпадение достаточно широко затрагивает и звуки, предшествующие ударному, то рифму называют богатой, глубокой. По аналогии можно бы говорить о глубоких метафорах, о глубоких сравнениях, когда совпадают не один, а многие признаки сопоставленных вещей. Такова стилистика Чехова. Тропы у Чехова очень подробно освещают вещи, в состав сравнения входит не только тот признак, который навел на сравнение, но еще и многие другие, дополнительные. Ручеек картавит — это рисует его интимно-человеческим, ласковым, простым, доступным, не совсем правильным — как картавость, не отвечающая правилам орфоэпии.
Чехов держался тропов домашнего, бытового происхождения; слова, взятые из этой сферы, применялись к сферам иного характера — к сферам возвышенного, к явлениям природы, к космической жизни в ее бурных и порою высокодраматических эпизодах. Бытовые метафоры несут у Чехова службу при описании великой грозы в степи, они действенны по той причине, что появляются неожиданно, поражают, воспринимаются как художественный парадокс. Тихие, скромные, короткорукие, они должны обхватить огромную природу, наводящую ужас и трепет. У них рук не хватает, между ними и предметом, который имеется в виду, остается диспропорция, и она-то указывает, как велик предмет, как несоизмерим с этими бедными словами. Тут есть свое маленькое соответствие между словом и предметом и свое крупнейшее несоответствие, и оно-то по-настоящему дает представление об истинных масштабах предмета, в рост и объем которому слова так и не подобрались. Поэтический троп здесь можно рассматривать как своеобразный измеритель, приложенный к явлениям жизни, в данном случае он как бы показывает, во сколько раз явления эти значительнее, крупнее, сильнее, объемнее, чем содержание тропа.
Описание степной грозы: «Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то
119
очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо». «Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод». «Это был дождь. Он и рогожа, как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки»[79]. «”Тррах! тах, тах! тах!“ — явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым — ”трра!..“»[80]. Дождь ходит по железной крыше, как босиком, гром замирает перед подводами, потом он слышен снова где-то у передних возов, и сваливается где-то сзади — все эти метафоры со стихией запанибрата, нелокализуемое, безвидное локализуется, наблюдается с самой обыденной точностью — перед возами, позади возов. Метафоры у Чехова сопоставляют обыденное с необыденным, маленькое с грандиозным, интимно-человеческое с тем, что едва ли одушевлено, прирученное со стихийным. При этом способе связывания слова с его предметом происходит полезное трение, проскакивают искры, освещающие предмет. Оставайся Чехов при вяло найденных сходствах, не пойди он на этот художнический риск сопоставлять несопоставимое, все его описания, сойдя с пера, тут же стали бы умирать медленной смертью. Дерзкие тропы дали им душу, масштаб и энергию, без них Чехов не мог бы передать дикую бесконечную жизнь природы, вырывающуюся из рамок всех скромно-бытовых представлений, с которыми обычно живет человек, житель городов и сел, домов и изб. Чеховские тропы заставляют человека этого переместиться на время в живую природу. Думаем, что чеховские тропы описания отозвались не в одной русской прозе, но и в поэзии, они послужили первоисточником для многого у Пастернака, например. Гроза и гром в «Степи» — не слишком отдаленные предки дождям и грозам в стихах Пастернака, начиная уже с книги его «Поверх барьеров».
Коллизия между степью и человеком — природой и человеком — сводится к коллизии между большим и меньшим, широким и стесненным, богатым и бедным, свободным и несвободным, драматическим и лишенным
120
права на драму. Повесть — история деловой поездки: Кузьмичов и отец Христофор едут через степь продавать шерсть в городе, а заодно и определить Егорушку в начальный класс гимназии. Кузьмичов — скучный человек, ему даже во сне снится овечья шерсть, он торгует и в сновидениях. Коммерческая тема тянется через всю повесть. И прекрасная графиня Драницкая также причастна к делу покупок и продаж. На постоялом дворе у еврея Кузьмичов с отцом Христофором считают деньги — семь тысяч восемьсот для Варламова. В повести разыгрывается особый конфликт: степь и барыши, конфликт между великолепием природы, данным нам через пять чувств, через смелое художественное слово, ослепительным, вдохновляющим, и тем, чем заняты люди, кочующие по степи. Степь и барыши: конкретно-чувственное против абстрактного, горячая жизнь, горячий дух против цифры. В деньгах забыто все конкретно-чувственное, забыты те тюки с шерстью, которые везли через степь, в тюках еще до того забыты были овечьи стада и пастбища, пастухи, сторожа и, сверх того, все мимоедущие и мимоидущие. Пастбища и овцы перешли в цифры, в денежные знаки, они свелись к толстому бумажнику, который везет домой в заключение товарооборота отец Христофор, впрочем только притворяющийся, как тот герой рассказа «Холодная кровь», что ездил в эту поездку ради коммерческой пользы. Главное лицо в деловом мире, богач Варламов, пропадает где-то в степи как поэтический фантом. Когда же, наконец, он найден, то нет ничего прозаичнее, нежели этот человек. Варламов — серая, хотя и повелительная личность. Он безлик, невыразителен, как сам шерстяной бизнес, во главе которого он стоит. Проза бизнеса в повести обострена особой уголовной романтикой. В дороге к вечеру у костра ведутся длинные разговоры о разбойниках, льстившихся на большие чужие деньги, грабивших и резавших купцов, проезжавших по степи. Деньги сами создаются душегубством и преступлениями, поэтому накопленные деньги снова вызывают их, воровство и разбой ходят за ними как тень, как неотвязчивые родственники. Позднее Чехов напишет на эти темы рассказ «Убийство» (1895), где уже совсем отпадет романтика таинственного шептания перед меркнущими углями и преступление предстанет в собственной своей природе, в трезвом освещении, нагое и в наготе своей отвратительное. Чехов
121
знанием художника знал, что прозаизм жизни вовсе не отличается безобидностью, но бывает страшным, порождает мрак и преступления, в которых и намека нет на какую-либо романтику. Конец этого рассказа как бы весь (написан рыжей кровью уголовщины, теми красками, которые при всей своей интенсивности начисто лишены поэзии, не манят, а всего лишь ужасают.
Работные люди при шерстяных тюках, описанные Чеховым, в большинстве своем биты жизнью, искалечены трудом, который им приводилось нести. У них большая отзывчивость на жизнь, чем у хозяев, которые их нанимают, и все же свобода, возможность жить вполне, как видим, у них похищена. Чехов ищет людей под стиль степи, под масштаб ландшафту, — людей «громадных, широко шагающих»[81]. Людей этих нет, он хочет вызвать их. Весь ландшафт — призыв к громадной жизни, к громадной деятельности, к громадным радостям и наслаждениям. Ландшафт со всеми его богатствами вливается в человека, человек воспринимает его, значит, есть в душе человека соответствие ему. Нужно, чтобы человек не ограничивал себя переживанием ландшафта, неясными откликами ему, нужно, чтобы сообразно ландшафту он действовал и в самом деле жил[82].
Когда только появилась «Степь», брат Александр уже сообщил Чехову мнение Буренина: «….из каждого печатного листа можно сделать отдельный рассказ»[83]. Мнение неверное, хотя потом не однажды твердили, что повесть вся распадается на мало чем связанные друг с другом фрагменты и эпизоды. «Степь» — целостное произведение, описание грозы и придает ему целостность, оно находится в центре повести, сначала идет подготовка к нему, а кончается повесть неким послегрозовым умиротворением. Говорится много о зное, о страшно застоявшейся жизни в степи — о «скуке жизни», как здесь ее называет Чехов. Первые страницы передают тоску бездействия, тоску связанных сил, тоску окаменелости. Песня женщины в степи — томительная песня, лучшее выражение того, как велики силы степной жизни и как
122
они подавлены. Но природа умеет выходить из собственного застоя, гроза, описанная Чеховым с такой отважностью стиля, является в этом описании самоискуплением, самоочищением природы, возвращением ее к самой себе. Идет рассказ о первых опытах грозы. «За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью… Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх»[84]. По Чехову, гроза — это бунт степи, выход ее из колдовства в полную жизнь после того, как все печати сорваны. Гроза — это победа степи, свержение ига, под которым она находилась. И если степь велит человеку подражать ей, то гроза — высшее из ее велений. И в человеке лежат онемевшие силы, и он может больше, чем ему позволено проявить, и он в каменном сне, — так пусть он тоже сделает могучее усилие и вернется к самому себе. Есть один человек в повести, который отчасти мог бы поравняться со степью. Это Осип Дымов, молодой парень, озорник, красивый, злой. В нем кипят и бунтуют силы, от чрезмерного здоровья он припадочный, ему надо же девать свои силы куда-нибудь. У Дымова потребность мучить других и потребность, чтобы другие тоже мучили его. Дымов в бесстрашии своем, в своем самозабвении как бы ставленник степи и степной жизни. Идет рассказ об исступлении, в которое впал Дымов, а после того следует описание степной грозы. Дымов начал, степь продолжила, они нужны, необходимы друг другу.
Если человек понимает степь, то отсюда следует, что он ей сродни, что он может сбросить с себя всякую мелочность и душевно может поравняться с нею. В природе, по Чехову, лежит то, что недостает человеку и что доступно ему тем не менее, — снова следует не забывать об этом. Если человек способен воспринять некую вне его лежащую жизнь, то в этом порука, что он способен и жить этой жизнью, ввести ее в свой действенный обиход, не только поддаваться внушениям ее, идущим издали. Мы видели: в рассказах Чехова обыденная практика жизни с ее деловыми в той или иной степени интересами не умеет, и это все чаще случается, захватить и полонить внутренние силы человека. То, что называют импрессионизмом Чехова, и юмор Чехова, и ландшафты Чехова говорят по-разному все о том же — о наличии в
123
людях уже не занятых или же еще не занятых духовных сил. Как население старого, стареющего мира, дули людей у Чехова развоплотились, и не пришло время для нового их исторического воплощения.
В повести «В овраге» описывается лунная ночь с толкующими словами от автора: «И как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью»[85]. Природа у Чехова — описание, проповедь, призыв, образец.
Надя в рассказе «Невеста» приезжает в родной город, и опять перед нею серые заборы повсюду. Гуров приезжает в губернский город Саратов, отыскивает дом Анны Сергеевны, «дамы с собачкой», и видит забор против дома, серый, длинный, с гвоздями. Серые заборы — символика, у Чехова они отделяют человека от природы, от других людей, от истинного содержанияжизни. Он описывает заборы с тем, чтобы объяснить нам: их давно пора снести.
Современники запрашивали Чехова, где его программа, где указания, что делать и как делать, как готовиться к завтрашнему дню. Указаний у Чехова не было, он не брал на себя ответственности этого рода. Он не указывал, а только наказывал: есть в человеке такие-то и такие-то могучие задатки и потребности, устройте жизнь так, чтобы все они вышли когда-нибудь на простор. Тысячелетняя Россия умирала, нужна была перспектива опять на целое тысячелетие. Чехов решался только намекнуть на нее. Он мог заглядывать в будущее, тем более в отдаленное будущее, лишь в меру того, как косвенными средствами оно поддавалось художественному выражению. В последних драмах своих, как увидим, он в этом отношении действовал смелее. То целомудрие художника, с которым Чехов трактовал вещи, еще не принявшие осязаемую и зримую форму, именно оно и побудило некоторых его истолкователей уверять, будто Чехов отрицает всякое будущее, — они не умели услышать скрытую музыку будущего в сочинениях Чехова.
Классически неверную формулу творчества Чехова дал в свое время философ Лев Шестов, чья давняя
124
статья о Чехове довольно часто поминается и сейчас за рубежом. Шестов писал: «Итак, настоящий, единственный герой Чехова — это безнадежный человек. Делать такому человеку в жизни абсолютно нечего — разве колотиться головой о камни»[86]. В этом же смысле, хотя и менее решительно, твердили о Чехове и многие нефилософы.
Известный писатель, друг Чехова А. И. Эртель, в письме к Чехову писал, что в «даровании его сошлись вместе едкость и меланхолия»[87]. Если бы Эртель сказал, что и это далеко не все, что едкость у Чехова соединяется с бесконечным лиризмом будущего, то вся правда была бы в его словах. Меланхолия же у Чехова не потому, что незачем надеяться, а по той причине, что лучшее он и его современники не считали слишком близким, хотя и находились в ожидании его.
Драматургия Чехова для нас начинается с юношеского произведения, впервые опубликованного в 1923 году и написанного, по всей видимости, в начале 80-х годов прошлого века. Рукопись Чехова — без заглавия. Условное название этой драмы «Платонов». Под этим именем она ставилась на сценах Италии и Франции. (В театре Вилара под заглавием «Этот безумец Платонов».)
«Платонов» — драма огромных размеров. Она имеет сходство с «Кромвелем» Виктора Гюго, как «Кромвель», она сценична в каждом эпизоде, все же вместе взятое по своей наивной протяженности едва ли мыслимо на сцене, хотя и были опыты, как известно, успешные, приспособить эту драму к постановке. Поучительно, что первая драма Чехова по манере своей — сценическое повествование, как назвал тип всей позднейшей драматургии Чехова исследователь ее[88]. Поучительно, что именно в драму Чехов выносит свой опыт сказать окончательное
125
обобщающее слово о современности и современниках. «Платонов» уже пророчит, что и далее именно драма окажется для Чехова собирательным монументальным жанром, а не тот большой роман, писать который его побуждали литературные друзья и за который не однажды он готов был приняться. О том, что в рассказах Чехова лежали некоторые элементы сценичности, писал Б. М. Эйхенбаум: манера в рассказах все представлять зрителю без авторских комментариев, все передавать через диалоги и движение событий, предваряла произведения, написанные Чеховым позднее для театра[89]. Но драма была у Чехова не одним только расширением его повествовательной манеры, она была и более широким полем для разработки основных его тем, жизненных и идейных. В драмах нам является тот же Чехов повествовательной прозы, однако же укрупненный, обладающий масштабами тем и общего смысла, не всегда доступными его повестям и новеллам.
«Платонов» близко родственен некоторым произведениям раннего Чехова — повестям «Драма на охоте», рассказам «Барыня», «Ненужная победа». И в «Платонове» рисуется развалившийся усадебный быт, закат дворянства, пышный, нескромный, обильный скандалами и эксцессами. И здесь конец дворянства сплетается опять с концом целого века. «Платонов» — опыт пространной эпитафии XIX столетия, на исходе которого он и был написан.
В центре драмы усадьба генеральши Войницевой и сама генеральша, молодая вдова, способная на риск и дерзость. Усадьба генеральши с утра до ночи наполнена сомнительными персонажами всех возрастов, кредиторами, которым нужно угождать, выпрашивая у них отсрочку и удерживая их от решительных действий. Действующих лиц множество, и они трудно обозримы; одна из забот автора — поддерживать в драме постоянный гул людской, в котором тонут те или иные голоса и лица. Генеральша Войницева щедра на любовь. Отчасти любовь служит ей одним из средств коммерции; в практике генеральши любовные связи являются как бы орудием внеэкономического принуждения; предложением любви она останавливает людей, собирающихся предъявить ей
126
вексель, заговаривает их. Позднее рассказ «Тина» (1886) дает более скромную, в пределах строгого реализма, но и более острую разработку этой темы женщины-дельца, у которой любовные связи и эксцентрические похождения самым удивительным образом работают на интересы дела, на погашение денежных долгов. По быту своему, который весь в зареве неслыханных скандалов, генеральша Войницева может сойти за новую Екатерину Медичи, возродившуюся в одной из южнорусских губерний; в драме идут толки о шахтах генеральши, очевидно, расположенных где-то вблизи: сравни шахты, что возле имения Раневской («Вишневый сад»). Среди любовников генеральши — и баре, и интеллигенты, и конокрад Осип, о котором сказано, что в лице его «сто пудов железа». Он сам хвалится, что в утеху генеральше привел к ней однажды живого волка. Связь с Осипом, бешеным человеком, по видимости, тем и заняла генеральшу, что эта связь опасна.
Платонов — недоучившийся студент, сельский учитель — в подробностях своих очень странное лицо среди персонажей тогдашней литературы. Сельский учитель в быту, в литературе народников или близкой к ним рассматривался как персонаж идеальный, как носитель, вестник добра и света. В учителе Платонове нет ничего учительского. Не очень верится, что он способен обучать кого-либо чему-либо, чистописанию или арифметике. В пьесе о Платонове сказано, что он, Платонов — «лучший выразитель современной неопределенности» (акт I, явление 3, говорит Глаголев 1-й). Добрая бесхитростная Саша читает вслух цитату из раскрытой книги: «Пора, наконец, снова возвестить о тех великих, вечных идеалах человечества, о тех бессмертных принципах свободы, которые были руководящими звездами наших отцов и которым мы изменили, к несчастью» (акт II, картина 2, явление 2). Саша не догадывается, насколько цитата к месту, насколько она приложима к Платонову. Книга говорит об измене идеалам, Платонов — среди изменивших. В истории идей и идеалов наступило междуцарствие; Платонов сознает, что одни вещи кончились, друпие еще не начинались. Тем же сознанием будет страдать и Иванов, заглавный герой последующей драмы Чехова. Есть и другие параллели между этими драмами. Студенту Венгеровичу, который всем докучает назиданиями, в драме «Иванов» будет соответствовать доктор Львов,
127
тоже верный моральным аксиомам, потерявшим для всех остальных прежнюю непреложность. Все расшаталось — и нравственная философия и сами нравы. Сельский учитель Платонов самым неожиданным образом — севильский озорник, кавалер Фоблаз. Платонов любовник решительно всех женщин, выведенных в драме. При нем жена, его боготворящая, у него романы с генеральшей, с одной замужней дамой и еще с одной девицей. Так разрушается в драме Чехова учительское амплуа. Вот она — «современная неопределенность». Все роли перепутались. Учитель Платонов — это сама невоздержанность, доступность любому соблазну. Ему незачем щадить самого себя, да и других, он живет разбросанно, распутно, без цели, без смысла. В жизни он не тратится, но растрачивается, есть расходы и нет прихода, о приходе ни единой мысли нет. И как ни хитрит генеральша со своими заимодавцами, собственно, и она предается распутствам ради них самих и она, подобно Платонову, хочет гореть свечой. Если выразить современными понятиями, что происходит в этой драме, то надо бы вспомнить о «сладкой жизни» («La dolce vita»), об иронии, заключенной в этих словах, ибо сладкой кажется и сладкой названа жизнь людей, занятых самоуничтожением. La dolce vita у Чехова — это и «Платонов», и «Драма на охоте», и рассказы, примыкающие к этой повести, — произведения, где наивно и гиперболически представлено, как идет к концу целый период в истории материальных и идейных сил, как люди этого периода кончают самосожжением. В драме «Платонов» из сцены в сцену разрабатывается тема расточительства. Акт второй: молодой Трилецкий берет у купца Бугрова деньги в долг, а после раздает эти деньги кому попало: рубли лакеям, за то что одного Яковом зовут, другого Василием, а не наоборот, по три целковых публике почище. Бесшабашный человек Трилецкий взял от Бугрова деньги, чтобы преподать урок, как нужно ими пользоваться. Мотовство Трилецкого в контексте драмы означает и нечто большее, чем смерть деньгам. В драме этой люди самих себя проматывают, меняют собственную душу и собственное тело на рубли и трехрублевые, отдают себя на растерзание, по клочку каждому, кто хочет. Размен денег равен размену самих людей.
В этой драме, громоздкой и временами наивной чрезвычайно, тем не менее намечено многое из позднейших
128
зрелых сочинений Чехова. Что-то она содержала важное для Чехова, и он позднее не однажды оглядывался на нее. О связях с «Ивановым» мы говорили: сын Платонов, Михаил Васильевич, предобраз Иванова, Николая Алексеевича. Конечно, «Платонов» через генеральшу Войницеву с делами ее погибающей усадьбы есть первое, хотя и грубой живописью исполненное предвестие «Вишневого сада». Чехов начинает тем, чем кончил, можно бы назвать эту пьесу без названия «”Вишневым садом“ первым». Авторская привязанность к «Платонову» видна и по многим подробностям, даже фамилия Войницевых, матери и сына, наполовину сохранилась в «Дяде Ване» —ведь дядей Ваней именуют Войницкого Ивана Петровича. Сцена с рельсами, на которые ложится Саша, платоновская жена, задумавшая убить себя, отозвалась во втором акте «Вишневого сада», который ведется в поле, на фоне пригородного пейзажа. Быть может, и там витала и не выявилась тень Саши — самоубийцы. Еще подробность о Саше, позднее воскресшей в сочинениях Чехова. В акте втором (картина 2, явление 2) Саша читает вслух. Кто автор книжки? «Захер Мазох. Какая смешная фамилия!.. Мазох…» Сравни «Ионыч». Котик, читавшая «Тысячу душ», говорит: «А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч». Отклики «Платонова» по мелочам в написанном спустя долгие годы показывают, что Чехов не забывал и не хотел забыть эту свою труднообъятную драму. В ней были и начатки чеховской манеры выводить людей и события. Парадоксы характера: генеральша, хаотическая женщина, пишет, однако, без единой орфографической ошибки, с пунктуацией безукоризненной (акт III, явление 2, Платонов читает письмо генеральши). Кстати, и Платонов, отметивший отсутствие ошибок, тем самым обнаружил, что он все-таки учитель по профессии. Такова чеховская метода изображать людей: есть у них преобладающие страсти, но Чехов любит указывать, какие же уголки души не заняты ими. От страстей к действиям нет прямого сообщения. Изречение генеральши: «У всех есть страсти, у всех нет сил» (акт IV, явление 7). Войницев, пасынок генеральши, шел вызывать Платонова на дуэль, а пришел и разревелся (акт III, явление 9). В этой драме с сильными ее тенденциями к элементарно-романтическим эффектам почти повсюду наблюдаются оговорки к ним, подбавка прозаизмов. Саша
129
покушается на самоубийство дважды, тогда с рельсами не вышло, помешал Осип — конокрад, она кончает с собой, отравившись спичками, и оставляет безграмотно написанное письмо с указанием, где ключи от комода. В Платонова обманутая им Софья Егоровна стреляет, и делает промах, потом стреляет снова и убивает его. Это начало, поэтики выстрелов в драмах Чехова. Иванов, сказано в эпилоге драмы об Иванове, отбегает в сторону и застреливается, что и дает этой драме окончательное разрешение. Выстрел не подготовлен, и эффект выстрела намеренно не разработан. Костя Треплев в «Чайке» стреляет дважды[90] и только вторым выстрелом, кончает счеты с жизнью. Дядя Ваня дважды стреляет в профессора Серебрякова, оба раза с промахом. Драматических героев Чехова так прочно держит мир прозы и неудач, что даже в попытки устраниться из этого мира и рассчитаться с ним вкрадываются неудачи и прозаизм. Повторный выстрел, если даже и ведет к фатальной развязке в конце концов, есть выстрел антиромантический, и самоубийство становится тогда процедурой, имеющей свою технику и как всякая техника имеющей свои ошибки. В «Лешем» Войницкий стрелял в себя, в варианте «Дяди Вани» он стреляет в Серебрякова и напрасно, Войницкому не дано быть драматическим героем, эта форма не для него, умелое пользование револьвером не лежит в его сценическом и жизненном амплуа.
Драма «Иванов» (1887—1889) еще ближе к центральным драматическим произведениям Чехова. Иванов, Николай Алексеевич, не однажды называет себя Гамлетом, — он не красуется, в его устах это почти эпиграмма в собственный адрес. С одной стороны, он Гамлет, высокий герой, с другой стороны, уже по одной своей фамилии он есть нечто нарицательное: Иванов это значит все и каждый, Ивановых сотни тысяч. Если он Гамлет, то не слишком шекспировский, тот был единственным, этот массовидный. В Чехове держался постоянный, свой особенный интерес к трагедии Шекспира[91]. Охотно пишут о том, что Шекспиров «Гамлет» — величайшее произведение драматической литературы. Не всегда отдают себе отчет, что как драма — оно и парадоксальнейшее, попирающее все законы жанра. Драма есть
130
борьба, движение к цели. В трагедии Шекспира у героя нет цели, его заставляют бороться за датский престол, он не хочет этой борьбы и принимает сражение с противником только против воли, принужденный к тому извне. Именно драма без борьбы сторон, драма, в которой у лучших людей нет целей, а сохранились они только у худших, — это и есть драма Чехова. Шекспировский Гамлет не хочет датского престола, не хочет Дании. Отказ Гамлета от борьбы означает, что Дания, мир, современность, как они существуют сегодня, не имеют цены. Незачем добиваться места, да еще высокого — высшего места в обесцененном мире. Поведение Гамлета говорит не о личном его характере. Сколько было толкований с этой стороны, и все мимо, против каждого содержатся показания в тексте.
Поведение Гамлета говорит о вещах самого общего порядка, о том, чего стоит мир, современный Гамлету. Когда хотели объяснить Гамлета его безволием, то думали, что от престола могут отказаться только неспособные усидеть на нем, и держались, собственно, убеждений короля Клавдия. А ведь все, что творит и что говорит Гамлет, требует от нас совсем иного понимания вещей — Гамлету не нужно престола. Речи Гамлета и действия Гамлета должны нас убедить, что поползновения к престолу наблюдаются только у мелких духом людей, у воров, у мародеров, похожих на короля Клавдия. Клавдий — мародер и личность, в веке своем запоздавшая, и то и другое вместе. Он широко пользуется тем, что у него не оспаривают престола, но он верует, что престол еще в прежней цене и что Гамлет только притворяется, будто безразличен к престолу.
У Чехова в «Иванове» и в дальнейших драмах из «Гамлета» Шекспира взят главенствующий мотив: всюду проверяется, насколько (пригоден к обитанию современный мир, насколько оправданы усилия найти свое место в нем. В драме «Иванов» только сам Иванов терзается сомнениями принца Гамлета. В дальнейшем в драмах Чехова со всех концов стекаются люди, для которых по-своему уже решен вопрос «быть или не быть». Они решили — не быть, — не быть тому социальному миру, в котором они живут. Они в нем уже ничего для себя не ищут, им не нужны его блага, и тем самым он осужден ими. И в .рассказах и повестях Чехова весьма важное значение имеет эта тема конца большой со-
131
циально-исторической эпохи, когда утратили силу цели и мотивы, еще недавно приводившие в движение людей.
Именно в драме тема эта получила новую рельефность, ибо драма, природа которой есть действие, оказалась неподвижной в известном смысле, арена действля в ней крайне сузилась, умирание старых интересов и старых целей человеческого поведения стало в драме более наглядным, более выразительным, чем это бывало в чеховских рассказах и повестях.
В драме «Иванов» крайне любопытен ложный сюжет ее. Истинный сюжет тот, что человек надорвался нравственно, потерял веру в свой труд, в то, чем живы современники. А ложный сюжет бежит рядом. Окружающие стараются объяснить себе поведение этого человека и объясняют вульгарнейшим образом. Они заподозривают повсюду денежный интерес — Иванов искал и ищет «стерлингов», так это они называют в пьесе, а доставить стерлинги должны ему женщины. Идут толки, будто и на Сарре Абрамсон он женился когда-то, надеясь получить богатое приданое. Ошибся — и Сарру-бесприданницу загнал в гроб. То же самое с Сашенькой Лебедевой — он весь задолжался перед старухой Лебедевой, поэтому обратил свое внимание на Сашеньку, дочку ее. Версия со стерлингами так неправдоподобна, что компрометирует допустивших ее. Доктор Львов, любитель поучать и обвинять, принимает эту версию, в чем верное доказательство, как мало он способен понимать людей и события. Принца Гамлета подозревали, что он только и думает о датской короне. Таков мнимый сюжет трагедии Шекспира. Соответственно масштабам драмы Чехова равносильный в ней мнимый сюжет — деньги невест, деньги, на которые будто бы льстится Иванов. Ему навязывают этот сюжет со стороны, и наличие этого ложного сюжета в драме показывает нам, насколько перерос его Иванов, насколько он вне его. В повести «Моя жизнь» тоже стороной проходит ложная версия, согласно которой события не развиваются, хотя есть люди, ожидающие, что именно так они разовьются. Старая служанка доводит до сведения героя, как ему надо действовать: доктора Благово нужно заставить жениться на Клеопатре, уехавшую Марью Викторовну нужно тоже поставить на место, продать ее имение и деньги положить на свое имя. Версия няни нужна для подчеркивания высоты помыслов героя, так мы узнаем и что
132
он сделал и чего бы не сделал при любых обстоятельствах. Из няниной версии следует, что мог бы сделать кто-то другой, попроще да поплоше.
Самоубийство Иванова за полчаса до поездки в церковь под венец говорит о том, как радикальна его неустроенность в мире. Ото всего уставший, во всем разуверившийся, он будто бы еще надеялся :на Сашеньку Лебедеву. Как всегда у Чехова, нельзя лечить меньшим большее. Как ни мила Саша, но не ей вправить для своего возлюбленного век, который вывихнулся. Саша перед самым венцом признается, что ей бывает скучно с Ивановым, значит, не только чувство Иванова к ней сомнительно, значит, и у нее проходит любовь. Выстрел Иванова в развязке самый неизбежный и окончательный изо всех выстрелов, что слышны в драмах Чехова.
Герой этой драмы Чехова страдает невоплощением. Среда и эпоха не дают материала для воплощения. Он пытается стать телом, остается призраком. Иванов поступает оригинально, женится, как это не принято в его кругу, и из этого первого брака возникает лишь одно несчастье. Он хочет жить банально, как все живут, и это опять-таки не дано ему. Иванов неудачлив в общественной жизни, в работе, в делах имущественных, в семье, в любви, в друзьях. Что бы он ни делал, с кем бы, с чем бы ни связался, всегда получается не то и не так. Всюду и всегда нам предстоит на сцене человек не поглощенный, не захваченный собственными действиями и поступками, как это было уже в раннем рассказе «Холодная кровь». Иванов горячится, надрывается, и все-таки понятно, что он не столько живет, сколько отмечается у жизни. Его внутренняя тема не одинока в драме. Другие тоже живут как дилетанты, по-варварски неудачливо, без малейшего успеха в каждом своем начинании. Жизнь расползается у них под руками, как та изрубленная красная свитка, куски которой отыскивались один за другим на ярмарке в Сорочинцах. Вокруг Иванова такие же, как он, фрагментарные, незаконченные люди, по характеру своему и судьбе чуждые всякой целостности.
Заметная фигура — Боркин, Михаил Михайлович, управляющий имением Иванова, неутомимый прожектер, с вечной суматохой коммерческих планов в голове. От него только и слышно, как будь у него малые деньги, он бы в несколько ловких ударов сделал из них боль-
133
шие, дайте ему 2 тысячи 300 рублей — он мигом превратит их в 20 тысяч. Боркин собирается земли покупать, мельницу строить, соседей данями облагать, замуж выдавать богатых невест. Рядом с Боркиным приятель его, старый граф Шабельский, всю жизнь изводивший деньги на всякие ненужности и охотник то же делать дальше. Прожектер, растратчик, мот образуют подобающий фон для Иванова, хотя грехами этих людей Иванов не грешен. Напрасная энергия одного, разрушительная энергия другого — хороший комментарий, почему Иванов не хочет действовать и предпочел бы пребывать без дела. Действенный мир развалился, таково показание исторической эпохи, и в этом причина нежелания Иванова ввязываться в практику этого мира. Правда, есть и люди с прочными деловыми интересами, как старуха Лебедева, как ее друзья, как молодая купчиха Бабакина, которой нужен подходящий муж да поскорее, но все эти личности стоят как бы вне истории, их низкий, низменный ранг в среде других этим ;и объясняется — в историю, в эпоху, в коллизии эпохи они не входят, вечно низменное, голые интересы собственного устройства в уме их и в поступках.
Вл. И. Немирович-Данченко отлично писал о том, как был нов «Иванов» Чехова и в литературе и на сцене. Казалось бы, все осталось, как это было издавна принято, на самом же деле многое в драме Чехова перевернулось. Доктор Львов называет на сцене героя драмы подлецом, делает это с пылом и пафосом, и тем не менее зрительный зал против Львова. А принято было, чтобы такие тирады, благородно-обличительные, вызывали бурю аплодисментов: И тирада, и произносящий тираду.у Чехова переоцениваются сравнительно с традицией. Львов — земский врач и, оказывается, фигура вовсе не положительная, как мог бы ожидать тогдашний зритель; земская практика не помогает Львову, как Платонову не помогает его учительство. По контексту драмы тирада Львова обличает не Иванова, но самого Львова, слепого и жалкого моралиста. Таков один из примеров Немировича, насколько сравнительно с традицией все-изменилось в драме Чехова, и изменилось незаметно[92]. В драме Чехова содержатся изменения еще
134
более радикальные, чем отмеченные Немировичем. Само строение драмы не прежнее, хотя это и прикрыто, хотя и держится впечатление, будто драма написана по правилам. В ней есть положения, в ней есть характеры и судьбы, в ней есть довольно обычное сюжетное движение: герой переходит от одной женщины к другой, на последнее, четвертое, действие назначена свадьба. На деле же традиционная компоновка драмы расстроилась, распалась. Исчезли внутренние связи между положением, характером и судьбой героя. Где герой должен бы действовать по точным мотивам, там он импровизирует, интересы, драматические интересы больше не ведут его, он презирает их на словах и на деле. На сцене играют нечто малообычное: историю человека, не желающего жить собственной жизнью. Да есть еще и другие люди на сцене, чуждые собственной судьбе, облечены они не в те характеры, какие предуказаны обстоятельствами. Пишется драма практического поведения, а предпосылка драмы в глубокой размолвке между поведением и внутренним обликом человека. При сходных предпосылках Метерлинк, который вызвал такое любопытство Чехова, стал писать «театр душ», да к театру того же типа тяготел и поздний Ибсен. Чехов не мог и не хотел отказываться при всех новшествах от норм реалистической, даже бытовой сцены. Души теряют внешнюю опору только на время, только по особым условиям и причинам; в драме «Иванов» так же настойчиво толкуют о «кружовенном варенье», как в «Вишневом саде» станут толковать о сушеной вишне. И все же в последующих драмах Чехова обычное обличье русской драмы будет затронуто несравненно заметнее, чем в «Иванове». Эта первая драма Чехова, уже новаторская, не принесла ему тех волнений, которые вызывал отпор публики и актеров новаторству драм последующих. Чехову как бы удалось усыпить хулителей они едва ли заподозрили, что в «Иванове» звучит новый язык искусства, которого они не выучили да и не захотят выучить. «Иванов» в ноябре 1887 года благополучно был поставлен в московском театре Корша. Заглавную роль с полнейшим успехом играл В, Н. Давыдов, актер прекрасный, но традиционный. В январе 1889 года «Иванова» повторили в Петербурге, в Александрийском театре, и здесь опять играл В. Н. Давыдов. Тем не менее успех «Иванова» нисколько не означал, что и будущие
135
драмы Чехова театры примут одобрительно. Карьера Чехова-драматурга сложилась совсем по-иному, чем его же карьера в качестве повествователя. С известных пор, начиная со «Степи» или даже раньше, репутация Чехова, автора повестей и рассказов, утвердилась навсегда. Новые произведения не колебали ее, речь могла идти только о росте репутации, не о пересмотре ее, сколько-нибудь радикальном. А в качестве драматурга Чехов с каждой драмой заново держал экзамен перед зрителем и критикой. Каждая новая драма — новые сомнения, новые споры, причем по существу положения. Спорили от драмы к драме, драматург ли он, имеет ли права на внимание театра, или же должен навсегда удалиться в свои повествования, не пытаясь более сочинять в драматической форме, малодоступной ему. Даже лучшие друзья, такие, как актер А. П. Ленский, сомневались в дарованиях Чехова как драматурга.
Драма «Леший» (1889—1890), из которой позднее сделался «Дядя Ваня»,— крайне интересный литературно-сценический эксперимент Чехова. В ней снова, как в «Платонове», действует многолюдный ансамбль. Чехов умышленно идет на особую мультипликацию ролей. Характеры, роли в этой драме удвоены, утроены. Трудно разобрать, где кончается Леонид Степанович Желтухин и где начинается Иван Иванович Орловский, ибо они вторят друг другу, профиль в профиль. Соня, дочь Серебрякова, отуманена наличием в драме своего полуподобия — хозяйственной юной Юли. Хрущов, будущий Астров, опять-таки подорван как лицо вполне оригинальное, ибо рядом с ним в драме подвизается сын помещика Орловского Федор Иванович, тоже крупно задуманный и крупно выполненный матерью-природой, размашистый, дееспособный, сильный. Чехов понижает значение персонажей, взятых отдельно. Происходит как бы разрежение личностей — Хрущова, Сони, Желтухина — по той причине, что каждый имеет дублера. Важны тогда не отдельные лица, но атмосфера, из которой они каждый раз выплывают. Не Желтухин важен, не Орловский, но нечто желтухинско-орловское, свойственное обоим. То же -с Хрущевым и Федей, то же с Саней, и Юлей. Общая атмосфера еще слабо ощутима в «Лешем», но намечены и один, и другой, и третий круги частного значения, из которых она могла бы выработаться. Есть климат вокруг отдельных персонажей, и
136
только образуется общий климат всей пьесы. Чехов в своих драмах стремится к передаче «миросостояния», Weltzustand, как это называл когда-то Гегель. В «Лешем» мы находим первую ступень к этой поэтике, достигаемой здесь чересчур резкими и броскими и в то же время недостаточно обобщенными средствами. В окончательном варианте этой драмы — в «Дяде Ване» — Чехов от них отказался, у него к тому времени выработались иные. Один из друзей Чехова, ценитель литературы и театрального искусства князь А. И. Урусов, огорчился, когда вместо «Лешего», текст которого был ему знаком, перед ним очутился «Дядя Ваня». Он писал в письме к Д. В. Философову от 3 октября 1899 года: «…у Чехова есть прекрасная комедия «Леший», которая никогда не была напечатана, а только налитографирована и игралась. Он ее переделал под заглавием «Дядя Ваня», по-моему, испортил, хотя и в испорченном виде она все-таки замечательна»[93]. Чехов вслед за «Лешим» написал «Чайку» (1896), он отдохнул к тому времени от «Лешего» и нашел иной драматический язык, не столь демонстративный, как в этой ранней драме. Урусову нравилась именно демонстративность.
Хотя «Дядя Ваня» выправлен Чеховым соответственно поэтике несколько иной, все же от разительных приемов «Лешего» что-то осталось в этой более поздней драме. Современники Чехова читали «Дядю Ваню», и порою их смущали особенности ее, для нас, приученных издавна к драматургии Чехова, совершенно незаметные. В 1899 году пьесу «Дядя Ваня» рассмотрел театрально-литературный комитет в составе Алексея Веселовского, И. И. Иванова, Н. И. Стороженко. Отзыв был дан благожелательный, однако же и опасливый. Они писали: «До третьего акта дядя Ваня и Астров как бы сливаются в один тип неудачника, лишнего человека, который вообще удачно обрисовывается в произведениях г. Чехова» [94]. Упрек относительно Астрова и
137
дяди Вани, которые отчасти одно лицо, весьма для нас интересен. Те старые рецензенты еще видели то, чего мы уже не видим: дублирование одного и того же персонажа, одной и той же роли в драме Чехова «Дядя Ваня». Они не сомневались, что это недостаток, ибо воспитаны были на кодексе драматургии, в этом отношении беспощадном: индивидуализация персонажей есть требование абсолютное, следовать которому драматург обязан при любых обстоятельствах. Их критическое замечание важно только в том смысле, что, оказывается, в «Дяде Ване» сохранились следы удвоения или даже умножения персонажей, писавшихся в «Лешем» именно так: характер в характер, лицо, повторяющее другое лицо. Чехов и в «Дяде Ване» отчасти нарушал общепринятый догмат поэтики, согласно которому характеры в драме должны взаимно исключать друг друга.
Следует подумать и над другим замечанием комитета: «Характер Елены нуждался бы в несколько большем уяснении: хотел ли автор показать, что в том состоянии апатии и подавленности, в котором находились Войницкий и Астров, всякое молодое и красивое существо, появившееся в их захолустье, должно было вскружить им головы?»[95] Люди комитета были совершенно правы, за вычетом того обстоятельства, что они, видимо, осуждали Чехова за Елену Андреевну, за недописанность, как им казалось, этой роли. Уважаемые старые литераторы привыкли оценивать характеры в драме каждый по отдельности. Критики тогда любили (как, впрочем, и сейчас любят) писать об отдельных «образах», — то есть о характерах в пьесе, как если бы пьеса составлялась из них как из простых слагаемых. Между тем у Чехова сильнее, чем у других его современников-драматургов, сказывается совсем иной принцип, — он исходит из жизненного, из эпохального целого, из «миросостояний» и сопоставляет характеры не сами по себе взятые, а в меру того, насколько они способны выразить это «миросостояние», общий смысл, общую настроенность своей среды и своего момента. Елена Андреевна почти ничто, напрасно актрисам эта роль кажется богатой и заманчивой. Чехову, его пьесе именно такой, нерасцвеченной, почти бесцветной, Елена Андреевна и нужна. Она существует только как дополнение к Астро-
138
ву, к дяде Ване, к той пустынности и заброшенности, в которой живут они оба, в которой живут и остальные люди пьесы. Астров скучает, дядя Ваня тоскует. Елена Андреевна, эта женщина-ничто, именно в силу полнейшей неопределенности своей может оказаться для каждого кем и чем угодно, кумиром, богом, чистотой, сладострастием, предметом культа и молитвы или же предметом хищных чувств. Каждый наделяет Елену Андреевну свойствами, какими хочет, и она терпит это, покамест почитатели не начинают на самом деле причинять ей неудобства. Астров, дядя Ваня, Елена Андреевна до поры до времени существуют как некий малый драматический ансамбль, где суть и место каждого указаны настроением и потребностями остальных.
В «Чайке» нет персонажей, дублирующих друг друга, у каждого из них своя неповторимость, своя тщательная очерченность. И все же они перепеваются друг с другом, как бы подвергнуты инструментовке, извлекающей из каждого сходные звуки. Особо важно, что принцип переклички персонажей проводится в сравнении с «Лешим» с большей универсальностью; в «Лешем» перекликаются, перепеваются лишь некоторые из них, а здесь, при более разнообразной трактовке всех и каждого, на перекличке отзываются друг другу все решительно, извлекается общее единое звучание из всех, вместе взятых, из всего ансамбля. Единое звучание в «Чайке» — это общая судьба всех лиц — они представлены как разные характеры, как разные социальные положения, ни один по характеру не дублирует другого, как в «Лешем», и при всем том все лица совпадают по судьбам.
В драме пять историй неудачной любви: Константина Треплева к Нине Заречной, Нины Заречной к Тригорину, Маши Шамраевой к Константину, Полины Андреевны, Машиной матери, к доктору Дорну, учителя Медведенко к Маше. Тут есть оттенки в неудачах: Медведенко добился руки Маши, Заречная пользовалась некоторое время благосклонностью Тригорина, Полина Андреевна, давняя возлюбленная доктора Дорна, не может добиться, чтобы тот ее признал окончательно и оставил возле себя. Несчастен до конца только Треплев. Если столько неудач, то отсюда явствует, что неудачи эти не случайны, что причины лежат не в характере лиц, но в характере времени. Рифмующиеся друг с дру-
139
гом судьбы персонажей создают в драме чувство общего «миросостояния», персонажи — скрипки, флейты и валторны одной судьбы, отраженной многими лицами. John Gassner, известный американский историк театра и драмы, пишет очень верно о симфонии характеров, устремлений и настроенностей у Чехова[96]. В «Чайке» этот симфонический принцип выражен с достаточной явственностью и даже по-своему осознан в том лирическом монологе, который Треплев сочинил для Нины Заречной. Эта пьеса, вставленная в первый акт «Чайки », конечно, только отчасти может вменяться Чехову, сочинившему ее ради обрисовки своего персонажа, — Чехов отвечает за пьесу Константина Треплева не более, чем Пушкин за стихи Владимира Ленского. Но в пьесе Треплева есть слова, имеющие значение за пределами ее, их можно отнести не к той лишь пьесе, которую он написал, но также к пьесе, где сам он персонаж среди персонажей,— к пьесе «Чайка». Нина Заречная в первом акте читает с большого камня монолог из пьесы Константина: «Тела живых существ .исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я… я…». И на самом деле в «Чайке» происходит это слияние душ, столь различных, неродственных, и тем не менее единых в своей судьбе, для которой ничего не значат границы, отделившие души и характеры друг от друга. Мировая душа, о которой говорит по тексту Константина Нина Заречная, она же и симфонический принцип построения драмы «Чайка».
«Чайка» — важное продвижение Чехова, в ней слышны не одни голоса конца, в ней есть и голоса начала, одни персонажи кончают старый век, другие начинают, — хотят начать новый. Константин Треплев, Нина Заречная — новая плеяда людей, по-новому чувствующих и мыслящих. В этой драме Чехова никто не уступил и никто не победил, однако приход новых сил совершился, без них уже ничего не будет делаться далее. Как кому угодно, а они присутствуют. Покамест дело идет об искусстве, но споры по искусству показывают, что подошли сроки и для споров более широкого значения. Старое искусство — Тригорин, Аркадина; новое — Треплев,
140
Заречная. Между одной стороной и другой глухая коллизия; влюбленность Нины в Тригорина делает размещение сил неотчетливым, и все же оно налицо, а неотчетливость и говорит, что коллизия едва-едва наметилась. Вопреки принятому в канонической поэтике, Чехов слабо намеченное считает достаточным для драмы. Есть нечто общее у обеих спорящих сторон, есть у них «общая душа». Тригорин, признанный писатель, не создает, однако, великих произведений, и сам себя оценивает достаточно скромно. Аркадина, знаменитая актриса, по всей вероятности, очень сомнительна в своем искусстве с точки зрения взыскательных вкусов. Если она и талантлива, то направление в искусстве, которому следует она, уже давно впало в бездарность. Константин, Нина — еще бедны и бледны как художники. Искусство старших разладилось, искусство младших не наладилось, и те и другие выражают единое общее — идет ломка в искусстве, идет ломка всего существующего. Что нужно, чего держаться, еще не ясно и долго будет не ясно. Страдают и терпят оба поколения.
Тригорин жалуется, что литература съедает жизнь. Он живет, чтобы писать и записывать. Постоянно озабоченному, ему нужны сюжеты, подробности, метафоры, меткие слова, нужна натура, которая была бы перед его глазами. Тригорин работает наблюдением, как Гонкуры, он ловец того, что подбросит мимоидущая жизнь, имеющая собственные свои цели, не совпадающие с целями литераторов. Жалобы Тригорина предваряют жалобы, которые года через три-четыре услышаны были из уст Рубека, скульптора, героя последней драмы Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Рубек, как Тригорин, сетовал, что искусство убивает жизнь, убивает в художнике человека, преданного общим ее интересам. И Рубек и Тригорин свидетели того, что классический реализм XIX столетия претерпевает кризис. Сама антитеза искусства и жизни — выбирай что-либо одно, обе стороны совместно не даны — говорит об этом кризисе. Нельзя вообразить, чтобы молодой Гёте, впервые набрасывая «Фауста», либо Лев Толстой, создавая «Войну и мир», стали бы пенять, что работа художника отлучает их от жизни. Напротив того, строки, ими написанные, были для них жизнью в высшем ее проявлении, откровением бытия и связью с бытием. Рубек и Тригорин — порождения гонкуровского периода в истории
141
реализма, когда реализм становился ремеслом и техникой.
Недавний художественный реализм в себя включал все волнение исторической жизни, своими средствами продолжал эту жизнь, был умом ее, волей, чувством. К периоду Гонкуров — условно будем так называть его — «подражание природе» отделилось от жизни в природе и совместно с природой, от духовности и от пафоса искусства, стало чем-то самостоятельным. Треплев говорит о своем сопернике: «Тригорин выработал себе приемы, ему легко…» Сам Тригорин, как мы от него слышим, совсем не считает, что ему легко, его искусство отказалось от насущного, но эту потерю нужно выкупать тысячами эпизодов мелкой наблюдательности, непрестанным трудом виртуоза, который, быть может, напрасен. Об актерах, коллегах своей матери, о пьесах, в которых те играют, Треплев, сочинявший и для театра, высказывается с настоящим озлоблением: «Когда поднимается занавес и при вечернем освещении в комнате с тремя стенами эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки…» — на сцене то же самое, что и в литературе. И современный писатель и современный актер, по Треплеву, только имитаторы, мимы, обезьяны жизни, едва ли нужные самой жизни.
Нападки Треплева на имитаторство ради имитаторства Чехов принимает и, конечно же, не может принять речи Треплева с положительной их стороны. Треплев говорит Нине Заречной: «Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как она должна быть, а такою, как она представляется в мечтах». Треплев хочет совсем покончить с искусством, воссоздающим жизнь. Для Чехова оно было и осталось основой.. Нужно оздоровить основу, вернуть ей моральную и поэтическую силу, а Треплев предлагает политику отчаяния. Зато словам Треплева о мечте и о мечтах Чехов мог только сочувствовать, хотя понимал мечту иначе, нежели Треплев и Нина Заречная. Для Чехова важна была негодна только его собственная авторская мечта, важны были ее подголоски, мечты массовой России, выведенной в его произведениях, мечты и мечтания пастухов, гуртовщиков, земледельцев, солдат, перевозчиков у парома, заключенных и ссыльных, мальчишек-подмастерьев и мальчишек-школьников, интеллигентов и полуинтел-
142
лигентов, учителей, врачей, служащих на забытых станциях и полустанках. Мечты массовой России у Чехова — будущая реальность, не обособленная от реальностей уже сбывшихся и получивших материальный образ. Поэтому же она может входить в реалистическое художество, не разрушая его, не отменяя, а только обновляя.
После «Чайки» драматургия Чехова вступает в свой высокий период. Создаются «Дядя Ваня» (1897), «Три сестры» (1900—1901), «Вишневый сад» (1903—1904). Что обозначалось в «Платонове», «Иванове», «Чайке», то доводится здесь до конца. В трех последних драмах идейный мир Чехова богат и полон, разработан до конца в подробностях своих и художественный язык Чехова.
Известна история того, как провалилась «Чайка», впервые поставленная в 1896 году в Петербурге на александрийской сцене, известна мрачность, с какой Чехов принял этот провал. Вл. И. Немирович-Данченко, угадавший в «Чайке» невнятное петербургским актерам, едва уговорил Чехова снова попытать счастье с этой пьесой, на этот раз в Москве, на сцене Художественного театра, только что основанного. Чехов возвращался к театру, к новым писаниям для театра нехотя и недоверчиво. И все же он не шел на соглашение с обыденными требованиями к театру со стороны зрителей. После «Чайки» новаторство Чехова в драматургии становится еще более крутым, оно по-прежнему смущает от драмы к драме и актеров и режиссуру. Молодой Художественный театр справился с «Чайкой», из чего не нужно делать вывод, будто с тех пор дорога к чеховским драмам для этого театра была навсегда налажена. Нет, и после того бывали размолвки между Чековым и театром Немировича и Стайирлавского, иной раз очень глубокие. Так, со слов О. Л. Книппер мы знаем, как смущены были актеры театра, когда Чехов прочел им новую свою драму «Три сестры», — это уже после опыта «Чайки» и «Дяди Вани». По поводу «Трех сестер» были самые растерянные замечания: «Это же не пьеса, это только схема…»[97]. Правда, очень скоро после того Станиславский называет пьесу «Три сестры» «чудной, самой удачной»[98]. Однако же все это показывает,
143
насколько неустойчивым было восприятие драм Чехова в среде, ему близкой, — в среде Художественного театра. Актеры этого театра верили в драмы Чехова, уже сыгранные ими, и едва умели поверить в совсем новые, которые еще только предстояло сыграть. От драмы к драме Чехов был для них устрашающе нов, что показывало, насколько с самого начала Чехов-драматург не был воспринят ими до конца.
Чехов писал последние свои драмы под наитием надвигающейся русской революции, более прежнего чувствуя, как обваливается старый мир и как шумят голоса обновления и освобождения. В драме «Дядя Ваня» одна из существенных у зрелого Чехова тема — падение старых авторитетов. Профессор Серебряков был для дяди Вани, для многих других богом и кумиром, и вдруг кумир упал, культ, справлявшийся годами жарко и ревниво, вдруг прекратился. В Серебрякове увидели то, чем он и был всегда, — посредственность, брюзжащую, совсем отупевшую от поклонения и от похвал, ей возносимых. Серебряков — историк литературы, авторитет в искусстве и в эстетике. С каких-то пор дяде Ване ясным стало, что человек этот, всю жизнь занимавшийся искусством, ничего не понимает в искусстве. Не трудно догадаться, какие живые модели стояли за Серебряковым. По всей вероятности, знакомые Чехову московские профессора, «учителя словесности» из высшей школы типа Стороженко, Алексея Веселовского. НемировичДанченко сообщал Чехову об упорной вражде московских профессоров к «Дяде Ване» и выделял при этом Стороженко[99]. Еще по поводу «Лешего», первого варианта «Дяди Вани», А. И. Урусов писал, что пьеса «вызвала озлобление в профессорских кружках»[100]. Профессора-филологи могли бы менее беспокоиться, Чехов вовсе не намерен был колебать репутацию именно их цеха. При известной портретности Серебряков означает явление куда более широкое, чем какая-либо отрасль университетской науки. Через Серебрякова в драме «Дядя Ваня» как будто бы снова возникают темы литературы и искусства, главенствовавшие в «Чайке», но здесь они
144
сразу же идут к спаду. Серебряков
означает не филологию в частности, не эстетику в частности, но общественную
мысль, недавно царившую, вдруг и явственно устаревшую, потерявшую недавнюю свою
притягательность истины и таланта, отныне больше не приписываемых ей. Дядя Ваня
— один из героев наступившего неверия в старые ценности. Верует в пьесе
по-прежнему очень старая старуха Войницкая,
Что в «Дяде Ване» кризис начинается с репутации профессора Серебрякова, а потом все расширяется, идя вниз, затрагивая основы русской жизни, это могут нам подтвердить некоторые старые записи. В. А. Теляковский, директор императорских театров, посмотрев со сцены Художественного театра «Дядю Ваню», занес в свой дневник: «Может быть, это действительно современная Россия, — ну, тогда дело дрянь, такое состояние должно привести к катастрофе»[101]. (запись от 22 ноября 1899 г.)
Во втором акте «Дяди Вани» изображается «воробьиная ночь» за окнами дома Войницких, с грозой и с молниями, с бессонницей, с беспокойством всех, кто в доме, с бунтом дяди Вани против Серебрякова. Это еще робкая проба того, что вскоре даст третий акт «Трех сестер», аналогичный здесь второму. В третьем акте «Трех сестер» из окон дома Прозоровых виден «громадный пожар», как сказано в тексте. Конечно, нам дается и элементарная картина, полная отзвуков и отблесков настоящего пожара в губернском городе, но здесь присутствует и эпохальная общественная символика. Стал гореть и разрушаться старый мир. Губернский пожар в драме тушат очень умело пожарные и солдаты, он будет потушен в конце концов. А тот символический, всемирный, он только загорается. Начиная с «Чайки», Чехов всегда в драмы свои вводит символику, устанавливающую общий тон и общий смысл каждой из них. В «Трех сестрах» городской пожар по ходу действия нисколько не нужен, ничего не меняет в положениях и в отношениях действующих лиц. По смыслу же он главенствует. Пожар — разрушение старого мира и очищение его. Офицер Федотик, очень милый человек, у которого в эту ночь сгорела квартира, сгорели фотографии и гитара, сгорело все, рассказывая об этом, тан-
145
цует перед сестрами и прочими своими друзьями веселый танец — танец очищения, прощания с тем, чего не жаль.
В последних драмах Чехова символика не эпизод, она охватывает драму в целом, имеет основополагающее значение. «Воробьиной ночи» в «Дяде Ване» соответствует пожар в «Трех сестрах» и, наконец, гибель вишневого сада в «Вишневом саде», где символ поднят в заглавие. Последнюю драму Чехова довольно долго трактовали элементарно-социологически: мол, уходят старые дворяне с вишневыми садами, приходят молодые и грубые капиталисты с топором, рубить вишневые сады. Если бы таков был смысл драмы, то надо бы дивиться, до чего Чехов опоздал. В начале нашего века архаизмом было бы сочинять драму о кончине дворянства и о пришествии буржуазии. Такая драма могла быть только исторической, а «Вишневый сад» — драма современная, с просветом в более обширное будущее, нежели капитализм. Капиталист с топором — это Лопахин, Ермолай Алексеевич. Ничего от торжества капитализма в фигуре Лопахина нет. Он ведь почти нехотя выторговывает вишневый сад, а сначала делает все, что может, лишь бы сад остался в руках Раневской и Гаева. Лопахин — лицо очень примечательное, нисколько не тривиальное: умен, широк, добр, вчерашний плебей, он не весь там помещается, надев на себя шкуру купца и предпринимателя. На торгах Лопахин состязается с другим купцом — Деригановым. Обе фамилии отчасти щедринского характера, по корням один «лопающий», другой «дерущий». Но в фамилии Лопахина корневое значение почти погашено, облагорожено, контаминируется с безразличной и хорошо принимаемой фамилией Лопухова. Облагорожен сам Лопахин. В нем копошится денежный туз, делец, но он приструнивает эти души, в нем сидящие. Когда Лопахин впадает в самохвальство, то это спор с самим собой, желание себя же уговорить, что поступает он не плохо, не против должного.
Станиславский писал Чехову о Лопахине очень верно: «Лопахин, не правда [ли], хороший малый —добродушный, но сильный. Он и Вишн[евый] сад купил как-то случайно и даже сконфузился потом. Пожалуй, он и напился поэтому»[102]. Актеру Леонидову Чехов говорил,
146
«что Лопахин внешне должен Походить не то на купца, не то на профессора-медика Московского университета »[103]. Так Чехов хотел указать на нестандартность этого человека, на недогматичность его социальной природы. Лопахин — родня лицам из рассказов Чехова «Холодная кровь», «Бабье царство», «Случай из практики». Лопахин, кажется, еще не признался себе, но и он разочарованный буржуа. Покупка вишневого сада для Лопахина — ненужная победа, как называется тот рассказ Чехова о разорившихся магнатах Австро-Венгрии. В драме «Вишневый сад» победа Лопахина условная; собственно, сам победитель уже побежден; уходят — уйдут обе стороны, и дворяне и буржуа, уйдет вся старая Россия..
«Вишневый сад» — поминки веку, который только что кончился. Чехов начал их справлять много ранее, в юношеских рассказах, в драме «Платонов», теперь он справляет их в последний раз. Как и там было принято, так и здесь дворянство как бы довершающий момент к образу старой России, корона к нему — венец. Гибель вишневого сада, как пожар в «Трех сестрах», — конец старой России, корону свою роняющей, неспособной больше удержать ее на своей голове. Уже с самого начала драмы мы слышим, что вишневый сад умирает. В первом акте говорят о его бесполезности, о том, что когда-то он многое давал в хозяйстве — Фирс помнит, а сейчас вишня родится раз в два года и спроса на нее нет. По Чехову, полезность и проза — не враги красоты, но ее могучая поддержка. Красота, из которой начисто вычли прозу, — неживая, декоративная красота. Вишневый сад еще до торгов 22 августа превратился в красоту-призрак, и недаром Раневской привиделось, что ее покойница-мать вся в белом ходит по саду. Топор Лопахина только довершает дело умирания, имеющего давность.
Символика последних драм Чехова говорит о приближении социального катаклизма и о просветах в новый мир, в новую эпоху человечества. Таковы общая атмосфера этих драм, их «настроение», если говорить языком тогдашней литературы. Наплывы из будущего определяют очень многое первостепенное в драматической поэтике Чехова. Прежде всего они меняют соотношение между бытом и событиями, моментами нефа-
147
бульными и фабульными, на первый, взгляд меняют их странным образом, вопреки тому, что можно было бы предположить об этих соотношениях, еще не вглядевшись в них.
А. П. Скафтымов, проложивший путь к историко-литературному пониманию драматургии Чехова, сопоставляет ее с предшествующей Чехову русской бытовой традицией. «Одною из особенностей дочеховской бытовой драмы является поглощенность и заслоненность быта событиями. Будничное, как наиболее постоянное, нормально-обиходное и привычное, здесь почти отсутствует. Минуты ровного, нейтрального течения жизни бывают лишь в начале пьесы как экспозиция и отправной момент к сложению события. В дальнейшем вся пьеса во всей ее диалогической ткани уходит в событие; ежедневно-обиходное течение жизни отступает на дальний план и лишь кое-где упоминается и подразумевается». И далее: «Совсем иное у Чехова. Чехов не ищет событий, он, наоборот, сосредоточен на воспроизведении того, что в быту является самым обыкновенным. В бытовом течении жизни, в обычном самочувствии самом по себе, когда ничего не случается, Чехов увидел совершающуюся драму жизни. Мирное течение бытового обихода для Чехова является не просто «обстановкой» и не экспозиционным переходом к событиям, а самою сферою жизненной драмы, то есть прямым и основным объектом его творческого воспроизведения. Поэтому у Чехова, вопреки всем традициям, события отводятся на периферию, как кратковременная частность, а обычное ровное, ежедневно повторяющееся, для всех привычное составляет главный массив, основной грунт всего содержания пьесы. События, имеющиеся в пьесах Чехова, не выходят из общей атмосферы текущих бытовых состояний»[104].
А. П. Скафтымов дает очань точную, обобщенную характеристику драматургии Чехова, вбирающую в себя долговременное изучение ее и побуждающую продолжить это изучение. Есть только одна частность, требующая поправок. События у Чехова не отводятся на периферию, но уходят в глубь, в глубокий тыл показанного, часто творятся они не на сцене, а где-то в заку-
148
лисном пространстве, откуда мы получаем намеренно скудную отрывочную информацию. В драмах Чехова события — фон, а быт выносится на передний план, вопреки традиции, где фон занят бытом, события же выдвинуты вперед.
Люди, не однажды читавшие и видевшие со сцены драмы Чехова, будут застигнуты врасплох, если их спросить внезапно, так в чем же фабула «Трех сестер», например? Лев Толстой, нежно любивший рассказы Чехова и довольно ожесточенно отрицавший драмы его, уверял, что фабула в них отсутствует самым плачевным образом. Драматург П. П. Гнедич писал жене: «…что ”Три сестры“ ты едва досидела — это понятно, Толстой даже дочитать не мог. Помнишь, он сказал мне претонкую вещь: ”Если пьяный лекарь будет лежать на диване, а за окном идти дождь, то это, по мнению Чехова, будет пьеса, а по мнению Станиславского — настроение; по моему же мнению, это скверная скука, и, лежа на диване, никакого действия драматического не вылежишь…“»[105]. Фабула «Леса» Островского или «Грозы» Островского у всех на виду, а фабула «Трех сестер» протекает незаметно, движение ее отмечено такими беглыми и скользящими знаками, что мы, обнаружив ее, готовы считать, будто мы сделали самостоятельное открытие. Так и Немирович-Данченко тоже посчитал открытием, когда нашел фабулу в драме «Три сестры», Чехову он сообщал: «Теперь пьеса рисуется так: фабула — дом Прозоровых. Жизнь трех сестер после смерти отца, появление Наташи, постепенное забирание всего дома ею в руки и, наконец, полное торжество ее и одиночество сестер»[106].
Отношение Чехова к фабуле сложилось еще в период, когда он был только повествователем. Вспомним, он не был соблазнен прирожденным ему искусством фабулиста. В применении к современному быту фабула вытесняла из этого быта всякую возможность поэзии, всякую свободу, хотя бы и самую малую. Она закрывала горизонт, через фабулу узнавалось о еще одной победе худших сил жизни. В рассказах своих сделать что-либо в пользу чувства свободы и поэзии Чехов может, толь-
149
ко устраняя фабулу либо отодвигая ее в глубокий фон, и это предвосхищает поэтику его драм. Чехов-драматург в оценке фабулы очень смел и противоречит обычным литературным правилам. Принято думать, что цвет драматической жизни в событиях. Чехов-драматург исходит из убеждения, что события — праздник не лучших, но низких и низших сил жизни, что низшие силы — хозяева событий, по их инициативе события возникают, и они до конца направляют их, как хотят. По Чехову, мирный быт выше, лучше событий. Он содержит в себе многое, он сплав серебра и меди, серебра меньше, меди больше, и все-таки серебро входит в сплав. В события поступает одна только медь — вот уже одна причина, почему, не забывая о силе факта, присущей событиям, Чехов предпочитает, однако, заполнять передние планы сценической картины не ими, но повседневной жизнью. По той же причине повседневность со всем оркестром своих подробностей остается на сцене до конца драмы, и до того, как событие сложилось, и после. Быт, взятый в своем мирном течении, содержит в себе не одни низости, стремление к власти, к собственности, к захватам, но и добрые силы. Фабула — это испытание, экзамен. Фабула дает окончательную форму движениям жизни, воплощает их. Добрая жизнь к испытанию еще не готова, она может теплиться, гореть малым пламенем, пребывать в неоформленном состоянии, недовоплощенном. События обладают силой факта,— в свете общей настроенности последних драм Чехова сила эта временная, и что сегодня — сила, завтра станет ничем. В этом главнейшая причина, почему не следует преувеличивать значение событий, тех содержаний жизни, которые выразились через них, и почему так дорог бесформенный быт, где все доброе, поэтическое едва воплотилось, но может воплотиться в далеком будущем[107].
Самое активное лицо в «Трех сестрах» —
150
мирович. Но она и самое низкое и
пошлое лицо среди всех, появляющихся на сцене. Она ведет за собою фабулу, почин
сценического действия принадлежит ей. Завоевание дома Прозоровых, вытеснение
оттуда настоящих хозяев — событие, пожалуй, новое для самих Прозоровых,
удивительное для них и ужасающе-стереотипное по всей России. Что попадает в
фабулу, то именно и старо, избито, отрицает всякую жизненную свободу, права и
смысл индивидуальности, правдивость, честность. Лопахин в «Вишневом саде» говорит:
«Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных,
порядочных людей». Мещанство — диктатор, следовательно, бросаться с головой в
житейскую практику, иметь к ней вкус, рассчитывать на успех и любить успех
могут только личности, направленные по-мещански. Это они — люди дела и деловой
удачи, прироста и дохода, действующие не всегда легально, зато с верным
расчетом.
151
рить, протежирует на земской службе бедняге Андрею, едва смеющему догадываться, что его обманывают, это от него, по всей очевидности, происходит Наташино последнее чадо — маленькая Софочка. Он же посиживает в доме, как всегда невидимый, покамест тянется печальнейший четвертый акт. Станиславский, репетируя «Трех сестер», чуть не впал в ошибку. Вопреки тексту Чехова, он хотел все-таки на минутку показать публике Протопопова. В IV акте предполагалось у Станиславского, что толстый господин с сигарой выскочит с балкона вслед за оттуда же выскочившим мячиком и станет с натугой его ловить[108]. Но художественный такт заставил Станиславского от «публикации» Протопопова, от предъявления его глазам публики отказаться. Чехов недаром в разговорах с деятелями Художественного театра со всею деликатностью старался их убедить, что не следует на сцене досказывать, дописывать, дообставлять текст его драм. Ведь это-то и выразительно, что Протопопов невидим. Банальнейшая личность, он преподносится нам как лицо таинственное. В драме он всегда дополняет Наташу. Достаточно знать Наташу, чтобы ясным стало, каков Протопопов, ее любезный друг. Он явление столь типовое, что нет нужды в индивидуальном портрете. На копиях официальных документов обыкновенно делаются два концентрических кружка — место печати, м. п.. Так и Протопопов: Чехов обвел место, занятое в жизни Протопоповым, — тем самым получился образ самого Протопопова.
Коллизия в драмах Чехова всегда односторонняя, об этом писали изучавшие драматургию Чехова А. В. Скафтымов и В. В. Ермилов. У В. В. Ермилова читаем по поводу «Трех сестер»: «В пьесе существует классическая драматическая завязка, ставящая героев в необходимость начать борьбу, но главные герои… уклоняются от этой необходимости. В пьесе есть наступление, но нет обороны, контрнаступления, — иными словами: нет борьбы! Одна сторона наступает, а другая… уступает. Одна сторона вытесняет, а другая… вытесняется — даже без попыток защищаться, отстоять свои позиции»[109]. Это и
152
есть коллизия, по типу своему
восходящая к «Гамлету» Шекспира. У Чехова в драмах лучшие из действующих лиц —
а их большинство — исповедуют как бы массовый гамлетизм, от действия в точном
смысле они воздерживаются. Сестры Прозоровы не сопротивляются Наташе; если у
дяди Вани есть попытки сопротивляться себялюбцу и деспоту Серебрякову, то они
не выходят за пределы трагикомического. Раневская и Гаев без боя сдают свой вишневый
сад. Все лучшие люди у Чехова тотчас потеряли бы самих себя, вступи они в деловую
борьбу: дядя Ваня с Серебряковым, эксплуатирующим его, сестры Прозоровы с
Наташей, Гаев и Раневская с экономическим разгромом, который угрожает им.
Ранний герой Чехова Иванов не поступает, как ожидают от него вульгарные умы,
так и эти позднейшие герои. Неделание, бездействие в драмах Чехова со стороны
людей добрых, разумных, поэтических, любящих — свидетельство того, насколько
плох этот мир, в котором их принудили существовать. Гамлетовское в людях Чехова
в том, что не станут они бороться за места в этом мире, что не ценят они этих
мест. Пусть за места сражаются
153
что Соленый с глазу на глаз совсем иной человек, лучше, чем на публике. Но в этом-то и все уродство Соленого: казаться, во что бы то ни стало. Сама его фамилия — претензия, он хочет быть остроумцем, хотя только одним элементом остроумия он владеет — внезапностью. Покушаясь резать, стричь, колоть, он получил в руки только одно лезвие ножниц, другое лезвие ему не дано. Грубой внезапностью высказываний и выпадов все у Соленого начинается и кончается. Каждый раз одно и то же: Соленый настраивает на эффект остроумия, самого же остроумия не было и нет. Иннокентий Анненский комментировал Соленого: «Он все хочет казаться. Он не может не хотеть казаться. И добро бы только другим. А то ведь самому себе, вот что скверно. А это ведь преопасный зритель, не отлучается сам-то, подлец, ни на шаг»[110]. Если принять во внимание оговорку о бессменном зрителе в самом Соленом, то отпадут все попытки оправданий, что, мол, Соленый только на людях бывает плох. Соленый — насильник, в среде, где царит доброта, он почти на одной доске с Наташей, тоже насильником, хотя и в ином роде, пожалуй, более подлом. Тузенбаха нужно убить. Так требует мужской престиж Соленого: у него не должно быть счастливых соперников. Соленый напускает на себя сходство с Лермонтовым, с Печориным, на деле будучи не больше как Грушницким, однако таким, который убивает других, а сам ходит жив-здоров. Никогда не забывает Соленый о своем намерении быть принципиально неприятным, по всякому поводу имитирует чью-то едкость, будто она его собственная, и предается грошовому демонизму. Соленый, которому выпало жить и действовать среди совсем настоящих людей, сам сводится к одним только мнимым величинам. Великое уродство жизненных отношений лежит в энергии, в решимости, которыми наделен мнимый человек, Соленый. У людей настоящих, у людей истинных нет уверенности, что и как нужно делать, а у лжечеловека, Соленого, она есть. Мнимые одолевают подлинных, низшие одолевают высших. Лестница человеческих ценностей перевернута вверх ногами, и это столь очевидно, что нельзя не переставить ее мысленно так, чтобы ценности расположились в подобающем по-
154
рядке. Если вспомнить о понятии нормы, от которого Чехов так охотно отправлялся, то можно бы сказать, что нарушенная норма, царящая сегодня, наводит на истинную норму, на внутренний образ ее, который должен бы воцариться завтра.
Повседневность, подробности которой разработаны со вкусом, с любовью, пребывает у Чехова на сцене от начала и до конца драматического действия и потому, что в ней заключены, пусть рука об руку с недобрыми, также и добрые, талантливые, ласковые силы, и потому, что она, повседневность, — вечная стихия. Повседневность — жизнь без конца, без края, то, что было, есть и будет, события же относительны, они приходят и уходят.
Чехов был увлечен маленькими драмами Метерлинка, тогда только еще приобретавшими известность в Европе. Он писал Суворину: «Читаю Метерлинка. Прочел его «Les aveugles» «L'Intrus», читаю «Aglavaine et Selysetté». Все это странные, чудны́е штуки, но впечатление громадное…»[111]. Из драм Метерлинка, ближе других к Чехову отмеченная в этом письме,— «L'Intruse» («Втируша»), и (не отмеченная там же — «L'lnterieur», по поводу которой Чехов уже писал Суворину в более раннем письме — от 13 декабря 1895 года. Обе драмы построены на обыденности, в которую исподволь вторгается трагизм. Но драмы Чехова обладают важным отличием — в трагизме чеховском нет силы, сокрушающей навсегда, повседневность выживает; иное у Метерлинка: вначале счастливая и невинная, претерпев удары судьбы, она испускает дух.
Бессмертию повседневности посвящены водевили Чехова, написанные им между «Ивановым» и «Чайкой». В водевилях Чехова повседневность спешит, она опережает даже собственные свои права, располагается не на своих местах и перескакивает через указанные ей сроки. В «Предложении» жених приехал свататься, но, прежде чем приступить к сватовству, затеял с невестой преогромную и глупейшую ссору. Водевиль построен на перестановке во времени: взаимное ожесточение супругов наступает раньше, чем само супружество, следствие обогнало причину, побочные явления налицо, а суть
155
дела опаздывает. Почти то же самое в водевиле «Медведь»: страшная схватка между ним и ею, вражда принимает гиперболические размеры, он ее вызывает к барьеру, а после того начинается семейно-любовная идиллия. «Свадьба» и «Юбилей»: все приготовлено к празднеству и параду, но беспорядок и прозу, черновую сторону дела, не удается затолкнуть за кулисы, все эти силы врываются на сцену и создают комико-трагическое замешательство. Водевили Чехова великое множество раз ставились на сцене, на профессиональной и на любительской, и только дважды был сделан опыт довести их до зрителя во всей их художественной значительности. Вахтангов в двух вариантах поставил «Свадьбу», а Мейерхольд создал сценическую сюиту под названием «33 обморока» — сюда вошли «Предложение», «Медведь», «Юбилей». И у Вахтангова и у Мейерхольда получила новое развитие фантастика быта, заложенная в тексте водевилей Чехова. Крайне интересна одна из записей Вахтангова: «Я хочу поставить «Пир во время чумы» и «Свадьбу» Чехова в один спектакль. В «Свадьбе» есть «Пир во время чумы». Эти, зачумленные уже, не знают, что чума прошла, что человечество раскрепощается, что не нужно генералов на свадьбу»[112]. Тут все объясняет дата записи — 26 марта 1921 года, когда всякий, читавший и ставивший Чехова, мог в полную силу почувствовать старость старого мира в его произведениях и устарелость, архаичность многих фигур, сознаваемую автором и несознаваемую ими. Чума прошла, а мы ведем себя, как при чуме,— отличная формула, приложимая не к одним водевилям, но и к большим драматическим произведениям Чехова, к фабулам их и к персонажам, активным внутри фабулы, столь же отрицательным, как и сама фабула.
То обстоятельство, что в драмах Чехова повседневный быт никогда не уходит со сцены, что он не уступает своего места событиям, уже вполне обозначившим себя, одно это обстоятельство настраивает читателя, зрителя подозревать, что в повседневном быте скрыты ценности, и тогда начинаются поиски, где же и в чем же они. События несут разочарованность и разрушение. Пусть поэтому длится, сколько можно, повседневность; и на самом деле она у Чехова лучше событий внушает нам
156
чувства, которые неспособны дать события. Чехов в последних своих драмах привораживает именно зрелищем и музыкой повседневного течения жизни. Б. В. Асафьев настаивал на параллелях между Чеховым и Чайковским, на влияниях, которые мог оказать на Чехова «театральный симфонизм» опер Чайковского. По Б. В. Асафьеву, оперная драматургия Чайковского была «предшественницей лирической драматургии Чехова»[113]. В самом деле, можно допустить, что даже подзаголовок «Дяди Вани» — сцены из деревенской жизни — навеян «Онегиным» Чайковского, где в подзаголовке стояло: лирические сцены. В последних драмах Чехова слышна «ларинская тема» из оперы Чайковского, серебряная тема мирного быта, который мог бы быть счастливым. Старые слуги в драмах Чехова — Марина в «Дяде Ване», Анфиса и Ферапонт в «Трех сестрах», Фирс в «Вишневом саде» подобны древним богам, охраняющим мирную жизнь человека. Когда поднят впервые занавес, то у зрителя возбуждается желание войти в дом — Войницких, Прозоровых, Раневских — и поселиться там. Многие персонажи Чехова пленяют одним уже фактом своего существования — дядя Ваня, Вершинин, Тузенбах, сестры, Аня, Трофимов, даже Гаев, Раневская. Пользуясь талантливым термином одного из наших теоретиков театра, можно бы по поводу этих людей говорить об «эффекте присутствия»[114]. Дорого то, что они независимо от их дел и судьбы присутствуют в жизни своего времени. Музыка именин младшей сестры, Ирины, музыка блужданий по комнатам весны, заглянувшей в окна, зрелище корзин с цветами, щелканье фотографического аппарата, пришествие именинного пирога, пришествие серебряного самовара, подаренного Чебутыкиным, легкий шум хозяев и гостей, нечто глубоко дружественное, лирически-приязненное, соединяющее с самого начала драмы большинство действующих лиц, в нее вступивших, — все это и порождает особый тон, ни с чем не сравнимый, свойственный драме трех сестер. Так драма течет и дальше — масленая, сумерки в доме, шепотные разговоры, напевы, наигрывание на гитаре, ожидание ряженых.
157
Из-за Наташи ряженые отменяются, сама же она устраивает себе увеселение с Протопоповым. Следует заметить, что первое же проявление злой силы в этой драме — запрет, наложенный на чужую радость. Так и в «Дяде Ване» второй акт — «воробьиная ночь», хотят рассеять непокой, хотят играть на рояле, но от профессора Серебрякова приходит запрещение. Еще в 1886 году Чехов написал рассказ «Муж», где есть по материалу быта частичное совпадение с драмой «Три сестры». Рассказано о муже, который впадает в темную злобу: как смеет радоваться и веселиться его жена, танцующая с офицерами, на один день вошедшими в город. Муж принимает грубые насильственные меры, чтобы увести жену домой. У Чехова рассказ этот похож на историю убийства, — зарезали радость.
В четвертом акте «Трех сестер» Тузенбах прощается с Ириной, не знающей, что он отправляется на дуэль с Соленым. Тузенбах идет быстро по аллее, затем оборачивается к Ирине: «Я не пил сегодня кофе, скажешь, чтобы мне сварили». В этой тираде в последний раз плещет мирный быт, и, увы, ложным плеском, так как Тузенбах только старается отвести подозрения Ирины, буде подозрение появится. Тут виден перевес, поэтический и моральный, быта над событиями. Зрители хотят, чтобы Тузенбах в самом деле вернулся и стал бы пить хорошо сваренный кофе, в чем гораздо больше истины и красоты, чем в гибели от пули, посланной рукой Соленого.
Следует снова пояснить, почему же Чехов до конца не упускал из виду мирный быт, а Островский брал из ыта лишь то, что поступает в фабулу, остальным жертвовал. У Островского руководство фабулой тоже принадлежит немилосердным силам жизни, Островский тоже не был их сторонником. Ответ один: у Островского не было душевного союза с будущим, как у Чехова, отсюда разница между ними. Не вошедшее в фабулу, не получившее твердой формы в практике жизни Островский считал пусть и милым, прекрасным, но как бы не существующим, бессильным, в расчет не принимаемым. У Чехова рыхлое и слабое, на сегодня побежденное, обладает будущностью, поэтому Чехов так внимателен к нему. Вершинин говорит в «Трех сестрах»: «Через двести-триста, наконец, тысячу лет,— дело не в сроке, — настанет новая счастливая жизнь. Участвовать в этой
158
жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем Теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее…»[115]. Изо дня в день происходит невидимое накопление элементов лучшей жизни, которая не выдерживает еще вражеского натиска, но когда-то выдержит и когда-то установится вопреки всему.
В «Вишневом саде» с самого начала надо всем висит дата 22 августа — роковая дата, как в старинных «драмах судьбы»: 22 августа вишневый сад пойдет с торгов. И все-таки жизнь, и очень оживленная, в драме не увядает. Барро, прекрасно освоившийся с драмой Чехова, говорит об особом трепете настоящего, присущем всем ее эпизодам[116]. Это верно, однако же ценность настоящего у Чехова так прочувствована не потому, что близится конец и перед концом люди хотят продлить ощущение каждой минуты. В драме говорится: «Мы посадим новый сад, роскошнее этого…» В этом и состоит разгадка. Всех угнетает дата 22 августа, и все-таки жизнь, конечно, переступит через эту дату, поэтому она и льется сейчас. Жизнь в целом сильнее той или другой своей исторической формы,— не всегда же у людей будут заботы частной собственности, не всегда они будут нести бремя денежных интересов. В этой драме, где фабула вся стоит на борьбе за вишневый сад как имущество, как собственность, где так много разговоров о тысячах, которые могли бы спасти его, присутствует и нечто иное — дух утопии, предчувствие времен, когда начисто забудутся все дела этого рода и не будут заполнять жизнь человечества. В драме барская беспечность Раневской и Гаева сливается с представлением о людях будущего, естественным образом бессребрениках. Раневская во втором акте отдает какому-то подозрительному прохожему, проходимцу, золотой. Это ужасная расточительность для женщины, чье имение не сегодня-завтра опишут, это некая гемофилия денег, растрата денег, похожая на кровоизлияние без удержу. Раневская, Гаев расточают деньги, расточают собственную жизнь, как это было и с героями драмы «Платонов». Но в последней драме Чехова пренебрежение к деньгам, почти сказочное, может означать и нечто иное — высокую
159
оценку жизни как таковой, сравнительно с которой ничтожны деньги. Ведь и Петя Трофимов, студент, человек иной социальной породы и совсем иных, демократических, убеждений высоко пренебрежителен к деньгам. Да и сам Лопахин, делатель больших денег, по всей видимости, не слишком дорожит ими. История с внезапным богатством, открывшимся в имении недавнего жалкого попрошайки Симеонова-Пищика, превращает деньги в мираж. И это в минуту, когда отсутствие нужных денег губит имение Раневской. В четвертом акте вишневый сад уже продан с торгов, а у Симеонова-Пищика англичане в земле нашли чудотворную, многодоходную белую глину. Находка, сделанная у Пищика, нейтрализует по-своему несчастье с вишневым садом, принадлежавшим Раневской. О страстях и страданиях персонажей «Вишневого сада» можно бы сказать, что это пир, устроенный в часы, когда не только чума кончается, но когда и многие из гостей уже неясно догадываются об этом. Так можно решить и спор о жанре «Вишневого сада» — комедия ли это или трагедия. По представлениям своего дня «Вишневый сад» — трагедия, и он же комедия, если отвлечься от всеобщности и необходимости жизненных условий, из которых исходит его коллизия, и оценить содержание коллизии по оценкам социального завтра. Своеобразие «Вишневого сада» в интерференции света из одного источника со светом из другого.
Против воли их автора занимательны донесения, сделанные от 28 мая 1904 года действительным статским советником П. М. Пчельниковым в Главное управление по делам печати: вышеозначенный Пчельников работал в качестве своеобразного правительственного шпиона по театральным зрелищам, посещая спектакли и докладывая, как что выглядит со сцены и как принимается зрителем,— тексты пьес уже до того были оценены цензурой, нужно было эту оценку дополнить опытом живого театра. Пчельников писал по поводу «Вишневого сада» в Художественном театре: «До крайности истрепанный, всем успевший надоесть сюжет дворянского оскудения, освещенный лишь со стороны полного недружелюбия автора к центральным героям пьесы, делал то, что фигуры эти, вылепленные лишь из отрицательных качеств, были чересчур угловатыми, в них было мало жизненности. Для того чтобы и зритель смотрел на
160
этих людей под тем же углом зрения, как и автор, последний часто прибегает к приемам довольно наивным. Он заставляет совершенно некстати проходить по сцене босяка, и только для того, чтобы легкомысленная помещица могла ему дать вместо мелочи последние пять рублей. Автор сейчас же объясняет зрителю, что это сделано не по доброму побуждению, а лишь по безграничной бестолочи. Автор заставляет ту же помещицу рассыпать на землю последние деньги и, не считая, класть поднятые в шортмоне; приглашать к себе оркестр и не знать, чем за него заплатить; устраивать у себя танцы в тот самый день, когда решается вопрос о том, останется ли хозяйка дома нищею, либо будет иметь средства к жизни, и т. п.»[117].
Пчельников не подозревал, что увиденное им со сцены театра не в пример опаснее, чем простой памфлет на землевладельцев, как на плохих, неумелых собственников, растрачивающих без смысла свое имущество. Пойми он, что показано было у Чехова, ему пришлось бы писать донос куда более тревожного свойства. Ведь в драме Чехова в дурном хозяйствовании Раневской и Гаева не только изображались методы прошлого, но и всякая собственность вообще уходила здесь в туман, расточалась как общественный институт, как способ жизнеустройства. К счастью, подозрительность доносителя была равна его непроницательности — его подозрительность бездарна, ибо продажна, заказана кем-то другим и служила чужому интересу, к тому же и сам заказчик едва ли нуждался в правде, он искал всего только повода для преследований. До Пчельникоза, театрального соглядатая, не доходила загадочность освещения в «Вишневом саде», при котором смешные образы и примеры, взятые из прошлого, могли пророчить всю прекрасную неожиданность будущего, парадоксально предварять ее. «Вишневый сад» грозил будущим; до Пчельникова, правительственного человека, это не дошло, а если бы и дошло, оказалось бы бесполезным для Пчельникова, ибо от него вовсе не требовали тонкой работы.
Примечательны особенности рисовки персонажей у Чехова. Уже в «Иванове» он дает каждому персонажу свой лейтмотив. Лебедев все пьет водку и запивает водой, Боркин строит проекты, Шабельский ищет средств,
161
чтобы снова съездить в Париж.
«Чайка»: действительный статский советник Сорин все расчесывает бороду и
заводит разговоры о своей упущенной жизни, Шамраев рассказывает анекдоты об
актерах и певцах, учитель Медведенко все о том же, как низко оплачивается
учительский труд. В «Трех сестрах» Кулыгин рассказывает о гимназии и вставляет
в разговор латинские цитаты, Чебутыкин тоже, как Сорин, расчесывает бороду и
читает газеты, в «Вишневом саде» Симеонов-Пищик в любую погоду просит денег, а
Шарлотта показывает фокусы. У персонажей драм Чехова есть свои присловья,
говорки, словечки. Многие свели себя на повторные речи и действия, стали равны
собственным привычкам, стали консерваторами относительно самих себя. Сначала в
персонаже есть внутреннее движение, а потом на наших глазах оно убывает. Иные
созданы так, что уже с самого начала видно, куда они клонят, хотя они молоды
останавливаться во внутреннем росте и застывать. Андрей Прозоров отчасти
повторяет Андрея Андреича, брошенного жениха в рассказе «Невеста», а оба они
восходят к одной строке из Гоголя. Городничий читает чиновникам письмо Андрея
Ивановича Чмыхова: «Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрипке».
Гоголь дал формулу для одного и другого Андрея у Чехова. Как и тот Андрей
Андреич, так и Андрей Прозоров играет на скрипке и толстеет. Андрей Прозоров по
скрипке был настоящим братом своих сестер. Чем дальше, тем он больше толстеет,
и, наконец, в последнем акте мы застаем его уже не при скрипке, а за новым
занятием, к которому
Лейтмотивы привычек, жестов, говоров и говорков имеют значение примет, которые даны, чтобы персона-
162
жи не потерялись, не превратились для нас в неразличимую массу. Чехов пользуется в своей поэтике мелочами быта и другими мелочами очень разнообразно и разноречиво. Но манера изображать людей через бытовые лейтмотивы, порою очень навязчивые, манера различать людей с помощью примет содержит в себе применительно к этим людям и внутреннюю оценку их. Если требуются приметы, то из этого можно понять, в каком критическом состоянии находится индивидуальность, на каком слабом волоске она держится. Погасите примету — и индивидуальности не станет, человек растворится в безличии, в типе, в среде ему подобных; быть может, произойдет и нечто худшее, исчезнет расстояние между человеком и вещами, человек кончится, и вещи начнутся. Ведь и само это очерчивание через примету говорит о том, что личность человека стоит на пороге к ее ликвидации, через примету человек сближается с вещами, с неодушевленным миром, с царством животных. В фермерском анекдоте сын и наследник объясняет, как отличить его папашу — главного хозяина: вы его найдете в хлеву, он при свиньях, вы можете его узнать по шляпе. Когда человека разыскивают по примете, то исходят из предположения, что он совсем затерян, умышленно или неумышленно, и нужны особые усилия, чтобы обнаружить его. Примета есть нечто обидное, ее держат в уме; не слишком вежливо и находчиво выкладывать перед кем-либо, какие приметы числятся за ним. Характеристика через приметы — явление бытовое, оно существует и в быту официальном, публичном, и в быту приватном, домашнем, этот прием обихода можно поднять до значения искусства, сохраняя свойственные ему в обиходе привходящие оттенки, играя этими оттенками. Та или иная форма художественной выразительности зачастую подготовляется в быту, как бы репетируется бытом, проходит там свою предварительную школу, не есть искусство и может стать искусством. Классический русский реализм не только занят был изображением живого быта, сам способ изображения зачастую возникал из быта же. В этом отношении Чехов в методе своей совпадает с Гоголем, Тургеневым, Толстым, Пушкиным. Люди с приметами — это, собственно, конченые люди, от которых ждать нечего. Люди былого, люди без движения, конечно, не дают основы драмам Чехова. Драмы Чехова, как и по-
163
вести, как рассказы его, живут сопоставлением былого и будущего. Главное в драмах — молодые неопределившиеся души с открытым горизонтом, с неожиданностями поведения, будут ли это Треплев и Заречная, будут ли это сестры Прозоровы, Тузенбах, Аня и Трофимов.
Недавно Артур Адамов в опубликованном печатью разговоре с ним заметил, что в драмах Чехова, и он особенно ценит в них это, совершается «чудо пространства», «одно кажется более близким, другое находящимся вдали»[119]. Надо думать, что «чудо пространства» не что иное, как размещение персонажей в драмах Чехова. Молодые души, еще не тронутые, все вместе взятые образуют в драмах некую многообещающую туманность, создают впечатление дали, тянут нас в эту даль, а консервативные отработавшие души старших и стариков — они вблизи, мы натыкаемся на них, как на косные физические тела.
Подчеркнутая подробность в человеке у Чехова не всегда имеет значение приметы. Подробность может оказаться пародоксальной и беспокоящей, предостерегающей от упрощений, в которые зачастую готов впасть именно театр. Станиславский сообщает, как Чехов комментировал для актеров роль дяди Вани: «У меня же написано: он носит чудесные галстуки. Чудесные! Поймите, помещики лучше нас с вами одеваются»[120]. Дядя Ваня — хозяйственник, годами сидящий в деревне, и вдруг говорится о галстуках его. Дядя Ваня рисовался нам в достаточно законченном образе, но к образу есть добавление, оно смущает нас, оно уже не есть примета, простой опознавательный знак, с него начинается новое, не получившее, однако, продолжения, неузаконенное, лишенное опоры в уже известном. Так было в «Платонове»: сравни галстуки Ивана Петровича Войницкого с безупречной орфографией генеральши Войницевой. Примета, мы помним, есть знак застоя и мертвой законченности, а здесь по поводу дяди Вани подан знак жизни и воскрешения, которые, быть может, суждены этому погибающему человеку. Дядя Ваня да-
164
леко не страдает безличием, да еще в такой степени, чтобы нуждаться в примете, добавочный штрих вносится ради совсем иной мысли. Разрывая с Серебряковым, дядя Ваня кричит: «Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский, я зарапортовался!» Он и в самом деле чересчур высоко взял, но в душе его есть непрожитые силы, он не может согласиться на жизнь, к которой присудили его.
В «Трех сестрах» есть один персонаж, мимоидущий, и все-таки Чеховым отмеченный. У него есть свои признаки, капельные, маленькие, но признаки — он возится с фотоаппаратом, дарит записные книжки, карандашики. Это офицер Федотик, самая фамилия которого вызывает ласковое пренебрежение. Жюль Ренар написал у себя в дневнике: «Неповторимая индивидуальность капли воды» (запись от 14 июня 1892 г.). Чехов не шутил с индивидуальностью и этого рода, если она что-то обещала. Петя Трофимов говорит в «Вишневом саде»: «Быть может, у человека сто чувств, и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы»[121].
Актер Леонидов рассказывает: «Когда я допытывался у Чехова, как надо играть Лопахина, он мне ответил: «В желтых ботинках»[122]. С желтых ботинок, весьма вероятно, что-то в Лопахине могло бы начаться в своем дальнейшем развитии «ам неведомое.
Те, кого называют «положительными героями» у Чехова, строго говоря, отсутствуют. Нет никого, кто бы был несомненным ставленником автора, кто бы послан был автором в будущее. Есть другое, идет освобождение душевных сил, более не работающих на прежние цели и интересы, идет накопление в душах материала, частица за частицей, способного создать нравственный мир будущих людей. Материал этот поступает с разных сторон, и в драмах Чехова налицо томление — есть глина, чтобы лепить человека, доброго и прекрасного, разумного и мужественного, но сам человек еще не готов, в людях, которых мы видим со сцены, он пребывает отдельными своими сторонами в смешении с тем, что должно бы отпасть со временем и не препятствовать его появлению на свет,
165
Огромно значение сценической речи у Чехова — добрая часть впечатления, создаваемого драмой, приходится на сценическую речь. Чехов отвергал густо-характерную речь, принятую в русской бытовой драме, и очень неприязненно отзывался об актерах, вносивших ее туда, где их об этом не просили. Если речь эта налицо и у Чехова, то стиль ее скорее обобщенно-музыкальный, чем мелко и дробно живописующий. У Чехова речь персонажа — мелодия души и тела, а не только передача внешней бытовой характерности. В эту мелодию может входить и нечто типовое или групповое, но сюда входит и все особое, персональное, чем этот персонаж отличен от других.
Прислушаемся к речи Епиходова: «Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа»[123]. В этой речи оркестровка затмевает какой-либо смысл — вся речь построена из интеллигентских слов, ласкающих слух Епиходова, не связанных по смыслу, из слов лишних в предложении. Обилие лишних, служебных, связуюших слов у Епиходова и у других персонажей Чехова чуть ли не главнейший, по их понятиям, признак образованности и красноречия — ведь так они ее, образованность, и понимают как орнамент из хорошо оплачиваемых ненужностей, как набор пустых слов, идущих, однако, по самой высокой цене, какая только бывает. В рассказе «Архиерей» сделана подготовка к стилистике Епихидова. Архиерея навещает купец Еракин: «— Дай бог, чтоб! — говорил он, уходя. — Всенепременнейше! По обстоятельствам, владыко преосвященнейший! Желаю, чтоб!»[124] Реплика эта похожа на комические речитативы Мусоргского. Вперед выкатывается короткое, грузное, пустое и громыхающее словечко «чтоб». В этих «чтоб» и «чтоб» слышны пыхтящие душа и тело купца Еракина, тяжкая манера его двигаться, дышать и жить. Еракинские «чтоб» должны бы, по правилам синтаксиса, начинать новое предложение, вместо чего они замыкают, нет — затыкают предыдущее. Они застревают в преддверии нового предложения, как мог бы застрять, завязнуть сам купец Еракин в чьих-нибудь входных дверях, слишком
166
для него узких, — в сущности, узки для этой фигуры всякие двери, даже врата. Еще ранее того, в повести «Три года», описано, как в амбаре приказчики приветствовали Лаптева с Юлией Сергеевной: «…оттого, что почти через каждые два слова они употребляли с, их поздравления, произносимые скороговоркой, например, фраза «желаю вам-с всего хорошего-с» слышалась так, будто кто хлыстом бил по воздуху — «жвысс»[125]. В глубокопочтительном приветствии, в музыке его где-то спрятаны страх перед хозяевами и злоба против них. В верноподданническом «с» шипят и свистят разбуженные змеи. В повести «B овраге» у Варвары свой особенный напев, ох-тех-те, это добросердечное кудахтанье служит звуковым фоном для всякой фразы, ею произносимой. В этом напеве нрав Варвары, ее походка, ее способ существования. Она для себя создала особый маленький, в развалку темп, безотносительный к быту разбойничьего вертепа вокруг, спасающий от этого быта, «ох-тех-те» действует, как заклятие или как оградительная молитва.
Чехов писал О. Л. Книппер: «Зачем вы играете пьесу Горького на о? Что вы делаете?!! Это такая же подлость, как то, что Дарский говорил с еврейским акцентом в Шейлоке. В «Мещанах» все говорят, как мы с тобой»[126]. От резкой характерности Чехов отказывается вполне последовательно, того требовал «симфонический принцип» его драм, выделяющий отдельные голоса лишь настолько, чтобы они могли и сливаться друг с другом. Не случайно Чехов вспоминал по этому поводу Шекспира, который тоже строит драму на симфоническом принципе и не допускает, чтобы из общей речевой стихии его драмы вырывалась отдельная роль. Чехов немало страдал от неумения актеров произносить по-новому тирады и реплики его драмы — произносить их музыкально. По этому поводу Б. Б. Асафьев снова сопоставляет Чайковского и Чехова: «Любопытно, что каждая попытка оперно-аффектированного исполнения «Евгения Онегина» не вызывает сочувственных откликов и скорее внушает досаду. Мне рассказывали, что провал премьеры ”Чайки“ Чехова в Александрийском театре
167
в сезоне 1897—1898 годов вызван был преимущественно аффектированным мелодраматическим интонированием пьесы, где сдержанность высказывания — закон стиля!»[127]
Те постоянно повторяющиеся слова, присловья, присказки, которыми уснащены речи персонажей, служат у Чехова не столько характеристикой их личностей, сколько общего всем состояния жизни, в которое и они погружены. Автоматизм этих людей — автоматизм, в который впала жизнь города и деревни. Хотя характерность Вафли или Симеонова-Пищика с подобающим тактом даны у Чехова, еще важнее для него характерность целых сфер жизни, «стран света», по которым располагается жизнь. Уже в рассказе «Полинька» (1887) он играл сопоставлениями речей одной жизненной тональности с речами другой: Полинька, маленькая модистка, в галантерейном магазине, куда она пришла за товаром, ведет с приказчиком Николаем Тимофеевичем тихий и очень важный для них обоих разговор, драматический то содержанию, а фонетическим фоном к нему являются поминутно вокруг произносимые слова и фразы из языка товарооборота: «Черные от 80 копеек, а цветные по 2 р. 50 к.», «Есть два сорта кружев, сударыня! Бумажные и шелковые! Ориенталь, британские, валенсьен, кроше…!» Мы слышим здесь речь и речь, одна тональность включается в другую, торговая в лирическую и драматическую, нанося ей легкие ранения и посмеиваясь над ней.
В «Чайке» в последнем действии постепенно копится настроенность, приводящая к трагической развязке, но хозяева и гости играют в лото: слышны выкрики играющих: «Восемь! восемьдесят один!.. тридцать четыре!» Тем временем за сценой играют меланхолический вальс.
«Дядя Ваня» кончается переходом на тональности будничной прозы, после отошедших гроз и потрясений. Фразу с календарными датами и с цифрами гречневой крупы и постного масла выговаривает не Иван Петрович, ее выговаривают многие и многие тусклые безрадостные дни, ему предстоящие, фраза эта — говор одной из «стран света», куда он попал, по видимости, навсегда.
168
Ценя и невоплощенное, по необходимости предпочитая его тому, что воплотилось в современной жизни, Чехов должен был соответственно этим своим интересам и оценкам разрабатывать также и сценическую речь. Хорошо известны паузы в драмах Чехова, они были одним из ярко заметных признаков сценического стиля в Художественном театре[128]. Пауза, перерыв речей — та минута, те минуты, когда вдруг обнажается само лицо жизни, когда она проглядывает в своей вековой неоформленности. Люди на какие-то мгновения перестают действовать и называть происходящее с ними, прекращается работа формовки жизни людьми, человеческими поступками и словами. Не имеющее имени, не бывшее еще в руках человека вдруг предъявляет себя в этих паузах, зачастую достаточно длинных, чтобы мы почувствовали его особую, не освоенную нами еще природу. Драматические паузы по смыслу своему вовсе не есть способ наводить уныние на зрителя, бесполезно их томить и еще томить. Напротив того, они духовно нас обогащают и так ободряют нас, они указывают, что жизнь в том ее образе, в каком мы ее знаем через слово, через человеческий быт, еще далеко не исчерпана, что она бесконечна. В этом же значение и пустого времени, которое любит отмечать Чехов. В «Дяде Ване» (акт II) постоянно слышна колотушка ночного сторожа — идут часы, идет время, оно существует и отдельно от людей, независимо от того, чем люди его наполнили. Действие «Трех сестер» длится пять лет — так нам дано ощутить наличие помимо людей еще иной, объективной силы, которой они противостоят, которая существует и через них и без них, ими обрабатывается, но и сама их обрабатывает. Даже паузы, чем-то заполненные, имеют родственный смысл. В «Вишневом саде» (акт II) в поле собрались почти все лица драмы. В середине акта ремарка: «Тишина… Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный». Лопахин комментирует этот звук: «Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко»[129]. Бадья, сорвавшаяся в шахте, означает нечто очень простое и очень значитель-
169
ное — наличие другой жизни, совсем иначе устроенной, с другими людьми, чем жизнь и судьба людей, видимых нами на сцене. Этот эпизод позволяет нам освободиться на минуту от эгоцентризма событий, связанных с Гаевым и Раневской, — освободиться и осмотреться. Другая жизнь дана звуками; в театре, который прежде всего есть зрелище, звукозапись как таковая создает беспокойство, данный одними лишь звуками образ явления — недорисованный, недолисанный. Другая жизнь здесь — жизнь невоплощенная, воплощение ее для нас только начинается, не пошло дальше звуков. Та жизнь всех, кого мы уже воочию знаем по пьесе, заражается для нас этим чувством неполного воплощения, подчиняется ему, ибо в этом эпизоде оно обладает большою внушающей силой.
В день двадцатипятилетия первого представления «Вишневого сада» в Художественном театре Вл. И. Немирович-Данченко произнес речь, где вспоминал, как трудно давались театру драмы Чехова, когда театр впервые принялся за них. Театр брал произведения Чехова «слишком грубыми руками», говорил в этот юбилейный день Немирович. «Например, звук во втором действии, этот знаменитый звук, который я считаю до сих пор ненайденным. Надо было за кулисы дать приказ найти звук падающей в глубокую шахту бадьи. Этот звук Чехов сам ходил проверять за кулисы, говорил, что надо брать его голосом. Если не ошибаюсь, Грибунин пробовал давать голосом звук этой упавшей бадьи, и тоже не выходило. Все это стоило очень больших исканий и все, что было неправильно, задерживало постановку»[130].
Вл. И. Немирович-Данченко, как следует из слов его, отлично понимал, как содержательна эта пауза в «Вишневом саде» и как важны эти неожиданно вошедшие в нее звуки, рожденные где-то вдалеке. Примечательно, что Чехов хотел передачи этого звука человеческим голосом, — звук упавшей бадьи, звук из жизни вообще, проникший в особую жизнь персонажей драмы, Чехов хотел предельно одушевить.
Близко к паузе по своему художественному назначению и недоговоренности в драмах Чехова то, что получило в театральной практике название «подтек-
170
ста»[131]. Интерес Чехова к силам жизни, частично воплощенным или только напрашивающимся на воплощение, не мог не привести его к этим особым, приблизительным и в приблизительности своей точным, выразительным средствам. Подобно паузе, они позволяли увидеть жизнь до формы, перед формой, вне формы, представляли ее во всей наготе новорожденного. «Три сестры», первый акт: Маша не хочет оставаться, у нее дурное настроение. Приходит знакомиться Вершинин, он разговорилоя, Маша, сказано в ремарке, снимает шляпу, она будет завтракать со всеми. Маша снимает шляпу —«подтекст», над которым нет текста, нет слов, чистая мимика. В подробностях этих первый признак интереса Маши к Вершинину. Без Вершинина ей тут делать было нечего, ради него она переменила свое решение. Как в паузе, так и здесь: становится видимым, ощутимым само душевное состояние, оно обходится без слов, один очень обыденный жест его выражает. В душе этой женщины произошло какое-то сложное движение, что-то важное в ней затронули речи Вершинина, а выражается это простым движение рук. Выражаемое не прямо примыкает к выражению, не закрыто выражением, и поэтому выражаемое по-особому видимо. То, о чем речь, «вещь в себе», находится перед нами воочию. Оно само только что родилось и еще о себе почти ничего не знает.
Вахтангов объяснил актерам, что такое «подтекст»: «Если кто-нибудь спрашивает у вас, который час, он этот вопрос может вам задавать при различных обстоятельствах с различными интонациями. Тот, который спрашивает, может быть, не хочет в самом деле знать, который именно час, но он хочет, например, дать вам понять, что вы слишком засиделись и что уже поздно. Или, напротив, вы ждете доктора, и каждая минута очень дорога для вас. Можно перечислить целый длинный список таких обстоятельств и случаев, когда интонация этого же вопроса может звучать по-иному. Вот почему необходимо искать подтекст каждой фразы»[132].
171
При подтексте, по Вахтангову, очень важна интонация — именно она направляет нас к подлинному смыслу высказывания. Интонация предполагает некоторое умолчание, либо умышленное, либо невольное: мы чего-то не хотим высказать до конца, или же мы не в состоянии это сделать, даже если бы хотели. В примере Вахтангова: мы не хотим гостю сказать прямо — вы засиделись, милый мой. Мы намекаем, что засиделся, справкой о времени, через особую интонацию этой справки. Гостю предоставляется известная свобода решения, уходить ему или не уходить, его свобода лежит в нашей интонации, в неполной ее определенности, как это и свойственно интонации вообще. В вахтанговском примере подтекст — это наша вежливость, это наше гостеприимство, но это и наше настоятельное желание, чтобы также и гость щадил хозяина, его время и силы. В зачине «Трех сестер» Маша твердит стихи из пролога к «Руслану и Людмиле» Пушкина: «У лукоморья дуб зеленый,— златая цепь на дубе том… Златая цепь на дубе том…» С этими стихами Пушкина Маша идет через всю драму, до самой ее развязки: они служат для Маши лейтмотивом. Мы теперь знаем другую версию «Трех сестер», более раннюю, вместо стихов Пушкина там Маша время от времени приговаривает: «Слава богу, слава нам, Туртукай взят и мы там…»[133]. Это слова победной депеши Суворова. Конечно, Маша цитирует не ради того, чтобы оживить свои познания в литературной или в военной истории. И здесь все дело в интонации, каждый раз иной, а интонация — некое смутное, но и нескудное самоопределение Маши. Через бравурный стишок Суворова до нас доносятся стремительность, задор, отчасти составляющие портрет Маши. Но интонация не съедает и подробностей внешнего порядка, относящихся к ней, — воинская цитата соответствует дочери генерала Прозорова, воспитывавшейся в военной среде. При цитате из Пушкина представление о Маше меняется и чрезвычайно обогащается. Интонация этой цитаты — мечта, раздумье, попытка разобраться в самой себе, познать, что происходит в собственном внутреннем мире, чего желаешь, в чем нуждаешься.
172
Повторяя и повторяя пушкинские слова, Маша как бы пробует клавиатуру, какой звук и как отзовется. В стихе Пушкина сказка, волшебство сказки, прихоть сказки, поэтическая магия, заманчивость непонятного. Машу поражает странное, красивое и неизвестно что означающее слово «лукоморье», — перед самым концом драмы Маша спрашивает, что значит — у лукоморья? Маша твердит этот стих потому, что в стихе этом ее же собственное желание выхода из будней. Сказка своенравна, Маша тоже своенравна. Пушкинский стих — предвосхищение того, чем станет Маша через неделю, через месяцы. Она пойдет на трудную и мечтательную любовь, она будет заслушиваться речами Вершинина о жизни бесконечно счастливой, которая наступит для человечества. В цитату из Пушкина, в подтекст ее входят и личность Маши и быт ее. Муж преподает в гимназии, в женской гимназии служит и сестра. Пушкинская цитата есть также и школьная цитата, она направляет мысль к гимназии, к гимназической хрестоматии, куда непременно входили стихи о лукоморье, для заучивания наизусть. По обстоятельствам быта гимназия мужа стоит сейчас ближе к Маше, нежели все военное и воинское, с чем связывал ее покойный отец, генерал Прозоров. Поэтому в рукописи Чехова победоносную реляцию Суворова вытеснили строки о лукоморье, пусть учебные, пусть ученические, учительские, но вместе с тем и томительно-лирические, объединяющие сегодняшний быт Маши Прозоровой с враждебным быту состоянием ее души. Цитата не случайный элемент стиля у Чехова. Пушкин, сочиняя пролог к «Руслану», не имел в виду Машу, урожденную Прозорову, а она примеряет стихи пролога на себя. Цитата — пересадка растения на новую почву. Корни обнажены, мы ощущаем почву, мы наблюдаем борьбу выражения с предметом, который хотят выразить. Как это бывает у Чехова, нам дано переживание предмета, каков он еще до слов, до той минуты, когда он сольется со словом, со словами. Не получившая окончательной формы, не уходившаяся душа Маши видна сквозь стихи о лукоморье.
Чебутыкин вслух вычитывает из газеты: «Бальзак венчался в Бердичеве». Эта тирада стала знаменитой, теперь в России всякий знает, где венчался Бальзак. Конечно, фраза эта преподносится нам не с интонацией фактического сообщения, выданной кому-то биографи
173
ческой справки о Бальзаке, но с раздумьем. Чебутыкий как бы философствует по поводу Бальзака, фраза его — сентенция, афоризм, а может быть, еще лучше перевести ее на язык музыки — тогда она ариозо Чебутыкина. В самом деле, в ней заключены весь человек и все его чувствование жизни. Весь контекст пьесы через Чебутыкина входит в эту тираду. Она неотделима от контекста, как отделимы, например, тирады комедии Грибоедова «Горе от ума», где они живут и в контексте и вне его, пользуясь самостоятельностью, свойственной обычно тирадам драматических произведений, написанных в формах классицизма. «Афоризмы» Чехова вызывают усложненные эмоции, придают жизни в целом свой особый эмотивный смысл. Афоризмами их можно именовать, только поставив в кавычки этот термин, имея в виду своеобразнейшие афоризмы чувства[134]. Афоризм Чебутыкина отливает многими цветами. Знаменитый французский писатель приехал в глухой городишко на Волыни, чтобы там обвенчаться с одной польской дамой, — тут игра несообразностей, тут та прихоть действительной жизни, которой полна и эта драма Чехова. Чебутыкин случайно нашел в газете фразу о Бальзаке, и вот случайная фраза соединяется с генеральным содержанием «Трех сестер», да и всей жизни, что стоит за этой драмой. Случайная фраза получает грандиозный подтекст, выразительность здесь зависит от того, что столь малое и случайное означает столь крупнообщее и обобщенное, почва хороша, и поэтому упавшее в нее зерно так пышно и так богато прорастает.
В воспоминаниях своих Бунин рассказывает, как Чехов, смеясь, вслух цитировал из газеты: «Самарский купец Бабкин… завещал все свое состояние на памятник Гегелю»[135]. Конечно, это был эскиз будущей тирады Чебутыкина, эскиз одного абсурда, который потом вытеснен был другим абсурдом, принятым окончательно, ибо он касался вещей более простых и близких, не памятника философу, но истории одной женитьбы.
174
«Афоризмы» Чебутыкина менее всего допускали что-либо слишком сюжетное и (специальное. В ранней редакции Чебутыкин напевал: «Ах вы, Сашки, — канашки мои, разменяйте вы бумажки мои…». В окончательной редакции появилась «тарарабумбия» — обобщенный приговор миру и жизни в мире вместо прежних куплетцев, слишком частного характера и слишком лихих. «Та-ра-ра-бумбия», — тихонько поет Чебутыкин: первые слоги почти тождественны, они передают однообразие и скуку жизни, от которой поющий хочет отделаться забавляясь, ее передразнивая. «Тара-ра-бумбия… сижу на тумбе я» — бессмысленная тарарабумбия растворяет в себе рифмующееся с нею осмысленное слово, но и это слово — о тумбе всего лишь.
Эмоционально богатая, эмоционально разрисованная тирада, обдуманная, как стих, завещана была Чеховым позднейшим драматургам. Мы находим ее по наследству от Чехова в драмах Бабеля — в «Закате», в «Марии», если иметь в виду произведения, по времени более близкие к нам. Станиславский говорит о «бриллиантиках», которыми Чехов усеивал тирады собственных драм. Чехов часто досылал их театру дополнительно. Так, фраза о Бальзаке, тот же «бриллиантик», была дослана Чеховым из Ниццы, Чебутыкина не сразу Чехов обогатил ею.
Клики трех сестер «В Москву, в Москву!» — те же слова с многозначащим подтекстом. Мы слышим, они хотят в Москву, на старую Басманную. Адрес дан с такой узостью, чтобы понятным стало, насколько он шире на самом деле. Москва трех сестер — другая жизнь, дальнее будущее, куда не продают железнодорожных билетов. В этих обращениях к Москве какая угодно интонация, только не деловая, не будничная. Москва трех сестер —то же лукоморье Маши, но общее всем трем сестрам.
Тирады Маши, Чебутыкина, призывы трех сестер — род монолога. Особое явление — подтекст в диалогах драмы. Его предпосылка — характер отношений между действующими лицами: дружба ли это, вражда ли, или же, быть может, равнодушие. Пример, который приводил Вахтангов, собственно, взят из области диалога: я говорю то-то и то-то, имея тайное желание на кого-то воздействовать так-то и так-то, вопреки его воле. Обычный подтекст диалогов — некоторая политика и дипло-
175
матия. Хотят нечто провести, незаметным образом для присутствующих на сцене, хотят заговорить, даже обмануть собеседника, врага, друга, даже самих себя, наконец — судьбу. Например, подтекст почти всех разговоров в «Вишневом саде» — конспирация против судьбы, против даты 22 августа, которую все хотят забыть, — один Лопахин помнит. Чего-то избегают, что-то ищут, натыкаются на искомое, ищут глубже, — так обстоит дело и в тирадах -монологического типа, например, в тех же тирадах Маши и Чебутыкина, заглядывающих в самих себя, в жизнь вокруг.
Диалог в драмах Чехова, быть может, самое существенное в них. Он передает, как устроены связи между людьми, в чем \их внутренний характер. В рассказах Чехова общение и трудности его составляли одну из главных тем. В драмах, в диалогах драм общение, его природа превратились в стиль, по поводу чего можно бы сказать, что стиль есть бывшая, пройденная тема: сначала идет собирание черт, движутся от частного случая 'к частному случаю, а потом приходит сгущение частностей в общий стиль, и новые частности уже не обходятся без этой обобщенности через стиль и в стиле. Стиль диалогов Чехова — разорванность связей, люди с трудом находят, а то и вовсе не находят, дороги друг к другу. Мы и здесь встречаемся с манерой Чехова представлять в виде конкретного единичного эпизода рассеянное в обобщенном виде по всему произведению. Гаев держит в «Вишневом саде» речь к «многоуважаемому шкапу». В этой драме почти каждому персонажу приходится обращаться к иносказательному «шкапу» — к своему собеседнику. Стиль многих диалогов в драмах Чехова — разговор глухих, с переспрашиванием, с тугою доходчивостью слов. Но в «Трех сестрах» один из персонажей и в самом деле глухой — Ферапонт, сторож из земской управы, а в «Вишневом саде» есть другой глухой — старый Фирс. Раневская говорит Фирсу: «Я так рада, что ты еще жив». Фирс отвечает: «Позавчера». Это упрощенная физическая модель разговоров и с теми, у кого глухота иная — психологическая.
Формы диалога сложились у Чехова в конце XIX столетия, когда были уже примеры ведения речи по новому в драмах Ибсена, Метерлинка, Гауптмана. В частности, у Метерлинка, более чем у других, в ходу
176
был «разговор глухих», разговор, построенный на разобщенности говорящих. Но, по всей вероятности, важнее литературных примеров были собственные наблюдения Чехова над речью, как она бытует повседневно, и отсюда заимствовались им многие формы речевой выразительности. В 1886 году Чехов написал рассказ «У телефона», остроумную имитацию новых форм диалога, создаваемых современной цивилизацией. Телефон тогда был внове, крутили ручку и с нужным абонентом соединялись, предварительно вызвав центральную станцию. Юмор рассказа Чехова построен на том, что станция соединяет не так, не с теми, добиваются связи, она не получается, нечаянно слушают чужие разговоры, а нужный так и не налаживается до самого конца. Звонят в «Славянский базар», а отвечает маленький мальчик из пустой квартиры, его ответы целый детский доклад, потом он появляется снова на конце провода, как будто бы он-то и был заказан, нечаянности повторяются дважды, до нужного не добраться, «— Соединить со «Славянским Базаром»! — прошу я. Наконец-то! — отвечает хриплый бас. — И Фукс с вами? — Какой Фукс?..»[136] Неправильное соединение или отсутствующее соединение — тот же диалог чеховских драм. В рассказе «У телефона», как в диалогах драм, через реплику вырываются куски чужого быта, позиция инициатора разговора все та же, а миры все разные, то детский мирок, то мужской и деловой, происходит «борьба миров», реплика вытесняет реплику, как в чеховской драме, когда говорят один за другим все присутствующие на сцене и каждый свое. Телефонные отклики причудливы, как отклики друг другу людей в драмах Чехова, находящихся в той же комнате. Телефон соединяет дальних, комнатный разговор не всегда соединяет ближних. «И Фукс с вами?» — через телефонную связь выплыл какой-то Фукс, на другом конце провода его отлично знают, на этом Фукс — аноним. По телефону откликается какой-то внутри себя очень налаженный и в себе уверенный мир. Со стороны, на чужой слух это ералаш неведомых имен и лиц. Так и в драмах Чехова — чужие миры возникают при вспышках неожиданных реплик, возникают и гаснут, если и было соединение, то недостаточное, краткое, прерывистое, с провалами.
177
В западноевропейской драме в подтекст уходило содержание,
которое действующие лица хотели скрыть друг от друга. Так было у одного из
первых мастеров подтекста — у Клейста, так было у Ибсена, пользовавшегося
языком подтекста много шире, чем все его предшественники. У Ибсена в главных ее
линиях драматургия канонична, Ибсен писал драмы борьбы, и персонажи хранят свои
тайны, как это и подобает, перед лицом противника. Так как по своеобразию драм
Чехова борьба в точном ее смысле отсутствует, то это меняет и характер диалога
и характер подтекста. У Чехова действующие лица не столь отличаются
скрытностью, как, напротив того, — странной откровенностью. Уже в «Чайке»
старик Сорин исповедуется перед кем попало, что прожил жизнь не так, Тригорин
произносит целую речь о литературе перед Ниной Заречной, которая мало
интересуется литературой, а больше самим Тригориным. Связи между людьми ослабевают,
«жизнью связи портятся», по сцене ходят лица, о которых можно думать, что их
миссия восстанавливать эти связи. Довольно ясен истинный подтекст этих
речей-исповедей, этих реплик, подаваемых из глубины собственного душевного
мира, как бы затонувшего на глазах у всех. Люди-одиночки тайно взывают и тайно
надеются, что все-таки будут услышаны, что не навек окружающие будут равнодушны.
Через откровенные свои речи они вербуют собеседников и друзей. В драмах Чехова
какие-то человеческие ансамбли существовали и рассыпались, было семейство Серебряковых-Войницких,
сейчас сюда вошла вражда, был дом Прозоровых, была общая судьба у трех сестер и
брата, теперь каждая сестра и брат — все разные судьбы, разрушился и дом
Раневских-Гаевых, но драмы Чехова позволяют надеяться. Если малые, семейные,
домашние связи между людьми расторгаются, то отсюда еще не следует, что
невозможна более широкая, более универсальная и в своей универсальности более
стойкая связь. Да и старые связи не всегда идут к полному концу. Последний,
заключительный эпизод «Дяди Вани»: Серебряковы уехали, Астров уехал, остались
одни зимовщики. В ремарке сказано: «Телегин тихо наигрывает,
Нужно еще добавить Соню и самого дядю Ваню, вернувшихся к хозяйственным работам. Как будто бы каж-
178
дый отъединился в свое особое дело, в свой особый мир, но это не так: ходом событий отобраны те, кто действительно нужны друг другу, кто худо-бедно, а все-таки составляют добрый союз. Сама идея человеческого союза неистребима. Наконец, есть еще одно лицо, которое всегда единит м:ир чеховских драм, как будто бы распадающийся на куски. Лицо это — зритель. Чехов заставляет зрителя так глубоко, так интимно входить во все перипетии драмы, в положения и состояния действующих лиц, что через зрителя опять возрождается жизненное целое. Чехов, подобно Ибсену, требует самого неотрывного внимания ко всему происходящему на сцене. Он пользуется приемами микровыразительности, что придвигает зрителя к сцене чрезвычайно близко, без зияний, без промежутков между зрителем и сценой. В «Трех сестрах» движение фабулы отмечается такой мелочью, как переселение Ирины из комнаты в комнату, из этажа в этаж; в четвертом акте мы впервые слышим «ты» между Машей и Вершининым после длительного «вы» первых трех, и новая форма обращения нечаянно приоткрывает многое. Конечно, микровыразительность, микровнимание сами по себе еще ни к чему не ведут, у Ибсена и то, и другое все-таки оставляет зрителя холодным. Ибсен вовсе и не стремится к коротким отношениям со зрителем. У Чехова при лирическом строе его драм те же приемы действуют иначе, зритель и так вовлечен в душевную суть событий, а интимизм внимания, которого требует Чехов, придает этой вовлеченности постоянство, сочувствие горит в зрителе равным пламенем. Распавшийся мир заново отстраивается в зрителе, значит, он будет отстроен и вовне, реальным методом и реальными действиями.
Вл. И. Немирович-Данченко, один из первых указавший на великое значение «подтекстов» Чехова, дал им и весьма своеобразное истолкование. Он говорил, что три сестры у Чехова «очень любят друг друга, но никогда они этого внешне не выражают. Значит, поменьше сахарно-сентиментальных общений и как можно больше внутренней замкнутости: от неудовлетворенности жизнью»[137]. Последняя фраза вначале кажется неожиданной, но, подумав над нею, можем согласиться,
179
что тут открыт один из важнейших источников «подтекста» у Чехова. Неудовлетворенность жизнью — да, действительно, люди чеховских драм далеко несполна живут тем, чем велено им жить, они присутствуют в среде современников и однокашников, также и отсутствуя, томясь о каких-то иных занятиях и интересах, об ином по содержанию своему общении с близкими, подземельями своих «подтекстов». Люди Чехова уходят в ненаступившие еще времена. Часто они отвечают невпопад своим собеседникам, вырываются из контекстов общения в его сегодняшних формах, как бы затем, чтобы оно возродилось в новом и высшем виде когда-то в совсем другом веке, обещающем перемену во всех обычаях и нравах человеческого бытия.
Известный театральный критик А. Р. Кугель подробно высказался по поводу способов вести речь в драмах Чехова. «Когда сердцу и уму ясны обреченность жизни и бесполезность борьбы, когда внутренний мир такой холодный и усталый, что не знает, какое, собственно, выбрать «направление» — «жить или застрелиться»,— люди вырабатывают свой особенный диалог, очень мало похожий на разговор действенной жизни. Обычно мы говорим тогда, когда это нужно. Нас спрашивают — мы отвечаем; мы спрашиваем — нам отвечают. Реальные интересы, взаимные отношения дают связность, логическую соподчиненность речам. Слова текут по руслу жизни. Герои Чехова ведут особый диалог. Стоя в стороне от жизни, подчиняясь ее течению, эти пассивные натуры больше разговаривают про себя и для себя, чем для дела»[138]. «Речи действующих лиц в пьесах Чехова — в «Вишневом саде» в особенности — приближаются к форме монолога»[139].
А. Р. Кугель пишет о поэтике Чехова с некоторой неуверенностью, может показаться, что он не столько судит о ней, сколько осуждает. Человек традиционных вкусов в делах театра и драматургии, он все еще смущен через два десятилетия по смерти Чехова новшествами, которые тот ввел в свои пьесы. Он воспринимает в драматургической системе Чехова явления распада и менее чувствителен к общениям жизни, по новому
180
устроенной, которые там даны. Критик иной раз ценит Чехова чересчур относительной оценкой, иной раз придает его нововведениям абсолютное, на все будущие времена значение. Именно тогда сказываются колебания критика,— по тому же поводу он готов на ответы, не всегда друг с другом совпадающие.
«В «старой драме» все переходы, события и явления происходят через посредство «узнания», причем характер и форма «узнания» становятся, с развитием драмы, все более естественными. В греческой трагедии «узнание» совершалось через «вестника»; потом «узнание» стало приходить через подглядывание и подслушивание (Чехов в «Иванове» заплатил дань этому приему — жена подслушивает и подсматривает объяснение Иванова с Сашей); далее «узнание» стало производиться с помощью диалога, что, конечно, гораздо натуральнее. «Новая драма» (в этом отношении «Три сестры» — образчик весьма характерный) пошла еше дальше. То, что называется «узнанием», дается «настроением», атмосферой, общим тоном, косвенными намеками. Не нужно объяснение Андрея как «узнание». Положение Андрея в семье «Трех сестер» и без его прямого показания довольно ясно. И Маше незачем объясняться с Вершининым, да они и не объясняются. Их отношения «даны» помимо их прямых речей. И Кулыгин не поясняет никаким диалогом своей роли, но и без того она нами ясно понимается, и, быть может, самое важное в нашей жизни выражается в молчании, в косвенных речах и полунамеках»[140].
Вероятно, эти строки — лучшие в статье Кугеля, в них он открывает такие стороны поэтики Чехова, которые и до сей поры еще недостаточно осветились для нас. И все же в строках этих налицо известная смутность. Критик говорит об особенностях манеры Чехова как о завоеваниях «новой драмы», очевидно сделанных навсегда. Мы же охотнее говорили бы об исторически ограниченном смысле этих завоеваний. Поэтика элементарных «узнаний» может отпасть только в очень старом, во всех подробностях, свычаях и обычаях своих устаревшем мире, который сам себя вдоль и поперек выучил наизусть. Здесь и в самом деле нет надобности в декларациях и в комментариях, все угадывается по
181
едва заметным колебаниям атмосферы, всякое положение, всякая фигура имеют тьму предшественников, которых стоит только едва-едва затронуть, одним каким-нибудь полупризнаком «процитировать», и все становится очевидным.
Насколько этот интерпретатор Чехова нетверд, что относить к прошедшему, что к будущему, это указывает одна подробность. Он считает пожар в «Трех сестрах» пережитком очень ветхой театральщины, под власть которой иногда подпадал Чехов[141]. Иначе говоря, подлинный мировой пожар, на музыку которого написана эта драма Чехова, интерпретатор принимает за какой-то запоздавший театральный эффект менее чем уездного значения. «Сейчас Чехов не в моде»[142], — написано в этой статье. Наблюдательный автор ее все же упустил в Чехове самое важное, безмерно возвышающее Чехова над модой, литературной и театральной, над любыми ее прихотями и интересами — лирическую связь его с будущим, великую обращенность к нему, при которой чувства переходят в предчувствия, а эти — в предугадывания. Для театра Чехова эта связь еще действительнее, чем для его новелл и повестей, и поэтому уместно снова сказать о ней.
1960
СТАНИСЛАВСКИЙ И ЭСТЕТИКА ТЕАТРА
Одна из главнейших, если не самая главная из заповедей Станиславского театру и актерам: не застревать, изображая жизнь на внешностях ее, на видимостях, на итогах, которыми она отложилась, идти к этим итогам через весь процесс,через внутреннюю историю людей, через их испытания и опыт[143].
Собрание итогов, сделанных форм, готовых положений — мир, каков он есть для всякого, кто абонирован в нем и не желает терять абонемента, мир с его обязательной официозной стороны, от которой никому не да-
185
но уйти. Каждый вступает в него тоже со стороны своих итогов — дел, им выполненных, грузов, им поднятых или неподнятых. Как было выполнено, какими силами и судьбами было поднято, чего оно стоило выполнявшему и поднявшему, до этого никому нет дела. «Во что душе обходится поэт» — дело самого поэта или человека всякой иной профессии, если и он по-своему поэт — «делающий», что первоначально у греков слово «поэт» и означало.
Всякий на своем месте бодрствует, трудится, как ему и указано, на поддержку дальнейшей жизни официального мира, за что он чем-то и как-то числится, кем-то состоит, и его деловые отношения получают таким образом завершенность.
Искусство и театр, в частности, начинаются с нарушений этой строгой, ко вне обращенной картины мира. Очевидно, она не считается у художников безусловной, так как они хотят распознать, что делается «там, внутри», усмотреть, как и из чего она сложилась, какая внутренняя энергия питает ее, какие души роятся в глубине этого мира дел, обязанностей, повинностей и вещей.
По Станиславскому, основа театрального искусства — актерское переживание. Именно оно и вносит смуту в установленное миропредставление. Актер выходит на сцену и вступает в изображаемый мир человеческих дел и интересов с этим непрошенным переживанием. Актер провоцирует на переживание всех и вся, духовная жизнь, пробужденная в нем, требует ответа и соответствий у других, он заговорил на особом языке, который не может не развязаться у всех действующих на сцене, иначе переживание было бы для него дар напрасный.
Всего только из методических соображений Станиславский исходит в своих трактатах из актера, отдельно от спектакля взятого: «работа актера над собой», «работа актера над ролью».
По Станиславскому можно бы сказать, что актер подобен Зигфриду, на которого брызнула кровь убитого им дракона, — Зигфрид стал понимать, о чем переговариваются и говорят друг с другом птицы, актер, в котором зазвучала внутренняя речь, слышит, чем живы люди вокруг, он вызывает на сцену внутреннюю жизнь всех и каждого.
186
По учению Станиславского, два момента у актера совпадают: в актере получают мощь и развитие собственные его переживания, в меру того как он обращает их на познание чужой духовной жизни. Постижение того, чем живет кто-то другой, является одновременно для актера могучим «средством для развития собственной духовной личности: другого он познает, а сам при этом кем-то новым становится.
Именно это проникновение в чужие души и является запретным актом соответственно понятиям и законам, господствующим в официозном мире. И сам не докучай, чтобы кто-то вникал в твою душу и сочувствовал ей, и к другим не напрашивайся на положение духовника. В рассказе «Люцерн» Лев Толстой описывает гостей за длинным обеденным столом в швейцарском отеле. Каждый из них сам по себе, общий стол не соединяет их, каждый дорожит своим правом необщительности с другими, своей от них отрешенности. Размышления Толстого по поводу этих людей: «страшно подумать, сколько здесь друзей и любовников, сидящих рядом, может быть, не зная этого. И бог знает, отчего никогда не узнают этого и не дадут друг другу того счастья, которое так легко могут дать и которого им так хочется». Люди в ресторане мертвы друг для друга. Толстой в этом раннем своем рассказе уже примеряет на них сюжеты будущих своих романов, заполняет пустые интервалы между людьми богатством жизни, взаимных притяжений и отталкиваний, нужности или ненужности людей друг для друга. Очень много писалось и у нас и на Западе о Толстом — великом язычнике, воскресившем плоть и чувственное восприятие жизни.
Разные вариации одной и той же идеи не всегда сразу же узнаются. Ведь и «остранение» у Льва Толстого, о котором так много и часто писалось, есть всего только техника толстовского язычества, способ, которым Толстой справляет в литературе свой языческий культ. Толстой — язычник, реставратор материи и плоти — это не больше, чем полправды, ибо Толстой с огромнейшим пафосом воскрешал и духовную жизнь своих современников, их личные миры, их духовные цели, взаимоотношения, подавленные или даже убитые современной цивилизацией. Станиславский следует за Толстым; аналогия между Станиславским и русской клас-
187
сической прозой, в особенности прозой Толстого, npeдлагаемая в нашей теоретико-театральной литературе, несомненно правильна и плодотворна[144]. Она оправдывается, когда ее проводят и в главном и во второстепенном.
Официоз говорил: внутренним миром нижестоящих брезгай и на внутренний мир стоящих высоко не смей покушаться, ибо кто тебя туда допустит и что ты можешь там понимать. По Льву Толстому, по Станиславскому — всякому человеку внутренне доступен всякий, но тем самым оба они отвергают иерархический принцип, в разных видах своих и в смешениях этих видов в истории классового общества очень жестоко и ревниво оберегаемый. Он имел и феодально-бюрократический период своего развития, с которым потом вступил в сочетание принцип чисто имущественный, буржуазный. Иерархия происхождения пополнялась иерархией мест, занимаемых людьми в государстве, а затем иерархией богатств, которая либо уживалась с исторически ей предшествующими принципами рода и чина, приспосабливая их к себе, либо вовсе вытесняла их. На западе Европы борьба с иерархизмом миропонимания началась очень давно. Первые удары иерархизм получил в области, к которой были приурочены наивысшие с его точки зрения ценности, — в области искусства, трактовавшего религиозные сюжеты. В западной живописи стали исчезать Христос в образе царя небесного и богородица в образе царицы небесной. Ближе к Ренессансу и в самом Ренессансе их стали изображать с чертами смертных людей, скорбящих, болящих, страдающих, страдание свое и чужое предчувствующих и чувствующих их. Когда пошатнулся в своей исключительности мир религиозных представлений, то от него книзу распространился неудержимый кризис. Начался пересмотр всех положений и репутаций, связанный со светской иерархией, сложившейся в течение веков. Это были первые волны всемирного демократического движения, учившего, что люди равны, что существует единое человечество, что каждому доступен каждый и возмож-
188
ны мосты от человека к человеку, лишь бы люди умели ими пользоваться. Иерархическое искусство запечатывало уста своим героям. И вот начался простой разговор между ними.
Любопытны средневековые запреты одеваться не соответственно своему сословию. Если буржуа переодевался в платье джентльмена, то буржуа ожидала кара. Театр Ренессанса сделал платье вольным, бессословным, мотив переодевания — один из любимых в комедиях и в драмах Ренессанса. Переодевание было как бы младшей ступенью перевоплощения. Без положительных санкций перевоплощению невозможен был бы театр Шекспира. И все же у Шекспира мы порою встречаем рецидивы того же иерархизма, человек должен умереть в социальной шкуре, в какой родился, попытки ее переменить бывают напрасны и бывают наказаны смехом и глумлением. С другой стороны, у Шекспира и у других поэтов Ренессанса девушки c успехом переодеваются в юношей и ходят неузнанными. Мужчины и женщины до того времени были двумя правовыми мирами, с грубой последовательностью различаемых. Вероятно, неприязнь привилегированного общества к театру и к гистрионам более всего объясняется прирожденным антииерархизмом театра: кто угодно может перевоплотиться в кого угодно. Обвиняли театр и обыкновенно говорили, как дурно ведут себя актеры за кулисами его,— когда на подмостки стали допускать женщин, обвинения этого рода усилились. По истинной же истине обвинителей возмущало совсем иное: какой дурной пример подают актеры именно со сцены, как малоназидательно их поведение в представленных пьесах и в ролях, как непозволительно смешивают на сцене актеры все карты, с которых принято ходить в социальной жизни.
У нас в России борьба с иерархизмом началась позднее, она по преимуществу достояние культуры XIX столетия. Начатая позже, она велась с особой энергией и широтой, своей несвязанностью с предрассудками любого рода она изумляла Запад, который в борьбе этой был много старше нас. В начале прошлого века еще С. П. Жихарев, закоренелый театрал, все же с ужасом рассказывает о приятеле своем, природном дворянине Ф. П. Граве, который взял смелость играть «влюбленного башмачника» на немецком театре в Моск-
189
ве[145]. Кто кого играет на сцене, кто в кого воплощается, этот вопрос беспокоил правительство отнюдь не с художественной стороны. Император Николай Павлович распорядился допускать чиновников играть на сцене, только лишив их чинов и отобрав у них патенты на чины[146]. Имея чин, ты профанируешь его, изображая на сцене лицо нечиновное. Бывают случаи иного рода, когда актер играет лицо, для которого ему не хватает ни чина, ни положения, — перед самым восстанием декабристов вывели из крепостной зависимости актеров, трактовавших на сцене князей, государей и другую высшую власть, — заботились не об актерах, а о представляемых на сцене персонах, как бы тем не приключилось урону[147].
Всю эту психологию, театральную и возлетеатральную, отлично
отразил Щедрин в своих «Губернских очерках», в главе «Княжна
Хорошо известны призывы Щепкина к актерам, прямо предшествующие главным положениям системы Станиславского.
Так, например, Щепкин писал актеру Шумскому в письме от 27 марта 1848 года: «…всегда имей в виду натуру; влазь, так сказать, в кожу действующего лица, изучай хорошенько его особенные идеи, если они есть, и даже не упускай из виду общество его прошедшей жизни»[148]. В письме от той же даты, написанном к Александре Ивановне Шуберт, Щепкин пускает в ход термин
190
«сочувствующий артист»[149] — имеется в виду актер, который не извне подражает лицам и положениям, но сочувствует, вживается, предается вчувствованию, как выражались в нашем веке некоторые психологи искусства. Позднее, в письме от 22 ноября 1854 года к той же Шуберт, Щепкин пишет: «В душу роли проникайте, в самые тайники сердца человеческого»…[150]. Соображая, каков был строй русской жизни, окружавшей Щепкина, можем оценить, сколько смелости, социальной и художнической содержалось в этом его приглашении влезать в чужую кожу, чья бы эта кожа ни была — сановника или ямщика, станового или арестанта. Призывы Щепкина — совсем не то что какой-нибудь скромный, хотя бы и талантливый урок сценического искусства. Они — исторический акт, закрепление социального переворота, который совершается и еще не совершился. Сценическое перевоплощение, как понимал его Щепкин, опрокидывало действенным образом социальную табель о рангах. Любой актер допускался изобразить кого захочет, любого, взятого с любой ступени этой табели, останавливать могли только особенности таланта актера или же слабости в этом таланте. Та же демократическая настроенность, те же идеи единства и первородного равенства людей служили прологом ко всему классическому искусству России. Что перевоплощение и «сочувствие» у Щепкина, то у русских писателей мастерство психологического романа. Принципиальная доступность людей друг другу дает психологическую прозу Пушкина, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Л. Толстого, Чехова. Она же дает и русскую лирическую поэзию. Лирика Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Некрасова, Блока по смыслу своему — лучший цвет общения между людьми, возможного в виду их духовной общности, причем Лермонтов или Тютчев не пишут идиллии этого общения, но помнят также о тяжких коллизиях и трагедиях, завладевающих им до поры до времени. Можно бы сюда же отнести и русскую живопись, в особенности психологический стиль русского портрета у Крамского, у Репина, у Ге, у Ярошенко. Русский портрет, русский роман, русская лирика, русское актерское ис-
191
кусство происходили из одного для всех первоисточника. В обществе, где по-прежнему господствовали разделение и угнетение, искусство проповедовало единую братскую жизнь людей, их взаимопроницаемость, их союз изнутри, принципиальную, духовно обоснованную демократию. Вызов, брошенный фактическому состоянию вещей, всего виднее был в сценическом искусстве. Реальные личности актеров были податными единицами империи, чаще всего с незавидными паспортами — мещанскими или крестьянскими. И эти-то люди, которые ничего не значили, ничего не могли у себя в городе или на своей улице, со сцены были прекрасными и всемогущими.
Достоевскому в «Записках из мертвого дома» — глава «Представление» — принадлежат удивительные, прекрасные страницы о спектакле, который на каторге, в мертвом доме, под Рождество устроили каторжники. Быть может, это лучшее, что когда-либо было сказано о психологии и социологии театра. Достоевский сам для театра никогда ничего не писал. Но он написал о театре — и написал с проникновением, ибо театральное искусство выражало нагляднейшим и предельным образом внутренние мотивы, каких придерживалась психологическая проза Достоевского. Арестанты, как о них рассказано, играют несколько небольших пьес в один вечер — играют водевиль, играют фарс, играют пантомиму (у них она зовется «пантомина»). Каждая пьеса — другая среда и другие люди, меняющийся мотив перевоплощения. Жанры разные, следовательно, и разные тональности, разные ступени перевоплощения, в зависимости от того, насколько серьезны и вероподобны по содержанию эти пьесы. Играя спектакль, арестанты остаются при своих кандалах. Достоевский всячески прочувствовал то обстоятельство, что театральная иллюзия для них — предвкушение свободы. Потому актерам неслыханно дороги все театральные тряпки, самая наивная бутафория. Какой-то жалкий намек на костюм, на театральное переодевание, и они восхищаются. А если кому привалило такое счастье, как офицерский сюртук с аксельбантами, барская тросточка, которой можно чертить по песку, тот уже вышел в самые большие люди. Играя свой спектакль, каторжные на эти полтора или два часа перешагнули свое положение. Аксельбанты, тросточка — признаки и орудия свободы, отсюда
192
чрезмерное отношение к ним. Игра на сцене — переход, перебежка в царство свободы, отсюда яркость, вдохновение, талант игры. Уже самый переход из положения, предписанного арестанту, в роль из пьесы, поставленной на сцене, есть акт огромного потрясающего освобождения. Охота к переодеванию и к перевоплощению — верное свидетельство, что свобода не истреблена в этих людях, что они по-прежнему, по естеству своей души, способны к ней и, следовательно, ее заслуживают. Глава о театральном представлении — спор Достоевского с приговором, который всей своей тяжестью лег на этих людей, с режимом, в котором их содержат. А более всего эта глава — возражение против образа жизни, которого держались они еще до каторги, который был неизбежен для них и привел их сперва к преступлению, а потом и к наказанию.
Маркс говорит в «Капитале» свои известные слова: «…в буржуазном обществе генерал или банкир играют большую роль, а просто человек — очень жалкую»[151]. Очень полезно сопоставить эти фигуры: генерал, банкир и, наконец, просто человек, как Маркс его называет. Разумеется, из них лучшая и выше всех поставленная — просто человек. Искусство вообще и театр в частности стремятся овладеть этим человеком как таковым. Конечно, радость театра вовсе не в том, что актеру удалось отождествиться на сцене с генералом и провести весь театральный вечер в генеральском состоянии. Каторжник, описанный Достоевским, играет офицера с аксельбантами и с тросточкой, — восторг его игры опять-таки не в том, что ему подарена в тот вечер иллюзия барства, обыденным образом недосягаемого для него. Актер, войдя в роль, отрешается от всего, что теснит и беднит собственную его личность. Но и того персонажа, которого актер изображает, он тоже отрешает от всякой ограниченности. Генерал, банкир, господин с тросточкой, сыгранные актером, потеряли свою авторитарность, растворились в ком-то другом, третьем. Как кипящая вода сразу подымается по всем стенкам сосуда, так и актер. Играя на сцене, он одновременно поднялся и над самим собой, над своей бытовой, в паспорте прописанной личностью, и над титулованным персонажем, который служил ему предметом изо-
193
бражения. Игра взвела его в области, где отдыхает и позволяет, чтобы любовались им, «просто человек».
Чтобы ни изображал актер, искусство всегда есть выход к «просто человеку» в конце концов. Будь это не так, осталось бы неясным очень многое в природе
актерского искусства. Допустим, что очень лестно и отрадно изображать генералов, банкиров и прочих властью и значением облеченных. Но актеры изображают с увлечением людей, стоящих очень низко и в ранговом мире и в мире нравственных оценок. Какого-нибудь старика, сторожа при купальнях, с белой бородой, по которой пробирается прозелень, и того играют охотно. Какую бы мелкую цену ни давали за Добчинского и Бобчинского, а ведь хорошо сыграть одного или другого будет сочтено за подвиг и победу. Играют людей низменных, телом и душой, некрасивых, павших и готовых пасть, ,и не видят в этом для себя потери. Только зрители самой низкой культуры бывали способны бросать камнями в актера, игравшего на сцене рыжую злодейскую роль. Думаем, что терпимость художника к Добчинскому и Бобчинскому или к кому-нибудь еще похуже происходит вовсе не из равнодушия к нравственным ценностям. Всякий большой актер, кого бы он ни играл, заодно прихватывает еще кого-то третьего, именно «просто человека». Каждая роль взята с великого материка, именуемого человечеством, а то и миром, природой. Бобчинский и Добчинский — довольно живые подробности человечества в его целостном виде, может быть, это две пуговицы, пришитые сзади, где-то на уровне пояса к сюртуку человечества, шествующего вперед, и в качестве таковых они заслуживают внимания. Художник и должен и хочет пройти все ступени человечества и природы, от низших «к высшим, таков долг познания, и при этом низшие все равно останутся низшими и никакого пожалования им благородства не произойдет, если бы даже кто и опасался этого. Думаем, естественная история художника хорошо рассказана в сонете Виктора Гюго «Надпись на экземпляре «Божественной комедии». Можно не поскупиться на цитату из четырнадцати строк и привести ее полностью.
Однажды вечером, переходя дорогу,
Я встретил путника: он в консульскую тогу,
Казалось, был одет; о лучах последних дня
Он замер призраком и, бросив на меня
194
Блестящий взор, чья глубь, я чувствовал, бездонна,
Сказал мне: — Знаешь ли, я был во время оно
Высокой, горизонт заполнившей горой;
Затем, преодолев сей пленной жизни строй,
По лестнице существ пройдя еще ступень, я
Священным дубом стал, в час жертвоприношенья
Я шумы странные струил в немую синь,
Потом родился львом, мечтал среди пустынь
И ночи сумрачной я слал свой рев из прерий.
Теперь — я человек; я — Данте Алигьери.
(Перевод Бенедикта
Лившица)
Духовная биография Данте здесь изложена так: сперва был горой, потом перешел из природы неорганической в природу органическую и стал дубом, потом поднялся в «мир живых и воодушевленных, стал львом, еще погодя — стал человеком и, наконец, стал Данте Алигьери, автором «Комедии». Художник должен пережить всю эволюцию мировой жизни, прочувствовать все ее фазы. Мы бы сказали: в изложении Виктора Гюго духовная история Данте, великого поэта, похожа на биографию великого актера. Данте был горой, был дубом, был львом, стал человеком — он сыграл все эти мировые роли одна за другой, побывал в каждом образе, созданном мировым развитием, вживался в каждый, как это делает актер.
Станиславскому было в высшей степени свойственно рассматривать актерство как некое всеобщее состояние души, известное всем и каждому. Мы читаем про себя литературный текст, мы читаем беззвучно с нотного листа, слышим музыку про себя — немую музыку; точно так же мы можем про себя сыграть какое-то жизненное положение, какого-то человека, исторического или обобщенного, пусть это будут Юлий Цезарь, Грозный или наш сосед по дому Иван Иванович. Сыграть насухо, в уме — это уже познать что-то, совершить первую разведку. Любой предмет, если мы хотим понять его, как бы предлагает нам — побудь мною, войди в меня. Такое первопонимание и совпадает с актерством, с актерским восчувствованием предмета, с актерским первоприступом к нему. Каждый может оказаться «актером в душе» и примериться на тот или иной предмет, на того или иного человека, «влезть в него», выражаясь по Щепкину. Но подлинный актер — актер и душой и телом, доведет свое тождество с Грозным или с Иваном Иванычем до степени, только ему и его искусству до-
195
ступной, до степени немыслимой для дилетанта, который «играет» только эмбрионально, способен лишь на первый порыв к перевоплощению, останавливаясь, едва к нему надо бы приступить взаправду. У Станиславского мы находим такое расширенное понятие актерства, когда актерское переживание оказывается широко применимым и далеко за пределами человеческого мира, когда речь идет о вживании не только в чужую человеческую жизнь, но в вещи, в быт, в образы природы, в произведения искусства. Молодому актеру студии Станиславский предлагает парадоксальную задачу: пожить жизнью дерева, глубоко вросшего корнями в землю, восчувствовать, каков внутри себя столетний дуб[152]. Явления культуры и искусства тоже требуют, чтобы мы внутренне «играли» их, если мы хотим постигнуть их. «Стоишь, бывало, перед произведением Врубеля или других новаторов того времени и по актерской и режиссерской привычке мысленно втискиваешь себя в раму картины, точно влезаешь в нее, чтобы не со стороны, а оттуда, как бы от самого Врубеля или от написанных им образов, проникнуться его настроением и физически примениться к нему»[153]. У И. Н. Берсенева можно прочитать самый неожиданный рассказ Станиславского, как .получила зримую форму одна из лучших его ролей, генерала Крутицкого, в комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты». И. Н. Берсенев передает: «Однажды он шел по Молчановке, завернул в какой-то переулок, где стояла небольшая церковь, к которой прижался маленький полуразвалившийся домик, покрытый мхом. Он остановился и сказал: «Вот мой Крутицкий»[154]. От замшелого домика к давно отставному генералу, полуразвалине, хотя и довольно неспокойной, — такова здесь связь мысли и чувства. Домик на Молчановке остался, где стоял, а все же нечто от него вселилось в генерала Крутицкого, подсказало облик его и повадку. Неживое продиктовало живое, нашло себя в живом. Это ход — обратный обычному, и он оказался возможным только потому, что для актера Станиславского и нежи-
196
вое могло вызвать к себе отношение, полное душевной активности.
Актер охотно допускает, что всюду театр и его искусство, — в любом акте познания, кем бы и ради чего бы этот акт ни совершался. Всякое познание равносильно вчувствованию, внутреннему проникновению в предмет. Следовательно, оно близко стоит и к перевоплощению, творит предпосылки к нему. Не однажды мемуаристы рассказывали о молодом Шаляпине, как он собеседовал по темам русской истории с Ключевским, разгуливая где-то с ним под соснами не то Ярославской, не то Владимирской. Шаляпин готовился к ролям Грозного в опере «Псковитянка» Римского-Корсакова и Бориса Годунова в опере Мусоргского. Ключевского он, просил объяснить ему и то историческое лицо, и другое, а также еще некоторых из их окружения. Вот воспоминания о Ключевском со слов самого Шаляпина: «Говорил он много и так удивительно ярко, что я видел людей, изображаемых им. Особенное впечатление произвели на меня диалоги между Шуйским и Борисом в изображении В. О. Ключевского. Он так артистически передал их, что, когда я слышал из его уст слова Шуйского, мне думалось: как жаль, что Василий Осипович, не поет и не может сыграть со мною князя Василия!»[155]. Уже во время оперного спектакля опять по поводу партии Шуйского, доставшейся одному из вокалистов! «Эх, если б эту роль играл Василий Осипович Ключевский!»[156].
Для Шаляпина, как для Станиславского, дар художественного, актерского познания — универсальный дар. Он всюду, он у всех, кто познаёт что-либо воистину. Для Станиславского даже природа; даже ландшафт, даже дом на Молчановке берутся актерским вчувствованием. Что же дивиться, если Шаляпину дар ученого историка кажется даром, родственным актерскому. Ключевский интеллектом вникает в Шуйского; как бы играет Шуйского, мысленно представляет его на театре. Сближает Шаляпина со Станиславским еще и некоторое безразличие к внешним данным актера —.первоначальное безразличие: было бы у него понимание того, что он изображает, остальное приложится. Шаляпин с лёг-
197
костью перебрасывает в своем воображении старенького московского профессора на оперные подмостки, для которых у того нет ни голоса, ни энергии, ни всех физических ресурсов, которые здесь надобны. Обо всем этом Шаляпин подумает только во-вторых, покамест он поглощен лишь тем, что принадлежит к существу дела.
У Курта Тухольского есть остроумный рассказ об Эмиле Янингсе, знаменитом актере. Однажды двое супругов, не заметив его, повели при нем бесстыдно некрасивый разговор. Все происходило на зимнем курорте, на фоне четырех сосен. Янингс, который все умел, прикинулся пятой и остался неоткрытым: толстый и огромный Янингс способен был, когда хотел этого, сыграть собственное физическое отсутствие, при этом полнейшее[157]. Приводим этот рассказ, чтобы очертить, какой широтой обладает актерское перевоплощение.
В Художественном театре, соответственно репертуару, актеры изображали и хлеб, и сахар, и молоко, и кота, и собаку. Список ролей начинался с предметов неодушевленных, тем естественнее было играть роли, быть может, и незавидные по их внутреннему смыслу, но все же окаймлявшие человеческий мир, так или иначе в него входившие. Если кто-то играет молоко, то что же обидного сыграть Добчинского, существо с ногами и руками, как бы то ни было. Можно было бы сомневаться и по поводу настоящих больших ролей. Собственно, никем не доказано, что тот или иной актер ниже по своей человеческой стоимости, нежели Астров или дядя Ваня, но актер прилагает все усилия войти в эти роли. Суть театра совсем не в том, чтобы играть кого-то ниже или выше, чем ты сам, или играть равного. По сути своей театр направляет актера совсем иначе. Театр велит актеру приобщиться к жизни человеческого материка, расширить самого себя, сколько можно, на всю огромную эту жизнь, изведать все оттенки человека, пройти через все ступени, по которым поднимался тот. Пусть актер очень крепко сидит в своей роли; всегда будет так, что роль — это не образ жизни для актера, жизни,переживаемой взаправду, безо всяких оговорок, но только познание. Разница между Фамусовым сцены .и Фамусовым реального быта в том, что реальный Фамусов
198
навсегда Фамусов, а актер бывает Фамусовым только в какие-то вечера, и поэтому при всей основательности актерской работы у актера есть легкость в отношении людей, которых он изображает, есть легкость к Фамусову, для реального Фамусова при каких угодно условиях недоступная.
Актерское искусство — это открытия, совершаемые в персонажах, которых актер изображает, это открытия я в самом актере: мы не догадывались, не думали, а вот в актере этом живет еще и такое, в Москвине, в Качалове заложены силы, только сейчас и в этих ролях поведавшие о себе миру. Каждая новая роль — наше новое знакомство с любимым актером, доузнавание для нас его человеческой и художественной личности.
Актер как живая личность — поучительный феномен национальной жизни и культуры. По поводу Мочалова и Щепкина Герцен писал: «Оба принадлежат к тем намекам на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России»[158]. Нет нигде в искусстве такой близости между художником и его аудиторией, как в искусстве актера, разве что в лирической поэзии. Так как театр не обращается к каждому в отдельности, а сразу ко всем вместе, ко множеству, к .коллективу, то и в действующем на сцене актере зажигается коллективное чувство, он являет собой типовую, .коллективную общенациональную силу и душу. В актерах нация созерцает самое себя, любуется собой, совершенствует себя. Актеры, сами по себе взятые, это национальные характеры, наделенные повышенной выразительностью. У нас: Мочалов, Щепкин, о которых заговорил так громогласно Герцен, Стрепетова, Варламов, Шаляпин, Москвин. Близкий пример: Жерар Филип в отношении Франции. В отношении Германии — Янингс, Италии — Росси, Сальвини, в разъездах своих по всему свету доложившие ему, что такое итальянцы, что в них спрятано было от света до той моры. Казалось, Москвин был самый русский из русских, и спектакли с ним во главе становились целиком актами национального сознания и жизни. То же относилось к Хмелеву, Добронравову, Тарханову, Шевченко, Грибову, если называть некоторые имена, наиболее окрашенные в этом смысле.
199
Кого актер играет — это вопрос о распространении его искусства вширь и ввысь, если под высью разуметь, как:размещены люди в обществе по их рангам. Человеческий мир в двух его измерениях — всего только мир в его итогах на сегодняшний день, которыми художник не может довольствоваться. Остается еще третье измерение — вглубь, и оно самое важное. Как только театр углубляется в действительность, то становится очевидным, сколько лжи и в самом иерархизме и в том, как он проводится, если даже допустить, что он обладает правами на существование. Худшие люди на лучших местах — и обратное: такова первая же истина, которая будет получена при первой же разведке в глубь официального мира. Официальный мир — это не только иерархия. Это собрание всех положений, которые даны человеку экономическим, социальным, политическим строем, это власть вещей над ним, это профессии, это профили .людей, определившиеся соответственно функциям, которые люди выполняют в обществе и ради общества. Современная цивилизация насилует человеческую волю, заставляет людей подчиняться всецело логике материальных отношений, заставляет людей жить чуждой им жизнью экономических ценностей, предоставленных самим себе, имеющих автономию, в то время как человек ее не имеет. Люди капиталистического общества ведут чужую жизнь — жизнь экономических категорий, оторвавшихся от них, и это придает более чем деловой обыденности вид театральной игры. Этот «театр мира», в который вовлекались страна за страной и нация за нацией все человечество, был философски и научно объяснен человечеству Марксом, обладавшим также и силой художественного воззрения на ход исторических событий. Недавно опубликовано было одно из писем Ларисы Рейснер, стоящее особого внимания: под впечатлением недавно усвоенного Маркса она очень выразительно рассказывает, как выглядит современный мир после того, как Марксов «Капитал» дал ему свои комментарии. Лариса Рейснер тоже отличалась даром сводить в единую картину ощущения, полученные реальным опытом жизни, с данными интеллектуального ее анализа. В ее письме говорится: «Его (Маркса.— Н. Б.) книга, по существу, социальная пьеса, в которой у каждого класса — своя роль, свое актерство, проверенное во всех деталях, во всех своих фарсовых и трагических
200
репликах. Под общей сценой — экономический базис, но, если можно так выразиться, очень стилизованный, взятый в его классовой бутафории, — плуг, денежный мешок, передник и станок ремесла»[159].
Режимы, созданные бюрократией и цивилизацией капитализма, нанесли глубочайшие раны органической жизни на земле, человеку как существу., органическому, живородному. Уже XVII век, а тем более XVIII век, понимали это, у них выработалась антитеза природы и искусства, причем под искусствами подразумевалась именно механическая, механизованная цивилизация, именно против этих «наук и искусств» (les arts.), писал свой первый, ставший знаменитым трактат Жан-Жак Руссо. Природа — материал искусств. Через, цивилизацию природа приняла искаженный, уродливый, малоузнаваемый образ. Искусства в их более обычном и тесном смысле — поэзия, живопись, пластика, музыка — устремились к поруганной природе, к ее восстановлению. Особенность призвания этих искусств в малом, тесном смысле была та, что они находились в оппозиции к искусству в наивысшем его смысле — к цивилизации. Писать свой собственный список с цивилизации значило бы для художника отказаться от каких-либо открытий, он только стал бы повторять искусством искусство же, тот сделанный мир современного жизнеустройства, который и без того у всех перед глазами. Само собой сложилось правило, что художники XVIII века, и XIX в особенности проникали в мир «искусства», в мир рукотворной цивилизации, чтобы, проникнуть дальше, в область нерукотворную, в область природы, лежащей за ним, еще не истощенной организаторами и технцками, еще ими не тронутой. Искусство.художника хотело предстать лицом к лицу перед чем-то противоположным ему, перед природой вещей, не застревая в промежуточных зонах, которые могли бы называться по-своему тем же именем искусства.
Итак, в литературе нового времени принято было трактовать цивилизацию как систему искусств в особом смысле — как систему, собранную из искусных поделок, из произведений умелого рукотворчества. Но существовала и более узкая концепция, по которой цивилизация,
201
как у Ларисы Рейснер, сводилась не к искусствам вообще, но к одному из них, в частности к театру, к играм лицедеев. Современный мир — театральное зрелище. Метафора этого порядка объемлет «Человеческую комедию» Бальзака. Плеяду своих томов Бальзак потому и именует комедией, что всю современность он видит как сплошной театр, обдуманное и необдуманное, на широкую ногу поставленное лицедейство. Именно у Бальзака общественные люди играют свой «базис», выдают себя за свободные существа, будучи на деле масками экономических отношений. С большей или меньшей яркостью нечто сходное проводится во всех великих романах XIX столетия, будут ли это романы Флобера, Золя, Диккенса, Теккерея, Л. Толстого. Так или иначе, современное общество и государство по всем отраслям их деятельности в романах этих изображаются, как большой спектакль, ярмарка, балаган и балаганы. Люди официального общества в романах этих — комедианты, трансформаторы, акробаты. Уподобление публичной жизни общества театру, а деятелей его — актерской труппе, гистрионам, — уподобление очень старое. Но в XIX веке, особенно к концу его, оно приобрело небывалую широту и систематичность, ибо не тот или иной частный случай, а основные признаки строения общества и государства подсказывали его. Рабство людей, насилие были известны и раньше. Но никогда с такой последовательностью рабство не выдавалось за свободу, а насилие не выдавалось за право и справедливость. Это и придавало новое обличительное вдохновение старому тропу человеческой комедии. Его не считали уже только местным, частным, только по временам верным, ему придавали всесветное, всегдашнее значение.
В 1899 году, почти наравне с первыми шагами Художественного театра, стали появляться в периодической печати первые главы «Воскресения», последнего из великих романов Л. Толстого. Художественный театр много позже инсценировал этот роман, здесь же стоит о нем напомнить по другому, внутреннему поводу. Роман «Воскресение» весь установлен на уничтожение театра и театральности в реальной императорской России.
Л. Толстой, ничего не пропуская, описывает и разоблачает живой театр государственной власти, суда, законодательства, судебных учреждений, церкви и религии, классовой морали и классовых отношений. Ни в
202
одном из прежних своих произведений Л. Толстой с таким упорством и с такой полнотой не изображал царство гистриона, лицедея, распространившего свои акции на весь человеческий мир. Всюду маски, всюду грим, костюмировка, притворство, лживые слова и лживые жесты, будут ли это высшие сановники государства, будут ли это маленькие люди, на незаметных должностях где-нибудь при суде или полиции. Лицемерие и актерство тем нагляднее, что в центре романа — суд и закон, область права, мнимые успехи и мнимое господство которого с особой охотой выставлялись на вид. Закон и право по Толстому — главнейшие из способов грима и маскировки. Пафос Толстого в разрушении театра в среде самого театра. Герой романа князь Нехлюдов, недавний участник всеобщего лицедейства, положением своим призванный поддерживать его, исполняется мужества и по собственному почину смывает с себя гримерские краски будто бы правильной и будто бы хорошей жизни, которую вел он до сей поры. Нехлюдову дано увидеть себя и окружающих без грима и без подрисовки. Он добрался наконец до подлинников, не убоявшись трудов и лишений, которых это стоило.
В романе Л. Толстого содержалось много предвестий и указаний. Коснемся только того, что относилось, хотя и кружными путями, к театру и к театральному искусству. Роман Л. Толстого был подтверждением, что наступила пора и театру развернуть свои лучшие силы. Именно театру подобало нанести решительный удар социальной лжи и социальному балагану, театрализованной действительности, гистрионам, бегавшим по подмосткам жизни. С этой театрализацией, с ветошью маскарада долго вела полемику литература. Театр был самым законным антагонистом театрализованной действительности, под театр раскрашенной, и права театра узурпировавшей. Была своя логика в том, чтобы главный антагонист вступил в борьбу с запозданием, вступил последним. Нам кажется, так определилось призвание и место Станиславского, его театральной системы в истории мирового искусства и, конечно, русского также, разделявшего мировые судьбы, а то и обозначившего их ясней, чем кто-либо.
После романа Л. Толстого невозможно было на сцене поддерживать театральщину и лицедейство, в этом
203
романе навсегда посрамлёнными в качестве явлений реального обихода. Театр, если хотел оправдать себя, должен был обрести иную манеру жить и действовать, иной язык. И Станиславский со всем Художественным театром добились этого. «Мы ненавидим театральность а театре, но любим сценичное на сцене»[160] объявляет Станиславский в своей автобиографии. Из слов этих ясно, что Станиславский усматривает внутри театра как бы два искусства сцены, враждующие друг с другом, и считает возможным одним из этих искусств сразить и устранить другое.
И на самом деле искусство театра скрывает в себе некую полярность. Самое существенное в театре — это живой человек, актер с живым телом и с живой душой, который служит театру орудием. Театр изображает живых людей через людей же, не через условные знаки, как литература или же отчасти живопись. Современные художники любят вводить в картину, на холсте написанную, подлинные вещи или их обломки, спичку, спичечный коробок, тряпицу, папиросу. Сцена поступает куда радикальнее. В сценическую композицию на все роли вводятся подлинные, из натуры призванные натурные люди в полный свой рост. Сцена пишет актером, как живописец кистью. Натурный человек на сцене дает сценическому искусству два направления. Либо оно окажется в силу присутствия натурного человека более жизнеподобным, реалистическим, чем всякое другое искусство. Правда тела требует, как восполнения своего, правды моральной и психологической. На все должна распространяться и всюду должна ветвиться подлинность. Долой бутафорию, натурного человека нужно продлить через подлинные, вещи на сцене: несите настоящий сундук, настоящий стол, пусть под настоящими деревьями, почти настоящими, подлинные люди пьют подлинное вино и звенят стаканами, чтобы зритель чувствовал сделанное из стекла. Или же обратное — и в этом другой полюс театрального искусства: среди искусств, чей язык условный, иллюзионистический, оно окажется на крайнем фланге, именно в силу натурности своего главного орудия, живого актера. Идя от него,сталкиваясь с ним, всякая условность будет ус-
204
ловностью во второй, в третьей, в четвертой степени. Нужны особые усилия, чтобы забыли о реальном — реальнейшем присутствии на сцене человека. Нужны с его стороны крайнее притворство, «наигрыш», пользуясь обычным для Станиславского в этих случаях термином. Актер может на сцене добиться и впечатления величайшей истины и дойти до самой бесстыдной лжи. Либо он все на сцене подчинит своей человеческой подлинности, либо он должен утопить ее, истребить о ней воспоминание. Качалов именовал театрального лицедея «Актером Актеровичем»: и сам он фикция, и родился от фикции, от нее получил отчество. В Художественном театре последовательно презирали этих комедиантов на собственную потеху и на потеху публике, актеров с удвоенными фамилиями, на образец Сверчкова-Заволжского из драмы Горького, уже в самой своей фамилии ставшего на котурны. В таком актере все будто бы свое и все на деле не свое, с кого-то сорванное и содранное, без малейших прав к тому на себя надетое. В. В. Розанов в статье «Актер», живо обсуждавшейся когда-то, подверг беднягу Тараканова-Задунайского весьма безжалостному бичеванию: «— Иван Иванович? — Уж не Иван Иванович, а кто-то!.. Он сделался кем-то другим: сперва руки кого-то другого, потом ноги опять чьи-то иные, бедра — совсем не Ивана Ивановича; туловище, такая трудная массивная часть,— и оно сделалось новое! И, наконец, царственная голова! Он приделал себе голову!!!»[161].
Театрализация, которую имели перед собой в действительной жизни общества, разумеется, восходила к дурному типу театра, ломанью, лжи, ловкой или неловкой, и к Ивану Ивановичу, который с фальшивой головой выходит на люди. Дурной театр был на сцене у Станиславского «снят» добрым театром искреннего перевоплощения, доподлинного вживания в чужие характеры и души. Театр против театра — по этой формуле действовал Станиславский. Театр, идущий от искусства, был обращен против театра-театральщины — реальных отношений, с тем чтобы в недрах ее дойти, докопаться до жизни полной и несомненной. В железной скорлупе цивилизации, в механизмах политических, социальных, экономических, в мире усеченного и сокра-
205
щенного, насильственно приспособленного найдены были живые души, человеческие личности, одаренные ecтecтвенным дыханием. Станиславский советовал ученикам учиться гармонии движения, его красоте, свободе и точности у кошек — у самого натурального «Кота Котовича»[162] Советовал также приглядеться к ребенку. «Оказывается, что если положить ребенка или кошку на песок, дать им успокоиться лли заснуть, а после осторожно приподнять, то на леске оттиснется форма всего тела. Если проделать такой же опыт со взрослым человеком, то на песке останется след лишь от сильно вдавленных лопаток и крестца, остальные же части тела, благодаря постоянному хроническому, привычному напряжению мышц, слабее соприкоснутся с песком и не отпечатаются на нем»[163]. Отразившиеся очертания кошки, ребенка — очертания тела, живущего на свободе, как бы предающегося велениям собственной жизненности, не ведающего тирании, навязанной извне, барщины, оброка, тягла или чего-нибудь еще, сходного с крепостной зависимостью.
Среди многочисленных антагонистов Художественного театра любопытнее иных писатель по театральным вопросам, а также режиссер и драматург Н. Н. Евреинов. У него была излюбленная тема — театральность самой жизни, театр, которым мы окружены повседневно, «театр для себя». Но эту театральность нашего обихода он толковал высоко положительно. Всюду в быту нашем мы наблюдаем театральные прикрасы, условные жесты и позы, пристрастие к декорациям и бутафории. Отсюда делался вывод: как лрочно заложена в людях потребность в театре, театральном, откровенно условном театре. Эта постоянная театрализация по Евреинову не губит жизнь, но, напротив того, обогащает. Отсюда постоянная проповедь водворения на сцену такого театра, до корней своих лицедеиского, отсюда стрелы по адресу Станиславского и Немировича, ведущих войну с комедиантством. Евреинов в полемике своей любил доводить до абсурда принцип жизнелодобия и уверял, будто бы идеалом московских режиссеров (сам он был деятелем петербургского театра) явилось бы простое, без затей
206
подсматривание жизни на ходу, допуск по билетам в жилой дом, где были бы поселены обыкновенные жильцы — «три сестры», как из Чехова[164]. Он весьма ошибался, скажем мимоходом, когда утверждал, что дом без четвертой стены не дает людям зрелища. Напомним: «Хромоногий бес» Лесажа весь в рассказываниях, что можно увидеть без четвертой стены, роман Лесажа — предок всех дальнейших романов в Европе, в которых даже не оговаривается, что четвертая стена устранена. Без этого условия Лесажа роман не мог бы начаться и, начавшись, получить остроту и занимательность; что же касается упреков в копиистике, в подражательстве реальностям, то упреки эти можно бы целиком возвратить упрекающему. Ведь сам Евреинов не предлагает никакого действительного творчества со сцены, а «театр для себя» житейским образом известен всем и каждому. Именно хоромина комедиантов, о которой Евреинов мечтает, и будет отражением под прямым углом «театра для себя», как он нам дан повсюду и повседневно. Принцип Станиславского — доузнавание жизни через театр, усилие допытаться, доведаться, какова она в скрытых своих слоях и залежах. Принцип «театра для себя» — повторение жизни в том виде, какой являет нам она с поверхности своей, «театр для себя», он же «театр как таковой», приглашает нас: будем и дальше подвергаться обманам, как это было до сей поры, примем и еще умножим все подлоги и подделки, какие нам только встретятся. Собственно, Евреинов с меньшим остроумием, но, как Уайльд, сетовал по поводу «упадка лжи» и .призывал театр принять меры во спасение ее. «Когда я вижу чеховские пьесы в исполнении актеров школы К. С. Станиславского, мне всегда хочется крикнуть всем этим до кошмара жизненно представленным героям: пойдемте в театр. Да, да! И дядя Ваня, и Три сестры и Чайка — Заречная и даже Фирс из Вишневого сада, все пойдемте в театр!.. Бы освежитесь! Вы станете другими. Вот откровенно иная возможность бытия, иные сферы»[165]. Полемика Евреинова, как видим, состоит в заверении, что у Станиславского на сцене царствует обыкновенный быт и к театральности там даже не приступали, не то что зрителей — самих действующих актеров нужно отозвать
207
в настоящий театр. Зрителей приглашают вернуться к рассеяниям, к поверхности жизни, вне осмысления и до него, откуда они и ушли на чеховский спектакль. Система Станиславского разумела не подражательную верность толще быта, но ту же толщу, ставшую проницаемой, потерявшую способность держать зрителей в плену грубого авторитета, ею присвоенного. На этом строилась и театральность Станиславского. Если что и примечательно в многолетней и довольно шумной деятельности Евреинова, то это постоянные его демонстрации по поводу театра вокруг нас — театра самой действительности. Однако выводы из этого факта он сделал обратные неизбежным. «Театр для себя», восхваляемый в сочинениях Евреинова, хорошо поясняет, что именно покидал Станиславский и что он покинул навсегда.
Можно бы, пользуясь прямыми примерами из практики Станиславского, вывести с большей наглядностью, какая разница между театральным стилем его и стилем театра, подвизающегося во имя так называемой театральности. В театре театральном заняты только одеванием и переодеванием, там драпируют, окутывают и закутывают, чтобы придать всему на свете выгодную видимость. У Станиславского совсем не так направлено театральное зрение. Он не только одевает своих персонажей, но умственно, да отчасти и на деле, раздевает, разоблачает их. Реальный порядок вещей он рассматривает как режиссуру своего рода, по духу своему враждебную. Тайны ее он старается разгадать, объяснить себе и зрителям, как в мире людей «поставлены» те или иные его явления. Станиславский растеатраливает ту театральщину, тот «театр для себя», который предложен ему от имени действительной жизни. Когда готовилась в оперном театре «Пиковая дама», Станиславский говорил о роли Германа[166]: «Это роль характерная, а не героического любовника. А графиня сидит перед сном на громадной роскошной постели маленькой сморщенной старушкой-обезьянкой— лысая. Когда одевается для выхода в свет, делается высокой, прямой, передвигается осторожно, боясь рассыпаться. Я видел в Ницце, на Английской набережной, такую старуху англичанку. Ей было лет сто. Она ежедневно совершала прогулку во всем черном, несмотря на жару, прямая, как палка, в корсете, который поддерживал ее тело. И ни на ко-го не глядела. А дома, на свободе, она, распустив свои корсеты, конечно, пре-
208
вращалась в маленькую запятую»[167]. Так намечается и планировка одной :из верховных трагических сцен Пушкина — Чайковского — Герман в спальне графини. Графиня представлена без ее величия, в приуменьшенном виде. Тем самым приуменьшается и Герман, который позволяет себе идти войной на эту древнюю, древнейшую женщину. «При словах Германа "Старая ведьма" он становится одним коленом на кровать, тянется к графине, сдернув с нее одеяло, и нацеливает пистолет. Графиня хватает маленькую подушку, закрывает ею лицо и под ней умирает, полусвесившись левой ногой и левой рукой с кровати. Перед словами "Она мертва" он снимает с ее лица подушку, и мы видим страшного мертвеца»[168].
Театр, притязающий на театральность, скрывает факты и истину. Станиславский открывает, больше того, он хочет, чтобы мы со всей силой прочувствовали их. Графиня, представленная в постели под одеялом, втройне беззащитна. Как женщина, как старая женщина, да еще отходящая ко сну. Тема спящего и во сне как бы разоруженного человека идет через все подробности: она и в одергивании одеяла, и в подушке, которая служит самозащитой, и в том, как подушку эту отодвигает Герман. Подчеркнуты, усилены, утроены вся жестокость, вся неблаговидность его поведения. Он бьет слабых, убивает безоружных, охотно пользуется неравенством сил, если только налицо такое неравенство.
Но Герман— романтическая фигура, у него есть своя красота. Станиславский заставляет эту красоту выдержать огромное напряжение. На нее со всей энергией брошены отрицательные оценки, актер должен в красоте Германа найти необыкновенную устойчивость, ввести в нее камень и железо, иначе ей не оправдаться. Вот эта схватка сил положительных и отрицательных, когда обе стороны делают все, что могут, — тоже один из признаков эстетики Станиславского. Красоту он понимает не как средство избежать истины, но видит в истине честного и последовательного антагониста красоты, с которым та должна справиться, если она чего-нибудь стоит; красота должна доказать, что и она есть истина, что не-
209
доверие к ней возможно только частичное, что поединки на почве истины для нее не смертельны.
Театр переживания, как понимал его Станиславский, восстанавливал значение подлинного человека и значение его души. Что в официальной картине мира эти величины не признаны, что там они почти бессильны, это не смущало Станиславского, как по этому поводу не смущалось и все искусство нового времени, русское в особенности. В этом состояло генеральное отличие нового времени от античности и средневековья, там объективное положение вещей, каким его заставали люди, совпадало с размещением и оценкой вещей в искусстве, а здесь, у художников нового времени, не совпадало.
У древних над людьми стоял фатум, и древняя драматургия не слишком настаивала на обрисовке всего автономного в человеке, ибо какова же этому была цена пред лицом рока всемогущего? Мы мало знаем, что за человек был Эдип, мы мало чувствуем его, больше видели и слышали его, чем знакомы с ним, ибо, по Софоклу, это было бы напрасным знакомством и знанием, ведь при любых своих особенностях он был и будет орудием судьбы. По канонам древней драмы важно видеть перед собой лицо самой судьбы, а лицо орудия и жертвы пусть остается закрытым актерской маской. В драмах нового времени значение человека тоже невелико сравнительно с объективным порядком вещей. Но в этой драме объявлена борьба за человека, и это меняет весь вид ее. Жертвуя принципами пластичности, которых держались древние, демонстрируя, сколь малое человек может сравнительно с тем, чего он хочет, новая драма этим мотивам хотения — пусть они и не имеют выхода во внешний мир, пусть они и не становятся чем-то зримо воплощенным — уделяет самое активное свое внимание. У Софокла главное лицо в трагедии — победитель, рок, у Шекспира — побежденный роком Гамлет. Литература нового времени сплошь да рядом предпочитает побежденных победителям. Античность склонялась к тому, чтобы рассматривать форму и вид человеческого общества как явление природы, как нечто данное навеки. У новых пробивалось понимание общества как истории, его законов как исторических, малоустойчивых во времени. Новым уже известна была историческая диалектика борьбы, позволяющая ожидать, что самым ре-
210
шительным образом заколеблются весы поражения и победы.
Русские художники более других в Европе были правозащитниками того, что слабо еще, стоит нетвердо на сегодняшний день, и тех, кто слаб, кому нужны моральные гарантии. Сегодняшний день и вид казенной России были малоавторитетны, и это помогало вере в неутвержденное ею и неогражденное ею. Сама человечность была слаба в человеческом обществе, а к ней-то и спешил на помощь метод переживания. Театр Станиславского «воспроизводил со всей точностью картину официального мира, но с любовью он выводил и его отверженцев, его лишенцев — людей с их душами, с их потребностями как великими, так и невеликими. За человеком с его однолинейной функцией в механизме общества и государства театр Станиславского открывал человека с душой, способной к полной жизни, косвенно или прямо домогающегося, чтобы эта жизнь перешла когда-либо в реальность.
Русский театральный реализм был подобен реализму литературному — Пушкина, Л. Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Он писал картину всех господствующих сил жизни, а в глубине картины реяли духовные сущности, которые могли бы преодолеть этот жизненный режим. В одной картине совмещались и силы,
создавшие жизнь, какова она на сегодня, и силы, призванные пересоздать ее, без романтического отрыва одно от другого, что и составляло огромное преимущество русских художников-реалистов, была ли это литература, был ли это театр.
Кажется, еще недостаточно оценили борьбу Станиславского с театральными «штампами». Этот пункт у него приняли, мало задерживаясь на нем. Между тем война со штампами вводит нас в сокровеннейшее содержание теорий Станиславского. Есть штампы очень разные по смыслу и по объему зла, приносимого ими. Актер может подражать другому актеру, ученик взять в качестве модели своего учителя, провинциал — актера, которого он увидел на столичной сцене. Даже самые оригинальные открытия и изобретения могут породить штамп. Так, мы помним, как повсюду, со всех сцен и в очень непохожих друг на друга пьесах, зазвучали удивительные интонации Москвина, только что в Художественном театре сыгравшего Хлынова в «Горячем сердце».
211
Весь Хлынов содержался в мелодике, которой эта роль у Москвина была проникнута. В голосе Москвина был хлыновский разгул, порыв ко всяческим безобразиям, ко вседозволенности — баловство, избалованность деспота, перед которым всякий клонится в его округе; было и другое — искренняя скука и почти плаксивая жалоба на скуку, было бурное наслаждение, когда Хлынову казалось, что скуку он победил и зажил по-широкому. Неумышленно, сами не замечая, что делают, актеры разных театров все тянули москвинскую ноту — «наро-оды!», до пагубности заразительную для них. Вырабатывался штамп, с противоядиями, однако же против него. Кто знал и помнил Хлынова — Москвина, для тех он оставался неистребимым самыми злостными штампами; надо всеми подражаниями, вольными и невольными, всегда выплывал москвинский голос, и подражания увядали тут же. Но далеко не всегда за подражателями мог быть отыскан подражаемый. Существуют еще и штампы безличные, источник которых затерян. Это от века привычные актерам интонации и повадки по тому или другому каноническому поводу: возведение очей, когда говорится о святынях, тыканье пальцем в землю, когда говорится о чьих-то похоронах, заливистые, правильные трели восторга и рваное дыхание, когда изображается скорбь. Именованные ли это штампы или не именованные, взятые ли от Москвина, Качалова или же от некоего неизвестного актера, — в обоях случаях штампы приходят извне. Опаснейший вид штампов, по Станиславскому, другой. Сам актер, к несчастью, превращается в собственного подражателя. Одну роль он играет сходно с тем, как играл другую, в той же самой роли у него могут сходствовать разные эпизоды ее, и, наконец,—это штамп всех штампов — он ту же роль играет во всех спектаклях с мертвой заученностью, собственно, не играет, а повторяет, как она была сыграна им однажды. С этим штампом самоимитации особенно упорна борьба у Станиславского. Если актера перевоспитать, отучить от подражания в спектакле себе же, игравшему ту же роль в спектакле накануне, то, можно надеяться, отпадут и другие виды штампов. Радикальное лечение в том, чтобы оставаться своеобразным, воодушевленным, заново созидающим каждый раз, когда ты играешь все ту же роль, хотя бы это и было в сотый раз. Если актер умеет это, то никакой эпидемии из-
212
вне он не поддастся. Огради себя от подражаний самому себе, и ты освободишься от искушений подражать кому-то третьему.
Не нужно думать, что осуждение штампов существовало до Станиславского, а новостью была выработка Станиславским способов бороться с ними. Вопрос о штампах — не вопрос театральной техники, а вопрос театральной эстетики, он связан с новым пониманием, что такое искусство театра. Новое у Станиславского начинается уже с того, что штамп он объявил злом, и чрезвычайным злом, тогда как прежние театральные системы к штампу относились весьма положительно, как к полезной и высокопочтенной необходимости в практике сцены. Все это прекрасно разъяснил в беседах 1936 года с молодежью Вл. И. Немирович-Данченко. «До Художественного театра нигде не велась борьба со штампами. Большие актеры создавали новые талантливые приспособления, которые потом включались в искусство штампов.
Эти новые приемы бывали предметом гордости провинциальных актеров, которые заимствовали их. Например, знаменитый актер Росси приезжает на гастроли. И сам по себе великолепный актер Иванов-Козельский бросает свои гастроли, приезжает в Москву, смотрит здесь спектакли, заимствует разные приемы и вносит их в свои роли. Например, Гамлет в 3-м действии, когда идет «Мышеловка», держит колоду карт веером, и на
словах "Оленя ранили стрелой" бросает эту колоду карт»[169]. «Актер изо всех сил старался быть похожим на какого-нибудь известного актера, например на Горева, Иванова-Козельского, Ленского, Южина, или подражал театральным образцам. Начинал с подражания»[170]. «Приезжала на гастроли Рашель… И после спектакля девочки у себя в дортуаре балетно-драматической школы играли «Рашель», копировали ее»[171]. Борьба со штампами ясно указывает, что эстетическая ценность спектакля для Станиславского переместилась сравнительно с тем, как понимали ее предшественники. Штампы, по Станиславскому, запечатывают эти ценности, не позволяют им дышать и жить.
213
Существует рассказ о мальчике, который день за днем все ходил и ходил смотреть «Чапаева». Похоже было, что он чего-то добивается и ждет. Когда его спросили, чего же, последовал ответ: «а может быть, он выплывет». Не знаем, анекдот это, или быль, или нечто третье: быль, приключившаяся не с одним мальчиком, а со многими. Рассказ этот появился уже на втором или третьем месяце бытия «Чапаева» на экранах, и как бы то ни было, рассказ этот прекрасен. Помимо всех других своих достоинств, он еще и очень важен как для теории кинематографа, так и театра. Мы улыбались по поводу мальчика, ибо тот возложил несбыточные свои надежды на экран. Будь это театр, юмор рассказа сразу потускнел бы, ибо в театре не только маленькие мальчики, но и взрослые со всею страстью способны требовать, чтобы Чапаев не тонул, если им со сцены покажут историю Чапаева. На экране Чапаев спастись не может, на сцене — может; в этом главнейшая несхожесть между фильмом и живым спектаклем. Из практики театра нам широко известно, сколь часто зрители более чем настойчиво вмешиваются в ход событий, происходящих на сцене. Были времена, когда заведомо было известно, что зрители не позволят Отелло задушить Дездемону, и заранее к трагедии подклеивался благополучный конец, ради сделки со зрителями. Корделии тоже не позволяли умирать, и трагедия о Лире развязывалась на сцене вопреки Шекспиру. В Италии зрители известны были своим беспокойным поведением в театрах, и Гёте в «Итальянском путешествии» рассказывает, как венецианцы чуть не остановили спектакль: им не нравился поворот событий на сцене, и они хотели совсем иного хода трагедии — актеру едва удалось успокоить публику, чтобы она позволила доиграть спектакль по писаному (запись от 6 апреля 1786 г.). Из истории русского театра мы знаем немало эпизодов, когда зрители во время представления вступали в спор с фабулой, с автором ее и с актерами, послушными автору.
Театральные эксцессы — а вмешательство зрителей в спектакль и есть один из них — обнажают многое в природе театра, латентное, скрытое выводят к свету, ставят на обсуждение. Когда зритель вмешивается, то это показывает, что зритель всегда духовно активен и по-своему принимает участие в спектакле,— вмешивается
214
ли он прямо или нет, диктует актерам или не диктует.
Актер играет не перед стульями, а перед теми, кто занял стулья. Не только актеры воздействуют на зрителей, но и обратно. Пусть зрители будут на своих местах тихи и послушны — сама эта тишина, само это послушание является сильнейшим видом воздействия и связи.
С другой стороны, сами эксцессы вмешательства показывают, что как бы ни была велика иллюзия, театральный зритель всегда ощущает, что за ролью таится живой актер, натурный человек, и к нему-то зритель и апеллирует. В кино Чапаев не выплывет, ибо актер там был, и сейчас его нет, на экране осталась только тень актера, безответственная и бессильная. Если это живой театр, то сценический актер, играющий Чапаева, присутствует воочию, и поэтому не бессмысленно надеяться, что все повернется по-новому. На экране другой порядок бытия: все происходящее уже было, Чапаев уже давно утонул, хотя нам и показывают покамест, как он тонет; еще немного, и мы сравняемся с событиями, как они произошли, и мы увидим окончательную развязку, которую на экране никто и ничто изменить не могут. Фильм крутится, и в руках у оператора еще недокрученный конец его. На экране перед нами нет подлинно настоящего. То настоящее время, что выходит к нам на экраны, в грамматике называется настоящим историческим — praesens historicum: это события, прошедшие уже, но ради живости представленные так, как если бы они еще совершались. Совсем иное в театре. Настоящее время — это естественная зона, в которой только и может пребывать живой актер. Сфера реального человека — настоящее время, реальный человек несет в себе и с собой настоящее время. Реального человека нельзя передвинуть ни в прошлое, ни в будущее, одним он обладал, другим станет обладать, но сейчас он весь в настоящем, и оно само им обладает. Недаром в языке настоящее и подлинное, действительное, реальное даны как синонимы. Можем сослаться, как трудно театру с помощью своих живых актеров изображать отступления в прошлое, во вчерашний день персонажей, которых зритель знает по сцене в их живом настоящем. Того или иного героя вчера в его вчерашнем облике режиссер, чувствующий природу своего искусства, передает с некоей убылью в его реальности; краски дейст-
215
вительности должны отчасти поблекнуть, если театр хочет передвинуть актера в прошлое, хотя бы и не слишком отдаленное. Отступление в прошлое не только омолаживает, оно не может не явиться большим или меньшим вычетом из реальности персонажа, убывают не только годы, убывает и реальность. Художественный театр умел показать умерших бабушку и дедушку из «Синей птицы» так, что они присутствовали на сцене и отсутствовали в живой жизни. Это крайняя точка показывания людей в прошлом, движение в прошлое ею заканчивается, движение от бытия к небытию. Как правило, театральная сцена должна быть переполнена чувством настоящего времени, актеры должны купаться в настоящем. У фильма якобы настоящее, у театра настоящее в самом деле, бесспорное и безусловное. Быть может, это всего лишь тонкие различия. Однако же вся культура стоит на тонких различиях, искусство же в особенности. Ими пренебрегают коммерция, оптовый сбыт. Коммерция сохраняет тонкие различия только за очень дорогую цену и только для немногих. Наше дело — сберечь их для всех.
Театр обладает действительным настоящим, но театр далеко не всегда умеет ценить его. Как фокусник, балансирующий на шаре, который у него под ногами, театр то твердо владеет настоящим, то упускает его, и что у фокусника случается по умыслу, то у театра нечаянно. Штампы, о которых говорит Станиславский, это и есть расставание с силой настоящего, потеря этой силы. В самом деле, если спектакль идет по заученному, если от начала до конца он есть повторение, не продукция, а репродукция, то настоящее время в спектакле сохраняет за собой только формальное значение. На самом же деле зрители имеют перед собой нечто уже бывшее, с трудом разогретое, вчерашнюю игру, которую выдают им за игру сегодняшнего дня. Борьба Станиславского со штампами в первую голову сводится к борьбе за подлинное настоящее в настоящем, за непритворность его, за реальность сценических часов и минут. Станиславский внушал своим актерам, что спектакль всякий вечер нужно играть заново, а не вспоминать, как его играли накануне, всякий вечер нужен на сцене подлинник, а не имитация чего-то однажды уже со сцены предъявленного теми же актерами и под той же режиссурой. «Старайтесь, чтоб в вас рождалось каждый раз
216
новое вдохновение, свежее, для сегодняшнего дня предназначенное»[172].
Кратко главную театральную мысль Станиславского можно выразить так: по основе своих основ и по природе своей природы театр есть импровизация. Во всякое искусство входит импровизация — она у композитора, у писателя, у живописца. Но там она состоялась еще до нашего знакомства с готовым произведением, мы застаем только застывшие следы ее, она сохранилась так, как человеческий голос сохраняется в звукозаписи. В театральном спектакле импровизация прямо перед нами совершается, и нигде, никогда, ни в каком другом искусстве нам не дано с той же интенсивностью, как это свойственно театру, пережить ее. Спектакль возникает на наших глазах. В семь часов вечера его еще не было. В семь тридцать занавес поднят, и спектакль часть за частью слагается перед нами. Станиславский очень верно сравнивает работу актера с работой скульптора, что лепит фигуру тут же, при зрителях. Идет рассказ о некоем гастролере. «Он (гастролер. — Я. Б.) не лез вперед, не выставлялся, не показывался нам, как это делают плохие актеры. Он заинтересовал нас не самим собой, а тем образом, который на наших глазах все рельефнее и выпуклее вылеплял на сцене. Гастролер был весь погружен в то дело, которого от него требовала сама роль.
Это изумительная работа подлинного мастера.
С чем сравнить ее?
Представьте себе, что вы находитесь в мастерской гениального скульптора, почти бога, способного на чудеса.
Вы видите, как он берет большой кусок глины, как он разминает его привычной рукой.
После этого он спокойно, не торопясь, уверенными движениями пальцев придает глине форму мускулистой груди, плеч, спины и кладет вылепленную часть человеческого тела перед вашими изумленными глазами.
Еще момент. Несколько ударов резца — и вам кажется, что грудь дышит, а сердце внутри ее бьется»[173]. Театр — та же скульптура или живопись, если бы и
217
в этих искусствах созидание совершалось на миру, если бы труд созидателя искусства и восприятие этого труда зрителями совпадали во времени, находились лицом к лицу.
Импровизация — это глубочайший заход в настоящее, в действительность, какова она сейчас, сию минуту, во всей непрофанированной, неприкосновенной своей подлинности. Драма и актер воссоздают ход событий, вот необходимость их, а вот и свобода, вот все колебания выбора, и вот он, выбор, сделай наконец, и все устремилось, как было тому предназначено. Импровизация передает все биение жизни, она сама есть это биение, без перегородок между ним и ею. В импровизации лежит вся мощь действительности, весь ее напор, вся предопределенность и вся свобода, доступная для нее, все переходы от известного к неизвестному и обратно, весь трепет неизвестного, покамест тенденция его еще неясна. Станиславский не вполне пользовался этим термином — импровизация, однако именно она в центре его размышлений. Мы вправе вернуться к этому термину, за которым глубина театральных традиций. Центральное открытие Станиславского: импровизация и есть язык, присущий художественному реализму, в импровизации реализм как бы пойман в собственные свои сети, достигает величайшего тождества с самим собою.
Импровизация позволяет ближе сойтись с бытием, лучше узнать его. И это еще не все. Импровизация — великое наслаждение бытием, и обладание и радость обладания, победоносный час мыслящих, чувствующих, хотящих. Импровизация — уста и чаша, праздник уст и праздник чаши, на какие-то свои минуты сошедшихся без разделения между ними.
Станиславский, как известно, различал театр переживания и театр .представления. При этом театр переживания он считал формой более универсальной, включающей в себя и театр представления. «Но можно пережить роль только однажды или несколько раз, для того чтобы заметить внешнюю форму естественного проявления чувства, а заметив ее, научиться повторять эту форму механически, с помощью приученных мышц. Это представление роли»[174]. Можно бы сказать, что в черно-
218
вике театра представления тоже лежит
театр переживания, когда же театр представления играет свой спектакль набело, то
главное условие черновика отпадает — переживания нет, если оно еще держится, то
к последующим спектаклям оно умрет. Мы имеем, таким образом, дело с одним из
законов в развитии искусств: в искусстве, взятом в черновом его виде, до того
как черновик перебелили, лежит одна из возможностей обновления. Новый театр Станиславского
сохраняет и в беловом заключенное в черновом: переживание налицо не только в
первых репетициях, но и во всех спектаклях, притязающих на законченность.
Сохранить переживание — генеральная задача этих спектаклей. Беловой спектакль
отличается от черновых всемерным развитием заложенного в них, а не
отбрасыванием его. Открытие не в добавлениях чего-то заново усмотренного в
беловом, а в пересмотре черновых и в их переоценке. Художественное произведение
обновляется через измененное отношение к его прошлому, к стадиям, через которые
оно прошло, прежде чем приобрело устойчивость. Новый способ чертить найден не
на бумаге, а в готовальне. По смыслу теорий Станиславского, импровизация — душа
театра, всякого, и реалистического по преимуществу. Из истории театра известно,
что существовали весьма специальные по характеру своему направления — импровизированная
комедия итальянцев, la c
219
цию в самом широком итальянском стиле[177]. Связано это было с работами над «Трактирщицей» Гольдони, драматурга, который был антагонистом театра импровизаций и все же был ему родственен. Как можно видеть знаменитая «Турандот», поставленная Вахтанговым, восходит к театральным опытам, замысел которых много раньше возник у Станиславского, его учителя. По особому жива была струя импровизации на веселых «капустниках» Художественного театра, где блистали комедийной выдумкой Сулержицкий, Москвин. О Сулержицком по мемуарам известно, что импровизация была его стихией, он любил импровизационные забавы вносить в быт, в дружеские встречи, в театральные пробы, когда бы и где бы ни производились они.
Но импровизация в староитальянском роде и импровизация в больших серьезных спектаклях Станиславского весьма отличались друг от друга. Для итальянской комедии импровизация обладает ценностью сама по себе, это для актеров повод показать себя, изумить своей находчивостью, быстротой и остроумием ответов на неожиданные-негаданные реплики, блеском выходок, изобретательностью поступков. Импровизированная комедия все внимание переносила на актера и на его искусство, она была поводом к виртуозности, часто самого внешнего порядка, а для Станиславского она только отходы большой и важной работы, которую он вел в театре, подготовляя репертуар совсем иного стиля и свойства. В спектаклях Станиславского импровизация важна была как выразительное средство, импровизация актеров шла на волне импровизаций самой жизни, придавала этим первичным импровизациям новую силу, втеснялась в них. Зритель наблюдал, как на сцене творились события, как принимались решения, как люди шли к гибели или к победам, как поворачивалась судьба. Не было в спектаклях Станиславского никаких расстояний во времени между зрителем и событиями сцены, сразу же и до глубины собственного сердца зритель становился их достоянием, как и сами они — достоянием зрителя. Импровизация в театральной практике Станиславского была языком самой действительности, ее самоизложением и самоизъявлением. Если вер-
220
нуться к примеру, приведенному самим Станиславским, то жест за жестом лепилось перед зрителем изображение самой жизни, каждый жест ваятеля был новой добавкой к этому изображению, они подвигались, не разлучаясь друг с другом, — изображение и тот, кто его создавал. Импровизация подразумевается в реалистическом спектакле, как подразумевается в нем, хотя и не подчеркивается, живой актер, как подразумевается в нем зритель с его особым вкладом. Можно обнажить зрителя с его участием в спектакле — такие опыты делались, а больше прокламировались сторонниками так называемой «соборности» в театре. Можно точно также вывести за край реалистического спектакля импровизацию, и тогда получится та или иная разновидность итальянской комедии. Для театра небезразлична разработка элементов его в отдельности, но элементы не могут жить жизнью целого, которая дается только большим реалистическим спектаклем. Станиславский, великий мастер театральных синтезов, считал для себя полезным приглядеться, что такое слагаемые, на которых синтезы построены, его любопытство — или даже больше того, пытливый интерес к импровизации как таковой, вынутой из архитектоники большого спектакля, служит тому примером. Не следует забывать, что Станиславский, счастливый строитель больших, в себе завершенных спектаклей, был также духовным отцом экспериментаторов современного театра, грешных перед ним, своим первоучителем, разве тем, что нередко эксперимент для них из законной относительной ценности перерастал в незаконную абсолютную.
Об импровизационном принципе, о том, как роль слагается у актера вместе с движением спектакля, как бы невзначай, воочию перед зрителем, часто говорят люди о самом этом принципе, как бы его ни называть, ничего не подозревающие, и по поводу таких явлений театральной жизни; к которым, казалось бы, этот принцип далек. Актер Горюнов, игравший на сцене Вахтанговского театра в гротескном спектакле гротескного Гамлета, описывает, как Гамлета, классического Гамлета всерьез играл В. И. Качалов: «В моей работе над ролью мне часто приходилось вспоминать и желать хотя бы в какой-то мере овладеть замечательным мастерством Василия Ивановича, в котором ему сейчас несомненно нет равных, мастерством умения думать на
221
сцене и с предельной выразительностью и убедительностью доносить как бы созревшие тут же, на сцене, мысли до зрителя»[178]. Качалов, актер школы Станиславского, умел показать на сцене самосозидаемого, а не созданного уже Гамлета. Прежде всего Гамлет отмечен своим духовным богатством, своей непрестанной духовной работой, и на сцену было вынесено, как творилась эта работа и как богатство это накоплялось.
Импровизация у Станиславского одно, а есть в его поэтике режиссера и постановщика еще и совсем иное, чему обыкновенно и придается первенствующее, если не единственное значение. Всем известна кропотливая изыскательская работа Художественного театра, окружавшая каждую его постановку. По поводу драматического текста, к постановке принятого «и всего к тексту относимого, создавалась настоящая академия. Штудировали вдоль и поперек текст и автора, обстановку, в которой происходит действие, обстоятельства местные, национальные, эпохальные, способные что-либо осветить, о персонажах собирались всевозможные известия, помимо в тексте лежащих, не пренебрегали и другими многочисленными побочного происхождения, составлялись примерные биографии персонажей, выверялся их каждый шаг, куда и зачем направлен, по какой территории. Эта сторона труда Станиславского и его сподвижников всегда была на виду, и довольно будет о ней только напомнить. Казалось бы, кропотливый этот отдел его деятельности начисто исключал всяческую импровизацию, и если она проникала в область театра, то позволено было думать, что по недосмотру. Оригинальность Станиславского, однако, заключалась в ближайшей связи этих двух отделов, в приуроченности одного к другому, поразительнее всего — в подчиненности всего громоздкого, исследовательского, рациональными усилиями и упражнениями добытого, целям театральной импровизации, стихийно-свободной, не допускающей, чтобы в ней сохранялись какие-либо следы умышленности и предварительных трудов. Первое у Станиславского подготовляло второе, строило для импровизации исходные точки, побуждало к ней, развязывало ее. На сцене создавались точные декорации, актеров одевали в очень точ-
222
ные костюмы, воспроизводился весь рисунок физических действий, подразумеваемых сценическими эпизодами, и все это были условия и предусловия безотчетной жизни персонажей, безотчетного движения событий, бравших свое начало в этой среде.
Самое примечательное в теории Станиславского, что она никогда и нигде не велит актеру обращаться прямо к чувству, начинать с него, вызывать его в себе, растравлять всеми способами, доступными и недоступными, в обход сил посредствующих и вспомогательных. Театр переживаний сами переживания трактует вполне своеобразно. Все в театре Станиславского многократно обдумано, все имеет свой расчет, прошло через репетиции и еще репетиции. Переживания, главное для него, предоставлены самим себе, как будто бы отпущены на полную волю, их не репетируют, нет давления на них, оно воспрещено. Станиславский исходит из самой природы переживаний. В них главное — их непроизвольность. Переживание, заказанное или приказанное, мгновенно превращается в гримасу. Все искусство театра, по Станиславскому, в уходе за переживаниями — нужно «выращивать» их, как любит выражаться Станиславский, нужно предложить им «манок», приманку, чтобы они явились на наш зов совершенно добровольно и тем не менее в нужную минуту. Все тело спектакля, все декоративно-костюмное, все мимическое, внешней наблюдательностью, тщанием и эрудицией взятое, важно не само по себе, а как система импульсов к переживанию. Актер увидел на себе бархатные боярские сапоги — в них он войдет в роль свою старинного боярина, они помогут вчувствоваться в нее. Еще и еще исторические подробности, и каждая из них и все они вместе способствуют внутренней стороне дела, исподволь направляют внутреннюю жизнь действующих лиц. Москвин, играя царя Федора, держал в руках большой красный платок, какой-то очень старозаветный, старомосковский, покусывал его, потирал им лоб в трудные минуты. Казалось, что платок обладает целебной силой, помогает Царю Федору унимать свое волнение, а главное — помогает самому Москвину быть царем Федором, сидеть на Федоровом месте, испытывать Федором испытанное.
Проспер Мериме писал о Пушкине (статья «Александр Пушкин»): «Мы видели, что Пушкин искал вдохновения в иностранных источниках и брал себе провод-
223
ника, быть может, не для того, чтобы иметь руководителя, но чтобы чувствовать себя увереннее, подобно пловцу, который плывет особенно хорошо, если знает, что за ним следует лодка»[179]. По видимости, импровизация и строго подготовленная часть спектакля соотносятся по тому же образцу: пловец, которому, однако, необходима лодка позади него.
Еще в самом начале своей режиссерской деятельности Станиславский оказался на путях, которым не изменил и в позднейшие годы. По поводу спектакля «Плоды просвещения», поставленного им в Обществе искусства и литературы в 1891 году, Станиславский объяснял своему биографу: «Ищешь «быта» — и непременно доходишь до внутреннего, до психологической подоплеки, попадаешь в главное течение произведения, идешь по течению мыслей и чувств»[180].
По поводу быта и драматургия и театр колебались между двумя концепциями. За истиной, что быт определяет человека, забывалось обратное, что и быт является частью человеческой души, по меньшей мере внутренним двором, к ней прямо прилегающим. Чем далее, тем явственней Станиславский отстаивал именно внутреннее понимание быта и всей материально-зрелищной части на сцене театра. В письме к Ф. Ф. Комиссаржевскому от января 1910 года Станиславский писал о своем театре: «Как это ни удивительно, обстановочная сторона у нас никогда, а тем более теперь, не играет почти никакой роли. По крайней мере ей режиссер отдает весьма мало забот»[181]. Письмо к Герберту Графу, немецкому режиссеру от 11 октября 1927 года: «Художественный театр является исключительно драматическим театром. Его художественные принципы основаны целиком и главным образом не на режиссере-постановщике, типа Мейерхольда и Таирова, но на режиссере — учителе актера… Внешняя постановка нужна нам постольку, поскольку этого требует внутреннее творчество актера»[182]. Известным образом у Станиславского сораз-
224
мерены те или иные сферы действительности и методы их художественного воссоздания. Есть сделанный мир и есть мир сотворенный. Все цеха театральной техники заняты, чтобы водворить этот сделанный мир на сцене. Сделанный мир — к нему относятся города и жилища людей, их жизнеустройство, их одежды, их навыки. Сделанный мир — он начинается в окрестностях человека, где-то возле него, он вьется вокруг людей, обвивает их, входит в них, и очень неясна граница, где же он кончается, если такую границу и мог бы указать кто-нибудь. Сословные черты в человке — скорее сделанное, чем органическое в нем. Его профессиональные повадки, его бытовые привычки, экономические категории которые суждено ему олицетворять, строй реакций, свойственных ему соответственно месту, которое пришлось на него в социальной жизни, — все это овладело им извне, хотя и основательно им усвоено. Некий первозданный материал в человеке охвачен, переработан формами извне пришедшими, и сама по себе такая обработка вполне разумна и неизбежна, иного пути для вступления человека во внешний мир, иного развития как через внешний мир нет и быть не может. Но история каждый раз по-разному устанавливает отношения между человеком, каков он есть в своих задатках, в своем замысле, и тем, во что превращает его цивилизация, ему современная[183]. Вероятно, Сципионам Рим дал, что можно было дать, и вряд ли Сципионы жаловались, что их томят душевные силы, не получившие для себя ни дела, ни формы. По-другому, как известно, сложился русский опыт. Русским героям всегда не хватало «земли и воли», добрая часть их души оставалась без выхода во внешний мир, без должного призвания в нем, и правило это коснулось как титулярного советника Башмачкина Акакия Акакиевича, так и князя Болконского Андрея
225
Николаевича и приятеля его Пьера Безухова, философа; как пьяненького, безнадежного нищего Мармеладова, так и состоятельного барина Обломова. В России, в русском быту, в русской культуре, в русское искусстве всегда второстепенными фигурами ходили люди, так или иначе нашедшие себя в положенных обществом и временем формах, законченно-стильные в этом смысле. Где-то, едва спасаясь от авторской иронии, ютились по окраинам романов Тургенева, Л. Толстого, Достоевского безукоризненно изящные российские джентльмены, душой, умом и духом адекватные платью своему, речам и манерам. Их не упустил и Художественный театр, в театре Станиславского умели их изображать со всей бытовой тщательностью и точностью, сам Станиславский бывал силен в ролях такого рода — князь Абрезков, например, в «Живом трупе» Л. Толстого. Разумеется, не к ним относилось внимание театра по преимуществу, нужны ему были не эти люди, вкусившие от внутреннего равновесия, от спокойных форм, в сделанном, от внешнего быта полученном почувствовавшие самих себя. К театру несравненно ближе стояли разорванность, внутреннее брожение, неслучайная и часто гордая неустроенность в быту, неумение, нежелание воплотиться во что-нибудь и в кого-нибудь окончательно — ведь именно черт, злая сила, обманщик и предатель у Достоевского пошучивает насчет своего возможного воплощения в какую-нибудь общепризнанную фигуру, угрожая тем, что низость и этого рода для него не исключена. Подстроенное, умышленное, традиционно учиненное, сделанное в человеке и в его существовании имело для Станиславского, для его театра, как и для всей русской классики, только самую относительную ценность. Как-никак в сделанном человеке начинался человек сотворенный, из глубины живой, личный, самому себе принадлежащий. Человек, сделанный как введение к человеку настоящему, только и стоил чего-нибудь по оценке наших лучших художников. В древне-северной саге о Волсунге рассказывается, как мать испытания ради пришила сыну рукава к коже и мясу, и когда сдергивали с него одежду, то кожа шла вслед за рукавами. Этот же юнец замесил как ни в чем не бывало тесто, хотя в муке ворочалась змея, — получился змеиный хлеб. Можно бы сослаться на эти примеры, как прообразы: живое входит в сделанное, входит болью,
226
которую нужно вытерпеть, но входит. О коже живой, человеческой, сходящей, если потянуть рукав, мы читаем очень часто у Л. Толстого, Достоевского, Горького. И о змеином хлебе мы тоже у них читаем.
Сквозь сделанное в человеке к сотворенному в нем — так можно было бы сказать о методе Станиславского, привести его краткости ради к этой формуле. Русские исторические судьбы привели русское искусство к особым его способам интерпретировать человека — со стороны живородного, первоматериального в нем, без доверия к тем шрамам, которые нанесла ему цивилизация, без засчитывания их тоже в качестве чего-то неизбежного для человека, для его природы. Быть может, исторические обстоятельства и были по-своему специальными. Отсюда нисколько не следует, что и художественные методы, в обстоятельствах этих возникшие, имели только свое специальное значение. Нет, они были восприняты как огромное поучение всем миром, как новая по глубокости своей весть, что такое человек, независимо от тех или иных преходящих форм, в которые история заставляет его укладываться и которым она не в силах навсегда подчинить его.
Человек за пределами сделанности его, человек в своей сотворенности для Станиславского был доступен тоже через творческие акты — через импровизацию, как мы условились их называть. Область импровизации — постижение человеческой личности в ее непринужденности, в ее свободных силах, в игре их. Подобное познается подобным: импровизация овладевает тем, что по натуре своей тоже могло бы назваться импровизацией, — жизнью самой жизни.
Вся широкая подготовка, которую вел Станиславский со своим театром, чтобы завершить ее актами импровизаторского порядка, разумеется, полностью себя в деле оправдывала. Даже ради узких своих, специально театральных, целей старинная импровизаторская комедия исходила из заранее изученного и вполне готового: сценарий был готов, очертания персонажей — «маски» их — были заранее известны, кусками натвержен был диалог, импровизация протягивалась между этими готовыми частями, с быстротой объединяла их, дарила им единую живую душу. Тем более нужны были исходные твердые почвы для Станиславского — ведь у него на актеров-импровизаторов возлагалась миссия, о которой
227
беззаботные итальянские маски и не помышляли. Станиславский посылал своих актеров в самую глубину живой жизни, на разведку подлинного содержания человеческой личности, на ее воссоздание. Он говорил о переживании, о чувствах, которые, как он выражался, актеру надлежит «разогреть» в себе, чтобы они появились и повели его за собой[184]. Он учил с поразительной простотой и находчивостью различным способам «генерирования» эмоций, при которых эмоции, легко вызываемые, превращаются, «генерируют» в эмоции менее доступные, подобно тому как один вид физической энергии переходит в другой.
В книге Н. М. Горчакова, где описаны репетиции Станиславского, мы находим такой пример: Станиславский предлагает актрисе А. О. Степановой, которая готовит роль в «Сестрах Жерар», взять лоханку, ззять тряпку и заняться мытьем пола в своей комнате — это будет физическим прелюдом к эпизоду, ей предстоящему, к изображению душевного состояния героини в этом эпизоде. Она добудет нужные эмоции из мытья пола через переход в эмоции того, что сделают с ее телом, а отчасти и с душой физические эти упражнения[185].
По Станиславскому, состояние тела и души, человеческие чувства поддаются преобразованию одно в другое, пересоздаются — для создания необходимым бывает пересоздание. Об одной актрисе у Станиславского говорится: «подсознательно вспомнила свое личное горе и зажила от него»[186].
Чувство, переживание приближали к главнейшему — к человеческой личности во всем ее особом качестве. Мемуарист записал замечательные слова Станиславского о том, как художник внедряется в изображаемую жизнь, как исчезает раздвоение между внешним и внутренним с перевесом в пользу внутреннего: «На днях я слушал чтение новой пьесы. Я вспоминаю людей, действующих в ней. Я их помню, но они полуживые в моем воображении, это еще тени, а не люди с мясом и кровью… Я ближе знакомлюсь с пьесой, я хочу видеть
228
не только людей, но и все, что их окружает, видеть, прощупать каждый предмет… Затем я уже могу представить себя со стороны, действующего в знакомой мне теперь среде… И, наконец, я занимаю место внутри пьесы, я ничего не вижу со стороны, но все изнутри, я вижу партнеров, моих партнеров, я хозяин вещей! Вот этот последний момент я называю: "я есмь"… Вы знаете, конечно, как это случается, когда на одной прекрасной репетиции вдруг у человека пошло и на всех повеяло теплом и все оживает. Это актер поймал "я есмь". Это случается в мгновение: Ппа! — лопнула почка, в одно прекрасное утро дерево уже зазеленело»[187]. Кажется, описанное Станиславским самое сильное из оправданий термина «импровизация» применительно к его художественной методе. Сначала медленное освоение пьесы, мира ее, разнообразнейшая ориентация в этом вначале чуждом мире, сближение с ним, с его людьми вместе взятыми, с каждым в отдельности, наконец, внезапным порывом удается вскочить в роль, «влезть в чужую кожу», как об этом говорил Щепкин, театральный праотец Станиславского. Долгие и трудные сборы, а в решающий момент театрального перевоплощения — чистейшая импровизация, вследствие чего оно и получает искомую живость и несомненность. На сцене перед зрителями возникает событие, возникает человек, возникают люди, с самостоятельностью, с нечаянностью самой живой природы. Станиславский писал в своей главной книге, посвященной театральной теории: «…рождение сценического живого существа (или роли) является естественным актом органической творческой природы артиста»[188]. Почти теми же словами высказывался Качалов: «Рождение новой роли на сцене МХАТ равносильно рождению нового человека»[189]. И на деле знакомясь с тем, как Художественный театр готовил новые роли для новых спектаклей, можно думать, что перед нами хроника одного родильного заведения и обычных для него забот. Аналогию осложняют разве что характерологические и евгенические соображения, которыми полон был театр,
229
подбирая родителей для каждой из ролей. Например, Станиславский очень тщательно разбирается в данных Бурджалова, которому предстоить играть маркиза в, «Трактирщице». Бурджалов от природы добродушен, Станиславский в раздумье, как от свойств самого Бурджалова могут родиться подробности, находимые в тексте роли, написанном Гольдони. Сходной экспертизе подвергается и Вишневский, которому поручено играть графа,— произвести на свет графа[190].
По поводу работы актера над ролью у Станиславского бывали знаменательные расхождения с Немировичем. Не станем разбираться, насколько прав Станиславский в своем недовольстве Немировичем. Задача здесь не в том, чтобы установить, каких именно принципов на самом деле держался Немирович. Здесь нужно, независимо от вопроса об особенностях Немировича, указать, чего Станиславский не принимал в режиссерской и актерской работе, чья бы ни была она. Мы читаем записи Станиславского периода, когда ставились «Привидения» Ибсена. «Разбирали характеристики действующих лиц, хотели по-немировически докопаться до всех мелочей, но я остановил. Довольно на первое время для актера общих тонов роли, так сказать, основного колорита ее. Когда он найдет и освоится с образом, характером и настроением в общих чертах, тогда можно досказать ему некоторые подробности и детали. Я замечал, что, когда режиссирует Немирович и досконально на первых же порах докапывается до самых мельчайших деталей, тогда актеры спутываются в сложном материале и часто тяжелят или просто туманно рисуют образ и самые его простые и прямолинейные чувства»[191].
Много лет спустя с теми же почти предостережениями отнесся Станиславский к одной актрисе, под его рукой репетировавшей: «Вам не все нужно на сцене понимать, а только частицу. Дотошность — иногда бич для актера. Актер начинает мудрить, ставить кучу ненужных объектов между собой и партнером»[192].
230
Как видим. Станиславский думает всегда о том же: роль должна быть рождена, а не составлена. Поэтому актеру нужно ловить общий тон и колорит роли, деожаться целого и не упускать его. Есть детали сырые, которые значат только то, что значат, равны самим себе, ни к чему не ведут. И есть детали, можно бы сказать, способные воспламеняться и освещать тогда обширный район вокруг себя. За них-то и стоит Станиславский. Они сразу вырывают из мрака целые стороны человеческого образа или человеческих взаимоотношений. Нельзя работать переводом: сперва уйти в психологический анализ, а потом переводить его на язык искусства. В дневнике Л. М. Леонидова записаны режиссерские сентенции Станиславского: «Можно упавший случайно у партнера платок поднять в образе роли и как Леонидов»[193]. Хорошие примеры светящей и освещающей детали можно найти в режиссерской практике того же Немировича. Цитируем воспоминания Н. Н. Литовцевой: «Мне лично в работе над ролью Сарры в "Иванове" он посоветовал еще более незначительную вещь (сравнительно с советами Качалову и Тарасовой.— Н. Б.). Во время самого страшного, трагического объяснения Сарры с мужем Владимир Иванович сказал: «Посмотрите, у вас загнулся кончик ковра, поправьте его». И этот загнутый кончик ковра каким-то непонятным способом помог мне. Старательно поправляя его и отгибая в самую, казалось бы, неподходящую для этого минуту, я с особенною остротой ощутила всю безвыходность, всю трагедийность своего положения и невозможность договориться вплотную с бесконечно любимым мною человеком, который не любит и почти ненавидит меня»[194]. Деталь Немировича сразу идет к какимто внутренним центрам создавшегося в драме положения. Нам кажется, смысл ее таков: Иванов и Сарра так далеко зашли в своих раздорах, что разрушать друг друга морально стало для обоих повседневной привычкой. Жест Сарры, поправляющей ковер,— маленькая физическая аккуратность, обыденный жест. И он не в дисгармонии, а в гармонии — и очень странной — с тем, что происходит между нею и мужем. Супруги при-
231
учились каждый дейь ходкгь в атаку. Сарра давно перестала надеяться, что победит, и только поэтому она еще в силах заниматься бытом.
В театральном искусстве нет ничего, что было бы только внешним и не могло бы вдруг оказаться чем-то внутренне значащим. Даже театральный костюм до какой-то минуты только костюм, одеяние, творение иглы, а потом внезапно все в нем может перейти в нечто символическое, внутренне-живописующее, в моральную аттестацию персонажа. Что было до поры до времени обыкновенным платьем, начинает представляться моральной личностью, человеческим характером. Рассказ Ирины Шаляпиной «со слов ее матери» о молодом Шаляпине: «Мать рассказывала, как где-то во Франции, в поезде, когда они с отцом ехали на курорт, в купе вошел католический священник. Погода была плохая, и он, видимо, не особенно хорошо себя чувствовал. Его шея была укутана длиннейшим вязаным шарфом. В руках священник держал зонтик, сильно намокший от дождя. Долго откашливаясь, он наконец стал разматывать шарф, и разматывал его очень долго. Отец пристально следил за ним, потом тихонько спросил мою мать: «Иолочка, можешь ли ты связать мне такой шарф?» — «Конечно, но зачем?» — «Узнаешь потом…» — загадочно ответил отец. И вот в спектакле «Севильский цирюльник» Федор Иванович в роли дона Базилио, в последнем акте, выходит с мокрым зонтиком в руке и весь до глаз укутанный в шарф, этот шарф он долго разматывает, а уходя со сцены, снова начинает его заматывать, и шарф уже преобретает символическое значение. Ведь и сам дон Базилио гибок, изворотлив; он то делается маленьким, то вдруг вырастает в огромную, непомерно длинную фигуру, смешную и жуткую; он как-то складывается и раскладывается, «сматывается» и «разматывается» — это сущность его иезуитской души»[195]. Подробности костюма дона Базилио незаметно превращаются в подробности его тела — оно то длинное, то сжимается. Долговязо-огромный дон Базилио занимает много места, и вдруг он делается безобиднейшим из физических тел,— совершил небольшое усилие, и вот на
232
него не приходится никакого пространства. Способность растягиваться беспредельно и столь же беспредельно сокращаться, способность быть и способность не быть, по собственному желанию и запросам окружающих, представлены с поразительной наглядностью в этом длинном шарфе. Шарф этот, то замотанный, то размотанный, одновременно и тело дона Базилио и сам дон Базилио, его нетленные душа и характер. Тройственные соответствия выражают нам образ дона Базилио с небывалой настоятельностью. Но шарф, он еще и музыкальная тема этого персонажа, внутреннее движение — разматывание — арии о клевете.
Мы имеем все основания обращаться к Шаляпину: сам Станиславский не однажды говорил, что Элеонора Дузе, Сальвини, Шаляпин — вот художники сцены, вслед опыту которых сложилась его теория.
Художественная ценность детали проверяется тем, входит ли деталь в симбиоз с внутренним смыслом эпизода, эпизодов, произведения в целом. Если входит, если смысл способен вбирать в себя живые подробности, значит, он сам живой, истинный. Если же детали останутся снаружи, если их можно и устранять и приставлять, то это симптом, что произведение внутренне ложное, фальшивое, обставляющее себя деталями как лжесвидетельствами. Гоголь в повести «Нос» раз навсегда осмеял эти детали, в произведении присутствующие и, однако же, неспособные соединиться с внутренним его смыслом. Совершенно невероятное происшествие обставлено всеми документами правдоподобия. Бывший нос майора Ковалева в дневные часы прогуливается по Петербургу, спор идет о том только, избрал ли он местом своих прогулок Невский или же Таврический сад. Локальные подробности, как виза в дипломе на достоверность. Чистейший вымысел остается вне их, и они вне его, хотя рассказ и ведется так, как если бы обе стороны со взаимным пониманием поддерживали друг друга.
Какие-то детали помогают актеру в его игре, в его импровизаторстве — через них актер «вскочил» в роль, изнутри овладел ею. Насколько овладел, это доказывается дальнейшим: деталями подсказанная, способна ли эта общим тоном схваченная роль порождать новые детали — живые, а то и лучше — живейшие. Удача, счастье, верность импровизации обнаруживаются тем,
233
насколько она плодоносна, дает ли она выход на линию жизни или нет. Импровизация пробуждает в актере стихию; дело в том, что станет производить стихия, будет ли она служить осмысленно, как «электричество, ветер, вода и другие непроизвольные силы природы»[196], сказал однажды Станиславский. «Неожиданность, которая скрыта в первичных чувствованиях, таит в себе неотразимую для артиста возбудительную силу». Получается так, что роль как бы «сама собой сыгралась». Актер пользуется первоклассной даровой энергией, он действует «под невидимым суфлерством самой природы », а природу Станиславский именует художницей. Еще одна в данном случае, быть может, главенствующая сентенция Станиславского: «…искусство переживания ставит в основу своего учения принцип естественного творчества самой природы по нормальным законам, ею самой установленным»[197]. Когда актер добился слияния со своей ролью, когда он «влез» в чужую кожу, то один эпизод игры сам собой порождает другой эпизод, а этот — третий. Это можно было бы назвать продуктивностью правды. Однажды нас направив, она имеет склонность направлять нас по верному пути и дальше. Аксессуары всякого рода, вещная подмога нужны актеру до поры до времени, когда же они ввели его в роль, то как вещи они более не надобны, их может создавать фантазия зрителя. «Когда вы будете играть Гамлета и через сложную его психологию дойдете до момента убийства короля, разве все дело будет состоять в том, чтобы иметь в руках подлинную отточенную шпагу? И неужели, если ее не окажется, то вы не сможете закончить спектакль? Поэтому можете убивать короля без шпаги и топить камин без спичек. Вместо них пусть горит и сверкает ваше воображение»[198]. Станиславский говорил одному из своих собеседников: «Роль мало-помалу должна стать кинолентой, чтобы всю ее можно было видеть глазом»[199]. Сравнение с кино-
234
лентой означает не только зримость роли, но и внутреннюю непрерывность ее, рождение эпизода от эпизода. О кинематографе в его неметафорическом смысле Станиславский судил несколько иначе. Он считал недостатком кино именно то обстоятельство, что для фильма актеры снимаются, не считаясь с реальной последовательностью событий, поэтому нет условий для живой спайки эпизода с эпизодом, для неделимой жизни внутри изображаемого. «Нередко актерам приходится снимать сначала последние картины, а потом первые, то есть сначала умирать, а потом рождаться. Причем все это наживать экспромтами, репетируя сначала смерть, а потом рождение»[200]. Если актер играет родившегося, начавшегося человека, то во вступительных эпизодах содержится разгон для последующих, подсказ и питание для последующих — это и разумеет Станиславский, говоря о ролях, которые сами себя играют, без дополнительных усилий и особого подстрекательства. Но разорвите естественный порядок роли, и естественное течение актерского искусства остановится. Актеру нужно знать, в чем пафос человека, им изображаемого, главная забота этого человека, на чем тот основан, тогда у актера все пойдет само собой, легко и точно.
Напомним изречение Гёте, которое тоже можно отнести к продуктивности правды. «Кто ошибся в первой петле, тому не застегнуть камзола» (Максимы и Афоризмы. Отд. IX, № 545).
У Михаила Чехова, который был если не учеником самого Станиславского, то учеником его учеников, можно найти страничку, касающуюся вопросов перевоплощения, известную не только среди людей театра, но и в среде философов, ученых психологов, трактующих те же вопросы или же сходные с ними. Михаил Чехов пишет о прямом своем учителе Е. Б. Вахтангове[201]: «У него была особая способность показывать. Два несравнимых между собой психологических состояния переживает человек, если он только показывает или если выполняет
235
сам. У человека показывающего есть известная уверенность, есть легкость и нет той ответственности, которая лежит на человеке делающем. Благодаря этому доказывать всегда легче, чем делать самому, и показ почти всегда удается. Е. Б. Вахтангов владел психологией показа в совершенстве. Однажды, играя со мной на бильярде, он демонстрировал мне свою удивительную способность. Мы оба играли неважно и довольно редко клали в лузы наши шары. Но вот Е. Б. Вахтангов сказал: — Теперь я буду тебе показывать, как нужно играть на бильярде! — и, переменив психологию, он с легкостью и мастерством положил подряд три или четыре шара. Затем он прекратил эксперимент и продолжал игру попрежнему, изредка попадая шарами в цель»[202]. Рассказанное Чеховым, считаем мы, превосходно разъясняет, что такое игра актера, которая, как требовал Станиславский, развертывается наподобие киноленты. Собственных разъяснений Чехова мы не принимаем, хотя в специальных книгах по психологии они поддержаны[203]. Показ удается вовсе не потому, что с показывающего снимается практическая ответственность за его действия. Чехов говорит о «перемене психологии». Перемена в том, что Вахтангов на свое место выставляет совсем другого человека, какого-то бильярдиста, которого он внимательно актерским глазом наблюдал. Когда Вахтангов актерски отождествляется с этим игроком, то все четыре шара у него ложатся подряд. Вахтангов вступил в поток чужой психологии и чужих действий, и бильярд, который по дороге этим действиям и этой психологии, у Вахтангова получается. Играть за того человека Вахтангов умеет, играть в бильярд за себя, играть вообще, играть безлично Вахтангов не умеет. Он не в состоянии абстрагировать игру от человека, изображаемого внутри нее. Это и есть логика художественного образа; что дано совместно с ним, то отдельно от него не дается. Учиться бильярду нужно безотносительно к личности игроков; если бильярд усвоен как чья-то личная подробность, то бильярд и останется подробностью индиви-
236
дуального портрета. Есть разница учиться по-французски вообще или учиться говорить, как приятель мой Гастон. В случае с Гастоном, если Гастона забудут, то забудут и французский язык. Точно так же и дети, они объявляют иной раз: я умею читать только по книге учителя, а по этой не умею, — хотя им предлагают ту же самую книгу, но другой экземпляр.
Пример Михаила Чехова — Евгения Вахтангова превосходно оправдывает теорию Станиславского. Если в роли постигнуто ее существо, если изображаемый человек — бильярдист и если человек этот взят в своей основе, то и бильярд, его умение играть на бильярде будут взяты заодно. Роль играется тогда сама собой, как бы без актера, шары катятся как должно, и шары как должно выигрывают[204]. Станиславский предсказывал, что так будет, если соблюдены предварительные условия, Вахтангов подтвердил предсказанное делом, а Михаил Чехов рассказал об этом.
Роль льется свободным потоком, если усвоен «общий тон»,— как требовал того Станиславский. В угловатом, некрасивом, искаженном социальными условиями человеке обнаружен человек красивый и свободный, следующий законам собственного своего существа. Актер Л. М. Леонидов утверждал, что на сцене можно идти от обезьяны, можно идти от Апполона, а о Станиславском говорил, будто бы тот как актер скорее следовал обезьяне все-таки, ибо искал в каждой роли резкой характерности[205]. Думаем, это неверно и в отношении собственной актерской практики Станиславского и в отношении его режиссуры в особенности. Станиславский, разумеется, учил актеров характерности, учил их воспроизводить человеческий лик со всеми искажениями, которым подвергли его обстоятельства, но в искаженном следовало найти искажаемое. Создав обезьяну, на обезьяне актер не должен был запнуться, а через обезьяну положено было ему пробиваться к Апполону, к прекрасному человеку. Это и было бы полной формулой искусства по Станиславскому.
Михаил Чехов описывает, как делалась у него роль Муромского в «Деле» Сухово-Кобылина. «Когда я приступил к созерцанию образа моего Муромского, я, к удивлению своему, заметил, что из всего образа мне яс-
237
но видны только его длинные седые баки. Я не видел еще, кому принадлежат они, и терпеливо ждал, когда захочет появиться их обладатель. Через некоторое время появился нос и прическа. Затем ноги и походка. Наконец, показалось все лицо, руки, положение головы, которая слегка покачивалась при походке. Имитируя все это на репетициях, я очень страдал от того, что мне приходилось говорить слова роли, в то время как я еще не услышал говора Муромского как образа фантазии. Но время не позволяло ждать, и мне пришлось почти выдумать голос и говор Муромского…»[206]. В признаниях Михаила Чехова то замечательно, что, представив Муромского в «обезьяньей» первоначальной редакции, он не довольствуется этим, и так обнаруживается верность актера Станиславскому. Нечто характерное, смешное, забавное уже есть, но подлинной человеческой души, того, что связано с «Аполлоном», этого еще нет. У Михаила Чехова, когда Муромский был готов, этот персонаж вызывал у зрителей великое сострадание и жалость. Следовательно, Чехов нашел, что искал, а нам он сообщает, как трудно оно искалось. Замечательно также, что он не желал выдумывать голос, говор Муромского — подробностей, ведущих к душе этого человека, доброй и невинной. Он ждал, что голос придет к нему сам, как пришли подробности облика, — придет по их способу, вместе с ними, сквозь них. Это тоже была школа Станиславского[207]. В Художественном театре работали первоклассные мастера грима. Искусство грима у них не падало с той высоты, на какую вознес его Шаляпин. Изображения Станиславского и его актеров под гримом сами по себе могут сойти за своеобразное собрание портретов, сопоставляемых с лучшими явлениями нашего портретного искусства в нашем веке, с работами Репина, Коровина, Серова, Кустодиева. Надо бы сохранить в истории искусства имя мастера гримов Я. И. Гремиславского, долгие годы работавшего в Художественном театре и «делавшего лица» актерам.
От Я. И. и М. А. Гремиславских можем узнать, как делался грим — как делалось лицо генерала Крутицкого, которого играл в пьесе Островского сам Станиславский. «…Константин Сергеевич высказывал желание,
238
чтобы волосы были рыжеватые с проседью, с зачесанными наперед «военными» висками, а череп был бы похож на голову новорожденного ребенка. Очень грубые, из грубого волоса, усы и баки. Здесь впервые потребовал сделать их из морской травы»[208]. Усы и баки Крутицкого Станиславский велит приготовить из фантастического, небытового материала, из морской травы. Тем самым Станиславский уже вступил на стезю, следуя которой Мейерхольд впоследствии стал надевать на своих актеров зеленые и золотые парики. Грим Крутицкого, сугубо бытовой фигуры, делается с размахом воображения, «обезьяна» разрабатывается с такой широтой и свободой, которые выводят ее за пределы обезьянника. Скажем точнее, самого Крутицкого ничто спасти не может, но вольная манера, с какой Станиславский изображал его, указывала, что в людской породе, а с ней Крутицкий все же был связан, заложены ресурсы совсем иного свойства, чем заглохшие и скомпрометированные в этом идиоте, в развалившемся этом человеке. Свободная повадка Станиславского, сочиняющего для своих персонажей их обезьянью маску, является как бы предисловием к поискам в людях более высокого и благородного начала, свободного же. Станиславский делал различие между смыслом маски и ее происхождением, ее источниками. Маска связывала его своей локальной определенностью, а создавая ее, он этими локальными данными пренебрегал; локальный по смыслу своему итог вовсе не требовал, чтобы к нему шли тоже локальными несвободными путями.
Сообщают, что доктора Штокмана, знаменитую свою роль, он компоновал, следуя в подробностях грима за бородатым профилем нашего Римского-Корсакова[209]. Маятник подготовки колебался между русским композитором и санитарным врачом одного норвежского курорта. Свобода актерской и режиссерской работы в формальном отношении предсказывала, что в конце концов человеческая свобода будет и ее содержанием.
Есть злое мнение о системе Станиславского, будто она была изобретена, чтобы обходиться на сцене без талантов, будто она делает актерами кого угодно. Среди апологетов Станиславского немало таких, кто, собствен-
239
но, думают то же самое. Они считают, что Станиславский сочинил руководство, как присматривать за актером от первого до последнего шага его на сцене, как выучить с ним заранее каждый шаг. В понимании этих людей все можно вложить в актера, он будет раскручивать пружину, на которой его держит режиссер, он может быть спокоен, что и без его особых усилий роль будет исполнена «научно», как надо. При таких воззрениях на вещи теория существует не затем, чтобы открывать новые возможности, а ради вечного повторения уже известных. Теория — как бы страхование успеха: усвой теорию, и всегда будешь побеждать. Станиславского, собственно, сводят на положение хранителя тех самых штампов, против которых он восставал столь неукротимо. Теория превращается в систематизацию штампов, в проверку, нет ли еще чего-нибудь ускользнувшего, чтобы и там поставить штамп. Разница между Станиславским и традициями в этом случае ничего принципиального не содержит: те проставляли штампы, как случится, как эмпирики, Станиславский научил проставлять их с предвидением, изготовляя их еще до дела[210].
Теорию Станиславского, ругаясь над нею, выдают за руководство к изготовлению фабричным способом актеров и спектаклей. Между тем Станиславский предостерегает желающих у него учиться: моя наука от сих до сих, она подводит вас к решающему пункту и, начиная с него, действуйте сами. Теория Станиславского не есть утопия детского сада, где все наперед сделано, чтобы дитя не пострадало и не повредилось. Учение Станиславского предполагает взрослых мужественных людей, которым известно, что если делается новое, то многое можно подготовить, но самого дела подготовкой к нему заменить нельзя. Здесь Родос, здесь прыгай. Это положение останется в силе, покамест люди будут добиваться нового. Где творчество, там нельзя начисто исключить опасность, хотя и можно уменьшить ее и еще уменьшить. Актеру, передающему драматизм жизни, менее всего подобало бы искать гарантий для себя самого, которые безусловным образом обеспечивали бы ему победу на сцене. Актер каждый раз борется за свою актерскую победу, преодолевает сопротивление зрителей, собственное сопротивление, и, наконец, победа у него в руках — к последнему занавесу. Дерзость и вызов.
240
присущие самому искусству актера, помогают ему передавать и дерзость жить, свойственную реальным людям, которых он изображает. Чтобы драматизм жизни перешел на сцену, нужно, чтобы драматизм содержался и в самом сценическом искусстве. Актер должен воссоздать человеческое «я», человеческую личность. Но именно лично_сти нельзя выучить, ее природа в невыученном. Либо художник ее сотворил, либо нет, и тогда никто и ничто ему не поможет. Нельзя слишком много и слишком долго рассчитывать, это попытка из нашего действия выключить нас самих — жениться, исключив из женитьбы самого жениха, как мечтал, очевидно, Подколесин. Свобода предполагает, что мы сами будем свободны, а не кто-то другой за нас. Искусство, интерпретирующее человеческие характеры, само должно обладать характером, хребтом, смелостью. Так Станиславский и учил. В его книге по актерской теории рекомендуется акробатика для актеров — как средство воспитания, как способ укрепить актеров эстетически и морально:
«Мне нужно, чтоб акробатика выработала в вас решимость.
Беда, если гимнаст перед сальто-мортале или перед головоломным номером задумается и усомнится! Ему грозит смерть. В такие моменты нельзя сомневаться, а надо, не задумываясь, действовать, решаться и отдаваться в руки случая, бросаться, как в ледяную воду! Что будет, то будет!
Совершенно то же необходимо делать артисту, когда он подходит к самому сильному, кульминационному месту роли»[211]. Л. М. Леонидов говорил едва ли не теми же словами и примерами: «У нас часто говорят: "Позвольте, я еще не успел, чего-то не сделал, у меня это дойдет, я это сделаю, я об этом подумаю". Нет хватки, нет быстроты, нет сообразительности, нет быстрого разрешения предлагаемых обстоятельств, в которых ты находишься. Это надо моментально делать. Лошадь, которая берет барьер, подходит к нему и сразу перепрыгивает, а если она начнет около барьера танцевать, то она его не перепрыгнет»[212].
241
Цитируем Ф. И. Шаляпина, величайшего из мастеров энергии и характерности на сцене. Шаляпин сказал, «…что во время исполнения на сцене в каждое мгновение он ощущает всего себя, вплоть до того, что чувствует, в каком положении находится даже мизинец его левой руки»[213]… От себя и от других актеров Шаляпин требовал чрезвычайного физического всеприсутствия на сцене, состояния полнейшей готовности, как если бы предстояло решение о жизни или смерти.
Очень узкий перешеек соединяет в сценическом искусстве часть штудированную, множеством рук подготовленную, и часть импровизированную, предоставленную усилиям индивидуального актера. Когда-то Амфитеатров, остроумный театральный критик, писал об итальянском трагике Эрмете Заккони, что у него дикая страстность — и та заученная[214]. «Опять, как в давние годы, он играл две роли: и Карло Моретти и актера, страстно изображающего Карло Моретти»[215]. Таков один из самых незаконных и действующих разрушительно видов лицедейства: когда играют — «ломают» — на сцене самое импровизацию, отсутствие ломания и игры. С. М. Волконский, взыскательный друг Художественного театра, заподозрил в притворных импровизациях И. М. Москвина, исполнявшего роль Феди Протасова в «Живом трупе». Он указывал на одно, другое, третье место, где мелькнуло желание, как он считал, прикрыть выученность. «Почему, например, останавливаться перед названием песни, которую заказываешь цыганам? Кто поверит, что выскочила из памяти любимая песнь и что она не на языке? Почему делить остановкой имя и отчество друга, когда наскоро его шепчешь на ухо цыганке: вот, мол, кого величать. И сколько таких нарочных запинок, которые как бы протыкают речь, а сквозь дырки уходит живая вода искренности и правды…»[216].
Может удивить диспропорция: так много изученного и выученного в спектакле, целые города его, а все ради каких-то минут импровизации. Но таково все искусство театра: долго запрягают, едут быстро. Такова практика
242
искусства вообще. Режиссер В. Г. Сахновский подсчитал, сколько времени проводит на сцене В. И. Качалов, исполняющий роль Цезаря в трагедии Шекспира, — всего 42 минуты[217]. Том за томом актерской подготовительной работы ради 42 минут, в которые нужно вместить все: и государственного, и приватного Цезаря, и его прошлое, и его настоящее, и все его огромное посмертное будущее, и величие его, и маленькие привычки, и обиход его, и объем власти и славы — безмерной славы.
Импровизация, которой учил Станиславский, довольно далека была от импровизации в элементарном ее смысле — от переиначивания роли каждый раз, от спектакля к спектаклю. Так как спектакль в целом имел устойчивую форму, то для импровизации в этом смысле оставалось мало места. О заметных варьированиях роли, о переменах в самом ее рисунке при каждом новом ее исполнении, можно говорить только по поводу Михаила Чехова. Как правило, актеры импровизировали внутри уже сложившегося плана, а не вне его и без него. Станиславский иногда грозил актерам, что поставит их перед необходимостью, хотят они того или не хотят, на каждом повторном спектакле ориентироваться по-новому: «Я мечтаю о таком спектакле, в котором актеры не знают, какую из четырех стен откроют сегодня перед зрителем»[218]. Угроза эта, как знаем, не была выполнена. Импровизаторский дух поддерживался без принудительных мер. Обновление несут актеру каждый раз новые зрители, актер должен их завоевывать, как и тех, кого он завоевал накануне. Чувствуя зрителя, актер играет старое, как новое, ибо и зритель новый, и это поддерживает жизнь в спектакле. Подобно Фаусту, актер должен каждый день сызнова бороться за хлеб своего успеха. Когда успех при любой публике становится бесспорным, то это признак обветшания спектакля и ролей.
Отчасти меняется состав партнеров, это опять-таки побуждает актера заново применяться к ансамблю. Главный же источник импровизации, как считаем, безукоризненно указан Л. М. Леонидовым. «Если играть не роль только, а образ, а этого живого человека, и не
243
играть его, а все глубже, ярче и тоньше создавать, то спектакль никогда не потеряет для актера интереса. В каждом спектакле можно за какой-то фразой находить новую черточку характера и заботиться о передаче, о воплощении ее, не меняя рисунка и мизансцены. Вживаться глубже во все черты этого сложного характера и все дальше уходить от приемов театра, чтобы в конце концов получилось лицо, непохожее на Леонидова, хотя и созданное Леонидовым»[219]. Леонидов опирается на один из первопринципов Художественного театра — обращение к действительности, сквозь литературный текст, сквозь роль. Актер на сцене не роль свою, написанную драматургом, выговаривает, а непрерывно обращается к некому реальному лицу и к неким реальным обстоятельствам, подразумеваемым в роли. Актер ведет разговор с объектом, посылающим ему свои веления. А так как разговор этот малоисчерпаем, то и роль может в каждом спектакле новеть, хотя рисунок ее и мизансцена, как замечает Леонидов, при этом остаются прежними. Импровизация — каждый раз возобновляемая духовная деятельность, заново поставленное общение с объектом, с человеческой действительностью. Актер, имея выработанные предпосылки, в каждом спектакле заново создает своего царя Федора, Луку, Ивара Карено, Штокмана, Митю Карамазова — создает, а не вспоминает уже однажды созданное. Ученый испытывает нечто сходное, когда, читая уже читанную лекцию, он снова восстанавливает для себя свою проблему и снова решает ее перед аудиторией вместо повторения привычных ходов мысли, ставших безотносительными под конец к самой проблеме. Если проблема оживает, то оживает и все изложение. Станиславский пишет: «Главная суть моей теории, что актер, играя роль, не должен повторять формы (приспособление — бессознательно), а должен каждый раз вспоминать и ощущать суть или содержание роли, сознательные задачи»[220].
Часто говорят об утомительности и скуке актерской профессии: двести раз и все тот же царь Федор и все тот же Вершинин. Станиславский учил, как избавиться
244
от скуки и усталости, повторяя роль, не повторяясь, не обезьянничая самого себя. И тогда актерская профессия — счастливая. Она не знает грусти расставания художника со своим законченным уже созданием (Пушкин, «Миг вожделенный настал…»). Пока совершался труд, художник и его создание были одно. Труд окончен, и художник вне своего создания, как наемник, выполнивший заказ и получивший плату. Актер остается внутри своей работы, не теряет интимного к ней отношения и после того, как она сделана. Царь Федар сыгран, актер прощается с царем Федором только до завтра. Актер завтра будет играть его опять сначала, будет сызнова переживать свои достижения, ощущая в них самого себя, оценивая, что нужно в них еще усилить, и устраняя еще способное вредить им.
Театральные идеи Станиславского имеют прямое приложение к теории драмы. Следуя Станиславскому, нельзя сливать в одно драму, как она печатается в книге, с драмой, поставленной на сцене. Пусть текст будет тот же, без малейших отклонений, и все же это едва ли не два разных искусства, драма со сцены и драма, как она дана типографским способом. Спектакль и книга — вот два антагониста. В книге с первой же страницы присутствует автор. Исходное положение в книге — неравенство автора и читателя. Автору известны события в их целостном, завершенном виде, он все узнал, все обдумал, составил себе мнение о случившемся, вынес приговор и приговоры. Известное ему в целом, обдуманное, обсужденное им в целом автор выделяет читателю доза за дозой неспешно. Когда мы читаем книгу, то перед нами в одну сторону отложены прочитанные страницы, в другой лежат страницы, которые мы прочтем. Книга уже знает все, книге все известно. Читателю задано сравняться с книгой, «догнать» ее. Как в фильме, дальнейшее, конец находятся в распоряжении кинооператора, так и с книгой. Читатель получает и восстанавливает по частям событие, в целом давно известное автору. Читатель составляет уже составленное — без него и до него. По природе своей фильм ближе к книге, чем к театру, и если фильм еще далеко не использовал лежащие в нем ресурсы и возможности книги, то это объясняется недостаточно оправданным его стремлением держаться аналогии с театром, в котором принято усматривать его предшественника и соперника. Фильм придерживается
245
театра, как керамические изделия долго еще не отходили от плетеных, от которых они произошли и от формы которых давно перестали зависеть.
Когда драма переходит в руки режиссера и актеров, она впервые становится сама собой. Сцена развеществляет драму. На сцене драма получает истинное свое бытие. Задача сцены — освободить драму от ее рукописной, книжной формы, книга — только техническая оболочка драмы, технический способ ее хранения. Именно театр и будит в драме драму. Он сразу же в глубокие планы отодвигает автора. Всякое сколько-нибудь заметное вмешательство автора губит драму. Она должна иметь вид событий, как бы предоставленных самим себе, развернувшихся по собственному почину. Роман любит двойную игру: все начинается и идет, как будто бы сию минуту и впервые начавшись, и однако же в романе явственно присутствует автор, для которого все происходящее не внове. Драма последовательно истребляет всякие следы автора. Драма есть зрелище, она написана и задумана как зрелище, хотя только через театр она становится зрелищем самым несомненным образом. Жизнь, не имеющая автора, связанная с нами без посредников, только и может быть зрелищем. Автор удалился, а мы, зрители, едва начинаем понимать, что же предстало перед нами. Элемент осмысления настолько ослаблен, что в начале нашего знакомства с драмой мы лишены каких-либо других средств ориентации, кроме чувственных. Драма застает нас врасплох, как если бы мы вышли на незнакомую улицу, где всякий дом и его назначение для нас загадка. Драма до конца своего остается зрелищем, чем-то предложенным ad oculos, но ее накал в качестве зрелища особо высок в завязке и в том, что за ней следует. К концу спектакля зрители, если они довольны, вызывают автора. Можно бы считать, что в известном смысле автор и на самом деле возникает только к концу драмы. Целое, а с ним и мысль, а с ним и автор, становятся явственны только к последнему акту. Смысл целого очень долго придерживался и не выплывал наружу через какие-нибудь специальные слова и словечки от автора, через авторские тирады, сентенции, отступления, как это бывает в романе. До развязки есть движение событий, есть действия актеров. Автор в явственном своем виде приходит к ним очень поздно. Шесть персонажей ищут своего автора не только в
246
пьесе Пиранделло — персонажи ищут автора во всякой театрально написанной пьесе и остерегаются, как бы не найти его преждевременно.
Как в театре все есть настоящее время, так и в драме, едва она стала театром. Развертывание спектакля бесконечный рост настоящего времени, могущественный разлив его, все становится настоящим временем, пережитым, прочувствованным, ни с чем не сравнимое воздействие театра и драмы именно в этом: мы присутствуем при самих решениях, любой поступок может иметь свои зарианты, и при нас впервые выбирают один из них. Именно возможность другого и волнует зрителя. Интимная связь актера со зрителями во всем их составе возможна только в минуту выбора, когда же выбор состоялся, то актер, а через него и действующее лицо, связаны с одними лишь своими единомышленниками. Бывает и так, что после выбора единомышленники совсем исключаются — зрительный зал живет общей жизнью с Макбетом, покамест тот колеблется, и все до единого покидают его, когда, наконец, он убивает короля Дункана. Потом только затрудненно и на совсем новых основаниях и только частично Макбету удается снова установить связь со зрителями[221].
Современные драматурги очень любят экспериментировать со временем в драме. Их соблазняют эксперименты, производимые в современных романах. Драматурги, разрушая в драме неколебимый грунт настоящего времени, лишают драму одного из сильнейших ее воздействий. Можно еще понять «Андорру» Фриша, когда в отдельных эпизодах показаны события, далеко выходящие за пределы одного настоящего,— у Фриша при всем том настоящее остается первоосновой драмы, и забеги в будущее тем и сильны, что зрители при этом всецело остаются под властью настоящего, испытывают на себе все его влияние. Когда же время в драме разложено, переставлен по авторскому хотению порядок событий во времени, когда чувство настоящего, как некой сплошной и нас обязующей среды, ослаблено, то драма почти бессильна над зрителем, над его эмоциями. По видимости, трактование времени в драме изменилось уже со времени Ибсена, хотя и несправедливо призывать Ибсена к ответу за поэтику последующих за ним драматургов. «Аналитическая драма» Ибсена, как известно, перемещала центры тяжести сюжета в прошлое. События фа-
247
тального значения произошли еще задолго до первого акта. Драма начинается, и с первого акта приступлено к «анализу» — что дали эти события в настоящем. При этом, бесспорно, значение настоящего в качестве настоящего тускнеет. Настоящее по преимуществу становится средой, пропускающей лучи из прошлого идущие. Люди у Ибсена становятся памятниками собственному прошлому, а так как Ибсен был неравнодушен к учениям о наследственности, то нередко у него экскурсы в прошлое действующих лиц заходили далеко — он тревожит прошлое не только детей, но и отцов, старшего Альвинга, как и младшего.
Но Ибсен никогда в драмах своих не разбавлял демонстрацию событий в настоящем такой же демонстрацией прошлого, как это делают наши современники Салакру или Артур Миллер; у Ибсена строго выдерживалось правило выставлять на глаза наши только то, что глаза способны увидеть сию минуту.
Способ Станиславского обращаться с драматическим текстом прямо следует из его понимания театра как импровизации. В этом свете иные приемы Станиславского, считавшиеся странностью и чуть ли не причудой, становятся до конца обоснованными и понятными. Выпуская законченный спектакль, Станиславский в авторском тексте строго держался того, что дано, не передвигая ни одной запятой, резко отличаясь в этом отношении от мейерхольдовских и от других новаторских постановок двадцатых годов, весьма своевольно пользовавшихся текстом драматического произведения, будь оно даже классичнейшим из классичных. У Станиславского это не исключало самых отважных экспериментов с тем же текстом в период подготовительных работ и на репетициях. Репетиции и спектакль в законченном виде находились у Станиславского в контрасте друг с другом: на репетициях свободнейшее обращение с текстом, в спектакле — строгое послушание ему. Сами нормы послушания вырабатывались на этих бурно богатых изобретательством репетициях.
В рабочих тетрадях Станиславского сказано: «Когда входишь на сцену, не следует прямым путем, заученно, идти на свое место, указанное режиссером, а надо каждый раз и при каждом повторении творчества выбирать или находить себе удобное и привычное место. "Актеры слишком хорошо знают пьесу, надо уметь ее забыть", —
248
говорит Н. В. Гоголь»[222]. Цитата из Гоголя звучит парадоксально. Станиславский не случайно привел ее. Его методика действительно требует, чтобы пьесу забыли, — это было бы поводом звено за звеном вспоминать ее, а вспоминая, как бы создавать ее заново. «Уметь забыть» — с призывом Станиславского поразительно совпадает призыв Мейерхольда. Как сообщается в мемуарах А. К. Гладкова, Мейерхольд говорил, что режиссеру «полезно забыть» пьесу, которую он ставит. Мемуарист, считаем, блестящим образом объясняет, ради чего советовал Мейерхольд «забыть». «То, что он называл «забыть пьесу», вовсе не значило, конечно, совершенно освободить от нее память. Это значило для него, вероятно, необходимость как бы пройти в своем режиссерском воображении тот путь, какой проходила пьеса от замысла до воплощения в творческом сознании автора, и этим сделать ее «своей», чувствуя ее «авторски». «Забывая» пьесу, он, видимо, расковывал и освобождал воображение, которое и начинало совершать работу, параллельную авторскому созданию пьесы»[223]. Объяснение это полностью применимо и к Станиславскому, хотя мы вовсе не собираемся уверять, что оба великих режиссера в одно лицо и что Мейерхольд ничем не отличен от Станиславского, — думаем, наша культура богаче, когда умеет видеть их разность, а не сливает их в единую сущность о двух лицах.
Станиславский хочет уравнять стиль театра и стиль драматургии. И там и тут ничего заученного, актер не должен даже садиться на заученное место да еще с заученными движениями. И как в спектакле все творится ab ovo, «с яйца», так и в драме. Станиславский объявляет войну книге, готовому тексту. Он драму хочет разлучить с книгой и сделать ее верной подругой театральной импровизации. Будем создавать драму строка за строкой, как мы создаем шаг за шагом и наш спектакль. Не беда, что мы будем немилосердно врать, восстанавливая памятью, полагаясь на память, забытый текст. Промахи памяти будут соответствовать ошибкам писателя в поисках слов и выражений, зачеркнутым,
249
чтобы исправить их, местам. Работа над текстом драмы у Станиславского состоит в том, что текст как бы перелагается на язык театральной импровизации, делается по духу, по способу своего существования сообразным ей. Слово «текст» латинское, по корню своему означает ткань, сотканное. Первый же прием, к которому прибегает режиссура, это распускание сотканного. Надо, чтобы текст не подавлял режиссера и актеров своей данностью и сделанностью, для чего вернейшее средство — снова сочинить его собственными силами.
Случается, мы смотрим в театре очень знакомое, «Ромео и Джульетту» например. Непросвещенный сосед по стульям спрашивает: так что же, она потом очнется? И если мы досадуем, то вовсе не по той причине, что зритель не знает Шекспира. Мы сердимся — зачем нас самих заставляют знать и вспоминать. Лучше было бы, если б под сильную игру актеров нам самим казалось, что Джульетта еще имеет выбор и что развязка драмы еще никем не определена.
Голая, оголенная норма для драматического театра — играть пьесу, еще никому не известную, еще не бывшую в печати. Правильнее всего, когда наш собственный день и собственный день драмы совпадают. Персы взяли Милет, и падение Милета актеры изображают на афинской сцене. Актуальность в обоих смыслах ее — современная драма и о современном — прирожденное свойство театра. Разумеется, не нужно из этого делать узкие и агрессивные выводы. Репертуар театра и может, и должен быть многообразным, заключать в себе кроме драм, только что сошедших с пера, и многое другое, драматургию любых измерений прошлого и на любые темы. Норма, о которой речь идет, вовсе не отметает вещи, с ней несовпадающие,— она допускает непохожее, стремясь, однако, в каких-то отношениях подчинить его себе. Так и здесь. Театр ставит вчерашнее, но как если бы оно было сегодняшнее, он ставит давно написанное, как если бы его писали даже не сегодня утром, а в тот самый вечер, когда идет спектакль, шаг в шаг со сценой.
Станиславский исходил из очень важного, меняющего все привычки театра предположения, что театр не есть вторичное, только исполнительское искусство. Театр, по Станиславскому, создает впервые и заново, как литература, музыка или живопись. А самостоятельность театра черпается из того обстоятельства, что он состоит
250
в собственных своих оригинальных отношениях с действительностью. Об этом уже шла речь по поводу замечаний Л. М. Леонидова — откуда актер берет свежие силы, чтобы при повторном исполнении роль его не увядала. Для актера за ролью стоит реальный человек, соприкосновение с ним каждый раз обновляет, но это частность. Для Станиславского, для Художественного театра весь спектакль в целом — и не в одной только отдельной роли, а всем собранием своих ролей — соотнесен с действительностью. За текстом драмы нужно провидеть историческую и бытовую действительность, питавшую тексты. Если ставится «Горе от ума», то нужно выйти за пределы комедии, нужно погрузиться в «дни Александровы», когда комедия писалась, в «дни Александровы», давшие ей и свое содержание. Сначала идет «большой круг» эпохи, потом «малый круг» грибоедовской Москвы, а затем еще меньший круг — дома Фамусова, где все и происходит. В рукописи Станиславского отмечена задача: «Изучение старых домов. Дом Хомякова (многое в нем осталось от 20-х годов). Понять расположение комнат. Большие парадные изолированы от малых жилых комнат. Парадные — холодные, нетопленные, а жилые малые—жаркие, низкие… Окна без форточек (ради тепла и экономии дров). Курильня у Хомякова, масса огромных трубок…»[224]. Особняк Хомякова, как видим, избран моделью для дома Фамусова. Станиславский шел от истории, все ближе и ближе передвигаясь к особому мирку, который трактуется в комедии, и более широкие и более узкие модели для изображенного Грибоедовым нужны были ему. Он искал для всего, что предлагалось текстом, соответственных realia. Впоследствии «метод физических действий» явился воссозданием реальностей, более всего приближенных к драматическому тексту, тех реальных, действенных задач, которые по ходу речей и событий выполняют персонажи. Движение сквозь текст в сторону действительности в разных ее сферах, в сторону действенных сил, подсказавших и внушивших этот текст, отчасти напоминает метод классической русской критики, тоже реальной. Но от Белинского или Добролюбова Станиславский существенно отличен тем, что цель его — не само по
251
себе толкование, а новая художественная практика, практика театра. И драматический текст и спектакль, по этому тексту поставленный, оба восходят к единому первоисточнику — к реальности жизни. Отсюда их относительное равноправие, отсюда для театра полномочия проверять драматический текст и относительная свобода воспроизводить его средствами своего искусства. Единый источник — отсюда и побуждение импровизировать текст, идя от этого источника. Отдельные персонажи комедии Грибоедова перебираются Станиславским, как если бы он хотел заново переписать каждого, — пусть все и совпадет в конце концов с данным нам у Грибоедова, однако нужно повторить по-своему его работу. И вот у Станиславского собственной мыслью опробованный персонаж из Грибоедова: «Кто такой Фамусов? Не аристократ. Его жена — аристократка. После двенадцатого года все аристократы уехали в Париж. Другие жили в Петербурге, а в Москве — помещичье дворянство. Ф[225]амусов — бюрократ».
Станиславский обращается с Фамусовым, с Чацким, Хлестаковым, как Мейерхольд с Пименом-летописцем, — по рассказу А. К. Гладкова о подготовительных работах к «Борису Годунову» Пушкина[226]. Оба они, и Мейерхольд и Станиславский, исходили из положения, что персонажей этих, собственно, еще нет, приходится как бы впервые примеряться на них, вступая в полемику с принятыми способами толковать их, изображать их, вступая иной раз в полемику с самими авторами, которым случалось обознаться, принять своего же героя не за того, кем он был на самом деле.
Самый текст драмы Станиславский надеялся установить со своими актерами тоже на собственных путях, отправляясь вместе с автором от тех же реальных положений, от тех же фигур и от той же психологии. Он заставлял актеров самих сочинять слова, как подскажут им душевный опыт и реальные положения. Мы встречаемся здесь с той же его идеей роли, которая сыгралась сама собой: актер несет в себе импульс, стремящий его через всю пьесу, внушающий ему действия и
252
речи, позднее только сверяемые с теми, что значатся у автора. Наконец, Станиславский проделывал опыты подойти к словам текста, на время совсем отказавшись от слов, наговаривая только мелодику будущих фраз, их интонации, их ритм. Метод получил свое название — «тататированье», пугающее, если нет предварительных разъяснений. «Чужие слова автора или зафиксированные слова самих учеников мы заменяем произвольными, ничего не выражающими слогами, вроде тех, которыми пользуются при передаче знакомой музыкальной мелодии песни с незнакомым словесным текстом. Тогда мы поем: «та-та-ти, ти-ра-та-ти, тара-та-та» и проч. Отсюда и самое название приема «тататирование».
Я не могу вам объяснить, почему заболтанный словесный текст роли мертвит интонацию и суживает звуковой диапазон, а «тататирование», наоборот, оживляет интонацию, расширяет диапазон речи и освобождает ее от скованности и условностей.
Я могу только на основании практики уверить вас, что на деле происходит именно такое чудодейственное превращение»[227].
В дневниках Блока, очень тяготевшего к Станиславскому, хотя тот и чуждался его поэзии, есть запись от 11 октября 1312 года, сделанная со слов М. И. Терещенко и А. М. Ремизова: «Были они с Ремизовым в Москве; о студии Станиславского: актерам (молодым по преимуществу) дается канва, сюжет, схема, которая все «уплотняется». Задавший схему (писатель, например) знает ее подробное развитие, но слова даются актерами. Пока — схема дана Немировичем-Данченко: из актерской жизни в меблированных комнатах… Так же репетируют Мольера (!), предполагая незнание слов: подробно обрисовав характеры и положения, актерам предоставляют заполнить безмолвие словами; Станиславский говорит, что он уже почти приближается к мольеровскому тексту (узнаю его, восторженный человек!)»[228].
Последнее замечание Блока самое главное: Станиславский рассчитывал, что, приступая к делу с теми же, что у Мольера, предпосылками, с теми же напутствия
253
ми, полученными из жизни, актеры сами без Мольера выведут мольеровский же текст. Он крепко верил в непогрешимую логику органического развития, в ее полную воспроизводимость. А если бы и не так, если получен был бы текст, только очень приблизительно сходный с Мольером, то и тогда весь опыт был бы оправдан. Полученный текст можно было бы потом поправить на текст Мольера и в спектакле выпустить актеров, твердых в этом классическом тексте. Зато весь опыт «выращивания» текста собственными средствами — Станиславский очень любил термин «выращивание» — не пропал бы даром. Актеры провели бы столько времени, общаясь с этим текстом, что весь он стал бы для них движением, сплошной жизнью. Они как бы соприсутствовали при писательской работе Мольера, у них была эта иллюзия, им могло казаться, что комедия Мольера хотя бы отчасти — их собственная импровизация, их общее с Мольером дело, а этого именно и желал от них Станиславский.
От древнего оратора Алкидамаса осталось рассуждение: какая речь лучше и выше — предварительно написанная или импровизированная тут же, в самом ораторском выступлении. Алкидамас очень основательно отвечает: импровизированная выше, ибо и в том случае, когда оратор выступает в суде по писаному, то и тогда он старается вызвать впечатление, будто речь его — плод свободного вдохновения. Короче говоря, сила импровизации в том, что она сама по себе и никому не подражает, а писаная речь подражает ей. Станиславский требует от писаных речей в устах актеров еще большего: не притворяться, будто они импровизация, а и на самом деле превращать в импровизацию эти речи. По Станиславскому нужен долгий и трудный искус импровизации, прежде чем актер берется за готовый текст драматурга.
С общим пониманием, что такое слово на сцене, связано и все вложенное Станиславским в понятие и в термин «подтекста». Разумеется, в практике драматургии и в практике театра подтекст существовал еще задолго до того, как назван был этим именем. Он попал в кругозор теории, ибо получил ко времени Художественного театра широкое распространение. Сама театральная мысль Станиславского всем общим направлением своим побуждала его узаконить явления, получившие это
254
имя подтекста, и уделить им внимание, заслуженное ими. Подтекст получил такое определение у Станиславского: «Это не явная, но внутренне ощущаемая «жизнь человеческого духа» роли, которая непрерывно течет под словами текста, все время оправдывая и оживляя их»[229]. Трактовка всей жизни, охваченной драматическим произведением, как процесса, как чего-то далеко не сразу приходящего к законченным формам, неспокойного в них, целиком относится и к подтексту. Сфера подтекста — драматический диалог, общение людей в драме, слова, через которые оно совершается. Подтекст — указание на то, что общение глубже слов, область переживаемого человеком, когда он предоставлен самому себе, глубже общения, дозволенного общением, принятым как норма для него. Станиславский говорил: «Но не забывайте, чем проложена, с какими мыслями сплетена произносимая вслух реплика. Имейте в виду, что человек высказывает десять процентов того, что гнездится в его голове, девяносто процентов остается невысказанным. На сцене об этом забывают, орудуют только тем, что произносится вслух, и нарушают жизненную правду»[230].
Может показаться странным, однако же истина такова, что развитие подтекста — спутник развития художественного реализма в драме. Этот скрытый смысл реплик, диалогов, а также мимики, жестов стал по-особому активным именно в пору более полного господства в драме поэтики реализма. Драматургия классиков, просветителей, романтиков, писателей менее определенных стилей отличалась нечеткостью слова и жеста. Что только подразумевалось, что по всем обстоятельствам действия таилось и не могло не таиться, то в этой старой драматургии необдуманно выставлялось напоказ, выплывало наружу. Не было отчетливого разделения на явное, публичное, и скрытое, скрытное. И то и другое перепутывалось, порой довольно наивным образом. Персонажи исповедовались друг перед другом, хотя признания эти могли быть вредны обеим сторонам. Заметным орудием драмы служили монологи, реплики в сторону, глухо, «в бороду» произнесенные про себя персо-
255
нажем слова. Собственно, всей речевой частью драмы управляла одна всепоглощающая потребность: через диалоги и другие формы высказывания двигать действием, проявлять до конца отдельные стадии его, отмечать желания действующих лиц, их настроенность в отношении друг друга. Персонажи общались на сцене и ради того, чтобы высказать друг другу все практически необходимое, а еще более ради самой полной информации зрителя обо всем перед ним происходящем. Одно назначение слов и жестов — действенное, было едва отделено от назначения информационного, обе формы сливались, актер в равной мере являлся лицом, которое словами воздействует на другое сценическое лицо, и рассказчиком перед зрителями о событиях, поставленных на сцене. Драма реалистов, начиная с Ибсена, провела очень строгий и последовательный раздел, отчасти обозначившийся еще и до Ибсена у немецких драматургов с полуреалистическими тенденциями — у Клейста, у Геббеля. Действующие лица у реалистов произносили лишь те слова и фразы, которые нужны были по духу действия для практической связи их с другими действующими лицами. Слово, обращенное собственно к зрителям, слово живописующее, информирующее, лирическое, исповедальное, сокращено было до минимума. Речевые условности так и бывали представлены в качестве условностей. Когда Чехову в «Чайке» нужно было дать слово главному лицу, Константину Треплеву, то вместо традиционного лирического монолога за Треплева говорит Нина Заречная: с подмостков, сооруженных на подмостках же, эта молодая актриса декламирует вступление к драме, написанной Треплевым. Таким образом, монолог, если и появляется у Чехова, то как бы поставленный в кавычки, подчеркнутый в качестве нарочно сочиненного монолога. У Чехова персонажи очень часто произносят тирады не к месту, но это дано как забывчивость их, чудачество, так или иначе странное недержание речи. Основа же диалога у Чехова — речь в пределах делового и житейского общения. У Ибсена, Гауптмана, Чехова на сцене сохранилось лишь слово, как оно применяется в действительной практике жизни, слово, диктуемое прямыми предпосылками минуты и ситуации, слово — просьба, слово — приказ, слово — точное и короткое воздействие на кого-то другого. Все же прочее, что содержалось в традиционной драматургии, у
256
новых писателей оказалось за пределами слова, в подтексте. Невмещаемое в данную минуту, дальние замыслы персонажей ушли в подтекст. Станиславский говорит: «То, что в области действия называют сквозным действием, то в области речи мы называем подтекстом»[231]. Предшествующая история персонажей, следы их прошлого, их личность и характер в целом, то, ради чего прежде существовал монолог, все это опять-таки стало областью подтекста. Вл. И. Немирович-Данченко сказал на одной репетиции: «Даже когда птица ходит, видно, что она умеет летать»[232]. В данном случае мы бы сказали: птица ходит — об этом смотри в тексте, о том, что она умеет летать,— смотри в подтексте. Ситуационное — в тексте, а в подтексте — обобщенное. Но в подтекст ложится и все чрезвычайно индивидуальное. Потаенное, то, что люди держат про себя, как лирически-возвышенное, так и по той или другой причине постыдное, грусть о самих себе, несмелые желания — все, все опять-таки можно найти в подтексте. Низкое или высокое, но боящееся публичности, прячется в подтекст, находит там для себя убежище. В новой реалистической драме раздел таков: в словах — практическая жизнь людей, ею требуемое и ею нормированное. Все остальное — без слов, на правах того, что подразумевается, что угадывается. В словах — бедные, официально допускаемые итоги жизни людей, в подтексте — все, что итогам предшествует, но только малой долей входит в них. Театр переживаний, конечно, все внимание свое направил на подтекст, тут полностью сказалась его художественная программа — играть не итоги жизни, а путь к ним, «замыслов событие», как говорится в одном стихотворении Тютчева: «событие», слово, в котором у Тютчева яснеет его отглагольное происхождение — от глагола быть, бывать, сбываться. Станиславский: «Лишь только люди — исполнители симфонии или пьесы — оживят изнутри своим переживанием подтекст передаваемого произведения, в нем, так точно, как и в самом артисте, вскроются душевные тайники, внутренняя сущность, ради которых создавалось творчество. Смысл творчества в подтексте.
267
Без него слову нечего делать на сцене. В момент творчества слова — от поэта, подтекст — от артиста. Если 6 было иначе, зритель не стремился бы в театр, чтоб смотреть актера, а сидел бы дома и читал пьесу»[233].
В драме поэтическая ценность слова создается на иных
началах, чем в эпосе или в лирике. И эпос и лирика любят поэтический троп, их
постоянный пособник — метафора. Драму троповая речь, любование словом тяжелят.
Нужны специальные усилия автора, чтобы украшенная речь казалась терпимой в
драме, находилась в равновесии с поступательным ходом событий. Пример такого
трудного равновесия — трагедии в стихах А. К. Толстого, входившие в репертуар
Художественного театра. Как правило, драма не любит троповой речи. В драме
перед нами натурный человек. Нельзя преуменьшать его натурность, нельзя его стилизовать.
Слово в драме должно равняться на удельный вес его в обиходе натурного человека.
Речь с поэтическими тропами — абсолютизация слова, все дается через слово, ничего
нет, кроме слова. Драма — релятивизм слова, сквозь слово должны проглядывать
человек и реальности вокруг него. В драме Гауптмана «Одинокие», акт второй,
Иоганнес Фоккерат объясняет Анне Map, что она для него значит. Это поистине
похоже на степь, на которую пролился дождь. Это… И тут
258
Художественная ценность драматической речи создается не внутри самой этой речи, а в соотношениях между сказанным в ней и несказанным, между текстом и подтекстом, между поверхностями, что покрыты словами, и теми, что не покрыты. Примечательно, что именно поэтика реализма в драме придала новую силу драматизму, трагизму, лиризму, душевному содержанию. Здесь сказанные персонажами слова — по характеру своему житейские, прозаические, случайные, а за словами стоят поэзия, необыденность, судьба, в словах — бедность, за словами — богатство; контраст стоящего за словами и представленного в самих словах может порождать и порождает величайшие и тончайшие художественные эффекты. Несравненным мастером их был Чехов. У него из соприкосновения текстов с подтекстами возникают постоянно большие и малые чудеса. Обыденные фразы, обыденные движения даны так, что сквозь них проглядывают самые значительные из человеческих переживаний. Очень важны интонации. Самая бесцветная из интонаций придается фразе, в которой содержится потрясающее присутствующих трагическое известие. «Чайка» кончается информацией, которую приносит доктор Дорн: «Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился».
«Дело в том» — самая будничная связка, ради перехода к разъяснениям. Дорн пользуется ею, чтобы не пугать людей траурной рамкой раньше, чем они узнают, чье имя заключено в нее.
В старом сценическом искусстве, любившем прямые открытые речи, подтекст обладал своеобразным действием: уходившее в подтекст потом вырывалось снова оттуда, наделенное еще большей силой, звучащее с более жестокой откровенностью, чем это было до подтекста. Воспоминание В. И. Живокини о том, как П. С. Мочалов играл в драме Шиллера «Коварство и любовь»: «Другого такого Миллера не видел я, да и не увижу. Он, например, ругнул президента словом «Ваше превосходительство» так, что, кажется, не сыщешь в нашем русском языке ни одного бранного слова, которым можно было бы обругать так сильно»[234].
259
Подтекст позднейшего времени был началом великого переворота в актерском искусстве, из отдельной детали он превратился в целую систему актерской игры у Дузе, Моисеи, Орленева, Комиссаржевской, актеров Художественного театра. Прежде всего, он очень утончил актерский стиль, совершенно отлучил от театра актеров, любителей громогласия и размашистых жестов. Стали невозможны рев и грубиянство в трагедии, жирное буффонство в комедии. Великая актриса эпохи подтекстов Элеонора Дузе говорила: сценическое искусство это канат, сплетенный из ниточек. Разумеется, так не сказала бы ни Адриенна Лекуврер, ни Рашель, так могла сказать актриса, игравшая Ибсена.
Тенденция в сторону богатых, развитых подтекстов подчас получала своеобразнейшее выражение. Многие драмы Гауптмана, одного из любимых драматургов раннего Художественного театра, в отдельных своих кусках или целиком писаны на немецких местных диалектах. Полагаем, тут по-особому проявила себя тенденция драматургии этого периода к незавершенности сценической речи. Диалект — полуязык, известное косноязычие свойственно на диалекте говорящим. В диалекте отсутствуют эстетическая, моральная утонченность и изощренность, выработанные в языке литературном. Диалект — это мычание Шлюка и Яу в известной комедии Гауптмана, диалект — это говор полустихийных, полуочеловеченных существ в «Потонувшем колоколе» его же, это способ изъясняться, найденный там для старухи лесовички, например. Надо думать, «Ткачи» написаны на силезском диалекте не по мотивам примитивного натурализма: пусть говорящий дома по-силезски говорит по-силезски и со сцены. Диалект в этой драме хорошо передает народное движение в его зачаточных формах, с его еще не прояснившимся сознанием, с его внутренней связанностью. Драматургия, современная Гауптману, да и драматургия самого Гауптмана, сообщая актуальность подтексту, демонстрировала, из каких темных, а то и темнейших глубин и недр индивидуального сознания идет текст, идут слова и речи персонажей. Диалект показывал то же самое в отношении целых групп людей. Диалект был их языком, взятым в его движении. Он еще не дошел до своего искомого предела — до языка общенационального и литературного со всей культурой, свойственной ему. Диалект — язык на стадии групповой
260
своей невыработанности. Как Гауптман в драмах своих, написанных на языке литературном, охотно показывает заторможенность речи у персонажей, поиски ими нужных слов и выражений, так и в этих диалектальных драмах показано то же самое: целые группы людей не нашли еще своего точного языка, бродят где-то в потемках, на подступах к нему, ищут, ощупывают дверь, которая привела бы их к лучшему выражению чувств своих и мыслей. Становящаяся речь — один и тот же художественный принцип действует и в одном случае и в другом. В конце концов, это принцип, с настоятельностью выдвинутый этой эпохой театра и драматургии.
Конечно, мотивы «текста» и «подтекста» относятся не только к области драматического слова. В отношении слова они первоначальны, но их значение распространяется на жизнь драмы в целом ее. И в движениях, в жестах, в мимике, в строении мизансцен можно наблюдать ту же сложную игру «текстов» и «подтекстов». Большое значение приобретает в Художественном театре немая игра. Обычно в ущербленном виде подтекст все же прорывается в текст… При немой игре дело и не доходит до слова, перед зрителями до конца обнажается в таких случаях внутренняя жизнь людей, предпосланная их речи и речам, сохранившая вид, который имела она до встречи с речью, до преломления в речи, до преобразования в ней и через нее. Любопытны очень ранние театральные записи Станиславского, относящиеся еще к середине восьмидесятых годов: он очень внимательно описывает немую игру Музиля, актера Малого театра, мимические и жестовые паузы Киселевского[235]. Уже тогда Станиславский придает всяческое значение всему вне-словесному и до-словесному в театральном искусстве.
О «тексте» и «подтексте» можно говорить и применительно ко всему строению драмы, к ее общей теме и сюжету. Примером может служить известная драма того же Гауптмана «Михаэль Крамер», поставленная в Художественном театре в 1901 г. со Станиславским в роли старшего Крамера и Москвиным в роли младшего. Сюжет ее таков: Крамер-младший, некрасивый юноша, «гадкий утенок», смертельно влюбился в Лизу
261
Бенш, дочь ресторатора, красивую девушку, которая прислуживает в отцовском заведении. Арнольд все ходит и ходит туда. У Арнольда Крамера постоянные, кровью пахнущие столкновения с компанией вокруг Лизы. К среде этих людей, самодовольных, благоустроенных, сытых, пошлых, принадлежит и жених Лизы. На «гадкого утенка» эти господа устраивают настоящую охоту, дело кончается его самоубийством. Лиза тоже примкнула к ним, не могла же она уважать этого мальчишку, у которого не было даже карманных денег. Внутрь этой скорбной и малоприглядной истории проникла другая история, куда более содержательная. У Гауптмана за одними значениями скрываются другие, что не препятствует ему в этой драме оставаться строгим реалистом, не имеющим касательств к символизму. Вторые скрытые значения в этой драме находятся в прямой жизненной связи с первыми, более явственными. В некой малой истории скрывается большая история; разница между скрытыми значениями и простыми явными прежде всего в масштабах, в степени свободы, с какой они в одном и другом случае развертываются. То, что в житейских эпизодах представлено сдвинутым, согнувшимся, суженным, ущербленным, потерявшим масштаб, то во внутреннем своем значении распрямляется, вырастает, обретает свободный язык, переходит на масштабы больших событий и коллизий. Дело в том, что Арнольд Крамер — художник и сын художника. Дело в том, что Арнольд Крамер — несомненный гений, с правдивыми чувствами, с запросами к жизни, в которых есть нечто очень мощное и категорическое. Он требует счастья и свободы. Ему настоятельно нужны энергия жизни и чувственные радости. Без них нет ни его самого, ни его искусства. А строгий, очень строгий отец его, Михаэль Крамер не признавал и не признает этой светскости, этого язычества, которые так безусловны в сыне. Михаэль Крамер — добросовестный живописец, потом и кровью выслуживающий себе некоторую талантливость. Его ученики по живописи, собственная дочка и некий Лахман, совсем завяли, подчиняясь дисциплине, наложенной на них. Малая даровитость здесь не есть следствие аскетизма, скорее обратное: аскетизм выражает ее, служит ей самозащитой.
История Арнольда Крамера — история художественного гения в наши дни. Жизнь лишена цельности. Ли-
262
бо отцовский аскетизм, скука мнимой одухотворенности, этика, из которой ушла жизненная сила, либо чувственность, представленная свинскими физиономиями из ресторана Бенш, жизненность, если угодно, но враждебная всякому этическому сознанию. Повсюду недовыполненность, скудость, некрасивость текста сравнительно с подтекстом, всюду подтекст, который не взошел как было бы должно. Арнольд Крамер, живущий ради красоты, сам безобразен. А Лиза Бенш в драме есть нечто большее, чем какова она по своим житейским обстоятельствам. Арнольд Крамер любит в ней радость жизни и видит в ней эту радость. Но в каком же упадке радость жизни! Быть может, Лиза Бенш и довольно незлая девушка, а все-таки никогда она не отстанет от своих вульгарных идей, не оторвется от собственного отца, от его ресторации, от своих омерзительных приятелей и поклонников. В сюжете драмы есть свой единый сплошной подтекст, он колотится о скорлупу текста, и напрасно. Мы наблюдаем, как в новой драме духовное содержание жизни отделилось от заключавших его бытовых форм; в сопоставлении с ними возросли его интенсивность и его художественная выразительность; и то и другое не спасало его от практической коллизии с бытовыми формами, развязка которой была жестокой и гибельной.
Пора особо обсудить, что такое была режиссура в Художественном театре. Со Станиславского начинается династия великих режиссеров в Европе и в России, а театр Станиславского считался в первую голову театром режиссуры. Многое о режиссуре уже подготовлено через обсуждение, в чем состояла суть театра и актера по Станиславскому и как по Станиславскому нужно было понимать суть драматургии, которая служила и поводом, и целью для законченного театрального представления. Станиславский различал партитуру отдельных ролей и единую партитуру спектакля[236].
Именно единая партитура делает неизбежным вопрос о режиссуре. Покамест идет работа с отдельными актерами по отдельным ролям, еще очень далеко до самого понятия режиссуры. Ведь и Шаховской с Катениным репетировали с Колосовой, а тот же Ша-
263
ховской и Гнедич — с Екатериной Семеновой, и вся мужская эта тройка оставалась на положении дилетантов, хотя и усердных относительно театра и театрального искусства.
Что нужен какой-то устроитель спектакля в целом, что нужен ансамбль — эта идея тоже не была нова. Русскому профессиональному театру она была ведома еще в его первоначальном периоде. Директор театров Иван Перфильевич Елагин однажды отнесся с письмом к самому Потемкину, где высказался, насколько необходим дух согласия в большом спектакле, насколько нужен ради этого «управляющий» актерами, ибо сами актеры к согласию неспособны — им «препятствует» зависть к прибыткам и почестям»[237].
Человек более поздних времен, драматург и переводчик Н. И. Ильин писал о знаменитом актере И. А. Дмитревском: «Он знал, что всякое драматическое сочинение должно быть сыграно, подобно концерту, в котором тоны различных инструментов так искусно слажены, что составляют одно целое, пленяющее слух и восхищающее сердце и душу»[238].
Ильин произнес характерное и надолго роковое слово: концерт. В том-то и дело, что до Станиславского цельность спектакля мыслили как некий концерт, в котором все номера и все участники хороши, прорех и недоделок нет. Идеалом и нормой была чисто исполнительская слаженность опектакля, где всяк умеет занять свое место и производить наилучшим образом, что место велит. Спектакль отчетливо расчленялся на выходы и входы, на «явления» персонажей, различимо отделенные одно от другого. В высокой трагедии актер, отговорив свои тирады, подымал руку и с поднятой рукой удалялся за кулисы. Поднятая рука — знак раздела: я время и место занимал от сих до сих, я свое сказал, теперь черед другому, а с вами, зрители, я до новых выходов прощаюсь.
В мемуарах Ф. Н. Каверина пересказано, что он слышал о постановочных традициях Малого театра от И. С. Платона, старого театрального человека, видавшего театральные виды. «…Полагалось, чтобы каждый
264
персонаж появлялся в первый раз на сцене непременно лицом к зрительному залу. Все двери в декорациях делались в соответствии с этим требованием, а не по каким-либо архитектурным, бытовым и прочим соображениям. Здесь театр. Актер тщательно продумывал костюм, грим, позу, чтобы в двери, как в раме, продемонстрировать своего героя, а потом показывать его жизнь, его характер. Не только встать на сцене спиной к зрителю, но даже пройти между действующим лицом и публикой считалось преступлением. Говорить на ходу нельзя: сначала встань или сядь, потом скажи всю фразу. А затем, в паузе, ходи, волнуйся. Эти правила одинаково соблюдались и в «Лесе» Островского и в «Проделках Скалена» Мольера»[239]. Кажется, нельзя лучше, нежели это сделано здесь, передать, как понимала сцену старинная режиссура, — режиссура до режиссуры. Сцены, собственно, нет, есть некоторое сходство со сценой в современном виде ее. Сцена — это эстрада, приспособленная для отдельных выступлений актеров, на которые довольно заметным образом распадаются и спектакль и пьеса. Сценическая площадка построена так, чтобы каждому актеру дана была своя самостоятельность. Двери для него — обрамление, они обособляют и подчеркивают его. Двери как бы посылают его, от них он идет на партер, на публику. Сначала встань или сядь, потом скажи: это означает самостоятельность актерской тирады, поза, жест выделяют ее как тире, красная строка сделали бы это на печатной странице. «Концерт», о котором писал тот драматург давно минувших времен, состоял во взаимном невмешательстве актеров, каждый играл, держась своих границ, не заходя на территорию соседей. Спектакль следует чистой логике исполнения без должного внимания к тому, что именно исполняется. Мизансцена — прежде всего удобное для актеров размещение их на сценической площадке, безотносительно к тому, какие изображаются лица и события. И. С. Платон объяснял Ф. Н. Каверину, что такое по древнейшим понятиям мизансцена: «Делается, душечка, очень просто… "Железная стена". Последний акт. Сцена короля с сыном. Кабинет. Письменный стол. Король —Южин, принц —
265
Остужев. Александр Иванович глух на правое ухо, Остужев — на левое. Надо их повернуть к суфлерской будке так, чтобы им было слышно. Вот вам, душечка, и мизансцена»[240].
С законченностью, только анекдоту свойственной, здесь преподносится некая концепция, по которой мизансцена всего-то навсего взаимное приспособление актеров, равнодушное к самой пьесе, к происходящему в ней. Мизансцена — маленький заговор актеров против зрителей, которым отводят глаза, чтобы они не могли заметить актерские недуги и слабости.
Известный разбор спектакля Малого театра «Таланты и поклонники», сделанный Ю. М. Юрьевым, в конце концов показывает то же самое. Юрьев хотел описать ансамбль, а на деле описал, как отдельные хорошие актеры играли свои отдельные хорошие роли, иногда пересекаясь в исполнении друг с другом, а чаще вовремя и умело уступая место один другому, когда наступал его черед апеллировать к зрительному залу. Так и идут вереницей в обзоре Юрьева эти мастера играть Островского, прославленные актеры 80-х годов, — Ермолова, Ленский, Садовская, Южин, Музиль, К. Рыбаков[241]. Злосчастная привычка наших критиков и историков литературы, усвоенная от них средней и высшей школой, разрывать литературное произведение на «образы», то есть на характеры действующих лиц, частично поддерживалась самим искусством. Никакого спектакля Юрьев не рассказал и не мог рассказать. Вместо этого он неспешно проследовал вдоль отдельных ролей. Очевидно, само построение спектакля предрешало метод разбора.
Для старинного понимания театр был искусством всецело исполнительским, и -к нему применялись чисто исполнительские критерии. Актер играет либо хорошо, либо дурно, за исполняемое он не отвечает, духовное и художественное качество исполняемого не в его руках. Хороший ансамбль означал виртуозность, равномерно распределенную среди всех участников спектакля, независимо от того, главная или неглавная
266
то была роль. «Кушать подано» или «лошади вас ждут, сударь» — и эти роли тоже сыграны как подобает.
Режиссура в понимании Станиславского и Немировича безмерно поднялась над этими простыми функциями надзора за актерами и согласовывания актеров друг с другом по ходу спектакля. Те или другие частности эстетики Станиславского следовали из ее исходного пункта: театр имеет собственную свою связь с действительностью, театр — самостоятельное искусство в силу этой связи. Своя собственная связь с реальностями жизни — условие, без которого нет творческого начала. Действительность из вторых рук — и ты всего лишь наполнитель, ты сам общаешься с нею, и в этом залог собственного творчества. Напомним, актеров Станиславский заставлял играть не роль, но сквозь роль — того самого человека, с которого роль писана, и так Станиславский развязывал актера. Что же касается спектакля, ансамбля, которым держится спектакль, то Станиславский поворачивал их к реальной жизни как целому. Партитура роли — отдельные существования, партитура спектакля — весь массив существования людей, все переплетения их совместной жизни, и, более того, небо над людьми и земля под ними, территория, ими обитаемая, их среда социально-историческая, культурная, бытовая, их неотделимость от нее. Известное равноправие с литературой, добытое Станиславским для театра, нисколько не отчуждало эти искусства друг от друга. Театр, почувствовав самого себя, свою свободу в отношении литературы, тем смелее следовал за нею, надеясь собственными средствами освоить лучшие завоевания, сделанные в прозе и в стихах. Единство спектакля — это мир и жизнь, представленные со стороны внутренней общности своих явлений, наподобие того, что дано бывает в романе, в повести, в поэме. В искусстве XIX века, особенно в романе, особенно в романе русском, сложилось огромное умение изображать жизнь общества, нации, эпохи в целом, единую при всех тягчайших коллизиях, которым она бывает подвергнута. Именно к этому цельному образу среды и эпохи в романах Бальзака, Гюго, Диккенса, Золя, Тургенева, Флобера, Гончарова, Л. Толстого и Достоевского восходит идея ансамбля, какой рисовалась она Станиславскому в его театраль-
267
ной практике и теории. Прежде понимание ансамбля как поголовного виртуозного совершенства всех участников спектакля было формальным, с одной стороны, оно было чересчур бесспорным, не составляло никакой проблемы, с другой — нуждалось в том, чтобы его соединили с конкретностями жизни :и искусства. Ведь никто не станет дивиться, что у Диккенса все персонажи выводятся с художественной силой, нет захудалых в рассуждении авторского мастерства, приложенного к ним, нет персонажей, которые .были бы упущением, пробелом, незанятым местом. Достоинство это подразумевается само собой, так должно быть и в спектакле. Само наличие ансамбля еще не составляет заслугу спектакля, мы спрашиваем, что ансамбль выражает, какую картину жизни он несет, какой стиль ей придан[242].
В одной недавней статье говорится, что такое режиссура: «Режиссура — это связь. Связь людей, характеров, судеб на сцене. Художественная ее природа проявляет себя в сценическом действии, смысл которого выходит далеко за пределы буквального содержания изображаемых событий, суммы поступков действующих лиц и реализуется в движущемся, развивающемся образе спектакля»[243].
Режиссура — это связь актеров друг с другом, тесная духовная связь, которой добивался Станиславский, связь от глаз к глазам, от дыхания к дыханию, связь актеров с бытом, с природой, с эпохой, изображенной у драматурга, с собственной эпохой актеров. В спектакле содержится не только жизнь, поступившая в него по каналам отдельных ролей, отдельных актерских исполнений, но и жизнь, вне ролей лежащая, жизнь ландшафта, вещей, жизнь, соединяющая человеческие образы друг с другом, и жизнь, образа не имеющая, все это тоже вливается в спектакль. Единой жизни соответствует и единое восприятие ее, оно-то и есть строго собственная область режиссера. Работа его с отдельными актерами может рассматриваться как
268
нечто предваряющее это сводное восприятие и сводной чувство.
В режиссерском театре столкнулись два направления, оба они и по сей день оспаривают друг у друга власть над театральной жизнью.
Думаем, одно из этих направлений очень сильно обрисовано в известном романе Джорджа Дюморье «Трильби», который вышел в свет в 1894 году, незадолго до рождения Художественного театра. Роман и у нас и за рубежом был переделан в театральную пьесу. Старые театралы, вероятно, помнят еще о триумфах Григория Ге и одного из Адельгеймов, Рафаила, разъезжавших с «Трильби» по России. Но роман «Трильби» связан с театром не одними лишь инсценировками. Надо полагать, автор стал бы возражать, услышь он, что в романе его «Трильби» театр, внутренние дела театра и являются подлинной темой. Даже точнее: тайная тема романа — режиссура, хотя и представленная в романе "через человека, который не имел прямого отношения к этому мало популярному тогда искусству. Этот человек — Свенгали, по профессии музыкант, лицо странное, в котором есть и гений, и демонизм, и шарлатанская страсть к мистификациям. Милую девушку Трильби, натурщицу парижских художников, он непонятным способом превратил в великую вокалистку со всемирным именем. Она была на редкость немузыкальна, но в физиологии ее голоса Свенгали почувствовал необыкновенные певческие возможности. Свенгали возит Трильби по столицам Европы, и всюду концерты ее вызывают необузданный энтузиазм. Однако же карьера Трильби завершается катастрофой. Начинается один из ее концертов, как всегда, при огромном стечении народа. Трильби хочет петь — и не может, у нее вырываются дикие, грубые звуки, менее всего похожие на музыку и пение. Голос ее вернулся к первобытности и немузыкальности, как это было еще до союза ее со Свенгали. Разгадка того, что происходит, в одной из боковых лож: там сидел Свенгали, он скоропостижно скончался от паралича сердца, и никто еще не заметил этого. Свенгали посылал Трильби свой гипноз, под гипнозом Свенгали она пела и пленяла. Гипноз кончился, и Трильби как певица тоже кончилась навсегда. История Свенгали и Трильби — предвосхищение режиссерского театра,
269
первые очертания его, миф и легенда о нем Свенгали — мрачное, романтическое предвестие, в мир идет новое искусство, странное и еще неведомее. Гамлет корил Розенкранца и Гильденстерна, зачем те хотят играть на нем, как на флейте. Свенгали только тогда художник, если он заставил кого-то другого служить ему инструментом. Сам Свенгали ничего не может, когда же ему придано орудие в виде живого человека, Свенгали может все. Необычность художественной деятельности Свенгали та, что помещается она в ком-то другом, не в самом маэстро. Демонизм примешан к личности Свенгали не случайным образом. Отчасти это дань новизне, отражение небывалости — появились профессия, вид труда, источник славы, до недавней поры никому не известные; уже со времен древнейших новый вид занятий и новый вид умения казались подозрительными. Кто-то один умеет и знает, чего не умеют и не знают остальные, — этот человек уходит из-под контроля и может употребить во зло свои преимущества. Но в Свенгали схвачено такое, что искусству режиссуры, руководству людьми на сцене, приписывалось и много позднее и что на самом деле входит в довольно устойчивый тип этого искусства. В романе Дюморье Свенгали — деспот, душевладелец, Трильби жертва его, она духовно отравлена Свенгали и сходит в могилу вскоре вслед за Свенгали, так как жила его волей и магией. В пору процветания режиссуры героям ее приходилось слышать тяжкие обвинения: и поработители они и дрессировщики, отнимающие волю у своих актеров и навязывающие им свою. Так судили и о Станиславском, и о Мейерхольде, и даже о Таирове, который в режиссерстве бывал либеральнее своих коллег. «Свенгализм»— гипербола, преувеличенное обобщение той режиссуры, которая на первых порах была неизбежной, ибо она не могла не начинаться с известного диктаторства. Известный «свенгализм» был свойствен и Станиславскому, но Станиславский все уходил и уходил от него. В первом своем периоде Станиславский принимал режиссерское единство спектакля как режиссерское единодержавие, как приказы, отдаваемые сверху и внизу выполняемые. Он писал жесткие режиссерские планы, в которых все в спектакле было чересчур предустановлено и предусмотрено. Актеров он учил тогда «пока-
270
зом», Станиславский блистательно «показывал» актерам, что играть и как играть, но чем блистательнее он делал это, тем меньше автономии оставалось актеру и «показ» приближался по-своему к внушениям Свенгали. Позднее Станиславский прекратил практику «показов» и прибегал к ней в отдельных только случаях, терпеливо добиваясь, чтобы актер сам, собственными силами и разумением достиг искомого.
Пусть «свенгализм» — один тип режиссерства. Тогда другой можно уподобить методам Сократа — философа, какими они известны нам по диалогам Платона и пo другим античным памятникам. Сократ воспитывал в своих последователях духовную самостоятельность. Он будил людей, убеждал их всмотреться в собственный внутренний мир, указывал им на лучшее в них, чтобы и сами они умели ценить и развивать это лучшее. Сократ взял на себя миссию способствовать чужой мысли, чужому философствованию. Сын повивальной бабки, он по-своему продолжил материнские занятия и применил науку повивания, «майевтику» к мыслям, которые производили его сограждане, помогал мыслям родиться, выйти на свет неповрежденными и потом старательно ходил за ними. Сократический метод добр. Он поощряет: живи мыслями собственного разума, духовностью собственного духа, тебе дается воспитатель и помощник, чтобы угадывать твои же собственные движения и чтобы укреплять их. У Станиславского, конечно, победил сократовский метод. Чем полнее раскрывался перед Станиславским истинный замысел его искусства, тем меньше там было места для «свенгализма». Направление это мало соответствовало принципам реалистического искусства, каким оно было задумано у Станиславского. Режиссер, чья практика строится в духе Свенгали, на личном его воздействии, чаще всего — визионер, художник, обуреваемый собственными своими видениями, которые в доподлинном их виде живут только в нем самом и нигде больше. Свой духовный мир он может только впечатлеть в другого, приказать другому, поскольку тот послушен и податлив. Не то настроение у режиссера-реалиста. Над ним и над актерами царит нечто объективное: литературное произведение, которое избрали они для работы, и сама реальная действительность, подчиняющая себе и литературное произведение. Свой способ ви-
271
деть и понимать вещи режиссер почерпнул из обьективных источников, он может навести на те же источники своих актеров. «Свенгализм» внушает, сократовский метод — наводит, вот разница. Сократовский метод предполагает равенство учителя и ученика: оба — познающие, оба обращены к тому же предмету. Точно так же демократичен и художественный реализм. «Выращивание» — очень значительное слово, когда его употребляет Станиславский. Он не диктует актеру роль, а выращивает ее вместе с актером, замыслу помогает дозреть до мысли, а мысли — до прямого дела.
Наконец, сократовский метод отлично сочетается с импровизатором как с принципом театральной практики. Станиславский учил актера не насильничать над самим собой, тем более недопустимым было бы чужое насилие, «свенгализм». Зрелый Станиславский предлагал актеру самому выбирать для себя костюм к спектаклю, чтобы, надев театральный костюм, актер не терял самого себя, своей свободы[244]. Дух, тело, платье — все по свободному избранию.
Сама красота, о которой мечтал Станиславский, была порождением свободы, плавная, изнутри идущая, без тех углов и угловатостей, без жестких рваных линий, к которым принуждал бы «свенгализм».
Станиславский-режиссер сооружал ансамбль, под его наблюдением созидался «образ спектакля», созидались театральные подобия мира и жизни. Ансамбль осуществлял режиссерскую мысль, завершал ее, хранил, совершенствовал, давал ей дальнейшее развитие. Поскольку ансамбль сложился из актеров, до конца посвященных в собственные роли, в смысл всего спектакля, поскольку внутри ансамбля могла происходить и происходила дальнейшая духовная работа, ансамбль в какой-то степени сам перенимал функции режиссера, в художественном отношении самоуправлялся — после того как вышел из режиссерских рук. Вероятно, этим объясняется долгая жизнь многих спектаклей Художественного театра. Наличие свободы в их рождении — условие этой их живучести, они могли поддерживать себя изнутри; в них самих, а не где-нибудь извне находился принцип жизни.
272
Великая помощь для актера — партнер по сцене. Партнер — главная сила ансамбля. Какие-то частицы собственной личности, собственной роли, актер черпает у другого актера, играющего с ним тот же эпизод спектакля. Еще Федотова учила, что нужно играть по глазам партнера. Станиславский рассказывает, как в молодом своем опыте он перестроил роль Несчастливцева, попав в художественную зависимость от Артема, в той же постановке «Леса» игравшего Счастливцева. Артем — одна из малых легенд Художественного театра, актер, игравший там недолго и небольшие роли и, однако, запомнившийся. Есть амплуа простаков. Артем был чуть-чуть родней этому амплуа, но он был другой, он изображал не простаков, а простецов, людей наивного духа, но высокого достоинства. Предание говорит, что Артем — был сама правда на сцене, рядом с Артемом — Счастливцевым нельзя было не спустить с ходулей Несчаетливцева, а Станиславский, по-видимости, взобрался на них вначале[245]. Надо думать, старенький Артем, бывший актер-любитель, не тронутый копотью ремесленничества, в какой бы спектакль его ни ткнули, всюду приобретал значение величины выправляющей. Он нечаянно служил своеобразным регулировщиком правдивого стиля в спектакле; если подле действовал Артем, то приходилось тоже играть правду, пусть бы даже актер хотел изменить ей. Актер, игравший вместе с Артемом в «Гувернере» Дьяченко, по пьесе рядом с ним становился на колени перед разгневанной помещицей. Артем изображал крепостного кучера, изображал удивительно реально, и партнер проникался тем же стилем игры. Симметрия положений и поз превращалась в духовную симметрию этих двух актеров[246].
Москвин сравнивал зависимость актеров друг от друга со взаимной зависимостью двух игроков в мяч. О поздних своих выступлениях в «Царе Федоре» он рассказывал: «Я теперь играл с приглядкой, подолгу вдумчиво смотрел в глаза своих партнеров и не делал все сразу, как это было раньше. Это меня очень
273
питало, ибо нельзя смотреть в глаза и ничего не видеть. Когда же я чувствую органические, живые глаза партнера, это не может пройти мимо меня»[247]. По поводу этих заявлений можно бы оказать: покамест спектакль собирали, режиссер был один, когда же спектакль был собран, то режиссуру перенесли на всех и каждого, растворился эгоцентризм ее, если он и присутствовал там, режиссерская работа оказалась вложенной в ансамбль, который уже сам от себя управлял каждым из актеров, вошедших в него. В Художественном театре даже внешность, даже типаж, даже грим одного актера определялись данными другого. Актер, играя роль свою, не забывал, что она такое в соотношениях с другой ролью, как кто-то другой на него взирает, кем его считает, во что ценит его. Мы рассматриваем фотографию О. В. Баклановой в роли Сашеньки в «Иванове», драме Чехова[248]. Нам ясно, что актриса стремилась передать не Сашеньку, отдельно стоящую, а Сашеньку — любовь и опасение, мнимое спасение Иванова. Станиславский говорил, что перед спектаклем нужно «загримировать и закостюмировать свою душу»[249]. Кажется, что так и поступила Бакланова. У нее, если угодно, и руки загримированы — руки в черных перчатках из-под белых манжет. Ей присуща обольстительность сквозь аскетичность облика, аскетичность служит как бы паспортом, способом подойти поближе к Иванову, который как-никак — земец, человек, воспитавшийся среди народников. Сашенька так обдумана Баклановой, чтобы и прельстить Иванова и не испугать какой-либо чрезмерной яркостью своей. Очень строгий стиль одежды, прически, головного убора перебивается крайне осторожными намеками на некоторую нарядность. Сашенька — помещичья дочь, в которой проглядывает будущая курсистка, будущая земская деятельница, быть может, все вместе взятое — обещания, которыми красавица эта приручает Иванова, интеллигента. В стройности ее фигуры и повадке есть и своя язвительность и вкрадчивость. Главное, на-
274
до думать, порывистость, которой все полно у этой девушки, готовность прыгнуть, прянуть, совершить самый непредвиденный поступок — то, чем она подчиняет себе вялого и растерянного героя пьесы. Мы бы сказали: Сашенька в этом спектакле режиссирована Ивановым, как :и Иванов Сашенькой, что и есть одно из проявлений принципа ансамбля.
Чрезвычайно важные для ансамбля сцепления жизни, сцепления эмоций, созидающие изнутри цельность его, можно было бы пояснить одним примером. Сошлемся на картину Борисова-Мусатова, современника раннего Художественного театра. Художник этот бывал не чужд некоторого маньеризма, а вместе с тем искусство его живет в необыкновенной цельности, чистоте и простоте, поэтому художественные явления более сложные и трудные хорошо им освещаются. На картине Борисова-Мусатова изображается «Сон божества», тихими волнами наполняющий все пространство. В углу картины, на своем пьедестале, окруженном цветами, младенчески сладко и счастливо уснул мраморный божок, по -вероятности, божок невинности и отдохновения. От него исходят многойбразнейшие влияния, материально-духовные, заметные и менее заметные, утонченные. У пьедестала две женщины, одна прильнула к другой, обе клонят головы, от мрамора веет на них какой-то сковывающей, томительной, снотворной силой. Массивные чащи деревьев тоже уснули, светлеет и кажется застывшей подражающая белизне мрамора дорожка между ними. В каком-то счастливом самоотречении сна тот маленький и легкий особняк с колоннами, что виден в самой глубине картины. В конце концов нельзя сказать, кто начал, кто продолжил этот сон и эти сны. Все молчит, и счастливое состояние распространилось на всех, все в него вступили, каждому дана доля в блаженстве. Картина Борисова-Мусатова хорошо нам показывает, как происходит через однородность эмоций спайка отдельных частей художественной композиции, как возникает ансамбль, как возникает единое впечатление жизни, как в искусстве возникает для нас она сама. Конечно, элементы ансамбля обыкновенно разнообразнее, менее охотно идут на взаимное сближение, диссонансы бывают крупны и до конца не одолеваются. Все же на примере Борисова-Мусатова виден общий закон, видно, как
275
образуется в искусстве общий тон, обобщенность жизни, чувство атмосферы. Все это появилось в спектаклях Художественного театра, в ансамблях, созданных его режиссурой, и все это не было известно театру XIX столетия или же едва известно. В старом театре была общая рама, были отдельно вырезанные фигуры, сообщавшиеся друг с другом через сюжетные положения, через связь в пространстве. Старый театр едва-едва подозревал, что в искусстве театра возможны такие явления, как атмосфера спектакля, общий темперамент, ему присущий,— темперамент спектакля, а не отдельных лиц, некое давление, высокое или низкое, под которым находится все в спектакле представленное. Художественный театр начал вырабатывать не одни отдельные фигуры сцены, но придал трепет и движение всему, что окружает их, наполнил жизнью промежутки между фигурами, до того стоявшие пустыми, и так, что пустоты этой и нейтральности никто не замечал. Станиславский очень был озабочен внесением жизни между живым и живым, он искал как учитель, как теоретик особых терминов, которые передали бы, чего он хочет, чего добивается. Когда Станиславский твердил актерам, как необходимо постоянное — и при словах и без слов — общение на сцене, то подразумевалась именно эта иллюзия сплошной жизни, без соучастия смерти. Термины Станиславского иногда были форсированными, он хотел с их помощью впервые создать реальности, которых еще не было до того на сцене, — наколдовать их. Станиславский наставлял актеров, находящихся на сцене, влезать «глазами друг в друга», говорил об особом «лучеиспускании» актерской души и об ее «лучевооприятии», о «влучениях» и «излучениях». Он требовал, чтобы живые волны ходили от актера к вещам на сцене и от вещей к актеру — им нужно «послать что-то от себя или воспринять что-то от них»[250]. Вероятно, созидание сплошной жизни на сцене — величайшая из реформ Станиславского, объемлющая все остальные. Жизнь в целом, «ансамбль жизни» — это и стало главной задачей режиссера. Все участвовали в ее решении — и художник, и рабочие сцены, и актеры в больших и малых ролях, каждый
276
делал свою часть, а всех сводил в одно режиссер, чтобы потом ка;жцый снова получал свое особенное от этой слитности. Когда в Художественном театре начинали готовиться к новой постановке, то решали, что́ будет играть Качалов, что́ Книппер или Германова, что́ Москвин или Лужский, что́, наконец, сам Станиславский в качестве актера. Когда же речь заходила о Станиславском-режиссере, о Немировиче-Данченко, то им могли бы п/редложить: а вы, дорогие -вожди и учители, вы сыграйте нам самое госпожу жизнь в ее делимости, а больше в неделимости, в ее умении охватывать всех и каждого, проникать в каждую фигуру и в каждый эпизод, не будучи никем и ничем из них, нуждаясь во всех и ни перед одним из них не рабствуя. Режиссеры могли сколько угодно проходить с каждым отдельно его роль, разбивать текст и каждый будущий спектакль на куски, разрабатывать вначале каждый из них отдельно — все это была вполне черновая методика, с самого начала устремленная к синтезам большого зрелища, где бы исчезала, уходила под землю, под театральный трап, вся эта кропотливость подготовительных исследований и проб. «Течение жизни на сцене», так называл свою большую — свою наибольшую режиссерскую тему Станиславский[251].
Известной мерой новый театр и новая режиссура были предвосхищены так называемой на Западе «новой драмой», то есть драматическими авторами, пришедшими вслед за Ибсеном. Можно говорить о генетике даже и в более узком смысле: ремарки Ибсена, а потом Гауптмана, Чехова, Горького, Леонида Андреева, мелкие шрифты в их драмах — вот где первоначально гнездился новый постановочный и актерский стиль и где он находил для себя, в той или иной степени, авторитетные подтверждения. Эти драматурги через «мелкие шрифты» поравняли драму с достижениями остальной литературы, прежде чем сделала то же самое практика театра. Инициатива широчайшим образом принадлежала Ибсену. Он ввел в обиход новой драмы и нового театра особое искусство колорита — морального колорита, который накладывался то с большей густотой, то с меньшей, в зависимости от тем и целей
277
автора. Драмы Ибсена богачы колебаниями атмосферы, в них присутствует особая жизнь, «сверхжизнь», независимая от того, что в данную минуту говорят или делают персонажи, иной раз независимая от их характеров и нравов. По описаниям и фотографиям нам известно, как ставила Ибсена современная ему сцена: едва отличая новый стиль Ибсена от былого стиля каких-нибудь Скриба, Ожье, Дюма-младшего. В ожидании будущих актеров и режиссеров Ибсен сам ставил свои драмы на бумаге, необычайно расширяя в них петит, постановочные по своей сути ремарки. Позднее из этого петита глянули на европейских зрителей многие детали искусства Дузе, Комиесаржевской, Сандро Моиси, Орленева, Художественного театра и других, игравших Ибсена и близких к нему драматургов. Маленькие жесты, летучая мимика, подробности пауз, скрытые настроения мизансцен, тихие ангелы и ангелы смерти, снующие невидимо от персонажа к персонажу, — все это шло из петитов Ибсена, из его ремарок драматурга, режиссерски продуманных и прочувствованных. В этих ремарках лежат и важнейшие источники подтекста. Новый стиль Ибсена, конечно же, присутствует и в крупных основных шрифтах его драм. Уже в молодой драме Ибсена «Фру Ингер из Эстрота» налицо новое, от Ибсена в новую драму идущее искусство драматической светотени, игра черного и белого, внутренних контрастов и антитез, сжатий и расширений жизни, в которую только вторичным образом включаются те или иные события и фигуры персонажей. Прежде Ибсена романтики тоже были мастерами драматического колорита. Но у них тенденция к размытости, к беспредметной обобщенности сильнее тенденции противоположного порядка, которой и отмечен Ибсен. В драмах Ибсена колорит, не прилегающий плотно к каким-то отдельным вещам и частностям, тем не менее обладает каждый раз индивидуальностью в особом смысле. Он меняется от драмы к драме, у него есть каждый раз своя характерность, в зависимости от места и времени, от строя психологии не только тех людей, что на сцене, но и всей массы, откуда люди эти взяты, от морального качества событий. «Светотень» в «Росмерсхольме» не та, что в драме о фру Ингер. «Росмерехольм» — черное и белое аскетически строгой морали, которая держится еще в современном че-
278
ловеке, черное и белое неустроенной больной совести, густые черные тени, следующие за нею неотвязно. В драме о фру Ингер — это бытовые колориты северного средневековья, это скользящие свет и тени опасной политической игры, где проигравший платится головой. Художественный театр часто и много ставил Ибсена, в руководстве театра более других благоволил к Ибсену Немирович[252]. Только однажды постановка Ибсена в Художественном явилась событием — «Доктор Штокман» со Станиславским в главной роли. Тем не менее театральный стиль Ибсена и независимо от тех или иных его драм стал духовным достоянием Художественного театра. Реалистическую характерность колорита, определенность в самой его неопределенности, все эти качества поэтики Ибсена можно было найти и в постановках драм Чехова, Горького, Андреева. Ведь некую единую настроенность несли с собой и постановка «Вишневого сада», и драма Горького «На дне», и «Анатэма» Андреева. Однако что ни постановка, то были величайшие различия, соответственно и авторам и пьесам. Никто не отрицал общемузыкальную характерность «Вишневого сада», однако в драмах Горького, Андреева не всем слышалась она. А присутствовала она повсюду. По колориту, по общежизненной характерности своей драма Чехова и драма Горького или Андреева отличались, как человек от человека, дом от дома, город от города или даже как страна от страны. Сравни «Три сестры», «На дне», «Жизнь Человека».
Станиславский очень рано почувствовал стихию театра — ансамблевую стихию, воплощенную во многих лицах, ни к кому, с частности, не приуроченную исключительно. Можно встретить у Станиславского необыкновенные строки о спектаклях труппы герцога Мейнингенского, ничуть не похожие на сказанное и написанное по поводу этих спектаклей другими. Тогдашние критики волновались, узнав, что на солдатах и полководцах в исторических пьесах они увидят подлинные исторические сапога, сшитые под наблюдением эрудитов. Станиславского вовсе не тронула документальная и музейная тщательность мейнингенских постановок. Он уловил в иных из них внутренний образ,
279
тайное сосредоточение чувств и мыслей под поверхностью вещей, обращенных к зрителю. «Мейнингенский герцог умел чисто режиссерскими, постановочными средствами, без помощи исключительно талантливых артистов, показывать в художественной форме многое из творческих замыслов великих поэтов. Например, нельзя забыть такой сцены из "Орлеанской девы": щупленький, жалкенький растерянный король сидит на громадном, не по его росту троне; его худые ножки болтаются в воздухе и не достают до подушки. Кругом трона — сконфуженный двор, пытающийся из последних сил поддержать королевский престиж. Но в момент крушения власти этикетные поклоны кажутся лишними. Среди этой обстановки гибнущего престижа короля являются английские послы — высокие, стройные, решительные, смелые и до ужаса наглые. Нельзя хладнокровно выносить издевательства и высокомерного тона победителей»[253]. Станиславский почувствовал у мейнингенцев именно то, что мы здесь называем моральным колоритом,— умение сосредоточить, к немногим точкам свести внутреннюю жизнь целого человеческого коллектива, разбросанную на большом пространстве, различную ;в отдельных людях. Он усмотрел у мейнингенцев искусство, ведущее гораздо дальше, чем ординарный сценический натурализм 90-х и 900-х годов, предшественниками которого их принято считать. Весьма вероятно, что Станиславский в воспоминании своем нечаянно улучшил мейнингенцев, бессознательно внес в их спектакль то или иное, позднее найденное в театральном искусстве им самим. Как бы то ни было, от сценической картины французского двора, описанной у Станиславского, недалеко до существенных эпизодов «Гамлета», каким его задумал и поставил приглашенный ради «Гамлета» в Художественный театр Гордон Крэг. Историк этой постановки сообщает: «Первоначальный замысел дать один общий золотой плащ с отверстиями для голов придворных, не был осуществлен». Продолжение в мемуарах Серафимы Бирман: «Решили ограничиться одинаковой костюмировкой актеров. Актеры были размещены на разных плоскостях, их плащи сливались и создавали впечатление монолитной золо-
280
той пирамиды…»[254]. Разумеется, накрыть одним плащом всех было бы смелее, чем уподобить плащ плащу, как это сделано было в окончательной редакции спектакля. Но режиссерская идея была одна и та же: зрительно обобщить жизнь и нравы многих, единым порывом прочувствовать время, среду, людей, многообразное в самом себе представить, прочувствовать как единообразное.
Есть свидетельства говорящие, что, едва приступая к «Гамлету», Художественный театр уже искал, как сообщить веку, в котором совершаются события, единый в живописности своей образ и характер. Станиславский записывал: «Эпоха не современная, а варварская, камень, железо, мех»[255].
Стремление к обобщенной характерности сохранилось в Художественном театре и в более позднюю пору. Это было завоевание, которое нельзя терять. Иностранец, впервые увидевший спектакли Художественного театра, сразу же оценил их с этой стороны: «В этом театре нет лучших и худших актеров — благодаря мастерству актеров… наблюдаешь жизнь целой семьи, а не каждого характера в отдельности»[256].
Костюм, краски грима дают актеру чувство принадлежности его к тому большому миру, который выводится на сцену. Загримированный, свой костюм надевший, он уже не один играет на сцене, а вместе со всеми, кто с ним наравне тоже поддерживает сценическую иллюзию. Грим и костюм — это вхождение в ансамбль, приобщение актера к жизни целого спектакля. «К тому времени я начал уже любить скрывать себя за характерностью»[257], рассказывает Станиславский. Скрывая себя, актер через характерность заново себя же открывает: он, подцвеченный под общий цвет спектакля, ощущает себя живой его частью. Признание Н. П. Хмелева: «Я боюсь одиночества на сцене в своем костюме, в то время как, будучи загримирован и в
281
костюме театральном, играя 'вместе с партнером, я — хозяин на сцене»[258].
Впоследствии Станиславский и Немирович немало сил отдали музыкальному театру. Там они нашли особую крепость внутренних связей спектакля, которой до того добивались на сцене драматической. Композитор спешит на помощь режиссеру, уже партия оркестра порождет единую оплошную жизнь спектакля, помогает всем его эпизодам усвоить единое для них выражение. Станиславский вспоминает «Демона» в Большом театре, когда автор оперы Рубинштейн, сам дирижировавший, вдруг остановил оркестр, ибо был недоволен происходящим на сцене. «Бедные артисты, внезапно лишенные музьжи и привычного действия «а сцене, стояли потерянные, точно их всех сразу раздели, и они стыдились своей неприкрытой наготы»[259]. Крайне меткое наблюдение: музыка одевает и защищает актера, без музыки он беззащитен, раздет. Без музыки он одинок на сцене, при ней — в братских связях со всем, что на сцене творится.
В музыкальном театре с большей ясностью и твердостью определились принципы, которым стала подчиняться и сцена драматическая. С конца прошлого века на музыкальной нашей сцене развернулось беспримерное дарование Шаляпина. Мы еще едва отдаем себе отчет, что значил этот художник, какие и в чем одерживал победы. Можно бы назвать его трижды величайшим, по примеру греков, так именовавших одного из своих богов. Он был событием театра музыкального и концертной эстрады, взятых в своей отдельности, событием театра вообще, независимо от той или иной его разновидности, наконец, событием всей жизни искусства во всей ее целостности и полноте. Настоящий подсчет наследия, оставленного Шаляпиным, только-только начинается, и ие все, кому бы следовало, вовлекались в это дело. От Шаляпина исходили многообразнейшие влияния, как и сам он усваивал себе все, что было достойного в работе современников. Над искусством Шаляпина царили принципы стиля, широчайшего по его значению и содержанию. Для Шаляпина сама реальность
282
жизни была явлением стиля. Он воспринимал ее как некий единый характер, как оплошное море единообразных напоминаний и повторов, как ритмику не только слуховую, но и зрительную, где чередовались люди и звери, вещи и вещи, вещи природы и вещи культуры. Артистке Орловской, чьи записи о нем чрезвычайно замечательны, Шаляпин объяснял, как сложился у него Олоферн, — Орловская пела с Шаляпиным в опере Серова. «Между человеком, его обычаями и природой, среди которой он живет, есть всегда что-то общее. Например, украинский мужичок волосы свои стрижет под скобку, и крыша его хатки тоже аккуратно подстрижена. Когда я создавал образ Олоферна, я себе ясно представлял леопарда, так как Олоферн жил в стране, где водились дикие звери. Я старался подражать движениям леопарда. Например, в сцене опьянения, ведя борьбу с несуществующим врагом, я бросаюсь на стол, становлюсь в позу дикого зверя: весь вытягиваюсь, опираясь на руки, как на лапы»[260]. По Шаляпину Олоферн — стиль действительности вокруг Олоферна, из нее вынутый, представленный монументально в одном-единственном лице. Музыкальный театр — волнение жизни, ритмообразное, то отпущенное на собственную свою широту, то выраженное сжато, отдельными крупными эпизодами и фигурами. По-своему это подобно внутреннему составу театрального спектакля, как к тому времени стали его понимать Станиславский и Немирович,— они без музыки шли к тому, что заложено было в музыке.
Чехов нарочно при Станиславском кому-то рассказывал: «Послушайте!.. — я напишу новую пьесу, и она будет начинаться так: «Как чудесно, как тихо! Не слышно ни птиц, ни собак, ни кукушек, ни совы, ни соловья, ни часов, ни колокольчиков и ни одного сверчка!»[261] Эти слова передает сам Станиславский, отлично понимая, что Чехов его поддразнивал и оружием юмора защищался от его режиссерских приемов. Станиславский в пору чеховских постановок проявлял чрезмерное пристрастие к звуковым эффектам, и кукушки и сверчки —
283
все это у него было. Однако же несправедливо относить звукопись Станиславского всецело к натурализму. Из истории нам известны разновидности натурализма, мало схожие между собой. Изучая натурализм в той или иной его формации, нужно спрашивать каждый раз: а чем кончился натурализм в этих именно условиях, что было дальше, к чему он привел? Тогда может оказаться, что под натурализмом скрывалась более глубокая тенденция, натурализм служил ей только временной формой, от которой она немедленно освобождалась, с потерями, с задержками, с излишней тратой сил, но освобождалась все же. Уже в чеховский период колокольчики и сверчки не были для Станиславского голой имитацией внешнего мира, простым звукоподражанием. Это были, как и у самого Чехова, «звуки жизни», из глубины свидетельства о ней. У Станиславского мы найдем прямое объяснение, зачем и почему нужны были звуки: «…Чтобы раскрывать нам жизнь человеческого духа»[262].
В 1902 году вышла небольшая книжка, озаглавленная «Под впечатлением Художественного театра». Авторами ее были указаны Джемс Линч — псевдоним вскоре шумно и широко известного Леонида Андреева, и Сергей Глаголь — псевдоним С. С. Голоушева, в последующие годы под тем же псевдонимом часто выступавшего со статьями по театру и изобразительному искусству. Книжка эта хорошо передает, чем же удивлял и волновал своих современников Художественный театр, недавно родившийся. Сергей Глаголь произносит слово, входившее тогда в моду и еще не успевшее потерять свой смысл. Он считает признаком нового театрального стиля настроение. Мы говорили о живых ансамблях самой жизни. Глаголь то же самое называет настроением, силой, растворяющей в себе отдельные элементы спектакля, отдельные фигуры в нем. Глаголь называет также как нечто характерное для Художественного театра «полную централизацию всего происходящего на сцене»[263], мы предпочли бы сказать, что это и есть настроение в его сценическом об-
284
разе. Настроение — единый смысл всего представленного на сцене, окруженный эмоциями разной близости к нему.
Там же Сергей Глаголь пишет, что есть верный способ проверить, в чем новизна театрального стиля, — нужно проследить, какие места спектакля нам сами собой припоминаются. «Начинаю припоминать такие места в исполнении артистов Художественного театра и с удивлением замечаю, что со мной происходит какой-то курьез… Я, например, вспоминаю, как в «Потонувшем колоколе» мастер Генрих, разбитый и телом и душой, падает у хижины старой Виттихи, хочу припомнить свое впечатление и тотчас же вместо Генриха вижу мглу надвигающегося вечера: передо мной рдеют в последних лучах заката снежные вершины гор, передо мной кувыркается леший и фея Раутенделеин с удивлением показывает водяному свою первую слезинку»[264].
«И сколько бы вы ни старались, вы не найдете ни одного драматического момента, где игру актера вы могли бы выделить из всего прочего, как это легко удается вам в другом театре, и где игру эту вы могли бы взять как нечто совершенное, самостоятельное и соизмеримое с тою же игрой других актеров»[265].
Редко в театральной критике мы находим столь же острый отчет об увиденном, какой дан здесь. Критик говорит о генеральных новшествах Художественного театра: о совокупной жизни мира и людей, показанной со сцены, о новом весе и новой цене еще недавно считавшегося за невесомую и ничего не стоящую мелочь, о поэтическом равноправии на сцене всех элементов бытия: не только принят во внимание сам мастер Генрих, литейщик, но и наплывающая мгла, но и девичьи слезки. Новый театр берет на себя груз забот, совершенно неведомых театру XIX века, со стилем его концертным, крупнофигурным, сводящим зрелище по преимуществу к показу действующих лиц, и от имени этих лиц посланных на сцену актеров.
Что «театр настроений» невозможен без режиссуры, это по-своему выражено на одном из ранних шаржей
285
на него. «По рукам ходила карикатура: маленький ящик кукольного театра с фигурками кукол, а за ящиком стоит в поддевке огромный Станиславский и держит в корявом кулаке петлю от ниток, привязанных к фигуркам. Дернет раз — фигурки запляшут, дернет другой — фигурки заплачут»[266].
Сергея Глаголя подкрепляет другой сильный театральный критик тех первых лет Художественного театра, П. М. Ярцев. Тогда спорили о двух спектаклях разных театров и сопоставляли их: о «Царе Федоре» в театре Суворина, с Орленевым, — Петербург, и о «Царе Федоре» в Художественном театре, с Москвиным, — Москва. Заключение П. М. Ярцева: «Если сравнить по приемам постановку «Царя Федора» на театре Суворина и на московском театре, то на театре Суворина пьесу играли актеры, одетые в костюмы эпохи, среди нарисованных ллощадей, дворцов, палат, церквей — верных эпохе. А на театре московском пьесу играли краски, звуки, речи, жесты, позы — ровно и созвучно приведенные в одно целое. Созвучие позы, речи, краски, звука, шума, жеста, движения, один им общий определяющий их темп, ритм, музыкальное — вот то новое, что принес сцене новый московский театр. И это в покоряющей правдивости, будто бы лишь в самом точном воссоздании живой жизни»[267].
Оба критика действительно умели оценить, что было нового в театре, созданном Станиславским. Они верно указали, на чем держится его ансамбль, из каких эстетических величин он слагается, как непривычны эти величины для консервативного театрального сознания.
Станиславский часто обращался к своим актерам с речами на этические темы. Обычно он говорил о вещах делового значения — об этике самой актерской профессии, об отношении актера к своему искусству, о долге актера перед ним. Но в спектаклях, руководимых Станиславским, этика в самом своем широком, над-
286
профессиональном содержании нередко главенствовала, не говоря уже о русском репертуаре с классическими для .него этическими темами, они же присутствовали и в репертуаре иноземном — Ибсен, Гауптман. Особенно Гауптман полюбился театру, из него ставили многое и ставили часто. Он казался почти русским автором, и не только потому, что в «Одиноких» цитируется русская литература и главная женщина в этой драме тоже русская. Гауптман в своих драмах первого периода все пытался проститься раз навсегда с этическим миропониманием, соблазненный тогда ницшеанством. К счастью Гауптмана-поэта, разлука с этикой так и не состоялась у него. Мы говорим о Гауптмане-поэте, ибо у Художественного театра и у авторов его репертуара этика находилась в самой близкой близости к эстетике, к поэтическому содержанию искусства. Одна за другой сочинялись драмы, и все на тот же ницшеанский тезис — о любви к ближним, которая губит человека, не позволяет ему жить как хочется, следуя своим инстинктам и призванию. Обстоятельства складываются так, что кого-то ради чьего-то собственного блага нужно зарезать, и нож все-таки выпадает из руки покушавшегося. Здоровенный дядя, возчик Геншель, не может себе простить, зачем он обидел больную и хилую свою жену ради другой женщины, соответствовавшей ему по естественному подбору, и вот покойная жена в конце концов уводит Геншеля за собой, а та, по Дарвину и Ницше, законная подруга Геншеля, Ганна, ничего не может поделать с его раскаянием ,и самообвинениями. В любимой у нас драме Гауптмана «Одинокие» опять-таки идет бой за личное счастье вопреки всему, ценой жертвы третьим человеком, и опять-таки нет решимости на счастье, нет решимости на заклание третьего. В «Потонувшем колоколе» как будто бы управляет Ницше, а через Ницше — имморализм. Генрих-литейщик покинул жену и детей, чтобы жить никому не обязанным художником, в языческом, не знающем морали мире. Казалось бы, Гауптман тоже стоит за это решение. А все-таки лучший эпизод драмы тот, где Генрих видит брошенных своих детей в одних рубашечках, с кувшином, который они тащат на себе, в кувшине же слезы Магды, их матери, оставленной Генрихом. Как поэт Гауптман высказался за мораль. Кувшин со слезами Магды — прекраснейшее из
287
созданий Гауптмана. В драме о колоколе есть и другие показания против имморализма: языческий мир природных духов, элементарных существ, куда ушел Генрих, тоже налагает нравственные требования. После Магды Генрих любит маленькую, милую Раутенделейн, эльфа, полуженщину-полуприроду. Но и она знает, что такое обиженность, брошенность, несчастье. Где чувство и любовь, там непременно и нравственность, там долг. Есть долг и перед эльфом, да еще и немалый долг. Как только в мир стихийных духов внесли любовь, тотчас и в этом мире стала обязательной нравственность, от которой герою Гауптмана так и не удалось эмансипироваться. Уже была речь о другой драме Гауптмана из репертуара Художественного театра — «Михаэле Крамере», где внутреннее движение совершается по сравнению с «Колоколом» в обратную сторону. В «Колоколе» обнаруживается, что нет язычества, в котором не было бы своей морали. В «Крамере» — что аскетическое настроение, чистая мораль долга, негативная к чувственной жизни, может оказаться поводом к падениям и катастрофам.
Гауптман, который хотел расстаться с моралью, на прощанье с ней так прочувствовал ее существо, так сильно чувство это выразил, что драмы его и до сих пор полны им, а сам он неопытному глазу, который в данном случае судит верно, представляется одним из поэтов нравственного переживания.
Русские примеры всем памятны, поэтому стоило заглянуть в драмы Гауптмана, забываемые сейчас.
В Художественном театре этическая тема не скиталась одинокой, с ней неотлучно вместе находилась вся театральная поэтика. Метод переживания, как понимал его Станиславский, — это метод братского участия людей к людям. Импровизация — дарование личной свободы тем, кого изображают на сцене. Ансамбль по самому замыслу своему требовал, чтобы каждый нашел свое место в мире живых, свой способ подчиняться ему. Но подчинение это было бы подчинением добровольным, человек, обладающий личной свободой, находил свой свободный способ, как ему соединиться с жизнью и целями остальных. Это и называется совестью — добровольное согласие с людьми, добровольное признание прав целого не во имя потери человеком самого себя, а ради большего простора для соб-
288
ственных душевных сил, ради врожденных каждому потребностей любви. Художественный театр, как и классики нашей литературы, был верным поэтом совести, и разными своими сторонами система Станиславского наставляла, как наилучшим образом осуществить это призвание. У Художественного театра соблюдался долгий духовный союз с Л. Толстым, самым счастливым порождением которого был спектакль по роману «Воскресение». Рассказывают, Качалову, который в этом спектакле читал за автора, удалось найти верный стиль благодаря карандашу — деловому писательскому карандашу, который он держал в руках, подносил ко лбу. Вероятно, ему помогала и скромная рабочая куртка[268]. Он играл в образе автора совесть, верховного бога и героя для Станиславского и для ведомого Станиславским театра. Играл совесть — это сказано неловко, правильнее скажем, он от лучших своих сил старался быть ею. Торжественный голос Качалова сочетался, как это и должно было, с самым деловым обличьем — воскресный голос у актера, а одет актер, как среда, четверг. Совесть — торжественное переживание, но место ей всегда и всюду, в какой угодно день и без малейшего парада.
Этическая тема ниспустилась и в подтексты. Они-то, собственно, и выражали этические отношения — человека к собственным поступкам, человека к суду других. Слова — «тексты»—преподносились так, что видно было: человек увязает в грехе, ибо не замечает греха, как Иоганнес в «Одиноких», который в Анне Map нашел возлюбленную, а вначале воображал, что это всего только образованная женщина, перед которой он может вслух читать свой трактат. Люди, это тоже следует из подтекста, стыдятся собственных чувств, как Кэте, жена Иоганнеса, которая не смеет признаться себе, что ревнует; люди робеют друг перед другом, как та же Кэте перед мужем и перед Анной Map.
Совесть — одно из проявлений человека самого по себе взятого, свободного от печатей и давления буржуазной цивилизации, совесть — свойство человека сотворенного, которого Станиславский хотел найти в человеке сделанном. Под принудительными связями человека
289
с обществом, под связями, точно указанными ему, скрывалась эта свободная, от самого человека исходящая связь совести. «Сотворенный» человек — это человек естественно-социальный, без бичей и без стрекала. Совесть потому и входила в поэтическую концепцию человека, что она была свидетельством его свободы, непредвзятости, в которой протекает его внутренняя жизнь.
Художественный театр отличался единством тона и стиля не только на протяжении каждого театрального вечера в отдельности. Новостью было, что театр имел свой собственный, хорошо обдуманный репертуар. Единство распространялось на репертуар в полном его составе, в репертуаре почти не было случайных пьес. Старый театр преспокойно соединял в .программе одного вечера высокую трагедию с самым шалым водевилем, — «Прежде скончались, а потом повенчались». У Станиславского такое сочетание было немыслимым, пьесы подбирались к пьесе по чертам внутреннего сходства и родства. Чехов, Л. Толстой, Горький, Ибсен, Гауптман служили в первые годы репертуарной основой для Художественного театра. Высокая проблематика личной и общественной морали владела драмой каждого из этих авторов, репертуар обладал как бы единым нравственным центром. Это усиливало действие на зрителей каждой из этих драм — другие драмы той же репертуарной недели или же репертуарного месяца поддерживали смыслом своим и направлением каждую взятую отдельно. Зритель не был гостем одного-единетвенного спектакля: он приучался к общению с театром по всему его репертуару.
Когда в сделанном человеке найден сотворенный, то это еще далеко не все. В лучшем случае это полпути. Нужно снова вернуться к человеку сделанному, к маскам цивилизации, которые только теперь станут для нас проницаемы. Сотворенный человек дает нам шифр, чтобы разобраться в лесу иероглифов, в лесу людей, переиначенных и пересочиненных цивилизацией. Мы возвращаемся к комедии и к маскам цивилизации, уже читая их и понимая их по-новому: мы их судим, не поддаемся их обману, не впадаем более в фетишизм вещей, воспринятых по их наружному виду. Само живое, этическое отношение к человеку возможно при условии этой дефетишизации. Покамест перед нами
290
человек-раб, вполне укладывающийся в свое рабство, покамест мы имеем дело с человеком — механическим агрегатом, с человеком — изделием и подделкой, нет еще речи о внутреннем отношении к нему: нужно почувствовать в нем живое, чтобы по-иному отнестись к нему и к его судьбе. Возвращение к живому в живом, казавшемся только живым — бывшим, и было одной из великих задач театра Станиславского.
Крайне любопытно донесение, поданное театральным шпионом П. М. Пчельниковым в Комитет по делам печати, датированное июнем 1902 года. Этого человека заслали в Художественный театр не смотреть его спектакли, а высмотреть, с точки зрения правительственных видов и интересов. Пчельников докладывал: «Что касается до воздействия, которое производит театр на зрителя, то его нельзя отнести к разряду здоровых, подымающих дух. Наоборот, выбирая пьесы, в которых центральные планы заняты больными, искалеченными людьми, более пригодными для клиники, чем для театра, он доводит своего зрителя до крайнего напряжения нервов, угнетая его душевное состояние»[269]. Весьма назидательно, что агент правительства держится деления искусства на больное и здоровое, причем больным называет искусство, в котором содержится обновляющее движение. Кого он мог называть больными? Героев тогдашнего репертуара, то есть героев Л. Толстого или Ибсена, Чехова, Горького или Гауптмана, А. К. Толстого, а то и Софокла и Шекспира, которые тоже тогда были включены в репертуар Художественного театра.
«Больной» персонаж в драме тот, кто душевно и нравственно резко отличается от большинства остальных. Чаще всего это заглавный герой, как в трагедии А. К. Толстого о царе Федоре. Если просмотрим заново трагедию, то можем убедиться, что царь Федор и служит шифром, по которому можно разобраться в иероглифах других персонажей. Многое в литературе, в драматургии, в частности в этой драме А. К. Толстого, строилось как надпись на розеттском камне, которую расшифровывал Шамполлион. Как известно, тот уделял особое внимание словам, которые были окружены овалом, полагая, что это главные слова и имена, — имена
291
царей, правивших Египтом. Было установлено, что одно из имен — царь египетский Птолемей. После разгадки знаков, передававших это имя, разгадка и другого в надписи пошла живее. Думаем, в каждой драме (в романе, в повести то же самое) есть лицо, тоже обведенное овалом, подобно Птолемею. Это и есть центральное, важнейшее лицо, независимо от того, говорят ли в пользу такого его положения различные признаки формального порядка. Главное лицо — тот, в ком и через кого нам дана тайна всех прочих лиц, действующих в драме. Главное лицо — сотворенный человек, в котором открыто дана его сотворенность. У остальных она запрятана порой так далеко, как если бы кроме сделанности у них никогда ничего за душой и не было. Что присутствует в неактуальном виде у людей вокруг, то в центральном человеке представлено актуально, поэтому-то он и может служить для них шифром, поэтому-то и роль его центральная. Бесконечные дискуссии возникали по поводу призыва Станиславского к актерам: играя злого, ищи, где он добрый.
Станиславский, однако, не уверен, что добрый во всяком злом будет непременно отыскан. Если исходить из практики драмы и театра, то дело обстояло несколько иначе, искали доброго не в злых, а среди злых и тут его удавалось найти. Добрый мог явиться комментарием к злым, к тому, что или безнадежно скрыто было в них, или же к тому, что все-таки при известных обстоятельствах выходило к свету.
«Человек в овале» чаще всего являлся, по терминологии соглядатая Пчельникова, человеком больным — он брезговал образом жизни окружающих, и те обыкновенно это засчитывали в болезнь. Царь Федор не похож на людей стереотипных: сидит на престоле и не любит власти, может казнить, а охотнее милует, прощает личные обиды, хотя не прощает обид, нанесенных тем, кого он любит… Перечисление едва начато, а уже видно, чем «болен» царь Федор — добротой, человечностью. Он хил и слаб физически — это так, но больным его считают не по этой причине. Зачем он правит без кнута и топора —-в этом причина удивления ему, смешков и улыбок по его поводу. В драме А. К. Толстого наблюдается некоторое воздействие царя Федора на других, но оно очень ограниченное. Царица Ири-
292
на — верная подруга царю Федору. Еще он задел за живое, душевное старого воеводу Ивана Петровича Шуйского. Кажется, это все. Но своим присутствием он доказал, что за миром иероглифов скрывается мир живых лиц, который, если придут время и обстоятельства, еще покажет себя. Царь Федор — по ту сторону интересов и интриг. Рядом с ним персонаж, который только тем и живет, — Борис Годунов, тать, убийца, властолюбец, умеющий оставаться безнаказанным. Правда, А. К. Толстому нужно было довести свою трилогию до конца, чтобы это сказалось, но в третьей части — «Царь Борис» — оживают душа и совесть также у этого человека, который раньше не задумывался подсылать убийц к младенцу: подобно тому как это было представлено и у Пушкина, в трилогии А. К.Толстого Самозванец, Лжедмитрий, — возмездие Борису за убитого им угличского царевича, истинного Димитрия. Борис вызвал духа лжи и пострадал от лжи. Царь Федор раздвинул завесы лжи, и нужны были годы, чтобы это просветило Бориса, но все-таки Борис просветившимся сошел в могилу. Когда в Художественном театре занялись «Федором», то в театре наблюдалась влюбленность и в пьесу и в ее героя. Немирович писал Станиславскому: «Я не знаю ни одного литературного образа, не исключая и Гамлета, который был бы до такой степени близок моей душе»[270].
«Царь Федор» — один из самых долговечных спектаклей Художественного театра. Многие годы Федора играл один И. М. Москвин, потом появились актеры-совместники, а после смерти Москвина — преемники. Эту роль играли самые сильные из актеров театра: В. И. Качалов, Н. П. Хмелев, Б. Г. Добронравов. Когда «Царь Федор» только начинался, у Москвина по другим сценам были соперники, из которых сильнейшим был П. Н. Орленев в суворинском театре. Москвин и Орленев играли царя Федора по-разному. В печати их сравнивали, сопоставляли, и делалось это не слишком точно. Разница была в степени национальной окрашенности, у Орленева не столь сгущенной, как у Москвина. Орленев придал Федору тона международной доброты и святости, не слишком настаивая, что
293
святость старомосковская. У него была душевная утонченность, хрупкость, скрытая болезненность облика, что-то балованное, изнеженное в интонациях, в жестах. Когда Годунов донимал его бумагами, он по-детски сладко зевал и крестил свои зевки мелкими крестиками — в этом жесте была Москва, а в остальном, во всей повадке он походил на себя же в роли Освальда из «Привидений». В его обращении с царицей Ириной можно было узнать Освальда в сценах с матерью, фру Альвинг. Там он был бедный, совсем бедный сын фру Альвинг и балованность, которой было много в этих сценах, тем лучше проступала.
У Москвина Федор .казался фигурой с сильнейшим выражением национального и местного, Кремля, Москвы, Замосковья. Что-то было в нем туземно-крестьянское, был он царь крестьянской страны, с неописуемой бессильной добротой, с чем-то бабьим или же детским в голосе, с неуверенными жестами, видно было, что напор событий на него чересчур велик и что здоровьем он совсем слаб, того и гляди начнутся какие-нибудь припадки или что другое, совсем непрошеное. Образ был тройственный; простодушно-деревенское, почти юродивое, святительское — и вдруг обнаруживалось в нем самодержавное, раскаты гнева, в пору самому царю Ивану.
Для осмысления, кем был Федор по Москвину, нельзя упускать из виду тогдашний репертуар Художественного театра, общий характер репертуара. Царь Федор в этом репертуаре, без специальных усилий Москвина, сам собою соотносим с праведниками интернационального стиля и типа, с этическими людьми в драмах Ибсена и Гауптмана. Немировичу, как мы знаем уже, виделось в Федоре родственное Гамлету, а Москвин был его ставленником на роль Федора. Орленев не имел дополнительной опоры в репертуаре своего театра. Москвин — имел. Он мог играть своего Федора даже с этнографическими красками. Невзирая на то, Федора выравнивал прочий репертуар Художественного, на его фоне скрадывалось слишком местное и специальное в том или другом спектакле. Орленев делал в роли своей все сам один, нужно было отчетливо представить и национальное и интернациональное. Москвин мог не заботиться об интернациональном, оно присутствовало в смежных пьесах репертуара и без его
294
особых усилий обобщало его актерскую работу, дополняло ее.
В Художественном театре в разные периоды возникал тот же спор: должен ли актер играть свое отношение к собственной роли, можно ли и нужно ли, чтобы в изображение человека на сцене входила еще и оценка его актером. Художественный театр всегда отвечал по этому поводу отрицательно, что для него естественно. Зачем же столько забот положено на ансамбль, если каждый актер собственным судом будет выносить приговор своему персонажу? Если есть ансамбль, то приговор выносится косвенными путями — с примеркой на ансамбль, по значению, которое получает в нем персонаж, по значению персонажа в совместной жизни людей. Только так и накопляются материалы для оценки персонажа — по совокупности его действий, по их смыслу на общем фоне, по их итогам. Каждый персонаж, покамест он в действии и покамест судьба его еще не свершилась, естественным образом защищает самого себя, свои исходные позиции, свой способ жить. Быть может, к этому и сводится смысл изречения Станиславского: ищи в злом доброго — пусть злой, сколько он может, обороняется, пусть доказывает свою правоту, пусть уверяет, что он добр, пусть сам верит в это. Действительная же оценка персонажа наступит только после того, как все малые и большие битвы разыграются, и со стороны, по окончательным итогам будет виднее, кто был прав и кто был виноват. Сопоставление самооценки персонажа с тем, какова ему цена на самом деле, даст более содержательную его трактовку. Наконец, оценка не может быть застывшей и однозначной. При одних обстоятельствах лицо отрицательное, тот же персонаж может оказаться, когда обстоятельства изменились, гением добра. Театр, который главное доверяет силе, импровизации, не может держаться неподвижных суждений о своих героях, не может спешить с выводами о них, еще не развернувших свои глубокие и глубочайшие свойства. Все в театре во внутреннем движении, и оценка персонажей и оценка всего происходящего полностью причастны к этому движению.
Л. М. Леонидов описал один спектакль с участием де Грассо, знаменитого трагика из Сицилии, бывавшего и у нас в России, оставившего память о себе в стать-
295
ях наших лучших театральных критиков. «Я видел его (де Грассо) в одной пьесе. Содержание ее таково: человек, совершивший преступление, был сослан на каторгу. За время его отсутствия его жена сошлась с другим, и у нее родилась дочь. Муж вернулся домой неожиданно. Он вошел в комнату и увидел жену, любовника и девочку, о существовании которой не знал. Он обращается к девочке и спрашивает: «Где мама?» Она показывает на его жену. «А где папа?» Девочка показывает на любовника. Когда де Грассо в этот момент посмотрел на девочку и перевел взгляд на жену, сидеть в зрительном зале было трудно. Этот момент не поддается описанию… Затем он поднял ребенка, поцеловал его, тем самым показывая, что ребенок ни в чем не виноват, и сказал: «Уходи». На сцене остались трое. На столе лежал огромный нож. Уже с первого взгляда на этот нож было понятно, для чего он понадобится. Под пристальным взглядом мужа жена и ее любовник съежились. Он молча взял нож. Зрители почувствовали некоторое облегчение, потому что было ясно, что дело приближается к концу. Любовники застыли. На столе рядом с ножом лежал каравай хлеба. Минута колебания, в кого вонзить нож — в любовников или в хлеб,— и наконец решительный удар ножа, разрубивший каравай пополам. Зрительный зал вздохнул»[271]. В этом маленьком спектакле — все, чем велик театр. Движение или, правильнее, скольжение в неизвестное, импровизация, захватывающая дух. Кажется, что все дело в фактической развязке: убьет или не убьет. А гораздо больше волнует нас другое, — что за человек герой драмы, бывший каторжник. Убьет — значит, человек обыкновенный, той же нравственности, что дюжины других. Обстановка, вещи подсказывают решение. Человек оскорблен, на столе нож, его обидчики тут же, застигнутые врасплох, кажется, исход ясен: человек, соответствующий закону средних чисел, имеющий под рукой все, что нужно для исполнения этого закона, не замедлит поступить, как закон ему внушает. И тут происходит чудо. Нож воткнут не в живое тело, нож воткнут в хлеб. Герой драмы за секунду и сам не знал, что сделает. Чудо: он поступил вне всяких правил и обычаев, поступил, как ему под-
296
сказало собственное «я». Разыгралась самая высокая и самая лучшая изо всех импровизаций — на сцене родился человек, новый, ни на кого не похожий. Если размышлять в строгих понятиях, то этот новый человек и есть самый всеобщий человек, — не закон нарушен его поступком, а наполнен наивысший из законов, перед которым бледнеют все правила возмездия, расчета за личные обиды, — исполнен закон человечности. Оценка персонажей прошла через сильнейшую перипетию. В начале драмы каторжник с его мотивом мести — худший из людей, присутствующих на сцене. Жена, любовник — возможные жертвы, а жертвы имеют моральные симпатии на своей стороне. В развязке весы оценки показывают совсем другое — мститель, отказавшийся от своего мщения, лучший из людей, а жена и любовник очень потеряли, их вина, ставшая в начале драмы почти нейтральной, сейчас заговорила внятным голосом. Де Грассо играл уголовную драму, смешанную с нравственной мистерией. Когда он вонзает свой нож в хлеб, то это развязка мистерии, это сам древний козел отпущения вступает в игру.
Станиславский говорил: «…всякому искусству нужна прежде всего непрерывная линия»[272]. Почти в тех же словах специально о драме: «…в драме, как во всяком искусстве, прежде всего необходима непрерывная сплошная линия…»[273]. Более подробно о том же: «…искусство зарождается с того момента, как создается непрерывная тянущаяся линия звука, голоса, рисунка, движения»[274]. Мы думаем, суть дела в непрерывности эмоциональной. Театр — это вживание актеров в роли, общение их с ролями. Далее: театр это общение сцены со зрителями и зрителей со сценой. В этих-то вживаниях и общениях нет места перерывам. Актер входит в роль и через роль тут же духовно связывается со зрителями, а те — с ним и его ролью. Все начинается с актера, с его таланта внутреннего отождествления с ролью, с драматическим лицом и с драматическими положениями. По основам своим теория Ста-
297
ниславского восходит к классичнейниим временам и к классичнейшей мысли. У Аристотеля сказано: «взволнованный действительно волнует [других]» («Поэтика», гл. 17). Почти то же повторяет другой античный теоретик, Гораций, в своем «Искусстве поэзии»: «Коли хочешь, чтобы я плакал, то сам ты должен испытать скорбь, тогда и меня захватит твое несчастье». Сравните с этим тезисы Станиславского: «Для того чтобы выразить чувство, надо его ощущать»[275]. «Если хочешь, чтоб я плакал — плачь сам»[276].
Актер является как бы первым зачинщиком в этом внутреннем связывании людей с людьми. Он первый через свое искусство вступил в область, где начинаются чужие жизни, а потом увлекает за собой и зрителей. Тут совершается настоящая духовная работа, и от сцены к зрителю идет целая цепь духовных работ. Овладеть чужой жизнью, войти в чужую личность, войти в человечество, лежащее за чертой его собственного «я», — это для актера, конечно, не шутка, это «работа актера над собой», как называется главная книга Станиславского. В этих духовных связях, что устанавливаются между актером и ролью, между всеми актерами, находящимися на сцене, между сценой и зрителями, наконец, всегда незримо преодолевались некоторые преграды. Исполнять роль — совершать некоторое деяние, общаться на сцене — тоже деяние, и, наконец, деяние, заключительное по порядку, — это единство, найденное между зрителями и сценой. Что преграды присутствуют, что их наличие являет собой ценность для нас, так как без этого связи и общение потеряли бы свой серьезный характер, об этом можем судить по иным театральным эксцессам. Станиславский рассказывает, как на утреннике, когда для детей ставилась «Синяя птица», мальчик лет десяти толкнул его и зашептал: «Скажи им, что Кот подслушивает. Вот он, — спрятался, я вижу»[277]. Если искать еще примеры из литературы, то вот что вспомнил старый театрал: он ребенком смотрел пьесу «Роберт и Бертран». По
298
пьесе воры спрятались на глазах у зрителей под столом, жандармы напрасно их ищут, а из ложи — детский крик: «Не уходите, смотрите, под столом они»[278]. Детское восприятие в данном случае не улучшает, как это бывает, картину вещей, а вносит в нее разрушение. Хотя все это происходит под одной крышей театра, хотя все это лежит одно бок о бок с другим, тем не менее и на самой сцене разные миры и все, показанное на сцене, сравнительно со зрительным залом, разные миры опять-таки. Есть социальная и нравственная преграда между разбойниками и жандармами на сцене, есть преграда, очень сложная по своей природе, между сценой и зрителями. Дети не видят преград, они видят только действие, происходящее в едином пространстве, предстающее глазам, и поэтому с торжеством открытия — а открытие ложное — предлагают видеть то, что видеть не полагается. Так как люди и все вообще живые существа разделены интересами, так как все принадлежат разным нравственным мирам, то эмоциональное объединение есть и на самом деле труд, нужно кого-то и что-то отвергнуть, а другое принять, это дело борьбы материальной и духовной, это необходимость преодолевать какие-то препоны и надолбы. Вся сила театрального зрелища в том, что мир, в котором преступничает метерлинковский Кот, и мир зрительного зала не являются прямым продолжением друг друга, а связь между ними тем не менее устанавливается. Когда же Тильтиль, Митиль и Кот на одной стороне, мы — на другой, и можем общаться без всяких предварительных затруднений, то связь между нами становится бессодержательной. Это не будет театром, это будет простым переговариванием людей, оказавшихся в одном помещении. Та непрерывность, о которой говорит Станиславский, должна включать в себя и прерывность, должна побеждать ее, что и будет истинным содержанием искусства.
Надо бы думать, театр всегда есть испытание. Мы знаем, не все, для него предназначенное, он принимает. Есть самые несхожие мотивы для такого неприятия. Но вот самый главный: театр, если это театр, а не развлекательное заведение, по самой своей приро-
299
де не приемлет лжи — впрочем, и те, кто хотят развлечений, те тоже предпочтут держаться подальше от лжи и ее тяжелого духа. Будучи оцеплением душ, идя от души к душе, театр выталкивает ложь. Непрерывная линия, о которой говорит Станиславский, рвется, если ложь проникла в театр, и после разрыва непрерывность уже больше не восстанавливается. Первоприсутствующий в театре, глава живых связей театра, актер-протагонист принимает в себя некую драматическую истину. Если это и в самом деле истина, то она проявит себя силой сообщаться другим, ею заживут другие актеры, ею заживет ансамбль, она пройдет к зрителям. Театр — испытание на правду и правдивость. Внутренняя тема театра должна пройти сквозь многие души, столь многие, что если она содержит фальшь, то где-то она споткнется, у порога чьей-то души, и не будет сплошной линии, которой требовал Станиславский. Мы говорили о продуктивности правды, скажем теперь о непродуктивности лжи. Вероятно, для литературы неподкупная проверка в том, насколько литература способна идти через театр, овладеть актерами, убедить их, склонить в свою пользу, а потом через них овладеть зрителями. Произведения, которые десятилетиями остаются в репертуаре, можно считать проверенными в рассуждении их внутренней истинности. Актер несет в ансамбль эмоциональную информацию, ансамбль несет ее зрителям, и если она лжива или только частично содержит ложь, то утаить это невозможно, на каком-то куске своей дороги и через кого-то ложь обнаружится.
Если театр питается истиной и правдой, то он становится прекраснейшим поприщем общения людей друг с другом. Зрители и актеры тогда в известном смысле меняются местами. Не однажды нам приходилось говорить об активности — духовной — зрителя, который тоже по-своему «играет» в спектакле. Станиславский называл зрителя «третьим творцом» спектакля. Но ведь и актеры тоже заодно и зрители. Они воспринимают на сцене друг друга так же, как и зрители, от зрительского впечатления идет многое в их игре. Есть многое на сцене слабо доходящее до зрительного зала и тем не менее необходимое. Слишком тонкая мимика актера, быть может, ускользает от зрителей в креслах, тем более — от зрителей высоких ярусов; но парт-
300
нер на сцене ее уловит и прочувствует, и она будет одним из мотивов его поведения, его жесты и поступки отчасти будут ответом на эту мимику. Актеры должны создавать иллюзию не только для партера и ярусов, иллюзия нужна и им самим. На сцене они продолжают зрителя, как в зале зритель продолжает их.
В нашей прессе печаталась статья Артура Миллера «Машины жаждут»[279]. В ней говорилось о возрастающей публичности современной жизни — радио, телевизоры, пресса за вами гонятся, вам не позволят побыть наедине с собой. В конце статьи американский драматург говорит об античном театре, о четырнадцати тысячах зрителей в театре Эпидавра как о своего рода предвосхищении современной публичности. Но Артур Миллер забывает об одном очень важном отличии. Быть может, современные орудия публичности действительно уничтожают покой индивидуального человека, но они не дают ему и подлинных радостей общения, — мы говорим о радио и телевизоре, об орудиях самоновейших. Радио и телевизор в такой-то день и в такой-то час приходят на дом к миллионам. Тут нет ни прелести камерного общения между людьми, ни грандиозных предпосылок восприятия искусства через коллектив и совместно с ним. Миллионы людей телевизора суть абстракция. Они присутствуют отсутствуя. Программу могут передавать и будут передавать, пусть ни один телевизор не будет включен. Миллионы эти не дают зрителя в новом его, массовом, коллективном качестве. Если передачи смотрят в соседнем доме или даже у вас за стеной, то это нисколько не влияет на ваше восприятие. Вл. Саппак, в очень симпатичной и умной книге говоривший о домашнем, не театральном характере телевидения, упускает, что суть не в этом[280]. Телевизор действительно обращается к вам у вас же на дому, но в то же время как индивидуальность вы для него безразличны. Он крепко держит в уме своих, все равно реализованных или нереализованных, телезрителей, имя коим легион. Телезритель не есть личность, он не есть масса, он один из тьмы очень многих, входит не в массу, но в цифру, он — среднее, выводное число.
301
Театр в Эпидавре и всякий театр давал и дает то, что новой техникой может восполняться, но чему замены нет. Театр, эта самая древняя форма общения людей через искусство, своими четырнадцатью тысячами сидящих бок о бок, дыхание возле дыхания, создал то, что и сегодня нужно, как и столетиями это делалось, выхаживать и хранить. Непрерывность, о которой говорил Станиславский, непрерывная единая жизнь четырнадцати тысяч зрителей или более того, — это движение, обладающее силой навсегда.
ТАИРОВ И КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
Александр Яковлевич Таиров (1885—1950) — один из лучших и известнейших деятелей нашего театра. Сначала актер и режиссер, потом только режиссер, он основывает в 1914 году в Москве Камерный театр, доставивший ему славу сперва в пределах нашей страны, а позднее и всемирную. Таиров был человеком необыкновенной энергии и продуктивности. Кажется, он мог бы в этих отношениях соперничать с Максом Рейнгардтом, который в качестве постановщика изумлял весь мир своей неутомимостью. Таиров ставил не менее двух, а то и больше, новых спектаклей в год. Камерным театром Таиров руководил вплоть до года 1949-го, и с течением времени отложился в истории этого театра огромный репертуар, подготовленный Таировым. Как правило, Таиров не повторял самого себя, каждая новая постановка была также и театральным новшеством, желанием дать еще одно неведомое направление искусству сцены, испытать неиспытанное и проверить непроверенное. Но у всех спектаклей Таирова была единая своя тенденция, свой стиль; руку Таирова, приложенную к постановке, всегда можно было узнать, как руку, Вахтангова или Мейерхольда, или Станиславского и Немировича.
305
Когда мы вспоминаем спектакли Камерного театра, то мы видим перед собой просторную сценическую площадку, щедро освещенную, занятую немногими фигурами, из которых каждая по-своему внушительна. Перед нами зрелище строго организованное, исключающее всяиий случайный элемент, светлое и суровое. Сами эти стройность и строгость переживаются нами как высокое достижение, независимо от того, какие именно частные темы, большие или малые, трактуются в спектакле.
На сцене почти отсутствует бытовая утварь; намеки на быт, если и даются, то весьма издалека. Нет бытовой стихии, способной сливать фигуры актеров в одно, нет столов, с обсевшими их людьми, .похожих на многоножку, нет диванов, на которых теснятся и ютятся человеческие тела, слипшиеся в некое единое бесформенное тесто. Каждое действующее лицо в спектакле имеет свою обособленную сферу, свои полномочия и свою ни с чем и ни с кем не смешанную ответственность.
Алиса Георгиевна Коонен рассказывает, как ставил Камерный театр «Федру», трагедию Расина: «Интересно была разрешена в последнем акте мизансцена исповеди и смерти Федры. Федра ползла через всю сцену на коленях, медленно передвигаясь широким движением раненой птицы. Плащ, открывая обнаженные плечи, тянулся сзади, как кровавый след. Во время своего признания, обращенного к Тезею, Федра внезапно выпрямлялась во весь рост, и тут же падала мертвая. Всегда после этого монолога долго не нарушалась в зрительном зале тишина, и только потом звучали аплодисменты»[281].
Красный плащ Расиновой Федры — хороший пример того, как строились спектакли у Таирова. Всякая подробность, казавшаяся только декоративной, вводилась в спектакль как некоторая действенная величина. Красный плащ говорил. Им пользовались экономно, он говорил, он высказывался не однажды, его применяли и для одной цели, и для другой, и для третьей, с его помощью возникло целое повествование. Он был свидетельством о невинно пролитой крови Ипполи-
306
та, о крови искупительной — самой царицы Федры. Плащ извивался по-змеиному, напоминая о предательствах, о преступлениях героини. Кровавый след указывал также, что за преступлениями приходит страшная расплата, очистительная .казнь. Таирова часто обвиняли в пустой, неосмысленной зрелищности, и все это от неумения смотреть — читать — его спектакли. На самом деле подробности зрелища у Таирова были отягощены множеством внутренних значений. Он близок был к эстетике классицизма, который любит обращаться к глазу, любит картинность, но также любит все зрительное растворять в стихии смысла, превращать в достояние мыслящего ума.
Мы с умыслом говорим о классицизме. Считанные фигуры мизансцен, строгая и точная планировка, минимальное количество вещей на подмостках — все это признаки классического стиля в театре, и недаром Таирова спустя столетие, после того как они сошли с русской сцены, снова поманили к себе гении французской классической трагедии.
Адриан Пиотровский писал об инженерно-индустриальном стиле режиссуры Таирова[282]. Эту таировскую точность, строжайшую выверенность всякой подробности лучше бы определять с точки зрения эстетики, и тогда нет иного термина, как классицизм в строгом смысле его. Мы не намерены кого-либо уверять, что где-то в 10-х годах нашего века в русском театре через Таирова некий классицизм утвердился заново. Нет, Таиров был и остался художником, никого и ничего не повторявшим. Но если искать, какие особые штрихи отличали его от других мастеров режиссуры, его современников, то мы бы указали на некоторую прививку классицизма к его театральной эстетике и поэтике, — все это было чуждо и Станиславскому, и Мейерхольду, и Вахтангову, а Таирова отмечало особым образом. Тяготения к классицизму заметны и в русской поэзии, современной первым годам Камерного театра. Они присутствовали у Валерия Брюсова, у Анны Ахматовой, у Осипа Мандельштама. Небезразлично, что впервые в русском искусстве имена Федры и Расина были произ-
307
несены заново в стихах Мандельштама, что новой Федрой рисовалась ему Ахматова в ее поэзии и что приверженец античной классики Брюсов был ближайшим помощником Таирова, — он приготовил для Камерного театра новый перевод трагедии Расина. Конечно, реальных, от самой действительности взятых оснований для неоклассического стиля не было в те годы ни у поэтов, ни у деятелей театра. Классическая дисциплина и порядок, сжатость и краткость классических концепций — все это возникало как противоположность жизненному хаосу предреволюционной России, трудностям постичь его, свести к ясным формулам. Сама стройность и ясность этого классицизма оказывалась мечтательной. Классицизм был частью той полемики, которую вел Таиров в своем театре против действительности тех лет и против искусства, так или иначе послушного ей.
Камерный театр открылся в декабре 1914 года, когда первая мировая война уже находилась в разгаре. Чаще всего не давая себе отчета в этом, новый театр в художественной своей практике по-особому выражал сомнения в прочности того строя жизни, который существовал накануне войны и был застигнут ею. Вся работа Камерного театра проникнута была последовательной нелюбовью к типам и формам сценического искусства, в ту пору господствовавшего, а искусство это являлось своеобразным поощрением, поддакиванием укладам жизни, как они сложились ко времени мировой войны. Камерный театр смертельно враждовал с театром бытовым, житейским, натурально-домашним по стилю своему, буржуазно-интеллигентским, мещанским, жирным и уютным, досыта кормившим обывателя милыми ему впечатлениями, обставляющим его вещами до скуки известными, спокойно-знакомыми. Для Камерного театра неприемлем был тот тип человека, который возлелеяла бытовая пьеса, — начиная от его внешности и кончая внутренней его настроенностью, ощущениями его и образом мыслей. Театр смутно сознавал, что нужны совсем иные люди — нужны люди хорошего калибра, люди воли и силы в современном мире, который расшатывает мировая война и который придется налаживать заново, строить заново.
Борьба с натурализмом, с театром повседневного быта, лишенного кругозоров и перспективы, сама по
308
себе отнюдь не являлась тогда необычным, впервые Таировым начатым делом. Она давно уже захватила лучшие театры и лучших режиссеров. И прежде всего тот театр, на который так любили ссылаться, как на свой образец, приверженцы натурализма, — Московский Художественный. Станиславский и Немирович давно отошли от своих былых приемов работы, когда им доводилось платить дани театральной методе мейнингенцев, ревнителей ненужно-доскональной правды в театральных постановках. Художественный театр более поздней поры, ставя Мольера, Тургенева, Достоевского, увлечен был совсем иными эстетическими целями. В Петербурге протекала неистово-реформаторская деятельность молодого Мейерхольда, коснувшаяся театра и драматического и музыкального. В Москве с большими перерывами во времени возникали одна за другой студии Художественного театра, разные по характеру, но равно призванные сказать самостоятельное слово, не имитирующее театра, породившего их. Как режиссер уже складывался Вахтангов, на своих театральных площадках делали свои режиссерские опыты Комиссаржевский, Марджанов. Задумывая устраивать свой театр не по традиции, Таиров был в ту пору отнюдь не единственным искателем театральных новшеств. Одна из забот его состояла в том, чтобы не затеряться в многоликой этой среде новаторов и доказать свои права быть тоже отмеченным и тоже услышанным, как этого добились уже другие.
Необходимо уяснить себе, что и в силу внутренних своих законов буржуазный театр не мог до конца оставаться буржуазным театром. Театральный критик журнала «Аполлон» Зигфрид Ашкинази весьма обнаженно писал об экономическом принуждении к народности, к демократизму, нависшим над зрелищными предприятиями того времени. «Театр демократизуется в силу технических условий и увеличивает масштаб по чисто внешним, материальным причинам. Беспощадная конкуренция и, как следствие ее, огромные издержки на постройку и содержание роскошных зданий и столь же роскошные постановки принуждают театр увеличивать число зрителей, чтобы увеличить сбор. Новый театр стремится расширить зрительный зал до последней возможности, и "театр пяти тысяч" не легенда, а вопрос времени, быть может, даже очень близко-
309
го»[283]. И внешние и внутренние мотивы толкали театр кануна мировой войны и театр современный ей переступить за порог келейно-бытового репертуара, тихого, интимного стиля, присущего ему. «Театр пяти тысяч» требовал демонстрации на сцене крупных массовых сил и интересов, а также требовал художественного языка, .который находился бы в соответствии с этой грозной и великой жизнью. Мы не скажем, что Таиров прямо и неукоснительно шел к большому театральному стилю. Но своими выпадами против репертуара и исполнительских навыков, которые установились на русской сцене, своими опытами оживить и ввести в оборот произведения, для сцены необычные, сыгранные тоже необычным способом, Таиров разрушал ветшающее театральное искусство и временами угадывал, чем и как дано его обновить.
Какая-либо из любимых актерами и публикой пьес тогдашнего репертуара могла бы нам объяснить более близким образом, против чего и почему вел свою полемику Таиров. Пусть это будут «Осенние скрипки» Сургучева, драма, .которую ставил Художественный театр и вслед за ним десятки и сотни театров провинции. Драма Сургучева — далеко не худшая из драм того времени, не вовсе лишенная литературных достоинств, и тем не менене она-то и поможет нам ближе узнать, что именно в стиле и в репертуаре, господствовавших тогда, вызывало недовольство людей, желавших изменить жизнь театра. Сургучев преподнес театрам одну из непременных тогда комнатных драм, ушедших в собственную свою сферу. Изображаются комнатные коллизии. Стареющая женщина, жена адвоката, который преуспевает, любит молодого человека, тоже адвоката, который только будет преуспевать. Так как она боится, что ее вскоре бросят, то она устраивает брак своего возлюбленного и приемной своей дочери,— оба останутся у нее на виду, сохранится какая-то преемственность любви, человек этот не канет для нее в неизвестность. Люди в этой драме — приложения к хорошо меблированной квартире. Они целиком как бы вышли из рук своих портных и краснодеревцев. Сохраняются, однако, какие-то струйки
310
биологической жизни — «природы»: люди эти пьют, едят и, что главное в сюжете, — любят, сонливо и довольно плотоядно. Над героиней властвует фатум возраста. В этой пьесе, как будто бы целиком посвященной чувствам, на самом деле чувства сколько возможно обезврежены. Все переживается только наполовину, с оговоркой, с удержанием. Разлука — только отчасти разлука, и бывший возлюбленный останется где-то возле. Его измена только полуизмена, так как прежняя любовь подписала ему этот брак и эту девушку. Сама эта девушка полуобманута, ибо она получает в качестве мужа бывшего любовника своей названой матери. Все отношения и чувства расколоты, даны какие-то доли, какие-то сторонки чувств вместо чувств подлинных, владеющих людьми безоговорочно. Героиня устраивает для себя комфорт несчастья. В сущности, она эгоистична. Чтобы катастрофу своей любви обставить с удобствами, она заставляет проходить через ложь и недомолвки также других. Она желает остаться женой при собственном своем муже, ничем не потревожив его да, собственно, и самое себя. Тут нет жертв, бурных бесповоротных решений, великой судьбы или великой несудьбы. В конце концов, главная действующая сила не люди, но быт их, хорошо налаженный, с которым они вступают в компромиссы, избегая сколько-нибудь серьезных конфликтов с ним. Красная мебель торжествует — люди никуда не уйдут от нее. Пьеса неодолимо прозаична по духу, скрытому в ней. Проза захватывает какой угодно высоты символы, едва лишь они появляются в этой пьесе. Осенние скрипки Верлена в этой пьесе — скрипки стареющей дамы, которая опасается, что уйдет молодой любовник. У мужа болезнь глаз, он ходит с повязкой на глазах, — слепота всего только символ плохой информированности одного из супругов о том, что творится тем временем на половине другого.
Таиров отстаивал эмоциональность в театре — наличие деятельной души в актерах и в персонажах, не идущих на множество больших и мелких сделок чувств и чувствований. Таиров требовал от театра совсем иных эмоций: тельных, вдохновляющих. И эта стойкая программа театра эмоционального при всех уклонах, которые претерпел Таиров, позволяла ему по-своему сохранять положительное соотношение с театром
311
реалистическим, а позднее — с новыми силами вернуться, впасть в общее течение этого театра. В книге своей «Записки режиссера» он спорит и с театром натуралистическим и с театром условным. И тот и другой театр губят эмоциональное содержание искусства. Первый трактует эмоции скептически, неряшливо, а то и загрязняет их, второй вовсе отрекается от эмоциональности, от всякой связи с подлинной душевной жизнью и весь уходит в фикции, материальный ли это мир или духовный. Следует особо отметить эту с первых же начинаний последовательную, убежденную неприязнь Таирова к условному театру — к театру, стоящему вне жизни человеческой души, высокомерному, к живой эмоциональности, к языку воли и чузства. В первом же своем спектакле Камерный театр проявил необыкновенную репертуарную смелость: для открытия Таиров поставил в переводе Бальмонта драму древнеиндийского классического поэта Калидасы «Сакунтала», до которой никогда русская сцена не дотрагивалась. Нам кажется, великая и прекрасная эта драма более всего для нас удивительна неслыханным обилием эмоциональной жизни, потоками струящейся в речах, репликах действующих лиц, в мимолетных даже их обращениях друг к другу. Тут все полно души и душ, тут душевно богаты и героиня, девушка из пустыни, и любая из ее подружек, и главные лица, и всякий мимоидущий, едва относимый к действию, он тоже особая и самобытная душа. Эмоции здесь усилены, так как все вещи и существа переплетаются друг с другом, и стоит тронуть что-либо одно, как вместе с ним отзывается второе и третье. Сакунтала происходит из заповедной области, звери там неприкосновенны для охотников, одна сплошная многообразная жизнь у зверей, людей и растений. Художником спектакля был молодой еще тогда Павел Кузнецов. Живописной разработке спектакля придан был несколько цветочный, растительный стиль. Казалось, что растения, животные и человеческая цивилизация находятся в постоянном внутреннем обмене, составляют одну плоть и одну душу. Вещи сделанные, вещи цивилизации, и вещи несделанные, живая природа, сливались на сцене друг с другом в одну сплошную жизнь, пафос которой и был пафосом индийской драмы. Двуколка царя Душианты как бы продолжалась в тех двух конях, которые мча-
312
ли ее, далеко занеся свои передние ноги. Ездок, сидящий в колеснице, кони, подковы на конях — все это было охвачено общим движением, краски чередовались, перекликались друг с другом.
Драма Калидасы ослепляет своей эмоциональной безупречностью. Сакунтала стала женой царя где-то в дебрях заповедника. Она явилась к Душианте в столицу, и он не умеет признать ее, так как потерян талисман, который был ей вручен. Отвергнутая, оскорбленная, она настолько во власти чувства, ее застигшего, что мы от нее не слышим каких-либо слишком жарких слов в собственную пользу. Сакунтала не из тех, кто бывает стряпчим по собственным своим делам.
Калидаса изобразил любовь героическую, некрасноречивую, выжидающую, уверенную в своей правоте, которая разъяснится без каких-либо суетных усилий. Калидаса на сцене Камерного явился некоторым поэтическим очищением после репертуара, который заполнял тогда другие театры столиц и провинций. Таиров сразу же совершил крутой подъем — от Сургучева и Арцыбашева к Калидасе.
Мы бы сказали, что Таиров в отношении актеров занялся работами бурения. Он стал искать в актерах, а совместно и в действующих лицах драмы душевных слоев, лежащих глубже того, что принято называть человеческим характером. Он стал домогаться, чтобы в людях сцены заговорила страсть. Характер — это приспособление человеческой души к повседневной среде и к быту. Недоверие, ненависть к буржуазному строю жизни сказались в этом скептическом отношении к характерам драмы и сцены. Страсть — верховное понятие театра классического, а также и театра романтического. Страсть как бы первозданный материал души. В страсти человек возвращается к собственной цельности, в страсти он обретает охоту и решимость до конца быть верным самому себе. Все назначение каких-нибудь «Осенних скрипок» в заговаривании страстей, в бытовых компромиссах, в посредничестве между человеческой душой и обстоятельствами, принудительность которых она в этом случае принимает. Таиров как бы раскопал страсть в человеке, устранил все, что закрывает ее. Камерный театр оказался желанным прибежищем для трагедии страстей — для «Саломеи» Оскара Уайльда
313
(1917), для «Ромео и Джульетты» Шекспира (1921), наконец, для «Федры» Расина (тот же 1921).
Нужен особый рассказ о судьбе и значении «Саломеи». Написанная Уайльдом для Сары Бернар, которая, однако, не сыграла ее, эта трагедия стала надолго во всех театрах мира соблазном для первой актрисы. У нас в России с 1904 года по 1908-й опубликовано было шесть изданий этой трагедии в разных переводах — больше чем в какой-либо другой стране за целых тридцать лет, начиная от ее появления[284]. Ее воспринимали у нас как вызов, брошенный церкви, как крупную антирелигиозную выходку. Она попала в промежуток между двумя нашими революциями, и сначала одна из них, потом другая определяли каждая по-своему театральное осмысление этой драмы, по сути своей очень далекой от революционного содержания, если даже и не прямо враждебной ему. Драма эта приобрела смысл относительный и соотносительный, на время вытеснивший смысл, присущий ей как таковой. После Октябрьской революции с увлечением ставил ее Марджанов в Киеве, в 1919 году. Г. М. Козинцев недавно вспоминал об этой постановке и хорошо объяснил, в чем состоял ее пафос: «С жаром он (Марджанов) говорил о духовной цензуре, некогда запрещавшей пьесу, о мечте Комиссаржевской сыграть эту роль, о трагедии протеста личности»[285]. «Я думаю, что "Саломея" 1919 года была несхожа со старыми постановками этой пьесы. Вместо блеклых тонов и декадентской вялости на сцене была яркость, энергия, страсть»3. Уайльдову «Саломею» не могла принять белая эмиграция. Во время гастролей Камерного по Германии газета «Руль» напечатала протест Русского национального студенческого союза, — организация эта возмущалась по двум причинам сразу: почему Камерный театр играл в страстную субботу и почему в этот вечер театр кощунствовал вдвойне — ставил «Саломею»[286].
Очевидно, для Таирова «Саломея» была бурной сценической демонстрацией страсти как таковой, страсти
314
как первоисточника душевной жизни. На первых порах не столько важно было, какова эта страсть, чему она служит, что воспитывает. Существенным казалось, что страсть представлена здесь -в своей непререкаемости, в своем абсолютном виде, отрешенная от каких-либо соображений, которые могли бы ограничить ее. Вероятно, самого Уайльда дразнили парадокс и абсурдность переживания любви в этой его трагедии — Уайльда, который прежде того в «Герцогине Падуанской», например, хотел восстановить -во всей его сокрушительной и наивной силе старый театр страстей, созданный романтиком Гюго под приметным воздействием трагедий французского классицизма. В драме Уайльда героиня никому и ничему не желает подчиняться, пораженная страстью внезапно и навсегда. Крайняя форма этого неподчинения — она требует в развязке голову Иоканаана, человека, ею боготворимого и отвергнувшего ее. Даже самый предмет любви является для Саломеи ограничением любви. Нужно уничтожить предмет ради воцарения страсти, не ведающей никаких препон отныне, безумствующей по поводу собственной своей автономии. Когда Саломея целует мертвую голову Иоаканаана, лежавшую на блюде, — это и есть трагический абсурд любви, не пожелавшей признать что-либо иное, кроме самое себя, возмечтавшей о собственной исключительности.
«Саломея» Уайльда — это обнаженный, преувеличенный пример театра страстей, и она скрыто, в более скромном виде присутствует з других спектаклях, поставленных Таировым. Очевидно, она послужила некоторым прообразом для Расиновой «Федры». Нас не должны удивлять эти совпадения при столь значительной удаленности друг от друга исторических сюжетов. Стоит вспомнить прославленную трагедию Гуго фон Гофмансталя «Электра», в античном сюжете и в античных мотивах которой явственно слышны отзвучия, подсказанные Уайльдовой «Саломеей» — опять-таки. Таиров ставил «Федру» Расина, приближая эту драму, сколько возможно, к античным образцам. Но «Ипполит» Еврипида не дал бы Таирову искомого. В античной трагедии тема пасынка преобладала над темой мачехи и исступленной ее любви, она же ненависть. Драматическое первенство Федры Таиров мог найти именно у Расина, и вот Расина он эллинизировал, насколько это было возможно. Мало того — ему нужно было связать Расина не с классиче-
315
ской Элладой времени великих трагиков, но с той культурой, которая предшествовала Элладе в этом мире древнего Средиземноморья. Таиров сделал «Федру» не только античной, но еще и архаичной. Начавшееся тогда в Европе увлечение греческой архаикой, открытия в области крито-микенской культуры повлияли на него. Он увидел в Греции более глубокую древность, чем обыкновенно ей приписываемую. Какими-то недобрыми и темнейшими временами веяло в этом спектакле, над которым работал художник Александр Веснин. Вместо плавности и округленности классической Эллады он избрал повсюду колючесть и угловатость, вместо легкости и воздушности — грубую и угрюмую весомость. Конечно, постановщика Таирова нисколько не беспокоила датировка событий «Федры», сама по себе взятая. Впечатление мглы времен понадобилось в этом спектакле ради того, чтобы отяжелить и усилить его эмоциональное содержание. Страсти, овладевшие царицей Федрой, происходили как бы от самой природы, они родились в тот древний час, когда природа и культура едва успели отъединиться друг от друга, когда едва отесаны были камни, заложенные в основу цивилизации. Федра в спектакле Таирова таинственным образом преклоняла слух к земле, она дорожила неутраченной сзязью своею с недрами, от матери-земли она как бы ждала внушений и наставлений. Грубо изваянный, камню подобный шлем пригнетал голову Федры. В тяжелых шлемах и в тяжелых доспехах на остальных действующих лицах как бы заключалась сила земного тяготения. Объем и вес первичных чувств многообразно подчеркивались в этом спектакле. В мятеже царицы Федры чувства эти собраны были воедино.
Конечно, Таиров многим рисковал, создавая свой новый театр страстей человеческих. Он хотел избавиться от настроений и идей своих ближайших современников, но одно и другое незаметным образом по пятам следовали за его спектаклями. Генрих Гейне в трактате своем о религии и философии в Германии, книга первая, рассказывает со слов Андерсена, своего датского друга-сказочника, историю одного ютландского крестьянина. Тому очень досаждал домовой, который завелся у него в доме, и тогда крестьянин этот решил все бросить, сложил на повозку весь свой скарб и пустился в путь — он решил поселиться в другой деревне. Но в дороге, едва
316
он оглянулся, как заметил, что домовой высовывает голову в красной шапочке из кадки на возу и дружески кивает — он тоже захотел на новоселье. Думали, что от него бегут, а везли его с собою. В таировском театре, в той же «Саломее», отчасти «Федре», незамеченные самим Таировым, угнездились признаки, неизбежные для спектаклей тех лет. В них сидел домовой физиологичной, пряной и томительной эстетики начала века. Пробивалась здесь манера психологических расщеплений, ненужных, болезнетворных, хотя все это и шло против принципов, принятых руководителем театра. Связь с обыденной драматургией возникала с непрошенной и непредвиденной стороны. Таиров ставил драму на библейский сюжет и драмы на античный сюжет — не только Расина, но еще до того и Иннокентия Анненского, а позднее Газенклевера («Антигона» немецкого драматурга поставлена была в 1927 г.). Таиров обычно отходил от исторической определенности в колорите спектакля, в них больше было вневременности, чем исторического времени, сколько-нибудь строго датированного. А ведь и это было своеобразным совпадением с драматургией Арцыбашева, Сургучева, Найденова, Леонида Андреева. Ведь и они изображали свой день как вечный день, ведь и им не думалось с какой-либо настоятельностью, что порядок жизни, который их томил и тайно все же им нравился, обречен на исчезновение, исторически преходящ, как преходящими оказались многие другие уклады в отдаленном и в недавнем прошлом. У Андреева, стоявшего выше других драматургов его плеяды, это превращение сюжетов и мотивов сегодняшнего дня в нечто мнимонадвременное совершалось открыто безоговорочно в драмах его, написанных по правилам поэтики символизма, притязающих на раскрытие последних мировых истин. Отсутствием историчности тогдашний общепринятый репертуар исподволь заражал и новаторов, ставивших на сцене драматургию совсем иного направления.
Таиров восставал против бытового стиля современников-драматургов. У них образ действительности едва ли не целиком сводился к быту, да к тому же мелкому и доброй долей омертвелому. Но и Таиров не был свободен от веры, что быт и действительность совпадают, и поэтому отрицание быта в иных случаях граничило у него с отрицанием действительности как таковой. Таиров отправлялся от невысказанной предпосылки, по
317
которой высокая возвыпенная жизнь, героика, духовность человека, лирика, свойственная ему, красота в реальную действительность не вмещаются, — так сказать, из нее вываливаются, ждут, чтобы их освободили от нее. С житейскими буднями предреволюционных лет они на самом деле очень плохо уживались. Таиров освобождал эти лучшие силы жизни от бытовых врагов, а заодно, можно было бояться, и от самой жизни, от действительности в ее настоящем смысле. Без быта, без действительности в искусстве, пусть и героичном, пусть и патетичном, угасала серьезность. Таиров ставил трагедию, а для трагедии менее всего допустима убыль серьезного. Трагедия, где ослаблено серьезное начало, способна стать смешною, обернуться в комедию поневоле.
У Павла Маркова мы находим описание игры Коонен в ролях Саломеи и Федры: «Саломея соединяла неясное томление с порочной чувственностью. В этой роли Коонен была безудержно смела. Она сильно почувствовала основную эротическую стихию Уайльда. С полуоткрытым ртом, с неосознанно разнузданными движениями, с волей, подчинившейся слепому желанию, она становилась порой страшна, оправдывая приказ Ирода, "задушить эту женщину". На всем же облике Федры лежала печаль[287] экстатичности и жестокости: она сквозила в точти мужском профиле, в огненных волосах, в багровом плаще, в разорванных движениях при первом появлении Федры — Коонен, когда она на невысоких котурнах пересекала под прямым углом сценическую площадку, шла лицом к зрителю и внезапно как бы сламывалась, охваченная болью и позором своей любви к пасынку. Коонен металась на площадке, то сгибаясь к земле, то простирая руки к небу, призывая его гнев и проклятье на свою голову; она говорила свои монологи напевно, порой превращая их в тоскующий плач и болезненный крик»[288].
В описании этом выделены главнейшие признаки манеры и стиля Камерного театра. Игра Коонен — великая гипербола страсти. Коонен как бы добывает из-под земли человеческие, женские силы, предшествующие всякому быту, всякой исторической форме его. И все же театр не избежал — не мог избежать — соприкосновений с мо-
318
дой дня, с той изощренной и жестокой чувственностью, которую прокламировали литераторы, музыканты, живописцы и прочие тогдашние учителя жизни.
Поучительна общая характеристика Камерного театра, которую дает Павел Марков в статье «О советском актере». «В ранние годы Таиров в Камерном театре подменил содержание образа неопределенной эмоциональностью. Но эмоциональность не покрывает всей глубины человека. За этой абстрактной эмоциональностью Таиров забывает о силе мысли и о сложности психики. Оттого большинство спектаклей таировского театра скользило по поверхности, не задевая социальных основ образа. Обращая актера в послушного исполнителя режиссерских заданий, в идеального воплотителя «красивого» человека, желая видеть его только в качестве «эстетического», а не социального и психологического явления, Таиров уводил актера в сторону»[289]. В сказанном здесь очень важны слова о «неопределенной эмоциональности». В словах этих нет одобрения, но в них содержится понимание того, что делает Камерный театр и что он делал с самого своего вступления в жизнь. Да, Таиров хотел свести и сводил своих актеров к некоторой эмоциональности вообще, к тому перводвигателю и к тому первовеществу, из которого созидаются человеческие лица, характеры и нравы. Таиров хотел освободиться от формы, в которую укладывалась душевная жизнь современников, от типов и характеров современной сцены, от обывателя, от мешанина, которыми она была занята и которых она выдавала за единственное достижение человеческой природы. В этих стремлениях Таирова содержалась своя историческая логика, и сами по себе взятые упреки за «неопределенную эмоциональность» не слишком с этой логикой считаются. Сделанные в очень поздний год истории Камерного театра, они имели, однако, тот вполне справедливый смысл, что период «неопределенной эмоциональности» чересчур затянулся, и пора наступила кончать с ним. Но в свой срок и в своих пределах эмоциональность этого рода многое могла привести в свое оправдание. Таиров как бы записал и готовил душевный материал, из которого и можно было, и нужно было заново лепить людей. Сперва неопределен-
319
ность, а потом — определенность, более точная разрисовка мира людей в целом его и каждой индивидуальности, рассмотренной в отдельности. Неопределенность всему предшествовала, ибо она указывала, что необходимо пересоздать состав человечества, ввести в оборот характеры и лица, нисколько не сходные с общеизвестными на сегодняшний день. В народной сказке кузнец в кипятке варил и омолаживал людей. Это становилось и задачей театрального искусства. Грех Таирова состоял в том, что с бытом и с искусством своих тогдашних современников он не рассчитался окончательно, не умел начисто уйти из-под их влияния. Мы говорили: Таиров незаметно для себя склонялся к тому, чтобы воспринять их действительность как образ действительности вообще. Поэтому в новое искусство, которое он хотел основать, одна за другой тащились частности, заимствованные из враждебного мира, с которым он хотел расстаться. Таиров, бунтуя и отрицая, следовал по преимуществу эстетическим мотивам. Явления, которые он считал нейтральными, на самом деле обладали полной действенностью. Они врывались, вползали в таировский театр, оказывали на него идейное влияние и, значит, в конце концов коснулись также и эстетики, которую оберегал от них Таиров. К человеческому материалу, взятому в его неопределенности, слишком много примешивалось определенных, знакомых и вредоносных черт. Проскальзывало отрицательное, дурное содержание, оно оставалось бесконтрольным, не оценивалось по заслугам. Тут, конечно, получила голос драматургия, из которой состоял репертуар Таирова. «Саломея» Уайльда, разумеется, не до конца была стилизацией, и только страсть нельзя было отделить от самой героини, декадентски-жестокой, способной только к любви без любви, к переживаниям, столько же напряженным, сколько и бесчеловечным. Голова Иоканаана — это и некий абсолютизм страсти, это и характеристика Саломеи, современного эстета, для которого нет различия между живым и мертвым, для которого мертвая красота еще удобнее, еще желаннее, чем красота живая, ибо она вся находится в его распоряжении и до конца ему послушна.
Таиров, составляя репертуар, не столько устремлялся в сторону классической драматургии, которая представляла высокий и чистый тип человека, сколько в сторону драматургии современной, только игравшей с класси-
320
ческими, античными и мифологическими сюжетами, забавы ради приставлявшей маски древней Мельпомены к непрекрасным современным лицам. В 1916 году Таиров поставил впервые изысканную и все же весьма примечательную во многом трагедию Иннокентия Анненокого «Фамира Кифаред». Автор этой трагедии даже дразнил театральных зрителей призрачностью в ней всего античного. Он был отличный знаток античного мира и античной поэзии, но по-особому дорожил бесцеремонным, по-хозяйски, по-господски небрежным своим отношением к традициям древности. Модернизация, конечно, никогда у него не бывала наивной, он допускал ее по тонкому расчету. Его Фамира, поэт и певец, потерпел поражение в состязании с музами. По сути своей он тот же современный художник — неудачник, по закону времени неспособный подняться до искусства высоко-значительного, до победительной борьбы с классическими мастерами. Если угодно, в этой драме скользят чеховские и послечеховские темы, и можно рискнуть сравнением Фамиры, сына нимфы, с Константином Треплевым, сыном актрисы, гастролирующей в провинции[290]. Сама эта тема неудачи, которая как бы становится чьим-то призванием и назначением, конечно, невозможна у древних. У них могли бытовать сюжеты и фабулы, в которых сообщалось бы о людях, за дерзость наказанных, о людях, нечто предпринявших и потерпевших тяжкое поражение. Но мысль, чуждая древним, — существование людей, для которых поражение, урон, промах, ошибка являются вечной судьбой. Древние понимали, что́ такое неудача, и не умели понять, что такое неудачник, лицо, создавшееся в литературе позднейших эпох.
Если продолжить сравнение с Чеховым, то, начатое, оно сразу же должно оборваться. В реалистической драме[291] Чехова неудачник и его неудача созданы историей и условиями. Во вневременной по стилю драме Анненского и то и другое получили значение безотносительное: человек как таковой есть существо неудавшееся матери-природе и не ему спорить с богами.
Анненский писал в предисловии к более поздней своей трагедии «Меланиппа-философ»: «Автор трактовал античный сюжет и в античных схемах, но, вероятно, в его пьесе отразилась душа современного человека». Далее Анненский признавался в том, что будь он обречен навсегда на общество одних только персонажей еврипи-
321
довских трагедий, оно стало бы для него несносным, и это при всей многолетней привязанности его к Элладе[292].
Так или иначе, какую драму ни ставил бы Таиров, всюду выявлялась сила эмоций, скрытая в душах, в делах, в деяниях людей, — и делалось это с большей или с меньшей чистотой, в меру освобождения от посторонних примесей и подмесей, профанирующих эмоциональное начало или даже оскверняющих его. От драмы к драме и от спектакля к спектаклю Таиров как бы извлекал квадратный корень страсти, если в людях и в людских делах этот корень заподозривался.
Когда Таиров поставил «Ромео и Джульетту» Шекспира (1921), то он обратился по преимуществу к эмоциональному содержанию трагедии, минуя сюжет, коллизию домов в Вероне и все к ней относящееся, — все это он хотел отодвинуть на вторые и на третьи планы, наполнив спектакль диалектикой любовной страсти как таковой, историей ее рождения, апофеоза, естественного и неизбежного конца. Мы не собираемся утверждать, что всегда и всюду именно так можно и должно играть трагедию Шекспира. Но в своих опытах обнаженно эмоционального театра Таиров трагедию Шекспира мог освоить в этом именно смысле, иначе выбор ее оказался бы для него неоправданным. «Гроза» Островского, поставленная в 1924 году, тоже преподнесена была со стороны своей эмоциональной логики, со стороны исторических, национальных стихий душевной жизни, вступивших в этой драме в схватку друг с другом. Театр видел в этой драме не столько борьбу неких определенных лиц и положений, не столько «борьбу характеров», сколько великую коллизию слитно и неотразимо действующих внутренних сил, для которых характеры — только зыбкое и приблизительное выражение. Сергей Игнатов комментировал эту постановку в газете «Камерного театра»: «В чем сценическая ось этой пьесы? В столкновении закостенелых традиций с живой жизнью, домостроя с Васькой Буслаевым, в исконной борьбе двух начал — разума и аскетизма, которые в своем сочетании приобретают на Руси очень часто уродливые формы…»[293].
322
Таиров не ушел в служение одной лишь высокой трагедии. На сцене Камерного театра развернулось во всю широту и комедийное веселье; Бомарше и Гольдони стояли одними из первых в репертуаре новооткрытого театра («Женитьба Фигаро» Бомарше, 1915; «Веер» Гольдони, 1915). Таирова и в комедии увлекали не нравы и характеры, но само комедийное вдохновение, темперамент и накал комедийного зрелища. И то и другое получило выход в спектакле 1920 года по мотивам повести Э.-Т.-А. Гофмана «Принцесса Брамбилла» — повести, где воспроизводятся эпизоды венецианского карнавала, и где по этой причине уже сама тема являет собою веселую игру, веселое и бурное зрелище. Таиров в этом спектакле вместе со своим сподвижником художником Георгием Якуловым, оказался неистощим на театральные импровизации, одни порывы режиссерской фантазии сменялись другими, в колонны декораций Якулова были врисованы языки пламени, ниспадающие линии змеились, цвета — голубые, медные, нежно-розовые, ядовито-травянистые — были цветами небывалого, невиданного мира, создавали иллюзию, что все вокруг изменилось в основе своей, потеряло всякую связь с буднями, а этого и требовала идея карнавала и карнавальных празднеств.
Сама театральная игра в этом спектакле приняла вид азарта, персонажи с их масками и костюмами похожи были на игральные карты, брошенные на стол, разрисованные по-иному, с иными фигурами, чем карты, взятые из зауряд-колоды.
Буржуазный театр 1910 или 1915 года, против которого с тем или иным успехом враждовали Таиров и другие обновители, обладал некой собственной своей законченностью. Пьесы тогдашнего репертуара заранее предопределяли специальные средства сцены, устанавливали, какие из них нужны и насколько нужны. Пьесы, трактовавшие буржуазную жизнь и буржуазного человека, предъявляли к искусству театра требования поразительно убогие, постыдные и мелкие. С актера игравшего в современной пьесе, спрашивалось весьма немногое: умение прогуливаться в длинных брюках по сцене, присаживаться к столу, помешивать ложечкой в стакане, стряхивать пепел с папиросы и вести ужа-
323
сающе вялые разговоры с прочими, такими же героями чаепития. Если это была актриса, то она могла блеснуть тремя-четырьмя переменами туалетов, большой, средней или малой истерикой, сценами кокетства, тоже имеющего свои степени. Человек в этих драмах с мебелью и тяжелыми коврами едва ли не превращался в бытовое пятно, в средство соединить одну бытовую ситуацию с другой. Бывают исторические эпохи и периоды, когда то или иное искусство остается без поручений и без питания, оно истощается и страждет от своей ненужности. Если оно и занято, то всего только частично, его держат как бы на неполной рабочей неделе. Где-нибудь в 1910-м или в 1915-м множество театров и театриков работало в столице и в провинции. Между тем драматическая сцена находилась в ненормальном положении.
Начало всех начал — репертуар, а своим репертуаром она не могла задать настоящую работу театральным коллективам. Живописцу нечего было делать с мещанскими да и с более богатыми интерьерами, режиссер скучал, обдумывая очередные комнатные пьесы, предложенные ему к постановке, сколько-нибудь добропорядочным актерам роли в них были малы, не по росту. Театр — искусство антропоцентрическое, И это в большей степени, чем какое-либо другое из искусств. Его основа, центр, оправдание — актер, а это по смыслу своему — отборный экземпляр человеческой породы, если не прекрасный, то уж по меньшей мере чем-либо приметный в рассуждении тела и лица, выразительности их. Для комнатных пьес, изображающих буржуазно-посредственное житье-бытье, почти не нужны были ни человеческая стать, ни человеческий прекрасный голос, ни широта жеста и движения. Модные тогда труппы лилипутов, вероятно, могли бы сыграть пьесы Чирикова и Юшкевича с наибольшим соответствием внутренним масштабам этих пьес. Тело, голос, духовные способности актера, изобретательность и фантазия режиссера, театрального художника оставались незагруженными, праздными. Театр не был беден дарованиями, но урока своего он не получил. Театр призван изображать человека во весь его лучший рост, а он передавал мещанина, дельца, клерка, заезженного интеллигента, ту этнографическую особь, что звалась в те времена дамой или барышней. Формы театра, язык
324
театра не работали в настоящем объеме возможного для них. Они бунтовали против праздности, создавшейся для них поневоле. Драматический театр с завистью мог оглядываться на театр музыкальный, оперный или балетный, с ослепительными явлениями Шаляпина или Анны Павловой, с мировой славой дягилевских сезонов. В «Записках режиссера» слышны протесты Таирова против тусклой полузанятости драматического искусства и видно, как внушителен был для него пример музыкально- балетной сцены, ее достижений, ее блистательной тогда и полной жизни. Полузанятость — вот злейший враг Таирова. Он хочет предоставить простор, дело, работу всему, чем владеет современное ему искусство театра, всему, что оно собрало веками своего существования. Нужно разорвать оболочку комнатной, «пиджачной» пьесы, того стиля, к которому она обязывает, и нужно заговорить всеми глаголами большой сцены. Можно сравнить устремления театра того времени с положением, с делами литературы, поэзии. Как Велемир Хлебников с друзьями его томились и возмущались, что все великое богатство национального языка, накопленное еще с поры «Слова о полку Игореве», не живет, не действует в современной им литературной речи у обыденных авторов, сочинителей так называемой беллетристики, опиравшихся на пошлый, лживый говор обывателя, газетчика, канцеляриста, так Таиров и прочие новаторы театра не могли равнодушно наблюдать, до чего тупой и косной оставалась современная сцена ко всему, что подготовила, выработала, чем гордилась мировая театральная традиция. Камерный театр лишь по внешним обстоятельствам основался в качестве камерного. Таиров воевал против всякой камерности, против удушения театрального искусства в четырех стенах комнатной драмы. Таиров стремился к большому театру и к большой сцене. Парадокс времени состоял в том, что большая, великая сцена покамест свелась чуть ли не к ящику для кукол на Тверском бульваре: мыслили метрами, а ставили и играли на миллиметрах, полученных режиссером и труппой.
Совлечь с театра оболочку «пиджачной» пьесы — значило разрушить сцепление его элементов, синтез, которым они держались. Отдельные средства театра в существовавшей театральной системе притерлись друг к другу, взаимно притупились, нужно было каждому из
325
них порознь предоставить возможность более полного и своеобычного развития. Таиров дал немецкому изданию «Записок режиссера» новое заглавие: «Das entfesselte Theater» (1923)[294] — оно хорошо обозначало, к чему стремился Таиров. Он действительно хотел предстать леред европейским зрителем с «раскованным театром», он расковывал, раскрепощал силы театрального искусства, недавно связанные немилой для них связью отношений, реальных, идейных, эстетических, — отношений, отражающих жизненную практику старого общества.
Таиров как бы провел принцип деления внутри системы театральных средств. Полюсы, связанные прежде в некое безразличное целое, вновь распались и стали жить каждый по-своему. Было покончено с тем нейтральным жанром, который принято было называть «пьесой». Драматурги-современники все почти без изъятий были производителями «пьес», сочинений, лишенных остроты жанра и стиля, как бы бесполых, робеющих перед настоящей театральной выразительностью.
Когда-то Дидро ратовал за «средний жанр», который не был бы ни трагедией, ни комедией. Крайние жанры казались Дидро малонатуральными, он надеялся, что естественность найдет для себя место пребывания в драмах среднего жанра, которые действительно в позднейшем репертуаре восторжествовали. Таиров стоит у начала процесса, протекающего в обратном направлении. Он у себя в театре отменяет «средний жанр», комнатную пьесу Сургучева, Найденова. «Средний жанр» у Таирова снова «делится» на высокую трагедию Калидасы, Шекспира, Расина одесную и на эксцентрическое комедийное зрелище в духе «Принцессы Брамбиллы» ошуюю. Эти деления еще не окончательные: комедийный жанр получает у Таирова многочисленные деления, новые по своему внутреннему смыслу. Трагическая она или комедийная, но Таиров в своих спектаклях приводит в активность жизненную силу актера, позволяет ему проявлять жизненную инициативу,
326
темперамент и воодушевление, стесненные, укороченные в драмах «среднего жанра», — если и звучащие, то с дребезжанием «осенних скрипок». В этом заключалось главное. Вместе с тем он дает санкции плотскому бытию актера. Он вводит в дело красивого актера, дает место в своем театре старому мастеру жеста, позы, зрительно впечатляющей, «картинной» игры — Мариусу Мариусовичу Петипа, выступавшему в «Женитьбе Фигаро», в «Сирано де Бержераке». Петипа был сыном великого балетмейстера, воспитался вблизи балетного театра, в молодости играл в музыкальных спектаклях — в опереттах, когда их ставили на драматической сцене.
На сцене Камерного театра тогда появился молодой актер Н. М. Церетелли, тоже отмеченный красотой сценического движения, блеском улыбки, искусством ослепительных парадных выходов на сцену, — вылетов иногда, как позднее в роли Мараскина в «Жирофле-Жирофля». Церетелли обладал настоящим даром носить свои театральные одежды, обращаться со сцены к зрению своих зрителей и радовать его. В бытовом театре красивому актеру давали узкое применение — он занимал амплуа любовника, красота, красивость рассматривалась как некая специализация с оттенком несколько дурного тона. В этом причина, почему в добропорядочных театрах того времени красивый актер подпадал под подозрение, старались без него обойтись, а если допускали его, то старались сбавить ему красоты, сколько можно ошершавить его, опростить. Для Таирова красивый актер был не особым амплуа, но всеобщей нормой, которая, конечно, не сбывалась на всех и каждом, но тем не менее как бы осеняла всех действующих лиц спектакля, обязывала их. Церетелли играл древних эллинов, владык над восточными царствами, западных королей, полководцев, героев и ни разу не уронил на сцене достоинство кого-либо из представляемых им.
Театр, от которого отталкивался Таиров, отличался великим косноязычием мимики и жеста. В старом сатириконском рассказе Тэффи «Почвенный язык» мы читаем: «Жест у культурного человека атрофировался окончательно. Актеров приходится учить, чтобы мотали головой вертикально, когда говорят «да», и горизонтально, когда — «нет». Я видела как-то актрису, кото-
327
рая говорила: — Я верю тебе! А сама качала головой отрицательно»[295].
Шаляпин искал актеров с жестом и радовался, когда находил их. В книге своей он вспомнил об Иване Платоновиче Киселевском, которого он увидел однажды в Тифлисе на рауте, устроенном в честь актеров: «Я любовался этой прекрасной фигурой. Киселевского пригласили к буфету. Он подошел к столу с закусками и, прежде чем выпить рюмку водки, взял тарелку, посыпал в нее соль, терец, палил немного уксуса и прованского масла, смешал все это вилкой и полил этим на другой тарелке салат. Читатель, конечно, удивляется, что я, собственно, такое рассказываю? Человек сделал соус и закусил салатом рюмку водки. Просто, конечно, но как это сделал Киселевский, я помню до сих пор, как одно из прекрасных видений благородной сценической пластики. Помню, как его превосходная красивая рука брала каждый предмет, как вилка в его руках сбивала эту незатейливую смесь и каким голосом, какой интонацией он сказал: — Ну, дорогие друзья мои, актеры, поднимем рюмку в честь милой хозяйки, устроившей нам этот прекрасный праздник. Благородство жило в каждой линии этого человека»[296].
Мы сказали бы: Шаляпин увидел и описал жест, который обезвреживает. Он увидел Киселевского, актера бытовой драмы, за бытовым занятием. Жест Киселевского оказался как бы дезинфекцией в отношении темы жеста. Шаляпина удивило, что человек способен не подчиняться тем предметам, на которые направлено его действие, не заражаться ими. На обычной сцене, бытовой, натуралистической, актеры уподоблялись всем своим духовным и физическим поведением там мелким делам и предметам, которые окружали их, навязывались и в качестве постоянной задачи и заботы. Если актер готовил себе на сцене салат, пил и закусывал, то всем обликом своим, всеми жестами он был сообразен этим занятиям, ничуть не выходя за их орбиту. Иначе Киселевский: Шаляпин почувствовал в нем существо высокородное, для которо-
328
го водка и закуска отнюдь не составляют призвание, Киселевский являл собою человека, который живет в быту и умело живет, а все же сохраняет свою независимость от быта. Актеры Камерного театра отнюдь не были завсегдатаями у обеденных столов. Скорее, это были танцоры, воины, пешеходы, охотники, бегуны и всадники, спортсмены и гимнасты. Естественным продолжением рук Церетелли не представлялись, конечно, ни столовый нож, ни вилка; тут гораздо уместнее были бы копье, меч, или же, с незначительной уступкой быту более обыкновенному,— шпага фехтовальщика или дуэлянта.
Таиров разрабатывал в своем театре с чрезвычайным усердием и актерский жест и актерское движение. В 1916 году он ставил с участием А. Г. Коонен пантомиму «Покрывало Пьеретты» (еще до того поставленную им в 1913 году в Свободном театре Марджанова). Как театр страстей был театром доблестей актерской души, так пантомима явилась демонстрацией доблестей актерского тела. Если говорить о «делениях», которые осуществлял Таиров в своей практике театра, то пантомима была одним из них, — из связной системы средств театральной выразительности Таиров изъял пантомиму для обособленного существования и для свободного развития, которое при этом ей предоставлялось. В записной книжке Таирова значится: «Пантомима — родоначальница театрального искусства. Пантомима как органический элемент любой формы театрального искусства. Говоря о пантомиме, я разумею не вставные сцены (номера,) не интермедии, к которым часто и неуверенно прибегают режиссеры, не арлекинаду, которая, по правильному замечанию Чаплина, является лишь одним из проявлений пантомимы как искусства, а органическое проникновение пантомимы в самую жизнь всего спектакля в целом и в каждую роль в отдельности».
Таиров и его лучшие современники-режиссеры хлопотали о восстановлении театра. Натуралистический или же узко бытовой театр с комнатным его репертуаром закрыл собою самые основы театрального искусства. После Арцыбашева и Рышкова нужно было снова открыть основы театра, дойти до них чуть ли не методами археологов. Период нашего театра, выдвинувший Таирова и Камерный, был по совместитель-
329
ству периодом и крупнейших утрат и крупнейших находок. Так как казалось, что само существо театра утрачивается, то начались упорные раскопки этого существа. Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов, Марджанов, Таиров каждый по-своему хотели найти азбуку театра, таблицу его первоначальных слагаемых. Здоровые люди ходят на своих здоровых ногах и не замечают механизма, приемов ходьбы. Больные, выздоравливающие учатся ходьбе заново и узнают, как складывается шаг, как лучше, удобнее нести при ходьбе собственные опину и плечи. В период, когда Таиров создавал свой театр, нечто сходное с этими уроками пешего хода для взрослых имело место в практике режиссерской и актерской. Мейерхольд писал о «первичных элементах театра»[297]. Суть дела названа своим настоящим именем. Камерный театр, как и другие театры, его ровесники, как бы разложил свое искусство на первоэлементы, он как бы позволил читать свои спектакли по складам, не скрывая, из чего и как составляются слова и фразы. В языке искусства возникли аналогии законам языка как такового — языка, на котором люди говорят и пишут. В человеческой речи существуют словосочетания, обладающие особой устойчивостью, существуют слова, сложенные из нескольких слов, существуют, наконец, поговорки. И вот эта устойчивая, рутинная связь способствует сохранению внутри таких сложенных слов, словосочетаний и поговорок языковых элементов, уже давно омертвевших. Укрепившаяся связь как бы изолирует охваченные ею элементы от влияний извне, позволяет им как бы уйти в себя и коснеть. Слово «душегрейка» сложено из слов, из которых первое лишилось содержания, потеряло свой былой смысл. В старом языке «душа» могла означать также и грудь — по старым представлениям, в груди человека помещалась душа. Слово «душегрейка», которое сейчас либо вызывает недоумение, либо осмысляется как шутка, как забава, в старом языке было словом деловым, материальным, а косвенно также и духовным — содержало в себе некоторый намек и на внутреннего человека, отогретого и согретого. В новом языке этот смысл «душа—грудь» потерян. Однако слово «душа»
330
с потерянным старым своим смыслом еще держится в «душегрейке» — держится через рутину словосложения. Надо распустить эту консервативную связь, надо выделить элементы, объединенные этой связью, и тогда видно будет, что один из них — «душа» — стал пуст. Тогда можно будет вернуть ему утерянное значение, утрата которого маскирована в сложенном слове. Возвращение к элементам — путь для обновителей языка, для воскресителя былой в нем жизни, а значит, и путь к жизни его в дальнейшем. В поговорке «пропал, как швед под Полтавой» в приглушенном виде содержатся факты русской истории. Нужно задуматься над этой чересчур привычной связью слов и понятий — почему швед, почему и как швед очутился «под Полтавой». Нужно добраться до смысловых элементов, вошедших в поговорку, для того чтобы восстановить в ней историческую жизнь, а через нее и жизнь как таковую, конкретную жизнь. В элементах заключено не в пример больше жизни и богатства жизни, чем это позволяют нам воспринять издавна узаконенные и оцепеневшие связи между ними.
Нечто близкое к делам театра и сходное с ними наблюдалось тогда и в других искусствах: очевидным образом — в живописи, менее очевидным — в поэзии. Театр испытывал свой особый кризис, были свои особые поводы к этому кризису, те или иные отправные точки, к тому же кризис этот имел свои местные, свои национальные формы. Силу театральному кризису придавало то обстоятельство, что он как часть входил в кризис более общего значения, охвативший культуру буржуазного мира в новом столетии, по-своему сказавшийся в каждой стране и в каждой отрасли искусства. Повсюду совершалось движение к первоэлементам, так как хотели врачевать основы, чувствовали, что кризис проник до основ, Искали средств спасения, и глубина поисков соответствовала глубине потерь, понесенных искусством и культурой.
Подобно тому как в материальном производстве кризис ведет к существенным перестройкам его, так и в области духовной, так и в области искусства — худо ли это было, хорошо ли, но вместе с кризисом состояние, в каком они находились, не могло не изменяться. Им не было дано оставаться, какими они знали себя до кризиса, накануне его. Кризис очень многое переста-
331
вил здесь и многому переучил. Театр стал с той поры активным, чувствительным в направлении своих первооснов, которые в поздние времена театрального развития крайне редко вступали в ясное сознание. Новые качества театрального искусства были порождены этой активностью относительно его «первичных элементов». Режиссеры и актеры отныне могли держать в своих руках природу театра как она есть. Не те или иные подробности театрального дела, а все оно целиком становилось податливым для сознательного регулирования, начиная от основ, уходивших в примитивнейшие времена, и кончая новейшими в нем сделанными изобретениями и приобретениями.
Одно за другим проявлялись новые свойства театра, обратившегося к собственным первоэлементам, сделавшимся доступными практическому художественному сознанию. Различные театральные системы стали проницаемы друг для друга, могли, ничего не теряя, от собственной свободы, весьма широко обмениваться своими достижениями. В спектаклях Камерного театра видны были, разумеется, общие нормы его стиля и эсстетики. Видны были также элементы, над которыми возносился этот общий стиль. Можно было заимствовать те или другие элементы, не принимая стиль или же принимая его только отчасти, со многими оговорками. Когда Камерный театр совершил свои три поездки — как известно, победоносные — по зарубежным странам (поездки 1923, 1325 и 1930 гг.), то вскоре сказались его влияния, и очень серьезные, на театральные системы, принятые в этих странах. «Первичные элементы» обладали особой силой внушения, они усваивались, не вступая в конфликт с чужой театральной системой, или же по крайней мере казалось, что такой конфликт не обязателен. Мы видели в Москве и в Ленинграде гастроли парижского театра Вилара, несомненно вполне своеобразного по общему своему художественному складу. Однако в тех или иных подробностях манеры развертывать, располагать спектакль мы узнавали влияние московского Камерного, когда-то коснувшееся театров Парижа и не угаснувшее с тех пор. Оно было и в убранстве сцены, одновременно и крайне скупом и расточительно-богатом, ибо разрабатывались только весьма немногие жестко выбранные точки сценического пространства, зато уж каждая приобретала ценность
332
великолепнейшего зрелища, как,
например, тот многими огнями светящий подсвечник в «Дон-Жуане» Мольера, который
один только и создавал впечатление широко затеянного празднества в последней
сцене, когда поджидают каменного командора. Оно было и в резкостях пантомимы и
в некоторой первозданности сценических страстей, порою скифски необузданных,
как в иных эпизодах «Марии Тюдор» Виктора Гюго, драмы, где с такой энергией и с
таким вдохновением играла
Направление в сторону «первичных элементов» оказалось очень важным и для нашей внутренней театральной практики. Когда после великой нашей революции выглянули на широкий свет национальные театры, то оказалось, что этими первоэлементами театральности обладали еще очень многие из них, избегнувшие буржуазного развращения, не растратившие своего фольклорного богатства. У искушенных театров наших столиц и у театров национальных нашелся общий художественный язык, ибо эти первичные элементы присутствовали, хотя и в разном смысле, хотя и в разных контекстах, и там и здесь. Многоопытные театры страны могли с братским пониманием отнестись к театрам национальным, дать культуру, которой недоставало им, ничего не разрушая в национальных основах их искусства, искренне ценя эти основы и способствуя их дальнейшему развитию. Сочетание местных традиций с московской школой и выучкой часто приводило к несомненным театральным достижениям. Поучительно, что порою самая глубокая классика мирового театра — трагический или комедийный Шекспир, например,— превосходно поддавалась такой двусторонней, двуначальной разработке: под рукой московского искушенного режиссера национальные актеры наших среднеазиатских республик умели добиваться чудеснейших успехов[298].
Спектакли, поставленные на подчеркнутых мимике и движении, заняли очень заметное место в репертуаре Камерного театра. С известных пор почти ежегодно Таиров ставил на своей сцене новый музыкальный спек-
333
такль, чаще всего это были классические оперетты. Комедийная мимическая стихия вся почти уходила в такие спектакли, как «Жирофле-Жирофля», «День и ночь», «Сирокко». Таиров разделил свой театр пополам, музыкальные спектакли составили как бы особый театр внутри Камерного театра. Такого рода «деления» театрального целого на элементы, такие «анализы», производимые внутри самой театральной практики, были тогда всюду в ходу. В конце концов студии, которыми себя опоясал Художественный театр, имели сходное происхождение и имели сходную цель. Каждая из студий имела свое отдельное направление, каждая уходила, по видимости только временно, в некую полезную односторонность, каждая применяла свои силы только одной ей свойственным способом. Камерный театр не создавал особых студий, те же актеры под властью того же режиссера играли на сцене этого театра спектакли, различные по типу и стилю. В Художественном театре ясно различались метрополия и колонии — старый коллектив и молодые студии, от него отошедшие. Иным было положение Камерного: колонии здесь находились в самой сердцевине метрополии, экспериментальные спектакли ставились на основной сцене, всецело принадлежали ей.
Таиров экспериментировал очень резко и смело. Но Камерный отличался от многих других театров и театриков 10-х и 20-х годов своим умением сделать спектакль, по сути своей экспериментальный, достаточно привлекательным также и для зрителей. Спектакль-опыт оказывался у Таирова также и спектаклем, обладающим для зрителя необходимой законченностью, зрительски ценным то в большей, то в меньшей степени. В этом одна из причин, почему исчезали один за другим эти театры опытов и экспериментов, а театр Таирова оставался жить. Пантомима и оперетта в постановке Таирова имели шумный успех, «Жирофле-Жирофля» — один из самых популярных спектаклей в Москве 20-х годов. А между тем музыкальные спектакли не являлись для Таирова самоцелью. Подобно тому как Станиславский, работая над оперными спектаклями, в отдалении отыскивал новые методы и приемы для театра драматического, так и Таиров; конечно же, драматический театр главенствовал для него, и пантомима, оперетта исподволь создавали новые средства театраль-
334
но-драматического языка. Оперетты в таировском репертуре наследовали таким спектаклям, как «Принцесса Брамбилла» или «Синьор Формика». Эти спектакли, сделанные по мотивам повестей Э.-Т.-А. Гофмана, полные феерии и буффонады, живописные и забавные, тем не менее связаны были с высокой романтической идеологией. Бесшабашные эпизоды венецианского карнавала все же подчинялись в «Принцессе Брамбилле» возвышенному философскому замыслу. Сами переодевания и маски в этом спектакле таили в себе некое философское значение, нравы и обычаи масленичного увеселения сочетались с символикой, серьезной по своему содержанию и состоящей поэтому в художественном контрасте к этому пестрому и шумному зрелищу. Иначе в опереттах Шарля Лекока «Жирофле-Жирофля», «День и ночь» и в друпих опереттах, поставленных Таировым. Здесь и тени не было какой-либо идеологической осложненности, здесь не было ни лиц, ни нравов, ни быта, обладающих хотя бы минимальной колоритностью, исторической и национальной. Оперетты служили поводом для музыкально-мимического представления едва ли не в чистом его виде. В оперетте музыкальные и мимические силы театрального зрелища перешли почти на обособленную жизнь и развивались почти самостоятельно. Кажется, Таиров дальше других зашел в этих опытах разрабатывать стихии театра каждую порознь. Но у Таирова рядом шли две тенденции, исключающие друг друга. Музыкально-мимические спектакли обращены были к зрителю как спектакли, в самих себе имеющие основание, и в то же время в истории таировского спектакля они все более становились чем-то всего лишь подготовительным и предварительным — выработкой прямых, а чаще побочных путей для будущих спектаклей театра высокой драмы. Таиров предавался гимнастике театрального дела, которая должна была служить прологом к большим начинаниям обобщающего характера, предстоящим Камерному театру.
Реформа Таирова распространилась с актера и на все его материальное окружение, на декорации, на обстановку спектакля, на вещи, входившие в сценический кругозор. Камерный театр весьма отдалился от
335
общепринятых способов создавать на сцене ландшафт, застраивать ее вещами цивилизации. Бытовой театр основой своей делал бытовое пользование. Человека на сцене окружали предметами, которые служили источником его существования, его снабжали на сцене вещами крупными и малыми, которыми он пользовался в повседневном своем быту. Пусть герой и не был Обломовым, но на сцену ставили диван, ибо как же без дивана. На письменном столе чернильница и пресс-папье, на туалетном «щетки тридцати родов» непременно входили в театральный инвентарь. Сцена воскрешала, почти ничего не пропуская, жилье действующих лиц, их сады, улицу, по которой они ходили и ездили, реку, в которой они купались и откуда к ним возили воду. Задача режиссера натуралистического театра прежде всего состояла в том, чтобы поместить своих персонажей, расквартировать их, указать для них точное место прописки. Недаром Таиров в своей книге ужасался по поводу практики Передвижного театра, где ему довелось служить два года: театр возил из города в город целую квартиру из настоящих бревен, обозначающую жилище земского врача для одной из пьес текущего репертуара[299]. Режиссер-натуралист в первую голову заботился, как устроить своих актеров на сцене по весьма точному подобию того, как люди устраиваются в быту. И лишь косвенно, вторичным образом сценическая обстановка являлась также и зрелищем, также и выражением духовного строя действующих лиц. Эта нечаянная выразительность не могла не быть и весьма ограниченной. Обстановка сцены говорила о постоянных условиях, в которых пребывают герои, и очень мало говорила она об их чувствах и мыслях в данный час и в данную минуту— она топила героев в некоей всеобщности быта. Обстановка бытового спектакля могла указать, каков достаток героев, каков бюджет, каков их ранг в официальном обществе, — более индивидуальная характеристика была ей едва доступна. В этой обстановке заключались свидетельства о том, как сложилась жизнь героев помимо их собственной воли и собственных вкусов, — в очень малой степени она могла оповестить, что внесено в жизнь самими героями, в чем и как проявились их инициатива, их жизненный почин.
336
Реалистический театр в высших своих проявлениях умел сливать в одно и картину условий человеческого существования и средства выражения внутреннего человека. Он, этот театр, то проводил тонкую черту между той и другой стихией, то опять снова позволял им предстать в слитном виде, слитном и исподволь различимом.
Ибсен, старый классический реалист, был и великим драматургом и великим режиссером — обилие сценических ремарок в драмах Ибсена является как бы режиссурой на бумаге, перед нами воображаемая постановка той драмы, которую мы читаем. В драмах Ибсена полностью дано жизненное пространство героев этих драм со всеми вещами, которые содержит оно. Ибсен — очень тщательный топограф жилища консула Берника, или адвоката Гельмера, или профессора Тесмана, или кого-нибудь еще иного. Однако в какие-то минуты совершается отбор: не все вещи актуальны на сцене, актуальны лишь некоторые из них, и то в каком-то особом, едва ли не капризном значении. Арена бытового пользования заметно суживается, перед нами тесный круг того, что прямо служит художественной выразительности. Какая-нибудь все еще не зажженная лампа, какие-нибудь избранные предметы обстановки, как бы поставленные лицом друг к другу, фасом в фас, начинают напевать песню именно этой минуты, а не какой-либо иной, они с какой-то лирико-драматической внятностью твердят о том, что творится в душах действующих лиц, в эту минуту оккупировавших сцену, ожививших до чрезвычайности то или иное место ее. Нора, как велит ей Ибсен, особыми прикосновениями скользит по спинке кресла, где расположился Гельмер. Кресло это обыкновенная мебель в доме Гельмеров, так сказать, одно из условий существования. Но сейчас оно приняло другое назначение, оно — музыкальный инструмент, на котором по-своему играет Нора, оно выразительное средство для отношений между супругами Гельмерами. Жесты Норы означают, что она хочет задобрить Гельмера, своего мужа, и не решается приступить к нему прямо, пробует на дереве, что опасно попробовать на человеке. Когда сыгран будет эпизод, кресло Гельмера опять опустится в косную среду вещей как таковых. Предметная среда в драмах Ибсена — это и система условий, в которые помещен человек, это и орудия
337
раскрытия его. Человек выражает себя через вещи, которыми он пользуется в быту, как флейтист через флейту, приближенную к его губам. Сцена у кресла Гельмера помещена в конце первого акта «Кукольного дома». Во втором акте входит доктор Ранк и вешает в передней свою шубу. Наплывают сумерки, Ранк садится у печки — доброе, дружественное место в доме, у Ранка начинается особый разговор с Норой, очень доверительный, но и очень трудный для Норы, так как откровенность Ранка преграждает дорогу для собственной ее откровенности. Шуба, которую снял Ранк, становится как бы одним из условий этой сцены; официальный, уличный Ранк сейчас висит на вешалке, перед Норой сидит домашний Ранк, в комнатном облачении, беззащитный. Сумерки как будто сливают Ранка и Нору в одно. Когда Нора поняла, что нужно восстановить дистанцию между нею и Ранком, она велит служанке принести лампу. И в этой сцене тоже всякая подробность домашнего обихода, весь ритуал вечернего часа приобретают двойное значение, речи вещей и физических действий являются здесь также речами человеческих душ и, затаенными при этом речами.
В мемуарах своих А. Дикий превосходно описывает, как играл
Михаил Чехов роль Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя: «Чеховский Хлестаков подходил
к зеркалу в гостинице, смотрелся в него пустым, «стеклянным» взглядом и
сосредоточенно свистел — и нельзя было не видеть, не ощущать физически, что
человек до отчаяния голоден, что у него нет других помыслов, как о сытной еде.
Произнося фразу «подкатишь этаким чертом», он вскакивал на стол, хватал в руки
трость и в мгновение ока принимал позу молодого бездельника, едущего в экипаже.
Заводя с судьей Ляпкиным-Тяпкиным приятный разговор об орденах, он ложился на
стол плашмя и, болтая ногами в воздухе, тыкался мордой в грудь судье, как будто
нюхал, как пахнут Владимир и
338
но вещи быта пресуществлялись в вещи выражения. Зеркало, стол, скатерть — все это были вещи на своих бытовых местах со своими бытовыми назначениями, и вдруг актер превращал их в гобои и в литавры оркестра. Зеркало, вначале только отражающее поверхность, превращалось на сцене во второе действующее лицо, в партнера при бессловесном диалоге. Стол становился то экипажем, то невесть чем, фантастической плоскостью, приспособленной для выражения орденских восторгов Хлестакова. Сам этот переход, сама эта метаморфоза вещей бытового пользования в инструменты театрального выражения порождали особый эффект, родственный применению прозаического слова в стиховой строке, остроумию или каламбуру, извлекающим из привычного для нас понятия дополнительную энергию, которой мы не предвидели.
Реформа Таирова состояла в том, что он как бы выкроил из вещей их выразительную часть. Он и здесь осуществлял те же акты «освобождения», обособления, что и по другим особым пунктам поэтики театра. Таиров сделал нейтральными или только едва ощутимыми вещи со стороны их бытового значения, он отуманил, приглушил этот их смысл и дал намеренно преувеличенное развитие их выразительности как таковой. Мы говорили, наружный круг сценических вещей, взятых в качестве вещей быта, был широк в традиционном театре и внутренний круг тех же вещей, превращенных в выразительность и духовность, был узок. У Таирова и у других режиссеров, его современников, радиус внутреннего круга всячески увеличивался, внутренний круг совпал или почти совпал с тем кругом извне, в который внутренний круг прежде бывал вписан. Если исходить из того же примера, то стол Хлестакова в постановке Таирова выпал бы из разряда солидных, устойчивых бытовых приспособлений и почти целиком превратился бы в легкомысленный гимнастический снаряд, в сопроводительный предмет для хлестаковских импровизаций. Старый театр в обыденных своих формах обращен был в сторону быта, в сторону демонстрации вещей в бытовом их применении, и только. Утонченное совмещение быта ради быта и быта ради выразительности было явлением редкостным и вымирающим. Там, где этот богатый и тонкий театральный стиль еще сохранился, его едва ощущали, он потерял силу среди натурали-
339
стического одичания. Сам по себе тот факт, что такой-то стиль, такая-то художественная стилистика существуют, еще недостаточен. Суть дела в том, замечает ли их зритель, доступен ли их воздействию, проникают ли они. Нужно было решиться на гиперболу выразительности, если хотели, чтобы к ним вернулись, чтобы они вошли в сознание, и Таиров обратился к гиперболе.
Для начала на крайности натурализма был дан ответ другими крайностями. На некоторый срок Таиров почти упустил человека как выражение его материальной среды, как добавление к ней — всем этим не беден был и натуралистический театр. Таиров устремился к обратному. Он хотел, чтобы среда выражала человека, чтобы декорации и вещи помогали выявить его самого и замыслы, ему присущие, настроенность его, состояние, в которых он находился. Если актер — ставленник страсти, если актер — телесная сила, если в нем сопрягаются энергия духа и плоти, то логика требовала не столько настаивать на влияниях среды, которым он подвержен, сколько на обратном — на его умении подчинять среду собственным его целям, всюду оставлять следы собственной деятельности.
Камерный театр был связан с многочисленной плеядой
театральных художников. Назовем их в порядке хронологии — в порядке появления
их работ на сцене Камерного театра, год за годом. Это были Павел Кузнецов,
Наталья Гончарова, Сергей Судейкин, Аристарх Лентулов,
340
да, после Вахтангова, после Таирова невозможен режиссер на современных подмостках, не прошедший достаточную выучку у мастеров изобразительного искусства, не воспитавший свой глаз на живописи, на ваянии, на графике.
Тем не менее в театре Таирова собственно изобразительной
.тихии негде было развернуться. Ибо Таиров отменил декорации в обыкновенном их
смысле, и художники Камерного театра хотели отступить от опытов
341
Таиров в ранние свои годы намеренно устранял в декорациях и в обстановке все, приближавшее сцену к чрезмерному сходству с человеческим жильем, с населенной территорией. Он представлял вещи, почти отрезая пути к практическому пользованию ими. Всюду была заметна полемика с натуралистическим театром, Всюду были преувеличения, свойственные полемике и только на фоне ее выправлявшиеся. На сцене ложе, жестко постланное, сиденья, не сулящие физического отдыха, какие-то плиты, ступени, бревна и блоки, на которых в разных положениях разместились люди. Если оставаться в сфере бытовых представлений, то можно бы сказать, что у Таирова на сцене возводились здания то здесь, то там, как бы обугленные после пожара или же разгромленные недавно начавшимся капитальным ремонтом. Вслед поставленной Мейерхольдом «Пиковой даме» появился шарж Николая Радлова: «спальня бывшей графини», бывшей, разжалованной, так малоудобна и небарственна была в спектакле Мейерхольда эта комната старухи Анны Федотовны, куда являлся к ней Германн, так мало комната годилась для проживания в ней — проживания на самом деле. Мейерхольд держался сходных принципов, Таиров не был единственным приверженцем их. У Таирова, у Мейерхольда сценическая площадка не предназначалась для бытования на ней, для иллюзии житья-бытья. Оба отделили в особую область жизнь человеческих чувств и отношений, воплощенных особыми средствами — бывшими средствами быта, взятыми так, что постановщики частично или целиком устранили в них прежнее бытовое их значение и применение. Эта манера у Мейерхольда, у Таирова вначале преобладавшая, позднее стала у обоих менее жесткой, хотя они по временам и возвращались к ней.
Позднее оба эти режиссера стали в своих спектаклях больше уделять внимания реальному быту, не боясь развития его подробностей. Всем ходом своего искусства оба успели уже внушить зрителям, что они считают главным,— можно было после этого дать место менее главному и не опасаться, что с его стороны будут сделаны незаконные захваты. После резких нарушений во имя главенствующего смысла и выразительности оба они вновь стали приближаться к более простым пропорциям в сценической картине — к действительности, как
342
она предстала в своем привычном виде. У Таирова это наблюдалось в постановках драм О'Нила, драмы «Машиналь», в инценировке «Мадам Бовари», а в особенности в последних спектаклях театра, поставленных в послевоенные годы. Распределение ценностей, смысловых ударений стало у Таирова внутренним актом, оно совершалось не столь открытым и демонстративным образом, вошло в глубь сценической картины, сказываясь на поверхности ее, довольно ровной и спокойной с некоторых пор, без каких-либо особых нажимов и без навязчивости.
Декорации
Обрабатывая сценическую площадку, Таиров и художники, сподвижники его, хотели решить задачу и более общего характера, выходившую за пределы того спектакля и того драматического произведения, которые на этот раз ставились. Не только судьбу Федры, Ипполита или еще чью-то хотели они выразить, но в их цель входило создать на сцене средства и условия, полезные для воплощения любого сюжета, любых психологии и судеб. Камерный театр стремился изменить впечатление от самой поверхности сценической картины, сделать эту картину многоярусной, многоплановой, разноплоюкостной,беспокойной, бесконечно разнообразя внешние обстоятельства, при которых разыгрывался тот или иной кусок текста, та ил,и иная доля его. Можно бы сравнить эти преобразования сценического пространства, ставшего многослойным, многомерным, как бы узловатым и бугристым, с тем новым ритмическим полем, которое возникло тогда же в стихотворениях самых отважных тогдашних поэтов, в стихотворениях с энергическими нарушениями канонов метрики, с учащенными пропусками ударений и неожиданными сгущения
343
ми их, с неровным, неспокойным тряским движением поэтического синтаксиса, с системой рифмовки, требовавшей усиленной остроты слуха, активности со стороны воспринимающего. И тут и там, и в театре и в стихах были затронуты самые общие условия и предпосылки, на фоне которых вырабатывались художественные частности. Что казалось неприкосновенным, то наравне с прочими силами художественного произведения тоже познало новшества и перемены. Абрам Эфрос так описывал сценическую реформу Таирова: «Новому спектаклю нужна была новая «сценическая атмосфера». Надо было изменить традиционную «коробку». Недостаточно было перестроить только горизонтальную глубину подмостков. Нужны были вертикали. Дело шло о «завоевании воздуха» — о движении вверх, к колосникам, об овладении всей трехмерностью сцены. Предстояло сломать плоскую площадку, превратить ее в подвижную композицию объемов… и скатов. Это должно было позволить режиссеру, строящему действие, и актеру, развертывающему роль, разнообразить ритм игры, подавать ее с разных высот и глубин, усиливать ее приближением или поднятостью, ослаблять отдалением или сниженностью, словом — темперировать ход спектакля, совершенно так же, как темперирует пианист педалями рояля свое исполнение»[303].
Таиров по-разному осуществлял свои принципы — он извлекал из живой действительности театрально выразительные силы, заложенные в ней, входя в действительность то на меньшую, то на большую глубину ее. Не однажды ему приходилось встречать сопротивление — классическая драма не слишком поддавалась этим попыткам оголить сцену, сбросить со счетов реальный быт и реальные предметы быта. B предметах этих скрывалась зачастую не только стихия, мотивирующая поступки людей и их отношения. В них заключалась еще и своя поэзия, которую тоже упускал Таиров, хотя и неравнодушный всегда ко всякому проявлению поэтической силы. Он слишком утвердился в своем мнении, что быт всегда сила грубая, губительная для человека, для его души и страсти. Когда Таиров ставил Островского, он допустил художническую ошибку и не посчитался с материальным окружением людей Островского,
344
заменил его театральными отвлеченностями. Этим объясняются споры вокруг «Грозы» в трактовке Таирова. Нельзя было Кудряша и Варвару приурочивать к некоей столярной работы конструкции, прислонять их спиной друг к другу, как школьников на деревянной парте. Без города Калинова в его запущенности и в его красе, без Волги, без городского оврага нет в этой любви ни колорита, ни размаха. И, конечно, сама Катерина тоже невозможна без старого города, без реки, без веяний волжского пейзажа. В трагедии Островского материя быта во многом живая материя, а Таиров обошелся с ней, как с мертвой всегда и всюду. Он обеззвучил Островского, у которого в «Грозе» вещи быта и вещи пейзажа тоже силы, говорящие и действующие, силы и лица по-своему.
Зато в иных случаях у Таирова именно отдаление от быта — полное отдаление — создавало эффект, сообразный требованиям авторского текста. Случалось это, когда в самом тексте подразумевалась некая изоляция человека, некая отъединенность его души, чувств, состояний от жизни других людей, вызванная особыми причинами. Необычным образом была поставлена сцена ночного свидания Ромео и Джульетты в трагедии Шекспира. Художница Экстер не дала на сцене иллюзии дома Капулетти, иллюзии стены, по которой подымается Ромео, иллюзии окна, из которого глядела Джульетта. Об окне, о стене зрителю предлагалось догадываться. Будь они представлены материально, они бы только загромождали чувство зрителя и его восприятие. Болталась узенькая веревочная лестница, свисали длинные ноги Ромео — Церетелли, узкое, длинное его тело подтянуто было к предполагаемому окну, стоя у которого встречала его Джульетта, лицом к лицу, глаза в глаза. Веревочная лестница была очень красноречива — тут дана была вся необеспеченность этой любви, лишенной гражданских опор, воздушной, безоглядочно отважной, не позволяющей героям что-либо упрочить, закрепить за собой, положиться на кого-то и на что-то, на закон, право, обычай. Подчеркнуто продолговатое тело Ромео как бы повторяло лестницу, удваивало впечатление от нее. Режиссер и художница передали «идею» свидания Ромео и Джульетты — «идею» любви шекспировских любовников, почти отринув в бытовых ее подробностях обстановку этой любви, ее топо-
345
графию и ее обстоятельства. В этой сцене выключался внешний мир в его обыкновенных насильственных формах, ибо мир этот и в самой трагедии Шекспира забыт Ромео, забыт Джульеттой на время перестал для них существовать.
Камерный театр был известен обдуманностью и красотой сценических костюмов. Художники Камерного театра были мастерами костюмов времен древнейших, новых и новейших, они затратили на костюмы исторические и феерические, на костюмы современные немалые познания, вкус, изобретательность, воображение. Таиров писал: «…костюм — это вторая оболочка актера, это нечто неотделимое от его существа, это вдимая личина его сценического образа, которая должна так целостно сливаться с ним, чтобы, как из песни слова, нельзя было выкинуть или заменить в ней ни одного штриха без одновременного искажения всего образа»[304]. «Костюм — это средство сделать все тело, всю фигуру актера более красноречивой и звучащей, придать ей стройность, легкость, либо неповоротливость и тяжесть, сообразно творимому им сценическому образу»[305].
Актерский костюм на сцене Камерного мог говорить о самом герое, о его поведении, о перипетиях его судьбы. В «Адриенне Лекуврер» мы помним кафтаны, которые менялись от действия к действию на Морисе Саксонском. В первом акте он был богом войны и богом любовной страсти, алые отвороты кафтана пылали и горели. Ложно опороченный, в акте втором и третьем герой трагедии сиял весь в белом. Одетый в черное, он появлялся в последнем акте, когда умирала Адриенна, загубленная соперницей. На сцене Камерного театра костюм служил восполнением декораций, отсутствующих или полуотсутствующих. Историческая, национальная, этнографическая характерность иных спектаклейлежала именно в костюмах, а в декорациях, в вещах сцены господствовал нейтральный стиль. В той же «Грозе» сооружения в безразлично-геометрическом стиле, возведенные на сцене, сочетались с этнически-яркими, национально-выразительными костюмами, в обличье Коонен—Катерины можно было узреть нечто фольклорное и нечто иконописное; она была в платке, в бе-
346
лой рубахе, в сарафане — в наряде девушки из песни, но глядела также -и монастыркой, насильственно введенной в мирскую и смутную жизнь, душевно от нее далекую. Одежды в «Грозе» несколько возмещали утраченное в других подробностях спектакля.
Если убранство сцены у Таирова было иной раз умышленно скудноватым, то зрелищность всегда сохранялась — она переносилась на костюмы актеров и актрис. Существуют, как известно, два способа отепляться — в одних странах предпочитают едва обогревать жилище, довольствоваться жаровней, зато люди одеты в двойные, в тройные одежды, в других же странах основательно топят жилые помещения, не слишком укутывая людей, которые там находятся. Мы сравнили бы с этим разные системы живописной разработки сценического пространства. То живопись бывает обращена на само помещение, на стены сценической коробки, само вместилище сценического действия усиленно как бы протапливается, отепляется живописью, то — и это практика Таирова — вместилище едва обогрето искусством живописцев, но на сцене жаром горят цветные и цветистые платья актеров, к актерским фигурам приложены лучшие старания художников театра.
Бывали случаи особой, преувеличенной ясности театральной методики Таирова. Вполне очевидной становилась его манера передвигать на актеров художественную нагрузку, ложившуюся в других театрах на декорации. В «Благовещении» Клоделя (художник спектакля — Веснин) в широких масштабах раскрыт мир европейского средневековья. Камерный театр перенес готический стиль на актеров, он не показал церквей и соборов, он уподобил актерские фигуры архитектурным произведениям, уподобил актеров в их одеяниях малым готическим церквам, стилизовал актеров с головы до ног под готические углы и удлиненные линии. В инсценировке романа Честертона «Человек, который был четвергом» (художник спектакля снова Веснин) костюмы персонажей были построены и разрисованы так, что в них оказался вложенным стиль современной техники и современной городской архитектуры, — цивилизация и город как бы впитались в образы людей. Конечно, манера Таирова распределять на сцене живописные ценности, сосредоточивая их на актерских фигурах, соответствовала изнутри главным его тенденци-
347
ям, художественной политике преимуществ, предоставленных человеку или, скажем точнее, актеру, воссоздающему на сценической площадке личность человека, его призвание и назначение.
Таиров — один из активнейших художников русского и мирового театра, отдавших все свои силы борьбе за театральную выразительность, за «театр в театре». Можно, да и должно, спорить против многих методов, к которым прибегал Таиров. Многое в них навеяно было Таирову особыми обстоятельствами и условиями внутренней борьбы, происходившей в театральном искусстве, и в методах Таирова нет общеобязательности. Но совсем иное — цель, которой держался Таиров. От цели этой нельзя уходить, она — всегдашняя цель театра, и она в том, чтобы сохранить театру выразительность, не затирать ее, не губить ее ради других интересов и целей, чуждых театру или даже прямо враждебных. Мы познакомились недавно с театром Эдуардо Де Филиппо, гастролировавшим у нас, и это был любопытный пример спада влечений к театральному театру — спада, которым так часто бывает отмечена наша современность. Театр Де Филиппо обладает своей законченной манерой, на сцене его царит хорошо рассчитанная простота. Как важнейшее средство выражения он избрал невыразительность, превращенную в целую систему. Опять, как водилось это в 90-х годах прошлого века, на сцене в полном составе столы и стулья, диваны и диванчики, скатерти и занавески. В пьесе «Мэр района Санита» медленно и прозаично начинается день в комнатах мэра дона Антонио. Мэр вяло и скучно одевается, шнурует ботинки, устраивает на шее галстук. Действия и вещи общеизвестные воспроизводятся, однако, шаг за шагом и часть за частью, без малейшей снисходительности к зрителю. Мизансцены в обычном их понимании отсутствуют. Мэр и девушка разговаривают, отделенные друг от друга чуть ли не всей длиной стола, скучающего собственной своею толстой скатертью. На столе какая-то посудина, которая почти закрывает лицо девушки. По новым итальянским фильмам мы уже давно и близко знаем Италию, умышленно лишенную красоты. В театре Де Филиппо мы узнали итальянцев без жеста и без темперамента. Убийцы выглядят тускло, человек, умирающий от ножевой раны, нанесенной ему, кажется всего толь-
348
ко пациентом зубного врача, нуждающимся в пломбе. И все-таки, и все-таки театр Де Филиппо чем-то и как-то увлекает нас. На сцене до странности скучно, театр рискует подлинной и натуральнейшей скукой, от которой зрители бегут. Скука эта, конечно, не от неумения, она — выработанная, и зритель ее переносит охотно. Театр Де Филиппо спасает то, что не на всех сценах современного мира играют в его манере. Эффект произведения искусства зависит не от него самого, но от всей совокупности произведений, его окружающих. Его успех и неуспех доброй частью находится в руках его соседей. Театр Де Филиппо, сам по себе взятый, — театр последовательно-невыразительный. Но ему предшествовала богатейшая культура театра выражения, он и сейчас окружен ею. Соотносительно с нею он тоже театр выражения, вопреки всему, выражения минимального, весьма и весьма умеренного и именно в этой тусклости своей приобретающего особую тонкость и особую деликатность. Проза Моравиа — очень небрежная проза. Тем не менее Моравиа — литература, проза его находится внутри литературы, и особого характера выпадения из литературы не имеет, неискусность этой прозы — умышленная.
Таковы же отношения Эдуардо Де Филиппо к театру. Он существует за счет того театра, с которым постоянно ведет свою полемику, за счет театра с отчетливыми мизансценами, с рельефной мимикой и с рельефными интонациями, острым жестом. Театр Де Филиппо не выдерживает критерия универсальности. Стоит только вообразить, что манера Де Филиппо принята повсюду, завладела всеми театрами, и тогда наступит конец, какая бы то ни было выразительность этой манеры исчезнет, манера потеряет свойства манеры, все вернется к самому безутешному .натурализму, к его тривиальной, бестолковой и никому не нужной правде. Превращенный в явление универсальное, театр Де Филиппо полностью выпадет из границ искусства и художества, он сольется тогда с действительностью как таковой — сырой, художественно неосмысленной. Театр выражения, во славу которого трудился Таиров, трудились многие другие у нас и за рубежом, был и остается первоисточником, из которого черпают также и театры, враждующие с ним, — «театры без театра». Можно сравнить театр выражения, таировский и всякий другой, родствен-
349
ный ему, с особым принципом отсчета: он — начало, отправная точка достижения театральных ансамблей, по-иному направленных, отсчитываются от него и не могут не отсчитываться.
«Раскрепощение» театра, дезинтеграция театрального искусства на его составные части, разработка этих составных, каждой в отдельности, предполагала, что как-то и когда-то произойдет синтез, возникнет целое, новое по смыслу и по началам, строящим его. Разумеется, поиски, аналитическая работа по отдельным элементам театра вовсе не должны были так навсегда и остановиться и все без остатка уступить работе собирательной, итоговой. Поиски могли продолжаться, но справедливо было требовать, чтобы они служили фоном для спектаклей объединяющего характера, в которых указывалось бы, ради какой цели все это совершается. Нужны были большие по выполняемым задачам спектакли, направленные на революционную современность, на охват ее дней и дел, ее волнений и помыслов. Для Камерного театра движение навстречу революции, ее духовным потребностям, оказалось задачей, которую он выполнял честно, но далеко не всегда театр добивался здесь полного успеха. Театр многое пробовал, далеко не сразу решаясь идти на прямую связь с запросами нового зрителя. До поры до времени театр довольствовался очень косвенными соотношениями между содержанием своих спектаклей и тем, что творилось вокруг театра в реальном современном мире, изменившемся и изменяющемся. Театр довольствовался соответствиями с этим миром — соответствиями, «корреспондированием» в бодлеровском смысле, когда настала потребность прямых отражений его. Медленно и не всегда уверенно театр переходил от косвенных и ускользающих связей с революционной современностью к связям простым, ясным и прочным. Эстетические предрассудки препятствовали на первых порах Камерному театру взяться за прямое служение современности. У Камерного театра довольно долго держались иллюзии, будто бы он и так, без новых усилий, выполняет свою революционную миссию, оставаясь при обычном своем репертуаре, не захватывая в свой кругозор новых общественных идей и тем, не меняя стиля и метода. Репертуар, те-
350
мы, идеи рассматривались как нечто извне идущее и поэтому насильственное в отношении искусства. В Камерном театре существовала склонность вопрос о содержании искусства сводить всецело к вопросу о его методах и формах. Склонность эта не сразу исчезла, не сразу в театре стали понимать, что тематика театра, его общественная .идеология не существуют отдельно от его художественного языка, на сомнительных всего только правах неорганического добавления к целому искусства — к целому, будто бы способному обойтись и без них. Театр учился и переучивался, постепенно постигая, что истины, в которые он верит, были заблуждениями или же, в лучшем случае, только полуистинами, далекими от окончательной достоверности. Таиров долго не желал придавать первостепенного значения драматургии, считая, что власть драматурга — обидная для режиссера власть. В книге Таирова можно найти по этому поводу неверные слова. Он неохотно допускал, что именно драматургия может передвинуть театр на новые пути, потребовать от театра обновления языка и стиля. Таиров имел основания в ту дореволюционную пору ограждать себя от современного репертуара, который не обещал ему тем и мыслей, достойных воплощения. Вместе с революцией убеждения эти становились предубеждениями, с которыми предстояло навсегда порвать. Таировский театр и еще иные театры 20-х годов страдали известной изнеженностью. Они плохо выдерживали прямой натиск подлинной действительности. Когда в спектакле Мейерхольда выкатили настоящий броневик на сцену, то это был радикальный способ прорваться сквозь ограду, которой окружило себя театральное искусство. Не будь ее, не нужен был бы броневик, не нужны были бы чрезвычайные средства, которыми так широко пользовался вначале Мейерхольд. Он упразднил занавес: это был знак, что на подмостках продолжается та же жизнь, которая предшествует подмосткам, что подмостки — не убежище. Таирову нужен был синтез, а синтез не есть простая задача на сложение отдельных величин. Синтез дается действительностью, которая предшествует искусству и входит в него как господствующее начало. Новая революционная действительность только одна и могла собрать в единое целое дроби, на которые распалось театральное искусство, только она одна и могла дать ему серь-
351
езное, насущное значение и по-настоящему воодушевить его. Это был единственный путь, на который Таиров вступал с большими задержками. Наша критика торопила Таирова, ее нападки бывали жестокими, но имели за собою основания, по временам более существенные, чем это представлялось самой критике, у которой сила аргументов не всегда бывала соразмерна силе приговоров, ею произносимых.
Сама задача «раскрепощения» театральных форм, сам этот бунт плененной театральности, начавшийся еще до революции, в первые годы после нее получил в глазах Таирова новые для себя оправдания — казалось, что именно ко всемирному разрастанию этого бунта, теперь уже ничем не сдерживаемого, и должна свестись вся жизнь театра. Когда Камерный театр в 1923 году выехал на гастроли за границу, то иностранная печать не переставала писать о «большевизме», который она усматривала в методах и в стиле таировских постановок. Курт Арам писал в очередном номере «Die Zeit» от 17 апреля 1923 года: «Если Московский Камерный театр — дитя большевизма, то большевизм не только не уничтожает, но, наоборот, освобождает творческие силы»[306]. Известный писатель Казимир Эдшмид заявлял в венской газете «Neue Freie Presse» от 20 июля 1923 года: «При открытии занавеса сильнейшим впечатлением остается главным образом то, что русские пережили невероятной силы революцию»[307]. В другой немецкой газете Камерному театру уже не удивлялись, но призывали к осторожности: «Это по своей культуре театр большевиков»[308]. Раскрепощение художественное один из немецких журналов («Literarisches Echo», декабрь 1923 г.) приравнивал к политическому: «Призыв к раскрепощению театра прозвучал так же страстно, как призыв к освобождению от кнута»[309]. Андре Антуан, один из старых вождей французского театра, подавленный успехами Таирова и таировских актеров в Париже, писал: «Я не знаю, что такое большевизм, мне кажется, что это совокупность теорий, стремящихся к аб-
352
солютному обновлению методов старого мира, и что мы присутствовали при полном приложении большевизма к искусству»[310] («L'Information» от 26 марта 1923 г.). Под шум этих заявлений, то одобряющих, то полемических, Таирову могло казаться, что все уже найдено раз и навсегда, что незачем стремиться к синтезу и следует усиливать работу над отдельно взятыми элементами получившего всякие вольности театрального искусства, забывая, что работа эта имеет всего лишь относительное значение и, возведенная в абсолют, может превратиться в голое отрицание и разрушение. Наконец, особого комментария требует и репертуар театра в первые годы революции. Сейчас нам кажется причудливым, что в 1617 году Камерный ставил «Саломею», в 1918-м «Обмен» Клоделя, в 1920-м «Благовещение» его же. Но тогда довольствовались уже одной необычностью для русской сцены этих авторов и произведений. Воображали, будто именно революция поощряет к этому репертуару. Очень часто при всей этой охоте к необычному выбор делался правильный. Так, в 1920 году, в Воронеже, в студийном театре впервые в России был поставлен «Раскованный Прометей» Шелли, трагедия и на самом деле по идейной сути своей сообразная духовным запросам нашей революции[311]. Но вместе с революционной классикой тогда не могли не оказаться занесенными в репертуар произведения, по смыслу своему далекие от революции и все же соблазнившие своими странностями, своими качествами, делавшими их невозможными на подмостках царской России. Смельчаки и новаторы из театра требовали тогда новизны любой ценой и повсюду, будь это новизна репертуара, будь это новизна приемов исполнения. Г. М. Козинцев пишет в своих воспоминаниях: «Разобраться в стремлениях художественной молодежи тех лет было не просто. Суть заключалась в том, что ощущение новизны происходящего в жизни казалось этой молодежи невозможным совместить со старыми формами искусства. И все старались найти какие-то неведомые, новые формы. Это был период бурных .исканий, удивительной честности и
353
поразительного сумбура…Нередко речь шла не об идеях, но пока еще только об ощущениях, достаточно смутных»[312]. Эволюция Камерного театра, если подхватить эти слова, совершалась именно так: от ощущений к идеям, от идей, представших в виде всего только ощущений и угадываний чувством, к идеям в мужественной, проясненной форме. Так как в эволюции этой первостепенное значение имел репертуар, то в репертуаре важно различать переход: от произведений, частично только и туманно отвечающих генеральному содержанию времени, к произведениям, открывающим это содержание с возрастающей полнотой и ясностью. Ведь и странное, но грандиозное по замыслу «Благовещение» Клоделя соприкасалось с переживаемым тогда, с состоянием мира к 1920 году. Средневековье Клоделя, голое, имеющее вид нищеты непокрытой, пораженное болезнями, проказой, духовно-напряженное, издалека соответствовало страданиям послевоенной Европы, обезлюдевшей, разоренной, одичавшей, бьющейся в поисках социального спасения, износившей старые формы своего существования. Однако же Клодель явился всего-навсего тоненькой и ломкой жердочкой, по которой со сцены театра, из глубины театрального зрелища пробирались в современную действительность. Драмы Юджина О'Нила или Берта Брехта в дальнейшие годы (послужили этому вернее, а «Оптимистическая трагедия» Вишневского связывала театр с действительностью очень прочно, собирая воедино его раздробившийся художественный опыт, его усилия многих лет и многих спектаклей, подтверждая права Камерного театра на признание со стороны новых зрителей, воспитанных революцией.
А. В. Луначарский, очень требовательный к Камерному театру и всегда благожелательный в отношении к нему, рассматривал ранний период его истории как разностороннюю подготовку к художественной деятельности, более ответственной перед лицом времени. В 1924 году в статье «К десятилетию Камерного театра» А. В. Луначарский писал: «Посмотрев «Святую Иоанну», я почти убедился, что театр Таирова может ставить героическую трагедию и социальные комедии большого размаха, не плакатные, а, так сказать, фресковые. У Ка-
354
мерного театра, который и до сих пор не был мелочным и несколько раз давал понять свою монументальную душу, есть нужный подход -к монументальности. У камерных актеров есть жесты, гримасы и голос для пьес широких линий, требующих широкие рамки. В этом отношении я радуюсь за Камерный театр»[313].
А. В. Луначарский предложил точку зрения, позволяющую должным образом оценить путь и метод Камерного театра. Многие постановки Камерного театра имели значение всего только прелюда, предыгры, вступления к большим спектаклям, сделанным позднее и принесшим театру настоящую победу. Так, эти более ранние постановки были как бы отменены самим же Камерным театром, потеряли смысл чего-то самостоятельного, были поглощены спектаклями, подготовленными в пору возросшей художественной и идейной зрелости театра. Одно из прежнего опыта было вовсе отброшено, другое изменилось, приобрело новый характер и новое оправдание. Некоторый «анализ» в истории Камерного театра предварял спектакли, синтетические по замыслу и стилю. Из этого ничуть не следует, будто таировский «анализ», разъятие театрального целого на его элементы, нуждается в повторениях его кем-либо и где-либо. «Анализ» сделал свое дело в границах истории самого же Камерного театра. Начинания Камерного театра относились к особым условиям нашего общественного развития, отразившимся всемерно и в нашем развитии, художественном и эстетическом. Когда обстоятельства эти отпали, то вместе с ними отпало, и многое в методах и приемах, сложившихся у Камерного театра. Камерный театр слишком привык, однако, к художественной полемике, которую он вел в 10-х годах. И после революции он все еще был занят прежней полемикой с противником, который лишился прежнего значения или даже вовсе выбыл. Новый зритель требовал не этих полемических тонкостей, к которым он был равнодушен, но положительных достижений — хлеба насущного, ощутимого, прямого, ясного слова о делах и людях революции, о своей обновленной стране, о мире, ее окружавшем, на котором сказались не только недавняя огромная война, но и весь наш огромный революционный
355
опыт. Что важно для историка театра, то не всегда и в той же степени важно для театрального зрителя. Новый зритель, перед которым сейчас представал Камерный театр, мало нуждался в отмежеваниях от старых театральных систем, в размежеваниях с ними; это было внутренним делом самого театрального искусства, которое незачем было выносить на публику. Новый зритель не был обработан и не был испорчен недавним искусством, и нередко он откликался на лучшие завоевания новаторов с быстротой, быть может, даже обидной для них. Давшееся им с немалым трудом, через борьбу и споры, через самоопределение, новому зрителю казалось чем-то самоявственным, прямо подсказанным самой природой вещей.
Таирову приходилось спросить себя: к чему ведет формула «раскрепощения театра», «все ли ею кончается или она не больше, чем начало начал. В пользу чего и ради чего раскрепощение? Нельзя было сомневаться, что энергия театра освобождена ради новых великих трудов, что она должна искать для себя достойного применения, что оно указано запросами и состоянием общества, призванного к жизни революцией.
Последний заключительный синтез, предстоявший Камерному театру, своеобразно был осуществлен на сцене его уже заранее. Не в том или ином спектакле или в серии спектаклей, но в искусстве первой актрисы театра Алисы Георгиевны Коонен, памятном всем старшим и младшим ее современникам, благодарным свидетелям этого искусства. Коонен — явление редкостное. Коонен — трагическая актриса, каких до Коонен было три-четыре в истории русского театра. Когда Коонен вместе с Камерным театром гостила за рубежом, там знатоки именовали ее новой Дузе и новой Рашель.
Коонен охотно склонялась к сценическим экспериментам, постоянно участвовала в спектаклях, построенных на художественном риске, не дававших гарантий ни целостности, ни законченности. Но сама Коонен всегда несла в своей игре и одно и другое. Камерный театр предавался все новым и новым «делениям», дробя и еще дробя систему выразительных средств, изолируя друг от друга ее части и частицы. Что же касается игры Коонен, то здесь незыблемо держался принцип неделимости. Коонен посреди временно распавшейся на частности поэтики сценического искусства сохраняла начала един-
356
ства ее, она без отступлений изображала на сцене человека в непреложном синтезе его душевной жизни, во всей внутренней спаянности его. Разумеется, и Коонен проделала свою художническую эволюцию. Но замыслы Таирова, манера и стиль созданного им театра раньше, чем в остальных подробностях спектаклей, приобрели полную действительность в искусстве Коонен. По особому счастью, в искусстве первой актрисы режиссер мог созерцать избранную им цель, прежде чем она была достигнута более многосторонним образом, — в целостном стиле спектаклей, им поставленных, в общих итогах, художественных и идейных, к которым приближались эти спектакли.
Репертуар ролей, сыгранных Коонен в Камерном театре, был велик и разнообразен. Сподвижница Таирова в большинстве спектаклей, им поставленных, Коонен в качестве актрисы показала пример продуктивности столь же высокой, как Таиров в качестве режиссера. Были, однако, роли, более других ей свойственные и входившие в некий общий тип. Со славой и удачей она изображала «влюбленных женщин и цариц» в трагедиях Калидасы, Расина, Шекспира, и при этом царицы, сыгранные ею, тоже были влюбленные женщины. Между некоторыми ролями Коонен и между сюжетами драм, в которых она участвовала, можно установить родственные связи. Сначала Коонен играла «Адриенну Лекуврер» (1919), драму с историческим сюжетом. Адриенна, как известно из истории,— прославленная актриса, современница Вольтера, исполнительница ролей в классической французской трагедии. Адриенна играла в трагедиях Расина, чувствуя себя духовным детищем этого поэта, воспитавшего ее и в правилах возвышенной эстетики и в правилах жизненного поведения, основанного на самоотверженности чувства, на героизме его и бескорыстии. В 1922 году Коонен впервые сыграла Расинову «Федру», как бы продолжая уже сделанное ею в «Адриенне». Драма Скриба «Адриенна Лекуврер» как бы предрешила позднейшее обращение к «Федре». Ученица Расина в спектакле «Федра» вернула долг учителю. В 1926 году в драме Юджина О'Нила «Любовь под вязами» Коонен играла жену старого Кабота, одержимую страстью к Ибену, своему пасынку. Со стороны некоторых положений в драме О'Нила в формах, намеренно отяжеленных и элементарных, повторяется сюжет
357
Расиновой «Федры». Озверелые фермеры из Новой Англии середины прошлого века дали волю своим инстинктам и частью воскресили страшную коллизию, когда-то разрушившую дом Тезея — афинского шаря, — коллизию, известную через Расина и через трагических поэтов античности.
Роли Коонен нередко переходили, переливались одна в другую. Актриса Камерного театра, она играла не столько характеры, сколько страсти. Характеры обладают твердыми границами, каждый существует на частных условиях и сколько есть силы отталкивается от других характеров, смежных с ним. Страсти легко общаются друг с другом. Эби, жена Кабота, и Федра, жена Тезея, как характеры весьма различны между собой, но и одну и другую клонит та же злобная страсть. Думаем, Камерный театр не всегда замечал, что на сцене егоставятся драмы, сюжеты которых в мировой литературе образуют единое семейство. Очевидно, в этих случаях театром управлял сюжетный, тематический инстинкт. Эти постановки помогали одна другой, сюжеты и роли связывались, Коонен приходила к «Федре» по ниточке, полученной из рук Адриенны Лекуврер, а «Любовь под вязами» Коонен играла, как бы проникнув в эту драму по тайному подземелью, у входа в которое находилась Расинова трагедия. Актриса и театр чувствовали себя уверенней, разрабатывая в этих спектаклях единую проблему, в которой они обладали опытом и навыками. В то же время проблема в каждом спектакле решалась поразному: решение О'Нила не было и не могло быть решением Расина. Зритель Камерного театра чувствовал себя помещенным перед лицом и проблем, и тем, связанных взаимною поддержкой, одно посещение театра приуготовляло его к дальнейшим, он бывал в театре, как друг дома, знающий в доме всех обитателей, их обычаи, занятия и склонности. Рихард Вагнер хотел циклическими постановками, «Кольцом Нибелунгов» создать постоянную связь зрителей, они же слушатели, с театром. Эта связь, когда зритель сознает себя не случайным посетителем того или иного спектакля, но своим человеком, соучастником всей жизни театра изо дня в день, из года в год, устанавливается и менее принудительными средствами, чем применявшиеся Вагнером. Можно обойтись и без непременной циклизации по примеру Вагнера, у которого связь между отдельными спектаклями вся да-
358
на извне, дана сюжетно, осуществляется навязчиво и систематически. В репертуаре Камерного театра такая связь была скользящей, отрывочной, присутствующей негласно через внутренние темы, и, быть может, поэтому она обладала особой неотразимостью для зрителей, перед которыми жизнь театра в ее целом возникала как бы невзначай.
В позднем своем выступлении в ВТО 1945 году, на дискуссии о «Бовари», Таиров сделал важные признания по поводу связей, соединяющих в его театральной практике более ранние постановки с последующими: «Конечно, Скриб — автор небольшой, но если бы не было Скриба, то не было бы «Федры». И не потому, что Скриб для нас был ступенью к «Федре» — нет, совсем не потому, а потому что волей очень ловкого скрибовского драматургического письма Адриенна Лекуврер читает монолог Федры, и это привело театр к необходимости сделать «Федру».
Мы сейчас сделали «Бовари». И вот я знаю, что сейчас весь наш театр очень заинтересован, а я сам просто помешан на том, что именно роман Флобера «Мадам Бовари» князь Мышкин нашел в комнате Настасьи Филипповны, когда пришел туда после ее смерти, и я, вероятно, так и не смогу успокоиться, пока «Идиот» не будет на сцене Камерного театра».
Коонен часто изображала на сцене женщин, за которыми числились несомненные преступления, — измена, предательство, ложь, убийство. Великий поэтический дар Коонен заключался в том, что при всех фактах, показывающих в драме против сыгранных ею героинь, она в ролях своих являлась безукоризненно чистой, безупречно невинной по самым основам собственного своего существа, по обличью своей души, несудимой и ненаказуемой. Коонен никогда не обманывала и не подкупала. И на самом деле душа героинь, изображенных ею, не знала никаких внутренних связей с преступлениями, которые были совершены ими же. Женщины эти сияли перед зрителем, наперекор всему материалу, собранному против них обвинением. Не нужно было каких-либо сценически тяжеловесных рассуждений о пагубном влиянии среды, о внешнем давлении, под которым находились эти женщины. Свет, исходивший от Коонен, сам за себя говорил. Ясным было, что женщин, сыгранных ею, нельзя сливать в одно с их деяниями, с их преступлениями, яс-
359
ным было, что их вынудили творить зло и что зла они не хотели и нисколько не были расположены к нему. Им навязали зло, их запутали, их заставили прибегнуть к злу ради самозащиты, они поступали имморально по мотивам оскорбленной морали, стыд и отчаяние подвигали их на ужасные действия.
Коонен обвиняли в экзотичности ее сценической манеры, в аристократизме, в чрезмерной изысканности сценического поведения. Еще до Камерного, на сцене Художественного театра Коонен сыграла в «Пер Гюнте» Анитру и Машу в «Живом трупе». Анитра — женщина экзотическая. Маша — простая, любящая душа. Первый же взгляд, брошенный на портрет Коонен — Маши, открывает нам, в чем особые отличия игры ее в этой роли и в этот период. Здесь отсутствует хотя бы самомалейшая стилизация, нет стилистической призмы, нет преломления, перед нами непредвзятое живое существо, маленькая головка цыганки Маши, певицы и певуньи, влюбленной храбро и наивно в такого трудного, необычного человека, как Федя Протасов. В Анитре уже заложены были начала стилизации, разросшейся у Коонен в период Камерного театра. Павел Марков считал, что Маша и Анитра определили актерскую биографию Коонен. Он полагал, что «для театрального завсегдатая было очень любопытно и интригующе допытаться, по какому руслу направятся интересы Коонен и что станет для них исходным пунктом — Анитра или Маша»[314].
Думаем, что антитеза Маши и Анитры плодотворна и богата, но как всякая антитеза чересчур остра. Коонен вовсе не выбирала: Маша или Анитра, она, если угодно, с самого начала была и той и другой вместе, была Анитрой, сквозь которую просвечивала Маша; в ранний период Камерного театра Коонен—Анитра была едва проницаема, с годами Коонен — Маша все более угадывалась под стилистической броней Анитры. Известный маньеризм, в начале Камерного театра свойственный Коонен, либо приобретал в дальнейшей ее деятельности относительное значение, либо вовсе отпадал. Грим и краски Анитры, стилизованность Анитры становились со временем защитным средством для Коонен — Маши. Простое человеческое содержание — «Машино содержание», — чтобы устоять в маньеристском, искусственном,
360
лживом мире, должно было на время принять его образ, и по мере того, как подвигалась борьба с недобрым этим миром, все лучше узнавалось, ради чего началась она, чему и кому служила: борьба велась в пользу Маши с ее детской .простотой душевной, а вся атрибуция Анитры имела смысл оружия, извне доставленного и необходимого только временно. Вместе с Камерным театром Коонен вступила в новую жизнь нашей страны, созидающей социализм и общественные отношения, свойственные ему. Отсюда следовала уверенность, с какой Коонен в зрелый свой период отстаивала простые человеческие ценности. Коонен отстаивала на сцене «права человека» в их женском образе, права любить и быть любимой, права на привязанность, права на заботу о ком-то другом — заботу матери, возлюбленной, жены. В конце концов, так называемый аристократизм искусства Коонен весь направлен был в эту сторону. Аристократична, если угодно, была в изображении Коонен эта женская душа, выше всего оценившая бескорыстную и деятельную любовь,— выше имущества и удобств, выше собственного успеха. Посредственные, а то и низменные люди, окружавшие героинь, трактованных на сцене Коонен, прозаики-буржуа, спесивые носители дворянских титулов, изо всех сословий и слоев взятые охотники до денег и дешевой любви, те были чернью, а Коонен в простоте и непреложности своих требований к жизни, в своей сообразности естественной человеческой норме — та была аристократкой, урожденной знатной женщиной. Ее могли окружать вульгарные соседи, ее могли выдать замуж самым пошлым образом, и она не теряла знатности, подобно царевне Электре у Еврипида,— попавшая в деревню, выданная за пастуха, она пребывала той же дочерью Агамемнона, царя царей, воевавшего под Троей.
В постановке «Адриенны Лекуврер» салоны вельмож пылали пышностью, по сцене двигались массивные фигуры в грузных одеждах XVIII века, в толстых париках под пудрой. Адриенна тоже появляется вначале парадная, официальная, как это и велит ей пьеса. В каждом акте парик другого цвета отягощал голову Адриенны. В последнем только акте Адриенна — Коонен возвращалась к самой себе. Та, о которой мнили, что это — Анитра, возвращалась к Маше, незатейливой своей антагонистке. Стиль и манера, навязанные героине светскими условиями, вдруг падали к развязке драмы. Ад-
361
риенна — Коонен выходила в скромном и легком одеянии, вились на свободе ее золотистые волосы, натуральные, она задумывалась, ясная и тихая. В последнем акте победа и поражение смешались друг с другом. Тут виделось поражение, так как Адриенна умирала злою смертью. Тут виделась победа, так как близость смерти и сама смерть вернули Адриенну к ее первообразу, к естественной ее личности, наивной и лирически-прекрасной. В сказках и в мифологии смерть снимает колдовство, красавица, которую околдовали, умирает, и тогда она опять красавица, колдовство потеряло свою силу и маска безобразия сходит. Все это совершалось и здесь, на сцене, когда Андриенна шла к своему концу.
В инсценированной «Мадам Бовари» Флобера все окружение героини состояло из уродов первой степени, второй и третьей. Аптекарь Омэ (играл его С. С. Ценин), короткорукий, грузный, нес перед собой свой большой живот, сыпал словами и неистово суетился. Ростовщик Лере и нотариус Гильомен похожи были на грязных, опасных животных, изобретенных фантазией сатирика из школы Рабле,— с ногами, которые не ходят, но на которых ползают, с руками, которые хватают и загребают, с телами, которые пресмыкаются. Красивое лицо Родольфа (в этой роли выступал Н. Н. Чаплыгин) было мнимокрасивым, тайноасимметричным, а Леон, другой возлюбленный героини, был отвратительно слащав, ни на минуту не внушал доверия. Все эти лица стояли ниже того, что требовала человеческая норма. Одна только Коонен — Бовари воплощала норму, и это придавало Коонен вид необычности. Верность норме — это и было избранничеством, привилегированностью Коонен—Бовари. Героиня спектакля проходила через тяжкие унижения, и в них-то она и казалась царицей, чьи права на царствование несомненны. Она являлась к Родольфу с мольбой о помощи. Родольф, довольный и богатый, принимал ее развалившись на диване, который покрыт был ковром. Гневаясь слушала она, как Родольф ей отказывает. И тут мерещилось, что роли меняются. Это она — власть и сила, и это Родольф просит перед ней и даже попрошайничает. Она, проникшая сюда с черного хода, казалась госпожою дома, а Родольф — грязным нищим, неведомо как забравшимся на богатое это ложе, на богатый ковер. Положения людей в этой сцене и ранг, внутренне подобающий каждому из них, находились в
362
обратных отношениях друг к другу. Актеры играли свою внутреннюю тему наперекор вещам, как они даны извне, наперекор способу, каким вещи разместила жизнь.
Окруженная людьми, косыми и кривыми, уродливыми откровенно или тайно, Коонен — Бовари, единственная, была возвышенно прекрасной.
В спектакле этом Коонен чуть ли не в каждом эпизоде выходила одетая по-иному, как если бы роль Бовари только и сводилась к потоку одеяний и переодеваний, действующих на зрителя ослепительно. Бовари порывисто и в великом беспокойстве металась по сцене от наряда к наряду. Как бы совершались безостановочные поиски: нет ли такого платья, нет ли платья таких цветов, такого покроя, которое помогло бы героине воплотиться. Спектакль шел к концу, нужного платья не было и не было, приблизительные, очень приблизительные оболочки сменяли друг друга, душа героини не дождалась счастья воплощения. Героиня не срослась ни с одной из жизненных форм, предложенных ей обществом и временем. Камерный театр -— «театр костюмов» — умел быть также и театром человеческих душ; созерцая на сцене театра высокую трагедию, зрители могли воочию убедиться в этом.
Фигура Коонен, героини трагедии, казалась удлинненной, устремленной ввысь, как если бы это была фигура, взятая из готических композиций. Прекрасные удлиненные руки как бы отстраняли предметы, придвинутые чересчур близко. Они устанавливали между актрисой и назойливой бытовой обстановкой необходимую дистанцию. Вокруг актрисы возникала зона физической и моральной недоступности, неприкосновенности, куда воспрещалось вторгаться персонажам низкого и низшего значения.
Искусство каждого актера имеет признаки, по которым оно узнается, как статуя, сделанная скульптуром, имеет свою характерную атрибуцию — фигура с лавром, с посохом, с мечом, в короткой тунике, в длинной тунике, с высоким головным убором, с диадемой. Искусство Коонен — это руки и голос, и в этом признаки его, определяющие, каков пафос актрисы, каков стиль. Руки — это дистанция и оборона, рука — это расстояние, на котором держат и сдерживают противника. Голос — это душевные силы и качества, голос — тот внутренний мир, на защиту которого все обращено. Голос — это личность,
363
еще не раскрытая и уже раскрывающаяся, голос — это свое, отдельное в человеке и голос — это его способ связываться с другими людьми. Голос Коонен, глуховатый, но очень покорный мелодии и ритму, иногда фаталистически звучащий, способный к страшным вскрикам и выкрикам, всегда вспоминается нам как удивительное орудие лирической и драматической поэзии. Коонен — мастер интонации, очень часто парадоксальной, далеко отходящей от норм житейских и театральных. По поводу стандартных интонаций замечания, полезные для чтецов и актеров, можно найти у Уильяма Джемса, известного философа и психолога: «Как объяснить тот факт, что человек, читая какую-нибудь книгу вслух в первый раз, способен придавать своему чтению правильную выразительную интонацию, если не допустить, что, читая первую фразу, он уже получает смутное представление хотя бы о форме второй фразы, которая сливается с сознанием смысла данной фразы и изменяет в сознании читающего его экспрессию, заставляя его сообщить голосу при произношении надлежащую интонацию? Экспрессия такого рода почти всегда всецело зависит от грамматической конструкции. Если мы читаем «не более», то ожидаем «чем», если читаем «хотя», то знаем, что далее следует «однако», «тем не менее», «все-таки». Это предчувствие приближающейся словесной или синтаксической схемы на практике до того безошибочно, что читатель, неспособный понять в иной книге и одной мысли, будет читать ее вслух в высшей степени выразительно и осмысленно»[315]. Непривычность, странность интонаций Коонен происходила от того, что Коонен всегда переделывала этот интонационный рисунок, предрешенный синтаксисом, а также словесными ассоциациями, неизбежными соответствиями и связями слов в предложении. Да, многие актеры повинны в этом — они читают текст со сцены, будто они фонетические куклы, они блистают безупречностью своего непонимания сказанного в тексте, дорожат своими заслугами виртуозов грамматических схем, интонаций, безотносительных к живому и текучему смыслу. В читке Коонен не было ни одного, ни другого, ни третьего. Коонен вовсе отбрасывала интонации, навязанные грамматическим строем фразы, и тогда на волю могли вырваться интонации иного рода —
364
оправданные существом мысли и эмоции. Мы говорили, что интонации Кооиен были непривычны, — в актерском интонировании привычной стала ложь. Мелодика Коонен поражала, так как она явилась знаком истины — духовной, душевной, эмоциональной. Героини, изображенные Коонен на сцене, ломали общепринятый быт, бунтовали против насилия над ними бытовых, социальных форм и схем, сколько могли защищали животворное содержание собственной личности. В голосовом обиходе и поведении Коонен повторялась биография героинь, представленных ею на сцене, повторялась в малом формате. Ради подлинного смысла Коонен разрушала интонации бессмысленные, мертвые, тривиальные и делала это с такой решительностью, как если бы то были прутья тюремной решетки, справившись с которыми можно выйти из заключения.
Голос Кооден нередко звучал в спектакле как продуманный контраст, как антитеза всем прочим голосам, слышным здесь. В той же постановке «Мадам Бовари» раздавались и глупый голос Шарля, хозяина дома, и отчаянный визг служанки, и низкие басы мужской прислуги, и скороговорка аптекаря Омэ, с невероятной быстротой, как на маленькой сковородке поджаривавшего свои слова и реченья и тут же переворачивавшего их. Над всеми этими неблагоустроенными звучаниями плыла подлинная и музыкальная речь Коонен, не смешиваясь с ними, предаваясь собственному своему отдельному течению.
Достижения Коонен, достижения больших трагических спектаклей, основанных даже на классическом репертуаре, не могли ни для самой Коонен, ни для театра, в котором она играла, оказаться итогом всех итогов, последней целью всех усилий. Нужны были успехи иного порядка, связанные с советской литературой и с советской драматургией, нужны были спектакли, прямо обращенные к ближайшей современности, политической и социальной. В начале 30-х годов Таиров делал один за другим опыты освоить советскую драматургию, и настоящий успех пришел в 1933-м, когда на сцене Камерного театра поставлена была «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского. С той поры и до самого конца Камерного театра «Оптимистическая трагедия» выдержала свыше восьмисот представлений — цифра в театральной практике малообыденная. Теперь, когда опубли-
365
кованы записные книжки Вишневского, нам известно, как мало доверял он вначале Таирову и его театру. Вишневский думал, что с драмой его Таиров не справится, — как и многие другие, он не подозревал о ресурсах, накопленных Камерным театром, о его тайных возможностях, воспитавшихся через прежние спектакли, через высокую патетику, пантомиму и буффонаду. 27 января 1933 года Вишневский у себя записывал: «Разговор с Эйзенштейном… Говорит: "Если бы я ставил, это был бы "шум-ный" спектакль, но здорово". Считает, что Таиров не сделает. Не верит в него… Жалеет, что я порвал с Мейерхольдом»[316]. «…Камерный театр читает "Оптимистическую трагедию" уже месяц — за столом. Таиров говорит: "Будет, выйдет, эпохальный спектакль". Хватит ли "остроты" и грубости? Посмотрим»[317]. Запись от 20 сентября 1933 года: «Я не отрицаю таировских данных, но смелости, риска нет»[318]. От 22 ноября 1933 года: «С точки зрения мастерства: ускользают резкость, размах, дерзость, намеки, проблема»[319]. И, наконец, совсем иное записывается через месяц, под датой 21—23 декабря 1933 года. «Успех "Оптимистической трагедии" растет… Пьеса пройдет волной по стране»[320]. Колебания Вишневского могут предостеречь любителей выносить приговоры заранее. Вишневский не сразу оценил в Таирове объем таланта, способность его работать в многообразных направлениях, с быстротой осваивать непривычную тематику и находить для нее подобающий художественный язык. Работу Таирова Вишневский оценивал только по прямым вещественным ее итогам. Он не всматривался в процесс многолетней работы театра, в котором содержалось и нечто большее и нечто иное сравнительно с итогами, к которым этот процесс приводил до сей поры. Поэтому Вишневский не предвидел, что может и чего не может дать театр Таирова. Мы сейчас не твердо знаем, кто истинный автор «Оптимистической трагедии»: Вишневский ли, написавший ее, или же Таиров, ее поставивший. Как авторы по меньшей мере оба равноправны.
366
Удача с «Оптимистической трагедией» была предрешена многим в
прежних опытах Таирова. Он нашел здесь стихию, нашел страсть, да еще в таком
масштабе и размахе, в таком коллективном их проявлении, с каким ему не
доводилось иметь дело в прежних его постановках. Стихийное начало нашей
революции в драме Вишневского изображено с достаточной полнотой и широтой. Но в
этой драме Таиров нашел и иное. Здесь изображалась с напряженностью, с пафосом
борьба за революционную дисциплину, за организованное общество, за
организованного человека, и это второе начало тоже издавна было родственным и
ощутимым для Таирова. Что когда-то представлялось как бледный опыт
неоклассицизма, что являлось чистой эстетикой, то сейчас возникало заново как
огромная задача, выполняемая самой общественной жизнью, как повседневная
практика социалистической революции. Шла речь не о стройных спектаклях, не о
хорошо построенных произведениях, не об опытах формальных и об опытах
художественных, покинутых на самих себя, но об искусстве, которое раскрылось бы
навстречу делам и событиям реального мира, об искусстве, которое отразило бы
борьбу за стройность, за разумный порядок, за разумную форму и оформленность в
самих отношениях общественных людей. Великая эта тема подчинения революционной
стихии революционному разуму впервые и сразу же с удивительным проникновением
разработана была в поэме
В своем докладе перед труппой Таиров говорил по поводу «Оптимистической трагедии»: «Тема пьесы — борьба между жизнью и смертью, между хаосом и гар-
367
монией, между отрицанием и утверждением. Поэтому вся эмоциональная, пластическая и ритмическая линия постановки должна быть построена на своеобразной кривой, идущей от отрицания к утверждению, от смерти к жизни, от хаоса к гармонии, от анархии к сознательной дисциплине. Эта «кривая» спектакля всеми своими корнями вырастает из социальной сущности пьесы. Основное содержание ее — процесс кристаллизации нового классового сознания, идущего на смену хаосу мелкобуржуазных индивидуалистических отношений, вспыхнувших после падения царизма в отдельных слоях народа, а в пределах пьесы — в матросской массе. Здесь берет свое начало борьба двух сил, двух стилей: центробежной и центростремительной. Царизм, его деспотия, его сверху водворенный порядок, его насильственно держащийся центр падают. От этого центра расходятся как бы своеобразные центробежные круги, а параллельно с этим назревают новые процессы, идущие по отношению к ним противоходом, процессы центростремительные.
Мы видим в пьесе, как борьба этих двух сил в результате ряда коллизий приводит к победе и предельному утверждению центростремительного потоки».
«Центростремительную» силу, если пользоваться словами Таирова, воплощала в этом спектакле А. Г. Коонен, игравшая роль женщины-комиссара. Она уже не впервые делала опыт играть на сцене советских женщин в советских пьесах. Роль комиссара обещала богатейшее и высокое по смыслу содержание. Коонен умела найти его и связать со своим искусством. Это не была роль всего только бытовая или мелкохарактериая, которая начинается здесь и кончается там. Играя эту роль, можно было усмотреть просветы и пути в сторону важнейших явлений эпохи, в сторону будущего и даже отдаленно будущего, к которому вел исторический материал трагедии. Комиссар «Оптимистической трагедии» означал строительное начало, означал социалистический порядок, означал разум власти и власть разума, проникающие в смуту жизни, способные до конца овладеть ею, смуту заменить гармонией. Всеволод Вишневский колебался в свое время по поводу Коонен. Он записал еще 20 ноября 1933 года: «…Коонен, входя в роль, перепробовала много разных ходов и теперь чувствует трудность… Еще бы, женщина-комиссар 1918-го! Это не
368
Клеопатра и не Адриенна Лекуврер!..»[321] Вишневский ошибался, когда попрекал Коонен прежним ее репертуаром. Дело было не в том, кого именно играла прежде Коонен — Клеопатру или Адриенну. Важна была школа высокой трагедии, пройденная актрисой, воспитавшая мысль актрисы, поставившая ей трагический голос. Коонен была подготовлена к роли героической женщины, к роли, предначертанной у Вишневского.
Художник спектакля В. Рындин возвел особое сценическое сооружение, стиль которого уже с первого взгляда предвосхищал, что и как будет в этом спектакле предъявлено зрителю. Работа Рындина, очень точная, простая, экономно выполненная, отличалась энергией и внутренней знаменательностью. На сцене представлена была палуба военного корабля, не отягощенная излишними подробностями. Военный корабль был и зрительным образом и внутренней темой. Он был место действия для первоначальных эпизодов, а в позднейших, где место действия изменялось, он все же присутствовал как некая мысль, как общая настроенность, как напоминание. Да и как физическое тело корабль отчасти сохранялся в дальнейших эпизодах. Представленная с некоторой условностью палуба без труда поддавалась необходимым превращениям. Для дальнейшего действия из нее делали территорию, на которой происходила окопная война. Бывшие моряки становились солдатами, которые вели огонь из своих землянок и укрытий. Тема военного корабля, вездесущая в спектакле, как бы обнимала все его эпизоды, сменявшие друг друга в глазах у зрителя. Вместе с этой темой над спектаклем господствовала тема высокой дисциплины, блестящей и безупречной точности жизненных распорядков, красоты ее. Флотское, уклад флотской жизни подняты были до степени символа.
С самого начала спектакля в него вводились главенствующие смысловые темы. Тут были моряки, расшатанные, разложенные, недовольные, бунтующие против всякой власти, от кого бы она ни исходила. Но они же развертывались по палубе строгим и точным военным строем, напоминая кадры из «Броненосца» Эйзенштейна, который тоже явился одним из художественных контекстов таировского спектакля. Зримо и осязаемо в спек-
369
такле боролись две смысловые силы: анархии, распада, завершающих историю старого общества, и разумной сознательной организации, во имя которой приходит новая власть.
Надо полагать, нельзя считать случайностью то обстоятельство, что именно женщине в трагедии Вишневского передана была главная роль. Коонен сделала все, чтобы эта доставшаяся ей роль женщины в кожаной куртке оказалась не каким-то героическим анекдотом, но ролью, обладающей моральной глубиной и богатством значения. Коонен не играла в трагедии Вишневского вторую Жанну д'Арк, девушку-воина, которая ниспускается на поля сражений как чудо и умеет одерживать победы там, где бессильной оказалась обыкновенная армия. У Шиллера трагическая вина Жанны начинается с минуты, когда Жанна уступает своей женской природе и женским чувствам. Чудо тоже имеет свои законы, и тут законы чуда нарушены. Коонен и не пыталась скрывать, что комиссар, которого она играет, был и есть женственная женщина. Она не стремилась принять мужской, резкий солдатский образ. Коонен оставалась своеобразной при всех своих делах и действиях — настоящих действиях вождя и командира. Комиссар в трагедии Вишневского — один из тех, кто трудились над созданием подлинной, хорошо урегулированной революционной армии, дисциплины политической и военной. Но женщина-комиссар — знак того, в чем состоят дальние цели этого труда, ради чего он предпринят, во имя чего созидается новое общество. Стройность и порядок, как трактовал их спектакль, как трактовала их Коонен, были началами добрыми, человечными, в пользу интересов человека вводимыми в жизнь. Таиров, иапутствуя свой спектакль, говорил о гармонии. Призвание нового общества, первые шаги которого изображены в спектакле, состояло в гармонии. Когда порядок был представлен женщиной, то идеям человечности и гармонии давалось предельное выражение. Подразумевалась гармония но только добрая, но если угодно — нежная. На сцене изображалась жестокая гражданская война, но уже велась исподволь речь о дальнем смысле всего происходящего, о человечных целях, которые проносятся перед будущими победителями. Сам этот дальний смысл обнажался уже сейчас, в событиях близких, непосредственно совершавшихся на сцене. Героиня трагедии дей-
370
ствовала в особых исторических обстоятельствах. На сцене демонстрировался тот ранний период революции, когда новая власть только начала создавать для себя материальную защиту, когда враги пользовались этим и когда она была уязвима для грубой силы. Героиня трагедии Вишневского может опереться только на самое себя. Она действует единственно собственным внутренним убеждением, передавая его, внушая его людям, которых она должна вести за собой. Ее человеческое обаяние, и где-то исподволь женское становятся действенным оружием. Происходит некая мобилизация внутренних ресурсов, героиня сильна, хотя как женщина более, чем кто-либо другой, подвержена грубым посягательствам.
В таировском спектакле постоянным фоном являлся военный корабль, а в центре спектакля стояла женщина-порядок, женщина-гармония, как изображала ее Коонен. На актрисе была героическая куртка 1918 года, а лицо было задумчивое, с ясным лбом, с благодатной по временам улыбкой. Нижняя часть лица очерчена была волнистыми, чуть-чуть мечтательными линиями. Таким был дан центральный зрительный образ, до которого и прямыми и косвенными путями, то издали, то ближе, через связь идейных и художественных значений, поддерживавших друг друга, досланы были господствующие темы и господствующий замысел спектакля, поставленного Таировым.
Позднее Таиров в своих высказываниях, устных и печатных, старался дать отчет, чему научила его и Камерный театр постановка «Оптимистической трагедии».
В статье о Всеволоде Вишневском, 1945 года, Таиров писал: «До Октябрьской социалистической революции наш театр искал решение героической темы, воплощение своей мечты о спектакле, утверждающем силу и красоту человеческого духа, свободного человека с большой буквы, в кругу одних классических образов. Октябрьская революция, окружавшая нас жизнь наполнили эти поиски новым могучим содержанием. Не отказываясь от накопленного мастерства, а, наоборот, обогащая его, мы стремились вдохнуть в него новую жизнь, направить по новому высокому руслу». Героическая тема в прежней практике Камерного театра впадала в декоративность, героическая личность против воли режиссера представала как вымысел, как фигура из сказки. Сейчас театр почувствовал реальность героического мира и героическо-
371
го действия. Та же статья о Вишневском далее гласит: «Само понятие героического наполнилось для нас новым, бесконечно обогащенным содержанием. Нашим прежним героем был лишь тот человек, который противопоставлял себя обществу и среде. Наш новый, сегодняшний герой должен был воплотить лучшие чаянья, чувства и мысли своего объединенного общей целью борющегося, созидающего народа. Само понятие трагического и трагедии приобрело для нас новое качество». Прежний герой трагедии оценивался как сказочный принц, как полуреальность или же как прекрасный призрак именно потому, что он действовал отъединенно, вопреки устремлениям и воле окружающих. В трагедии Вишневского герой умеет связать себя с массами и массы с собою, цели его — массовые цели, пусть степень их осознанности у него более высокая,— до этой степени массы тоже подымаются и подымутся. Герой, умноженный на человеческую массу, приведенный в движение совместно с нею, становится силой и действительностью. Выход к массам был также выходом к истории. Герой трагедии гибнет в поединке с контрреволюцией. Дело его, знания его — в руках народа, восставших масс, и массы вынесут знамя в будущее, кончат победой, хотя по дороге и были поражения. Отсюда и новое понимание трагического, о котором говорит Таиров. «Оптимистическая трагедия» — эпитет к понятию трагедии, как кажется, противоречащий самому понятию. Решается противоречие тем, что трагедия сегодня станет победой и празднеством завтра. Трагический герой не является более ни сказочным существом, ни великомучеником. Трагедия не сказка и не житие, но жизнь, действительность, история. В статье о Вишневском Таиров доказывает: «Трагический момент в развитии сценического действия для советского художника не катастрофа, завершающая события, а кульминация, требующая преодоления во имя жизни, во имя подлинного творчества, во имя истинного торжества человеческого духа».
Преодоление, о котором говорит Таиров, давалось всей дальнейшей историей революции. Трагическая катастрофа, как говорил Таиров в одном из своих послевоенных выступлений, не «завершение действия», но его «определенный рубеж».
Спектаклю Таирова и в этом отношении предшествует «Броненосец» Эйзенштейна. Этот фильм впервые до-
372
казал, что трагедия может развязываться оптимистически. О развязке фильма хорошо писал сам Эйзенштейн, он отступил от исторических фактов, «Потемкин» в фильме не выдан царским властям, но в конце фильма мятежный броненосец проходит сквозь адмиральскую эскадру, что создает впечатление большой победы. Эйзенштейн: «И это не произвол художника, но закономерный показ того, что факт подобного восстания во флоте, пусть и раздавленного на время царскими сатрапами, был в исторической перспективе восходящей линией революции исторической громадной победой»[322].
В выступлении 1946 года Таиров рассказал, какие выводы сделал Камерный театр из работы своей над трагедией Вишневского[323]. Метод театра изменил свое направление. Театр вышел из того раскола, который так долго определял его тактику. Слабость театра была в том, что он до сей поры мало доверял действительности: незаурядные силы жизни — героизм, подвиг, красоту, высоту духа и помыслов — он стремился держать на отдалении, то большем, то меньшем, от самой жизни. Ставя трагедию Вишневского, театр убедился, что лучшие и прекраснейшие силы эти могут и должны лежать в действительности как она есть, без опасения, что будут уничтожены ею: возвышенное искусство и реалистическое искусство не исключают друг друга и в новых условиях идут на крепкий союз. Возвышенное содержание жизни до сей поры рассматривалось как нечто самой жизни не принадлежащее. Поражение, которое терпели возвышенные силы, склоняло к такому пониманию их роли и смысла. Если же трагедия завершается оптимистически, то самый вопрос о реализме, о реальности возвышенных сил трагедии освещен по-новому. Развязка — положительная, добрая; следовательно, и силы эти, высокие силы человека и его истории прочно сидят в жизни, не отчуждены от нее, составляют с нею одно, до конца, до существа реальны.
Замечательно, что в этом выступлении Таиров принял столь долго и столь последовательно гонимый им быт: «Вне быта нет действительности. Но, с другой стороны, один быт — это еще не вся действительность».
373
В этом суть дела: Таиров боялся быта, покамест находился, не зная этого, под властью убеждений бытового театра, который ведь и считал, что быт — это все, что где кончается быт, там кончается и реальность жизни. Когда Таиров завоевал для себя более широкое понимание действительности, ее природы и объема, быт занял подобающее ему место и бесшумный, но неотвязчивый террор быта прекратился. Таиров признал действительность, как первоисточник всех синтезов и искусства, а также серьезность и значительность искусства. В своем выступлении Таиров цитировал Островского: «Нужно, чтобы актеры, представляя пьесу, умели представлять еще и жизнь».
«Оптимистическая трагедия» передвинула также оценку Таировым идейного содержания драматургии, веса его и значения. Таиров говорил: «Постепенно мы стали приходить еще к одному, для нас чрезвычайно важному обстоятельству. Мы увидели, что идея пьесы, спектакля не есть нечто само собой возникающее в результате создания спектакля, а что именно она, идея пьесы, является ведущим началом, ключом к созданию спектакля. Именно ей подчиняются и должны подчиняться все остальные его компоненты. Такое понимание идеи, или определяющего начала, далось нам не сразу. Для этого потребовался пересмотр всей нашей методологии, потребовалось найти и свои пути анализа пьесы». Признания эти весьма существенны. Театр привык видеть в идее драматурга чистую мысль, личное помышление, не обладающее принудительностью. У театра в работе над спектаклем не было настоящей активности в сторону идеи, он строил спектакль, разбивая пьесу на куски и вновь собирая их, следуя соображениям стиля и сюжета, в надежде, что идея сама придет, «сама собой возникнет», как говорил Таиров. «Оптимистическая трагедия» научила театр уважать идею пьесы как живую реальную силу — идея прямо и непосредственно входила в сюжет, она побуждала к действию и направляла действие. Практика революции и социалистического строительства развивалась от идеи, превращала идею в события и в вещи. В трагедии Вишневского герой ее — весь в идее; авторская идея и та, которая через героя, через его товарищей и сподвижников преобразует действительность, в этом произведении совпадают. Когда Таиров строил здесь действие, он строил также и историю
374
идеи — прокладывал трассу для нее. Поэтому он говорил и о новом способе режиссерского анализа пьесы, подготовляемой к постановке: анализ этот велся теперь вдоль идеи, по ее путям. Таиров высказывался здесь вообще против дробления пьесы «на куски», на мелкие части. Когда режиссер исходит из идеи, то и характер его работы становится более обобщенным, спектакль выходит из работы более целостным, стиль спектакля укрупняется, мужает.
Таиров уже очень рано, с начала 20-х годов, установил и другую форму связи с современностью — через зарубежный репертуар. Есть авторы XX столетия, впервые открытые для нашего театра Таировым. Это не один только метафизический Клодель или же Честертон с крутыми парадоксами «Человека, который был четвергом», это более бесспорный Юджин О'Нил, три пьесы которого поставлены были Камерным: «Косматая обезьяна» (1926), «Любовь под вязами» (1926), «Негр» (1929), это также Бертольт Брехт, впервые представший перед русским зрителем на сцене Камерного театра как автор «Оперы нищих» (1930)[324], это Софи Тредуэлл, автор превосходной драмы «Машиналь» (1931). Список неполон. Таиров — один из главных инициаторов той манеры, которая принята на советской сцене в спектаклях, передающих жизнь Запада. Современный капиталистический город, улицы его, дома, люди, их способ жить, делать дела, двигаться, передвигаться — все это, вместе взятое, составляет одну из тем Камерного театра, проведенную через множество повторных опытов, хорошо и разнообразно им изученную. По сегодняшний день по нашей сцене реют тени Камерного, когда ставят современного западного драматурга, когда режиссер демонстрирует буржуазную цивилизацию в самоновейших ее чертах, в ее людях, в ее порядках. Таиров, в первый свой период почти изгнавший со сцены характеры и характерность, в этом более позднем репертуаре вернул и то и другое, отыскав для этих категорий театральной поэтики новое оправдание. В западных спектаклях Таирова мы находим в первую голову массовую, коллективную характерность вместо характерности персональной, от одной человече-
375
ской единицы к другой. Для Таирова особое лицо, и весьма законченное, — капиталистический город как целое, дом, улица, человеческий коллектив, будет ли это бюро, где стучат машинистки, будут ли это люди, работающие в кочегарке парохода. В идейный мир Таирова, а поэтому и в поэтику Таирова, с достаточной энергией вошло деление: «у нас — у них», страна социализма — страна капитализма. В таировских спектаклях Запад — это «они», чужие, остро увиденные, даже в трагических положениях рискующие оказаться героями социального памфлета, созданного режиссером. Таиров видит Запад как некое единое целое, обладающее своей физиономией, глубоко врезанными, отличительными чертами. Но у Таирова за этой характерностью большого целого не пропадала и характерность частного порядка, будь это отдельные страны Запада, будь это какая-либо людская среда, не похожая на всякую другую, будь это, наконец, человеческие индивидуальности. Сподвижник Таирова Вишневский проявлял порою склонность все и вся подводить под массовые характеристики, всякий портрет превращать в коллективный и сверхколлективный. В письме к М. А. Россовскому от 12 октября 1936 года он писал: «Ты ушиблен так называемыми «характерами»… Вы не понимаете, что в мире произошли смещения. Главный характер сейчас — характер эпохи, характер масс и событий»[325]. Bce это верно и, однако, не означает, что характеры и характерности в более тесном смысле исчезли, потеряны для нас, перестали что-либо нам говорить. У Таирова в его спектаклях 30-х и 40-х годов один за другим ожили индивидуальные характеры, явственным образом восходящие к общему стилю эпохи и ее событий, каким он передан в сценических картинах. Характеры эти, идущие от общего и целого, получили новую внушительность, неведомую прежней комнатной драме. Как индивидуальности они стали богаче и приобрели крупный калибр.
«Косматая обезьяна» О'Нила — одна из удач Таирова в области новейшей социальной трагедии. Это была также удача главных актеров спектакля — А. Б. Никритиной и С. С. Ценина: Милдред Дуглас, дочь миллионера, и Янк, кочегар. Можно принять О'Нила за натуралиста, за автора с биологическим пониманием вещей соци-
376
альных, что, однако, далеко от истинной сути его произведений. Он ставит рядом эротику и чувства социальные, ничуть не задаваясь целью свести второе на первое. Ему нужны эта смежность, это соседство переживаний социальных и биологических ради того, чтобы выразить огромную стихийную силу всего социального в человеке. Перед нами своеобразная метафора или своеобразное сравнение: социальное, не будучи полом, не будучи природой, сходно, как считал О'Нил, с тем и с другим по значению своему, по огромности своего влияния и поэтому находит для себя и в том и в другом свое метафорическое подобие. Классовое чувство, классовая ненависть кочегара из пароходной топки ко всем привилегированным подобны силой своей той особой злобе — эротической злобе, которую вызывает в нем изнеженная, нарядная и третирующая его женщина. О'Нил скорее в самой эротике как таковой готов усмотреть нечто социальное, чем социальное свести на биологические переживания. Разумеется в приемах О'Нила заключено немало опасностей быть ложно понятым, да и самому ошибиться, но следует выделить их тенденцию, независимо от уклонений ее в ту или другую сторону.
Сцену в кочегарке, возбуждавшую восторги зрителей, хорошо описал в своих воспоминаниях Е. А. Бегак, к сожалению до сей поры их не издавший. Е. А. Бегак: «В третьей картине пьесы — кочегарка океанского парохода — почти не было слов. Полумрак, давящий потолок, полуобнаженные, мокрые, могучие тела «подземных духов», освещенные снизу огнями топок,— фигуры, крепко упершись в пол, в едином ритме подхватывающие лопатами уголь и бросающие его в жерло печи, гудящий огонь, сотрясающий корпус корабля. Казалось, что клокочущая сила, заключенная в этих людях труда, стремится вырваться из «преисподней», разорвать стены, выйти на свежий воздух». О'ниловская кочегарка, разработанная Таировым с помощью художников спектакля В. и Г. Стенбергов, заставляет вспомнить о многих стародавних устремлениях Камерного театра. С первых же своих начинаний театр добивался реабилитации человеческого тела. Он объявил войну некультивированной плоти, обывательской, не воспитанной ни физическим трудом, ни спортом, царившей на сцене бытовиков и натуралистов. Сцена в кочегарке прокламировала новую эстетику. Во всей красоте здесь сверкнуло тело ра-
377
ботающего человека. Красота эта была мгновенной со всех сторон ее омрачали рабство, зверская эксплуатация. Удивительная, могучая красота человека, занятого материальным трудом, показалась в спектакле на минуту с тем, чтобы воззвать к людям — годами, десятилетиями пусть люди борются за нее, за выход ее из плена, за отмену отношений, унижающих ее.
«Любовь под вязами» — спектакль мрачной и тоже мощной выразительности. В нем было много неожиданного — в умении Таирова и обоих Стенбергов воссоздать Америку мужиков и фермеров, в способности Коонен и Церетелли «мужиковствовать» на сцене. Привычные к ролям изысканных людей, здесь оба они явили зверя в человеке — тяжеловесных собственников, проклятых, наказанных чувственностью, гнетом и несчастьем ее. Оба они доказали, что прошлый их сценический опыт был опытом актеров трагедии по преимуществу, а изысканность или неизысканность являлась у них побочным только продуктом. Позволено толковать их успех и несколько иначе: изящные актеры, они способны были играть и неизящное, так как изящество по природе своей универсально и многое может включить, обратные же примеры мало известны, сцена едва ли знала грубохарактерных актеров, которые вдруг проявили бы талант к изящному стилю игры. Сильна была сцена крестин в доме Каботов с тупой и невеселой пляской подвыпивших фермеров на слоновых, на бревенчатых ногах. Казалось, на сцене была поставлена особая вариация стихотворения Николая Тихонова «Финский праздник», где отлично описана, самым ритмом передана такая же мрачная и невдохновенная пляска на совсем иных широтах и долготах. Таиров по-новому вводил на сцену быт, пользуясь сжатым, усиленным языком театрального драматизма. О'Нил написал трагедию частной собственности. По обычаю своему, он присоседил к социальной коллизии другую — коллизию пола и возраста. Жена старого Кабота сходится с пасынком и рожает от пасынка сына. Старый Кабот получил, таким образом, нового наследника, родившийся младенец в делах имущественных сразу же, с колыбели становится опасен для подлинного своего отца. Чтобы угодить пасынку, чтобы удержать его любовь, мачеха губит этого ребенка, которого она и пасынок произвели на свет. Молодость и старость — молодые Каботы и старый Кабот — схватились
378
в этой драме насмерть. Секс кричит диким лесным голосом. Коллизия собственности и коллизии сексуальные развиваются здесь друг возле друга, взаимоотраженные, но на этот раз социальное и биологическое сообщаются друг с другом у О'Нила через третью силу, через силу преступления.
Какой-то стороной «Любовь под вязами», как об этом уже говорилось у нас, — дальний отклик «Федры» Расина. Вместе с тем налицо и совсем другие связи — с трагедией Л. Толстого «Власть тьмы». В произведении О'Нила та же «тьма» деревни, крестьянской семьи, построенной на собственности, на патриархальности, включающей в свой обиход детоубийство. Драма О'Нила, нечто взявшая из русской литературы, и сама дала ей нечто. По всей очевидности, таировский спектакль не прошел бесследно для Бабеля — в драме его «Закат» можно усмотреть сюжетные и стилистические импульсы, полученные от Таирова и от О'Нила. «Закат» был поставлен Московским Художественным театром Вторым в 1928 году, впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1928, № 2).
Недавно на советских экранах появился фильм, поставленный американским режиссером Дэльбертом Манном «Любовь под вязами», с Софи Лорен в главной роли. Американский фильм снова разбудил воспоминания о таировском спектакле и, как всякое сравнение, чем-то заново прояснил его. Софи Лорен играет героиню драмы О'Нила совсем по-иному, чем это делала Коонен. У Софи Лорен на экране женщина-змея, даже во внешности ее, в удлиненной фигуре, в маленькой круглой голове, в волнистых телодвижениях преподносится нам нечто змеевидное и змееподобное. В американском фильме фермерша из Новой Англии и яростная, ядовитая страсть ее к собственному пасынку суть неразличимое одно. У Софи Лорен ничего не останется, если вычесть страшные, ее уничтожающие сексуальные переживания. Нет человека, есть наложница, сначала отца, потом сына, потом и одного и другого, к одному питающая отвращение, к другому вожделеющая страстью целого террария или, больше того, страстью целого зверинца. Когда мы воскрешаем для себя игру Коонен, то видим, что там не было этого тождества человека со звериной страстью. Героиня О'Нила в исполнении Коонен сама испытывала страсть свою как мученье, как
379
судьбу, как наказание, ей ниспосланное. У Коонен сохранялось какое-то расстояние между этой женщиной и собственной ее одержимостью, человеческое лицо героини не уплывало полностью з черную тьму, и поэтому в драме ужасов, написанной О'Нилом, сохранялся остаток поэзии и духовности. Коонен играла падение, Софи Лорен играла то же самое, но ее падению не предшествовала идея высоты. У Софи Лорен было очень много силы и искусства, никак не менее того соблазна, но поэзии здесь не было ни до, ни после завязки событий, все было съедено преступностью и преступлениями. Социальная тема, столь яркая в спектакле Таирова, в американском фильме звучит гораздо глуше. Вернемся к античным сопоставлениям: фермершу О'Нила Коонен играет близко к Федре, героине Еврипида и Расина, Софи Лорен играет ближе к Медее Еврипида же, да и то для Софи Лорен должны быть ослаблены оправдательные мотивы, которые даны у Еврипида, изображающего действия этой мрачной и ожесточенной матери-детоубийцы.
«Негр» О'Нила на таировской сцене явился смелой и разоблачительной публицистикой, направленной против расизма и расистов. Спектакль был шире своей негритянской тематики. Он был показан в ту пору, когда в Германии уже стали подымать голову национал-социалисты.
К русскому переводу «Негра» была приложена большая статья Таирова, где говорилось о задаче, которую взял на себя театр, работая над этой драмой: «Изжить расовую ненависть»[326]. Сам О'Нил хорошо доказал свою непричастность к натурализму в вопросах общественных, восстав в этой драме против расовых страстей и против расовых идей. Коллизия у него трагична, так как расовой философии держатся не только белые — им удается заразить расовыми убеждениями также и черных. Расовая проблема становится безвыходной у О'Нила, как только она допущена в качестве проблемы, как только принимаются обдумывать и обсуждать ее и тем самым признают ее права на действительность. Единственный способ решить ее — это изъять ее из мира общественных идей и отношений, отказать ей в притязаниях на бытие,
380
отвергнуть с порога. Иначе предстоят две одинаково несчастные и безысходные коллизии; либо негр добивается, чтобы белые приняли его и простили ему цвет кожи (герой драмы О'Нила), либо негр закрывается в своем расовом кругу (сестра героя, тоже «расистка», но с обратным знаком). И в одном случае и в другом случае невольно или вольно принимается критерий расы со всеми следствиями из него, и тут и там раса становится нормативом жизни и общественных отношений.
В постановке «Негра» хорошо была дана деловая Америка, люди с торопливой походкой, соединяющие деловитость с небрежностью ко всему на свете, — ко всему, что не есть дело и деньги. Характеристика походкой, движением — один из любимейших театральных приемов Таирова.
К постановкам О'Нила по содержанию и стилю примыкает драма Софи Тредуэлл «Машиналь», написанная сильно, резко, лаконично, без лишних слов и лишних движений. Молоденькая девушка из нищенской семьи, Элен, секретарша, становится женой шефа, дельца и богача. Вся пьеса состоит в борьбе этой женщины — играет ее Коонен — со своим американским счастьем. Оно тащит ее, как паровоз жертву, застрявшую между его колесами. Муж и шеф превосходно очерчен одной подробностью — он хочет совершить свадебное путешествие в Швейцарию, эта страна интересует его, ибо оттуда происходят его часы. У героини — коротенький, но фатальный для нее роман с чрезвычайно двусмысленным молодым человеком. Этот роман — вся надежда Элен. Она убивает мужа из ненависти к нему, к его прозаизму, к прозаизму вообще, и попадает на электрический стул, так как любовник предает ее. Любовник этот — тоже одна .из подробностей «машинали», американского устройства жизни, которое губит эту женщину. Героиня драмы, женщина в белой современной кофточке, вероятно, лучшая среди простых, обыденных ролей, сыгранных Коонен. Чем скромнее была на вид Элен, эта новая предъявительница «прав человека», эта новая героиня, сыгранная Коонен, тем беспощаднее казалась судьба, ее постигшая. Был страшный стон Коонен — Элен Джонс, и было страшное движение руки, как бы отводящей неожиданный улар, как бы желающей зачеркнуть его, когда на суде оглашают предательское показание, присланное из Мексики канувшим туда любовником.
381
С этой минуты Элен Джонс перестает бороться за жизнь — она более не нужна ей. Элен Джонс судят как мужеубийцу, но муж убил ее прежде, чем она подняла руку на него, любовник тоже убил, весь социальный механизм Америки участвовал в этом истреблении, которому многократно подвергалась она, жалкая и слабая женщина.
Постановка «Машинали» — пример спектакля, построенного вдоль «идеи», активнейшим образом воспринятой режиссером и актерами.
Сцена в конторе, с которой все начинается, поставлена была с изобретательной простотой, в манере, сразу же оповестившей, каков будет характер дальнейшего действия, куда вливается и впадает смысл этого драматического произведения. Клерки сидели в одних жилетах, с выпущенными рукавами белых рубашек, конторские барышни — в белых кофточках. За их спинами находились на распялках пиджаки и пиджачки, шляпы и шляпки, головные уборы обоих родов, мужские и дамские. Каждый из присутствующих имел за спиною своего двойника, и так как на распялках красовалось нечто парадное, то пиджаки с головными уборами можно было принять за первый и основной, а самих барышень и клерков за второй, малообязательный экземпляр того же человека. Люди в этой сцене были разложены, и отдельные части становились заместителями целого, его удвоением. Персонажи, висящие на вешалках, повторяли, передразнивали персонажей у столов, якобы живых, но сплошь снабженных рабочими очками, похожими на колеса, вносившими в их лица мотивы механизма, прибора, предназначенного для смотрения в деловые бумаги, входящие и исходящие. Все сидели, согнувшись над работой, посреди конторы. Один только шеф стоял во весь рост, одетый в жилет, в пиджак,— одетый комплектно, но с теми же большими круглыми очками на неживом лице. Цельность и единственность этой фигуры представлялась мнимою, так как остальные уже подсказали зрителю, как и на какие составные здесь распадается человеческая личность и как она удваивается при этом распадении. В другой сцене, на квартире Элен Джонс, снова виднелись в глубине вешалки с расправленной на них одеждой — из глубины спектакля снова звучал лейтмотив живой жизни, разъятой по формулам «машинали», потерявшей неповторимость и самостоятельность.
382
Механизированная Америка предстала в памятном виде у художника В. Рындина, который был сотоварищем Таирова и в этом спектакле.
Таиров охотно прибегал к параллелизму, скрытому или откровенному, отдельных сцен в спектаклях, к питанию одной из них отзвуками другой. Драма Тредуэлл кончалась электрическим стулом — смертью, в которую введена с избытком современная техника, смертью, которая тоже обладает своим механизмом. Задолго эту сцену предваряла совсем иная — в родильном доме, с Элен Джонс, только что родившей и уже окруженной всеми удобствами и приспособлениями, какие только изобрела медицина вместе с другими дисциплинами, ей смежными. Человек рождался и сразу же попадал в руки техники. Он умирал, он шел на казнь, опять-таки препорученный ее заботам. Она царила над ним с первой даты его жизни и до последней.
В годы второй мировой войны Таиров верно служил интересам победы. Продолжалась дружба со Всеволодом Вишневским, две пьесы его на темы войны были поставлены: «Раскинулось море широко» (1943), «У стен Ленинграда» (1945). Камерный театр давно уже успел овладеть искусством быстрого и плодотворного отклика на потребности дня.
Из спектаклей 40-х годов, посвященных второй мировой войне, коснемся одного — по пьесе белорусского драматурга Аркадия Мовзона «Константин Заслонов». Пользуясь традициями таировской режиссуры, ставил этот спектакль Лукьянов. Герой пьесы — лицо историческое, прославленный белорусский партизан, инженер Константин Заслонов, разрушавший немецкие тылы под Оршей в страшную первую зиму немецкого вторжения. Пьеса была поставлена очень строго, идеологически отчетливо, полная патриотического пафоса и тщательно обдуманной последовательной ненависти к военному и политическому врагу. Спектакль держался на трех фигурах: с одной стороны, захваченный немцами в плен Константин Заслонов, с другой — агенты гестапо, Гуго Хирт и Траутниц. Камерный театр прибегнул здесь к своему хорошо проверенному искусству делить действующих лиц по общественным, историческим, идейным силам, ими представленным. Советская сторона — это был один характер, немецкая — другой, с глубоковыраженной антитезой между ними. Такова была отправная точка.
383
Театр шел дальше: обобщенная характерность, приданная немцам, разветвлялась. Гуго Хирт и Траутниц делали сообща свое темное дело, очень различались между собой как лица, каждое со своим направлением, со своей иной основой. Внешняя, зрительная характерность перегибалась в характерность внутреннюю. Камерный театр по-новому пользовался своей издавна разработанной поэтикой театрального костюма. Раньше Таиров говорил: костюм — второе тело актера. Теперь он мог бы добавить: костюм — характер действующего лица, зримая его характеристика. Траутници Хирт одеты были в свою фашистскую униформу. Она обособляла их от остальных людей, от человечества, метила, клеймила. Они как бы сами выбрали для себя позор. На Заслонове (артист С. Бобров) было обыкновенное штатское пальто, широкое, распахнутое. В контрасте с одеяниями немцев со всею очевидностью оно приобретало художественный смысл: против двух униформ себя отстаивал с оружием в руках естественный настоящий человек, не военный по профессии, не суженный, не сжатый каким-то одним назначением и делом, не оторвавшийся от естественных интересов жизни, свойственных всем и каждому. Немцы, специализованные особи, каждый по-своему отсиживались за этими своими униформами, за этими барьерами, отделявшими их от человеческой жизни, по самой природе своей чуждой им и для них опасной.
Гуго Хирт — его играл С. С. Ценин, один из лучших актеров в ансамбле Камерного театра,— был толст, рыхловат, красен с лица, дышал тяжело и вдавался по временам в туповатое добродушие: он не сомневался в полной и окончательной победе немецкого оружия и поэтому позволял себе роскошь отпускных, игривых настроений, он заранее предвкушал их. С каким-то удовольствием, с удобствами помещался он внутри своей одежды цвета хаки, ему было жарко, он фыркал, его огромное тело варилось в ней с приятностью, с легким шипением, с поплеекиванием. Траутниц — его играл Н. Н. Чаплыгин — был персонажем иной выделки. Он был умен и мрачен. Посреди немецких успехов 1941 года он не верил в окончательный успех войны, и свои сомнения вымещал на пленниках, которые попадались к нему. Наших партизан он допрашивал с неимоверной злобой — как будущих победителей. Худой и жилистый, он как
384
будто бы искал у своей униформы защиты от надвигающихся бед, был с нею одно, она сидела-на нем, как панцирь, данный ему от природы. Когда он снимал фуражку с лакированным козырьком и виден был весь его голый лоснящийся череп, то казалось очень странным, что под этим обмундированием скрывалось нечто человекоподобное. Можно было думать, что на наших глазах некий неодушевленный предмет сам же себя разбирает на части — вот фуражка, вот похожий на голову шар, вот остальное. Тут вспоминалась «Машиналь». Нечто похожее было подготовлено и в других спектаклях Таирова, трактовавших враждебный человеку механизм буржуазной цивилизации — «злой Запад». В изображении немецких фашистов эти мотивы даны были в своем мрачном пределе.
Таировский театр держался своего излюбленного принципа — все давать через зрительный образ. Но образ этот все основательнее проникался характерностью. Театр «писал» человека — в его исторических, в его социальных, в личных его чертах. Под конец Таиров все чаще говорил, -насколько его увлекает задача «человекописания». Спектакль «Константин Заслонов» — также один из хороших примеров режиссерского следования «идее» в каждом эпизоде и в каждой подробности постановки. Действующие лица в нем были устроены, направлены согласно «идее», носимой ими. Немцы были сыграны так, что они жили, действовали, как им положено, и тут же заодно как бы судили исподволь самих себя, критическая, оценочная «идея» входила во внутреннюю жизнь театрального образа[327].
Одновременно со спектаклями на злобу дня Таиров заботился о возврате к старым нерешенным задачам Камерного театра, о проверке его основ, о постоянном их обновлении и расширении. В послевоенные годы готовился «новый спектакль «Федры». Трагедия Расина долгие годы служила приметой Камерного театра, как приметой древнего города могла явиться статуя богини-покровительницы, видная издалека уже на подступах к нему.
385
В 1944 году Таиров поставил полутеатральным образом «Чайку» Чехова: пьесу играли без грима, без костюмов. Таиров помышлял о дальнейших чеховских постановках. Он хотел приобщить свой театр и к Расину, и к Чехову. В свое время Камерный театр избегал Чехова и враждовал с ним. Теперь Таиров считал, что театр его в силах ставить драмы Чехова по-своему, никому не подражая. Камерный театр очень долго держался репертуаром, необыкновенным для русской сцены. Теперь он повернул к репертуару обыкновенному, к авторам и драмам, без которых никогда не обходилось и не обходится русское театральное искусство. До конца овладеть обыкновенным — это было бы верховным достижением Камерного театра.
Концертная постановка «Чайки» явилась заметным событием в театральной жизни Москвы последних лет войны. Постановку тщательно обсуждали и по-новому дискутировали, в чем состоят принципы, принесенные Чеховым в драматургию. Камерный театр исходил из замечаний, сделанных самим Чеховым по поводу неудачной первой постановки «Чайки» на александринской сцене. Чехов жаловался тогда, что слишком много «играют», и просил режиссера с актерами: «Не надо театральности. Просто все надо, совсем просто». Камерный театр почти устранил в своем спектакле декорации и бутафорию. Об актерах вернее было бы сказать, что они читали текст Чехова, чем сказать, что они исполняли, «играли» его. Таиров соединил текст Чехова с кусками музыки Чайковского, сообразной Чехову по духу. Спектакль был больше рассчитан на слух, чем на зрение, — нужно было видеть этих людей и их жизнь, слушая их голоса, а не обратное. А. Г. Коонен победительно играла роль Нины Заречной — она играла юность, не подделываясь под юность, не гримируясь под нее. Непочатость жизни, мечтательность, первая проба сил, еще мало уверенных в себе, — все это было вложено в голос, в звучание сценической речи, камерный театр сократил текст драмы Чехова, он преподнес в своем спектакле, собственно, не «Чайку», но ее фрагменты. В спектакле были ослаблены все сюжетные линии и лица, кроме главной: Нина Заречная — Костя Треплев. Получилась огромная лирическая сосредоточенность. Ничто не уводило в сторону от главной темы, от борьбы Нины, от борьбы Кости за подлинность искусства, за подлин-
386
ность любви и подлинность жизни. Таиров с новыми силами, с новым опытом миропонимания, приобретенным за годы, за десятилетия революции, вернулся к первоначальному своему замыслу — к театру страстей и эмоций. Когда-то он искал прибежища у драматургов модернизма, теперь для него заговорил Чехов, со всей чистотой, ненадуманностью, со всем реализмом эмоций, проникающих созданную Чеховым драматургию. Когда-то Таиров старался вызвать в себе волнение по поводу судьбы Фамиры, слепого кифареда, пострадавшего в несчастном для него состязании за поэтическое превосходство. Теперь Таиров в самом деле волновался простым волнением за Костю Треплева, который хочет обновить русскую прозу и русский театр. Конечно, Таиров дал в своей постановке только первую прорись обновленной «Чайки». Так думал и покойный С. Н. Дурылин, выступивший с образцовым разбором этой работы Таирова. Нужно было на время откинуть все побочные сюжетные партии, чтобы в дальнейших спектаклях — будь то Камерного, будь то других театров — снова вернуться к ним. В дальнейшем предстояло полностью восстановить всю линию Тригорин — Аркадина и всю линию Дорн — Полина Андреевна, Треплев — Маша Медведенко. Наконец, и Шамраева и его превосходительство Сорина тоже предстояло предъявить во всех подробностях, к ним относящимся. Таиров, выделив особо тему Треплева — Нины, указал ту точку, с которой и должен бы развертываться спектакль, воплощающий драму Чехова сполна. Лиризм темы Треплев — Нина самоочевиден. Но и все остальные партии драмы Чехова лиричны. Мало того, по содержанию своего лиризма они почти однородны партиям Нины и Треплева. Всюду у всех — жизнь, не дающаяся в руки человеку, ускользающая от него, всюду — неисполненные желания, все сидят у порога и созерцают свое расколотое корыто. Если есть успех, как у Тригорина, как у Аркадиной, то это успех ложный, с подоплекою сомнений, которые либо сказались, либо могут сказаться. Тайна чеховской драматургии — в эмоциональных ключах, столь глубоко заложенных, что они не всегда и не всем видны и слышны. И в этом «простота» драматургии Чехова, о которой твердил он сам, ибо эмоции — это жизнь в ее простоте, и чем глубже уходят эмоции, тем проще они. Таировский спектакль, прибегнув к некоторому эксперименту, воскресил
387
эту простоту и эту эмотивность чеховского театра. Таирова можно обвинять разве в том, что он не достиг последней глубины чеховского текста. В спектакле «Чайка» все вращалось вокруг тем любви и искусства. Но у Чехова искание людьми любви существеннее самой любви. Собственно, люди у Чехова ищут, просят, молят помощи друг у друга: Костя у Нины, Маша у Кости, даже Аркадина у Тригорина. То же самое в других драмах Чехова, в самой зрелой из них, в «Трех сестрах», в особенности. Печаль чеховских людей в том, что им лишь очень редко бывает позволено быть воистину щедрыми в отношении просящих и молящих, — так часто им едва хватает сил на собственный жизненный путь.
«Музыка» страстей, желаний, неясных замыслов, тяготений, конечно, составляет суть чеховской драматургии. Чехов возражал против усиленной актерской игры в его пьесах. Там присутствует другая игра, независимая от актеров. Быт и события играют, порою жестоко и всегда бездумно, с чеховскими людьми, носителями собственной тайной мелодии. Их часто не видно из-за быта, а события настигают их как непрошеные гроза и гром. Люди Чехова так приучены к тиранству быта, что стыдятся самих себя, отдельно от быта взятых. Быт прячет их, но и они за быт прячутся, и порою нельзя отличить, где многоуважаемый шкаф и где его менее уважаемый хозяин. Люди Чехова обставляют себя бытовыми фразами, присловьями и присказками, чтобы неосторожно и неумело не проявилась подлинная их жизнь. А театр должен все-таки обнаружить героев драмы в их настоящем существе, в эмоциональном их строе и настроенности, в неподкупных потребностях неподкупной их души. Гений Станиславского искал в драматургии «природы человека», первоисточника человеческих чувств, замыслов и поступков, как бы ни были они заложены, заглушены, замутнены. И с этой стороны все полнее и вернее раскрывался перед Станиславским Чехов. Нам кажется, встречное движение, не изменяя своеобразию собственных художнических навыков, проделывал и Таиров.
После Чехова Таиров обратился к Островскому, который не был нов для него. Постановка «Грозы» в 1924 году была опытом преждевременным, к которому Камерный театр был мало подготовлен. По-иному прозвучал Островский в году 1945-м: постановка «Без вины
388
виноватых», где были удачи у актера Кенигсона, игравшего Незнамова, и у Коонен, игравшей Кручинину. Коонен уже не впервые изображала на сцене судьбу большой актрисы. Но Адриенну Лекуврер в драме Скриба губила встреча с реальностями жизни: Адриенна воспиталась как изысканное растение, ее образовали книги и сцена, а первая же реальная любовь к реальному человеку — к Морису Саксонскому — прошумела над нею как полнейшая и окончательная катастрофа. По-иному у Островского, по-иному и у Коонен, следовавшей Островскому на этот раз. Кручинина прошла сквозь горькую жизнь — сквозь «кручину» обманутой любви и несчастного материнства. Коонен умела показать, что сценический дар Кручининой — это плоды познанной жизни, воспринятой активно и страдальчески. Актриса Кручинина светилась на сцене мудростью и умудренностью, у Коонен была та мягкость отношений к людям, которая приобретается женщиной, прошедшей через великую боль и поэтому не желающей хоть самую малую боль причинять другим. На сцене была красота, так часто нас радовавшая через искусство Коонен, и к этой красоте прибавилось нечто новое, добрая скорбь — доброта в скорби и через скорбь усвоенная. Коонен, а вместе с нею и театр, играя эту драму Островского, подтвердили свои права на русский классический репертуар и на его эстетику[328].
Одно из поздних и крупнейших достижений Камерного театра — постановка в 1946 году драмы Горького «Старик». Казалось бы, что может сделать Камерный театр с Горьким — доступен ли ему Горький, и, однако, наша пресса отметила пьесу «Старик» в Камерном как великий и несомненный успех. В. Ермилов писал в газете «Известия» (1946, 6 июля): «Это — настоящая радость видеть спектакль, где все проникнуто подлинным внутренним, а не показным и поверхностным уважением к замыслу великого драматурга, глубоким пониманием этого замысла,— умный, талантливый спектакль, где творческая воля постановщика действительно увлечена творческой волей автора…» «А. Я. Таиров сумел увлечь руководимый им коллектив радостью воплощения боль-
389
шой художественной мысли Горького, изображением сложности жизни и характера людей, радостью полновесного звучания мудрого, лукавого, цветастого, часто юмористического, подлинно русского горькозского слова…»
Драма Горького «Старик» — острейшая и по мысли и по выполнению. Нам кажется, наши театры все еще недостаточно ценят позднюю драматургию Горького, — оригинальнейшая по замыслу, по действующим лицам, даже по сценической обстановке «Фальшивая монета» все еще не нашла театра, который справился бы с нею. Камерный театр проложил дорогу к «Старику» Горького. Мы бы решились сказать — Таиров создал спектакль, отличившийся усиленным, как бы на себя же помноженным реализмом, — усиленная, даже форсированная, быть может, выразительность драмы Горького нашла отклик в режиссерском искусстве Таирова, в театральной его поэтике. Интеллектуальная сила драмы Горького, особая рельефность, присущая смысловому содержанию этой драмы, должны были увлечь Таирова, и действительно, он был подвинут на работу, на редкость воодушевленную и энергичную.
Драма Горького берет старый общественный мир с самой его существенной стороны. Пафос людей этого мира — насилие, власть, принуждение, команда. Всякий другой для тебя — добыча, владей им и поставь себе на службу. «Воля к власти» — вот чем живут эти люди, вот что движет ими. Кто податлив, кто мало заинтересован, тот немедленно становится жертвой. Таиров в речи к актерам говорил, что в драме Горького предвосхищается фашизм. Конечно, это было некоторым педагогически полезным преувеличением. Таиров делал свой спектакль по следам едва только кончившейся войны с немецким фашизмом. Таирову нужно было разжечь актеров, внушить им, что они собираются играть не давно прошедшую историю, но людей и отношения, в которых держится еще злоба дня. В известной мере Таиров был прав: ведь чем другим был фашизм, как не той же взнузданной до преступной крайности «волей к власти». В своей омерзительной программной книге Гитлер писал, что настоящая цивилизация начинается с минуты, когда один человек запрягает для езды другого человека.
У Горького «воля к власти» — всеобщий закон старого мира, подминающий под себя все. Вся острота драмы
390
в демонстрации этой всеобщности, порою удивительной и парадоксальной. Самые неподобающие душевные и духовные величины подвергаются изумительным превращениям, служат «воле к власти», становятся мотивом для нее, лживым оправданием и обоснованием. Герой драмы Горького, странник, «старик», темная личность, провел годы на каторге. Хотя он более чем заслужил наказание, понесенное им, но сам он себя считает страдальцем. Ему удается обнаружить бывшего товарища по каторжной тюрьме, бежавшего оттуда. Его зовут сейчас Мастаков, он добрый, полезный, деятельный человек, строитель жизни по призванию. В тюрьму он попал когда-то по недоразумению, только формальный закон угрожает ему, имеющему все права на жизнь и на свободу. Старик держит под угрозой Мастакова и всех его близких: хочу — стану разоблачать, хочу — прошлое буду держать в тайне. Мастаков богат, но старик не торопится назначить цену за свое молчание. Он тешится властью, которую он получил над Мастаковым, он вкушает от нее, объедается и обжирается. Как остроумно выразился Таиров в своем докладе труппе, старик «оккупировал» дом Мастакова, и самого Мастакова, и всех людей, которым Мастаков дорог. Примечательнее всего, что старик по-своему верит в свою правоту: он пострадал до конца, Мастаков убежал от страдания, поэтому старик убежден в своем моральном превосходстве. Старик торгует, промышляет страданием, — оно ему дает мандат на власть и на господство. Самые святые и печальные вещи — человеческое страдание — проходят через своеобразную ницшеанскую метаморфозу. По Горькому, если общественный мир в целом извращен, то нет ничего, что устояло бы против извращения. Примечательно при этом, что старик, так уверенно пустившийся в свои деловые мероприятия под залог собственного страдания, на самом деле страдалец мнимый. И в этой драме Горького присутствует тема «фальшивой монеты». Уже Достоевский писал не только о красоте и святости страдания, но и о торговле страданием: стоит вспомнить Фому Опискина. У Горького тема извращения человеческих ценностей получила новую социальную широту и новую отчетливость.
Таиров придал драме Горького масштабы, ей подобающие. Он не оставил ее на степени психологического парадокса, как это сделал бы режиссер, который стал
391
бы искать у Горького остроту ради остроты. Таиров в своем спектакле развернул эпохальную картину нравов, действительно нам данную в драме Горького. Замечательна инструкция Таирова актерам. Он с удивительной, с известных пор знаменательной для него заботой разграничивает роли в драме, даже очень близкие, даже очень сходные. Для него очень важно, например, объяснить актерам, чем отличался деловой человек Мастаков от своего собрата Харитонова, который делец, и только. Таиров вдается в подробный комментарий каждой роли, даже мимолетно намеченной Горьким. При этом всех людей драмы, со всеми их отличиями, Таиров вставляет в общую картину времени и его генеральных конфликтов. Таиров стремился не только к реализму — он стремился к большому реализму. Роль старика в спектакле Таирова играл П. П. Гайдебуров, долгие годы честно и мужественно служивший русской реалистической сцене. В юности Таиров работал в театре Гайдебурова. В 1946 году Таиров и Гайдебуров опять нашли друг друга. И актер и режиссер очень позаботились о характерных красках роли. Таиров в инструкции объяснял, что старик не только деспот, он еще и трус: в этом внутренняя диалектика деспотизма, за повелительными жестами прячется низменная трусость, претензии на безнаказанность скрывают величайший страх тирана, что истязуемые им все-таки его накажут. Таиров стремился к характерности реалистической и философской.
В 1949 году жизнь Камерного театра была прервана. Среди старых советских театров он был одним из самых жизнеспособных. Он отказался, от чего нужно было отказаться, и не растерял достойное хранения. Год за годом он делал новые приобретения в своем искусстве.
Коонен, главная сила Камерного театра, доносит до наших дней живую весть о нем. В конце наших 50-х годов Москва и Ленинград видели Коонен в «Привидениях» Ибсена. Коонен играла с молодыми актерами, воспитанными ею. Без Камерного театра, без Таирова она продолжала дело, к которому те уже успели приступить, — после Чехова натуральным было приложить свои силы к Ибсену. Коонен исполняла роль фру Альвинг и отлично доказала, что эта роль в драме Ибсена главенствует. Думали, что театральное оправдание «Привидений» в Освальде Альвинге, успехи Орленева и Моисси содействовали этой ошибке. В «Привидениях»
392
Коонен опять играла великую женскую драму, на этот раз материнскую. Играла на единой волне интонаций и на единой волне ритмических движений, с простотой и красотой, окончательно ею завоеванными. Казалось, Коонен осуществила норму сценической речи, к которой призывал актеров Станиславский, первоначальный учитель Коонен. Станиславский спрашивал: «Как добиться того, чтобы звук в разговоре был непрерывным, тянущимся, сливающим между собой слова и целые фразы, пронизывающим их, точно нить бусы, а не разрывающим их на отдельные слога»[329]. Думаем, ответ перед этими требованиями могла держать Коонен. Вся роль фру Альвинг была проведена с неназойливой, скрытой и безупречной музыкальностью. В распоряжении Коонен действительно находился «этот тянущийся по-скрипичному звук», который Станиславский хотел услышать в речах актеров. Такими же «тянущимися», сплошными, нерублеными линиями представлены были все сценические движения. Коонен в этой роли шла от единого замысла, отраженного в мимике, в сценическом поведении, в речевом мелосе.
В наши дни Камерный театр, а вместе с ним и Таиров, его создатель, живут косвенной, но очень широкой жизнью, — на сценах нашей страны, многое воспринявших от Таирова и давших воспринятому обновленное значение, подруживших воспринятое с иными позднейшими завоеваниями нашего искусства. В общую жизнь советского театра влился Камерный, пришедший к высокой западной классике, по существу понятой, к современной социально-характерной западной пьесе, к «Оптимистической трагедии» и к другому советскому репертуару, к Горькому и Чехову, к заново увиденному Островскому.
1962
(К спектаклям Пирейского театра)
Мы увидели два спектакля театра греческой трагедии, приехавшего к нам из Пирея, мы увидели в трактовке современных греческих актеров «Электру» Софокла и «Медею» Еврипида. Хотя пирейские актеры играют античных трагиков на новогреческом, который звучит несходно с древним языком, однако же у актеров этих есть своя близость — родственников и домочадцев — к художественным созданиям Древней Эллады. Современные греки, они умеют быть похожими на древних эллинов, короткость их отношений с древностью помогает и театральному зрителю наших дней преодолеть расстояние многих веков, отделяющих его от трагедий Еврипида и Софокла.
Об этих веках слишком неотступно помнят все, кто обращается заново к античному театру. На античных произведениях густым слоем лежит их слава, имеющая за собой два тысячелетия с лишком, их воспроизводят и ставят сверхакадемически, парадно, призывая зрителей падать ниц и изумляться: смотрите, перед вами проверенное, одобренное столькими школами и в стольких ученых сочинениях, восхищение — ваша обязанность, ваш восторг предустановлен восторгами авторитетов, знав-
394
ших и видевших все это задолго до вас. Режиссер Пирейского театра Димитриос Рондирис отодвигает в сторону все эти принудительные средства воздействия. Он не прибегает к демагогии парадных демонстраций, подавления зрителей теми чувствами, которые не им самим принадлежат и не от них самих исходят. Рондирис ставит трагедии Софокла и Еврипида как совсем недавно родившиеся, почти еще безвестные, ставит их близко к тому, чем они были в свое время. Под рукой у Рондириса и Софоклу и Еврипиду еще только предстоит завоевать зрителя, они — поэты без культа, опирающиеся всего только на самих себя. Как и следовало ожидать, именно так режиссер и добивается настоящего, искреннего внимания современных зрителей к античным поэтам. Чем теснее режиссер приближается к древней трагедии, какой она была в свой час и у себя дома, к ее состоянию, когда она была еще не древней, а новой, тем теснее союз режиссера с современными зрителями.
Рондирис ставит Софокла и Еврипида, даже минуя время их написания и первых постановок. У него нет на сцене раззолоченных, блистательных Афин Периклова века. Он почти забывает о них и углубляется в простые времена, к которым относятся сюжеты великих трагедий. Сцена у Рондириса больше приближена к веку Электры и Ореста, Медеи и Ясона, чем к веку Софокла и Еврипида, которые вывели и тех и других. На сцене Пирейского театра простая Эллада, сельская или полусельская, к которой и надо относить «героический век», представленный в античных мифах, давших пафос и сюжеты античным трагическим поэтам. Мы знаем эту Элладу, впервые, кажется, открытую в нашем русском искусстве, открытую не случайно, так как именно над нашими художниками веял гений простоты. В картинах и этюдах Серова появилась эта прекрасная в своей непышности, в своей немногословности, «соломенная» Эллада с царевной-прачкой, с блекло-голубым морем, с холодным, бедным, незолотым песком на берегу. Серову, который понимал художество и простоту басен нашего Крылова, внятна была чужая, но щемящая простота греческих мифов и Гомера. Не говорим уже об античности у Пушкина, драгоценной и удивительно скромной, или об античности аграрной, крестьянской, первозданной, какой она проглянула в высказываниях Льва Толстого в пору его увлечения греческим эпосом. Мы воспитанием
395
через наше собственное искусство, через наших художников и поэтов хорошо подготовлены к Элладе, какой показал нам ее Пирейский театр. Нельзя не поспорить с греческим режиссером, насколько принятый им метод упрощения соответствует трагедии Еврипида. Что же касается более архаичной и целостной «Электры» Софокла, то здесь метод находится в подобающей ему сфере. На сцене перед нами «героический век» в его грубоватом величии. Вместо великолепного дворца Агамемнона — основательный дом о четырех столбах, каменная «изба», в которой сейчас поселилась ненавистная Электре мать ее Клитемнестра с любовником Эгисфом. И сама царевна Электра и ее окружение одеты без изыска, в незамысловатые одежды, этикет действующих лиц на сцене лишен всякой изощренности, тут больше патриархальности, чем куртуазности, чем осложненной множеством условностей придворной манеры поведения.
Обстановка трагедии поддерживает основной замысел режиссера. С умом и тактом Пирейский театр приоткрывает нам фольклорные первоисточники древней драматургии. Демократический по духу своему Пирейский театр приступает к великим трагическим поэтам античной демократии, отыскивая у них родственное себе и соответственное. Пирейский театр окрестьянивает несколько обстановку, потому что и по сути своей трагедия вбирает в себя крестьянскую фольклорную стихию. Фольклор по временам служил и может служить интересам художественной экзотики. Пирейскому театру нужен фольклор ради целей обратного порядка. Фольклорность, народность снимает у него с сюжета трагедии, с ее действующих лиц, с ее перипетий всякую чуждость и исключительность. Человек, каким он дан в народной поэзии, — это человек в его душевных первоосновах, человек в его главнейших потребностях, в его необходимых действиях, человек, каким его можно найти всегда и повсюду. Просветители и классики конструировали «естественного человека», но он существовал до них и без них, без их натуги и вымыслов в поэзии фольклора, где и в самом деле обладал естественностью: никто не сочинял ее, он родился с нею и жил по ее законам едва ли замечая, что она такова и как высока ее внутренняя ценность.
В обращении Пирейского театра к советским зрителям сказано: «В постановках античных трагедий, Ди-
396
митриос Рондирис, стараясь сохранить характер и настроение драматических произведений, добивается современного звучания спектаклей, близкого и понятного сегодняшнему зрителю». Эта общая декларация относится и к такой частности, как фольклорная традиция, вошедшая в античную драматургию.
Пирейский театр сохраняет в фольклоре живейшие его черты и почти устраняет черты временные, устаревшие, свойственные ему когда-то, на пройденных им исторических путях. В постановке Рондириса почти исчезает античная религиозность, проникавшая в античный фольклор и в античный строй мысли. Четыре столба дома Агамемнона — это весь фон спектакля. Филологи предполагают, что на древней сцене перед дворцом стояли статуи Аполлона и Артемиды, Геры и Гермеса. Перед старшими богами, Аполлоном и Артемидой, курились жертвенники. В древней трагедии эти изваянные из мрамора существа были, собственно, верховными действующими лицами, всеприсутствующими и всесильными. Со сцены Пирейского театра боги изгнаны. Они еще едва-едва существуют за театральными кулисами, но жизнь их там глуха и безвестна. Софоклова трагедия представлена как трагедия людей, без потустороннего вмешательства и управления предающихся людским своим страстям, страданиям и восторгам.
Один из фольклорных первоисточников античной трагедии — обряд поминального плача. Пирейский театр вокруг этого первоисточника и сосредоточил свой спектакль. Поминальный плач не есть явление только древнеэллинское. Он в обычае у множества народов, его знает и Корсика, в корсиканских своих формах он описан и Проспером Мериме и менее знаменитым его современником Полем Сен-Виктором, он очень хорошо известен и на русском Севере. Плач по умершим и погибшим превратился в особый род фольклорной лирики. Мы знаем и ценим нашу Ирину Федосову, народную поэтессу надгробных плачей. У греков плачи перешагнули через лирику и вошли в трагедию. Лирическая основа плачей в трагедии греков сохранилась, и она-то роднит античную трагедию со всемирной фольклорной поэзией, не позволяет трагедии отъединяться. Мы думаем, эта всеобщность поминальной основы и побудила Пирейский театр с особенной настойчивостью обращаться к ней. Далее: психология поминальных плачей, их мо-
397
раль, их настроенность в своей последней глубине, минуя все обряды и обычаи, доходят и до нас, неувядаемы для нас, и, вероятно, с этим обстоятельством театр посчитался более, чем с другими.
Поминальный плач в древнейшие времена был связан с загробными суевериями, так хотели угодить мертвым, которые могут вернуться и будут тогда сильнее живых. Суеверия отпали, страх исчез, осталось одно — великая жалость к умершим. Голос ее слышен у Софокла, слышен и в спектакле Пир ейского театра. Плач выражает, какой ценой ценят человека, ушедшего из жизни. Бесконечный плач Электры в Софокловой трагедии — свидетельство того, какую бесконечную цену придает Электра погибшему Агамемнону, как мало она приготовлена принять эту гибель за неизбежное и должное. Длинный плач Электры — как бы длинные руки, протянутые ею, живою, к умершему, чтобы вернуть его к жизни и не отпускать его. Умереть неоплаканным — умереть неоцененным. Безразличие к мертвому было бы безразличием к живому, непризнанием его заслуг и дел.
В Пирейском театре Электра оплакивает в Агамемноне человека и героя. Ведь Агамемнон был верховным вождем греков в троянском походе и царем в Микенах.
Греческий режиссер подчеркивает в Микенах не царство, но страну, населенную людьми, из которых каждый равен каждому. Агамемнон стал царем и вождем, так как стоил этого, так как был из равных лучшим, — был героем. Почитание героев есть черта народная и фольклорная. Плач о поверженном герое и о пошатнувшемся престиже героических времен не выводит трагедию за пределы фольклора и фольклорности. Герой в античной его интерпретации — всегда великий труженик, все на свете добывающий собственной рукой и собственным умением. Герой — как бы высокая и высшая, чудесная степень действенного человека. Герой щедр на дело, сделанное для других, силами физическими и моральными он наделен в избытке и может создать большее, чем это потребно ему самому. Почитатели героя как бы отвечают ему взаимностью, они хотят вернуть ему посмертно полученное от него, живого. Почитатели — должники, не отрицающие собственного долга. Между героем-полубогом и теми, кто воздает ему почести, простые, простейшие отношения, культ героя — плата за
398
труды, понесенные им ради людей, демократические нормы не нарушаются, таким образом, но осуществляются.
Филологи давно объяснили трагедию об Электре и Оресте как торжество отцовского права над древнейшим материнским. Мать Ореста и Электры Клитемнестра нарушила верность отцу их — Агамемнону, она и любовник ее Эгисф убили победителя троянцев. Бог Аполлон, покровитель отцовского права, — подстрекатель и защитник Ореста, матереубийцы. Софокл, преданный дельфийской религии, писал свою «Электру» в похвалу богу Аполлону и семейным установлениям, находившимся под Аполлоновой, под дельфийской опекой. Трагедия Софокла с этой своей стороны чрезвычайно важна для историков культуры, но вряд ли этими мотивами смены двух исторических правовых воззрений она способна увлечь современного зрителя. Пирейский театр, ничего не присочиняя к тексту Софокла, обращает к зрителю этот текст совсем иными его содержаниями. Театр открепил действие и мораль трагедии от богов, а также от мотивов родовой мести. Пафос Электры шире интересов рода. Оплакивая в Агамемноне героя, она восстает и против надругательства над героической моралью. Трус Эгисф, который сидел в тылу, покамест эллины сражались, и Клитемнестра, неверная жена, взошли на престол, принадлежащий Агамемнону, худшие завладели царством лучшего, вытеснили его из собственного дома, предали и убили его. Электра оплакивает извращения, которым подвергнулся мировой порядок, и слезы Электры кончатся, когда перестанут хозяйничать воры и самозванцы, когда их свергнут и покарают, как они того заслуживают.
Для понимания спектакля поучительно то обстоятельство, что впервые он был поставлен в годовщину освобождения Греции от итальянцев и немцев, в последнюю мировую войну захвативших ее. Аспасия Папатанасиу, первая актриса театра, в прошлом была прямой участницей национального Сопротивления. Это оживило трагедию Софокла, однако же нужно уяснить себе, как и чем оживило. Конечно, прямые соответствия с современностью были бы здесь ужасающим безвкусием. Конечно, только злая пародия сделала бы Электру и Ореста партизанами, например, а Клитемнестру и Эгисфа — кем? Ну по меньшей мере коллаборационистами.
399
Обновление трагедии произошло совсем иным образом. «Злоба дня» сделала свое дело на косвенных путях. У Софокла тоже была своя особая задача, если угодно — собственная злоба дня. И вот она столкнулась со злобой дня совсем недавней Греции. Тогда обнаружилось нечто присущее обеим сторонам и выходящее, однако, и тут и там за черту времени и места. Обнаружилось наиболее постоянное и устойчивое содержание трагедии Софокла, имеющее власть и над нашими современниками. Герои Софокла могли казаться в качестве героев поэтической условностью. Они ожили как реальность в новейшей истории греческого народа. Пафос героического и должного воздаяния героическому получил для себя новую поддержку. Воскреснул с новой силой пафос прав человека на собственные его дела и деяния, на дом, который он сам построил, на изгнание воров и убийц, которые захватили этот дом.
Папатанасиу, играющая заглавную роль в трагедии Софокла, — актриса незаурядная, обладающая всею силою трагического пафоса. Режиссер понял «Электру» как трагедию-плач, и Папатанасиу всем своим талантом помогла осуществить этот замысел. В ее исполнении дочь Агамемнона — великая плачея, «вопленица», как зовутся у нас эти женщины, вдохновленные скорбью и поэзией похоронного обряда. Ее царевна Электра в темно-фиолетовых одеждах — в цветах траура, с тяжелым подбородком, с резким и хмурым лицом крестьянки. Отлично зная законы экономии актерского искусства, Папатанасиу бережет себя больше в жестах, чем в голосе, в интонациях и в читке, где она тратится с неслыханной расточительностью, себя не жалея. Она под покрывалом, выбиваются растрепанные волосы, и эта растрепанность тоже означает траур, поминальное страдание. Руки ее долго бездействуют, ушедшие в очень длинные рукава, прежде чем будет сделан жест, по-особому заметный и внушительный после длительного воздержания от жестов. Зато голос актрисы — голос плакальщицы, сплошное стенание и говорящая рана. В нашем «Стоглаве», где осуждалась и разгромлялась древнеязыческая обрядность, сказано было о мужах и женах, которые плачутся над «гробом с великим кричанием». О великом кричании сказано, как если бы имелась в виду греческая актриса. Играя Электру, Папатанасиу как бы жертвует своим голосом в пользу убитого героя, и мы
400
все же слышим и слышим ее, потому что голос актрисы неистощим.
Слезы Электры — не бессильные слезы. Кажется, что слезами своими она вызвала на сцену Ореста, Лилада и Талфибия, довела свое дело до суда над обидчиками, Клитемнестрой и Эгисфом, до возмездия им обоим. В корсиканских причитаниях — voceros — с плачем о погибшем смешаны проклятия и угрозы губителям, призывы к мести им. Так и в «Электре» уже сам поминальный плач является как бы судом над преступниками и далее следует только исполнение того, что суд предварительно приговорил.
Следя за спектаклем Пирейского театра, мы начинаем понимать,
что такое трагическое очищение, «катарсис». Вероятно, суть его проще, чем это
думали многочисленные его истолкователи. Исплакаться, выплакать свою обиду и
оскорбленность — это и значит пройти сквозь «очищение». Выплакать возмездие, уничтожить
обидчиков, восстановить права обиженных это и значит довести очищение до конца.
Драматическое действие продвигается в этом спектакле как бы сквозь слезы и
стоны Электры, как это почти всегда бывает в античных трагедиях, решающие
эпизоды происходят за сценой. Между белыми столбами черный вход, втягивающая в
себя черная дыра. Там исчезают Клитемнестра и Эгисф, их казнят не на глазах у
зрителя. Со сценического действия как такового как бы снято ударение, действие
не есть зрелище, оно приобретает внутренний, моральный характер. Персонажи действия
суть прежде всего и более всего моральные величины, подсудимые морального суда
и исполнители суда — как Орест, на меч которого, на мстительные действия которого полагается Электра. Режиссер, человек большой культуры,
больших познаний и верного вкуса,
очень умело пользуется намеренной скудостью
своих постановочных средств. Общая скудость
и строгость — хорошее условие, чтобы внятно заговорили вкрапляемые тут и там цвета и краски. Клитемнестра (актриса Сарис) появляется перед
Электрой с недоброй речью, вся
голубая, золотая, раскрашенная. На
общем строгом фоне она кажется мишурной, несерьезной, и это ее моральная характеристика. Электра — та подавляюще серьезна, а Клитемнестра
с ее подчеркнутой статностью, с ее
нарочито распрямленными плечами, с
фальшивым ее величием представляется химе-
401
рой, злой царицей — мачехой из детской сказки. Клитемнестра, мать Электры, и на деле обращается с дочерью, как мачеха. Золото, которое на ней горит, — золото Атридов, золото, краденное у рода Агамемнона. Эгисф спешит к дворцу, появляясь с правой стороны сцены. Лица его не видно, видны спина и грудь, мы едва успеваем рассмотреть его, да это и не нужно, ибо приговор ему готов прежде, чем он взошел на подмостки. В Эгисфе все ясно, не нужно изучения. Эгисф не составляет проблемы, тогда как казнь Клитемнестры тяжка для мстителей, для детей ее, Ореста и Электры.
Электра побуждает Ореста к страшному поступку. Для актрисы, играющей Электру, важно указать мотивы, откуда происходит эта мрачная решимость Электры. Папатанаcиу действует, как мы определили бы, методом отрицания и исключения. Сценический характер создается не одним лишь утверждением: я такая-то, я такой-то. Отрицание и исключение тоже нужны: я не та, не тот, за кого зрители могли бы принять меня. Электра проповедует жестокое дело; ее понуждают к этому не натура, но убеждения. По природе своей Электра — доброе создание, ей ближе быть дружественной и тихой, чем той исступленной и ненавидящей, какой сделали ее события. В сцене с сестрой, с голубой, голубенькой, чуть ветреной, балованной Хрисофемидой, она, темная и суровая, становится ласковой и доступной: бледные руки Электры переплетаются нежно с розовыми руками Хрисофемиды. Когда приносят урну с мнимым прахом Ореста, мнимопогибшего, Электра опускается на колени и качает урну, как колыбельку, баюкает, жалея и любя. Она прижимает урну к щеке той ее частью, к которой пришлась бы голова младенца, находись он там на самом деле. В этих эпизодах с братом, с сестрою в Электре говорит и действует нерастраченный инстинкт материнства и любви. Она живет аскетом, ей суждены бессемейность, вечное девичество, она имеет вид зверя, загнанного, худо кормленного, которого стерегут, чтобы не ушел на волю, но долг мести истощил ее жизненные силы.
Недоверчивая, вся в горестях, вдруг она способна на бесконечную радость, и в самом ее наивном проявлении. Когда она узнает, что Орест жив, перед обоими, Орестом и Талфибием, она становится на цыпочки и долго так стоит, держась за их руки, как если бы она хотела
402
навеки сохранить себя на этой новой высоте, о которой прежде ей и не мечталось.
Злая природа в ней исключается, но исключается и другой вариант характера. Ее поведение не навязано ей извне, она не из тех, кто покорствует догме, кто принимает слепо чьи-либо веления. Перед тем как идти в дом, где убивают Эгасфа, она воздевает к небу молитвенные руки. Этот жест вдруг обрывается, еще договаривая свое славословие на ходу; с руками уже опущенными Электра быстрым маршем проделывает свой путь через сцену. Обращение к богам для нее только лишь привычка. Электра делает, что делает, по наитию собственной мысли и совести. Знание о том, что нужно, в чем правда, у нее свое собственное, без чужих внушений, оно неколебимо, хотя бы оно и шло против личных ее склонностей. Из этого знания, из этой убежденности происходят человеческая цельность и строгое величие Электры, как изображает ее греческая актриса.
В спектаклях Пирейского театра важнейшая роль отдана сценам хора, которые поставлены с .изобретательностью, с точной красотой танцовщицей и хореографом Лукия. Пирейский театр по-новому научил нас понимать, что такое хор в античной трагедии. Для современного читателя античных трагиков хор некое преткновение, партии хора он старается миновать, перелистать страницы с хоровыми строфами, чтобы следить без помехи за диалогами действующих лиц, как если бы хора и не было. Димитриос Рондирис и вместе с ним Лукия превосходно доказали, какой живой, художественно неизбежной частью трагического действия является хор. В «Электре» хор состоит из четырнадцати девушек-хоревтов, подруг героини, бездейственных и однако же не безгласных. Они — отзвук того, что совершается в героине, они множат на семь и еще раз на семь внутренний мир Электры, подтверждая его и усиливая. Семь хоревтов по одну сторону и семь по другую подхватывают все пережитое в средоточии сцены, где томится и страждет царевна Электра. Хор выполняет назначение музыки, и не потому, что он переходит порой на пение, — чаше хор только читает строфы, для него написанные, голос в голос. Музыка, как ни одно из искусств, способна передавать внутренний мир человека в его колоссальности и мощи. Музыка представляет внутренний мир в его гиперболе, в тех мощностях и масштабах, которых он еще
403
не имеет, быть может, и к которым только стремится. Ни обыкновенное драматическое слово монолога или диалога, ни жест, ни движение не в состоянии впечатлять, как впечатляет хор. Он придает огромность внутренним силам героини, и сама она, маленькая женщина, стоящая в центре сцены, кажется огромной, когда ей вторят и вторят полухория, разместившиеся по бокам. Хор как бы предваряет то практическое действие, грандиозное по своему трагизму, которое произведут эти внутренние силы, он заранее приводит в соразмерность друг с другом духовные причины и внешнее действие, последующее им. В подробностях своих не всегда он только вторит героине, он нередко забегает .вперед, он и отстает от нее, превращая отношения свои с героиней в нечто животрепетное и динамическое.
У трагического хора в Пирейском театре двойственная природа. Хоревты — участники событий, но они и созерцатели, стоящие вовне. Постановщики очень присмотрелись к античному изобразительному искусству, к фризам, к саркофагам, к вазам, краснофигурньм и чернофигурным. Хоревты часто принимают пластические позы, взятые с древних памятников искусства. Коричневатые платья девушек хора напоминают античную керамику, отражениями которой девушки эти и живут. Чересчур красивые и отвлеченно-живописные, они в эти минуты выбывают из состава действующих лиц и переходят в разряд созерцателей того, что происходит, а позднее опять возвращаются в лоно событий, как пособницы их. В двойном этом своем качестве — лиц, то действующих, то созерцающих,— девушки хора связывают сцену со зрительным залом. Зритель находит в них себя же, зрителя, но вместе с ними и через них вступает в среду актеров. Пирейский театр по античному образцу играет без занавеса. Зрительный зал через хор как бы вливается в пространство сцены, непосредственно продолжая себя в сценическом действии. С подлинным трагическим порывом сыграна была смерть Эгисфа. Когда тот поднимается во дворец, где ждет его казнь и смерть, хоревты повторяют его движения, они засматривают, что будет дальше, с трепетом ставят свои ноги ступень за ступенью, все выше и выше — они будто бы и сами идут на казнь и сами же наблюдают казнь. Зрители тянутся за хоревтами, совпадая с ними, поскольку и хоревты те же зрители, но также зрительный зал и со-
404
участвует в действии, поскольку хоревты другой стороной своего .назначения суть активные лица драмы. Эгисф по ступеням лестницы идет навстречу судьбе, хоревты следуют за ним, зрители по ту сторону сцены тоже следуют — мысленно — за Эгиюфом, и сцена и зрительный зал соединяются в одном трагическом переживании.
Пирейский театр ипрает трагедию без перерывов. Представление трагедии длится без малого два часа. Трагедия-плач требует этого сплошного действования, без зева, без зевков, без остановок. Весь спектакль — единый поток эмоций. Он не терпит антрактов: нельзя плакать, рыдать, ненавидеть, отчаиваться, ликовать с антрактами, с разрывами действий, объявляя при каждом разрыве, что продолжение следует. Весь спектакль — два сплошных потока, как бы расположенных крест-накрест. Один поток движется по сцене, тесно связывая эпизод с эпизодом, лицо с лицом. Другой направляется из зрительного зала; этот поток зрительских чувств, усиленный, умноженный хором, тесно сходится с тем, который он застает на сцене, и тогда он разливается вдоль сцены.
Пирейский театр мог бы еще и по-иному оправдать принцип сплошного сценического действия, которому он следует. Музыкальная идея проникает весь спектакль. Он построен на свободном ритме и на свободной симметрии. Ритм заранее задан пространственным построением сцены. Уже сам дворец Агамемнона, стоящий на заднем фоне, с черной дверью в центре, с двумя белыми столбами по бокам создает некое побуждение к ритму и симметрии действия еще до того, как действие началось. Ритмика движений хора усиливает, проявляет тот обдуманный порядок, который заложен в драматическое действие, составляет его закон. Пирейский театр не педантичен в ритме. Он даже нарушает тот закон распределения веса событий, который он нашел у Софокла. В трагедии Софокла смысловой центр — убийство Клитемнестры. В спектакле Пирейского театра следующее за ним событие — убийство Эгиюфа преподносится сильнее, с увеличенным трагическим весом, тогда как у Софокла конец Эгисфа, которым трагедия заканчивается, дается с некоторым спадом. Пирейский театр имеет право на ритмические вольности, ибо он хочет, чтобы линия ритма была живой линией. Сохраняя обрядовую основу трагедии-пла-
405
ча, спектакль с явственностью доносит до нас, из чего и откуда возникло в трагедии ее симметрическое построение: оно не есть отвлеченная эстетика, пришедшая извне, оно выряжает порядок народного ритуала, .внутренне присущий ему. Великий план Электры нельзя понимвать как изъявление личного горя, и только. Она не первая оплакивает, ее потеря — потеря для многих, быть может, для всех. Поэтому переживания Электры подчиняются некоторому правилу — укладываются в ритуал. В наших народных плачах то же есть свой ритуал: «указная дорога, о ком как плакать». В спектакле Пирейского театра симметрия свободна, потому что вырастает из практики народной жизни и народных обычаев, При нас, как свидетелях, на сцене Пирейекого театра народный ритуал превращается в художественную гармонию. Она же не допускает никаких пустых промежутков, пауз, антрактов, гармония неделима.
«Медею » Еврипида Пирейский театр поставил, не слишком слишком отдаляясь от принципов, которые применялись им в «Электре» Софокла, и в этом-то мы и усматриваем повод для художественной дискуссии. Еврипид — поэт другой исторической стадии в развитии Афин: хронологически почти современник Софокла, по содержанию и стилю своих трагедий он поэт, весьма отодвинутый от автора «Электры» и «Эдипа», Историки литературы справедливо связывают Еврипида с разложением античного «полиса», с ослаблением коллективного духа старых городских республик, с обветшалостью старых идеологических традиций, с античным индивидуализмом, если только понятие это уместно в отношении античности. Сами древние чувствовали в Еврипиде непонятную новизну. Его осмеивал Аристофан, он был предметом споров, его любили и не любили, афинские зрители присудила ему только пять раз венки за трагедии, им предложенные театру, и один из этих венков был посмертным. Оценка Еврипидя до сей поры неясна в истории литературы. Ему навязывали репутацию поэта упадка, вопреки тому, что из античных трагиков он оказался самым влиятельным в позднейшей истории новоевропейской драмы, и это отнюдь не .в периоды ее упадка и застоя. Прежде всего нужно оговорить, что само время Еврипида только под особым углом зрения можно именовать временем упадочным. Вернее, это было время перехода, когда в традиционном греческом «полисе» об-
406
наруживались новые возможности, из которых, будь исторические обстоятсльства, внутренние и внешние, иными, возникла бы более высокая форма общественной жизни. Но она не возникла, и поэтому древний «полис» сохранил авторитет, значение идеала, который непрорекаем. Еврипид вовсе не восхищался тем, что творилось вокруг него в Афинах н в Элладе. Если то был упадок, то он изображал упадок, грустя о нем, Он не отвергал начисто новых явлении афинской жизни, как это делал, например, Аристофан. Дурное и сомнительное в них не исключало для Еврипида угадывания в них же более высоких путей, чем старые, традиционные. Вовсе, не радуясь индивидуалистическому распаду, он надеялся, что новый человек, не ведающий угнетения старыми авторитетами, сам, добровольно, собственным убеждением, по-новому вернется к нормам героического века, к коллективности и демократии. Идеалы Эсхила и Софокла лежат в пределах исторического опыта, пережитого Элладой, идеалы Еврипида выходят далеко за горизонт того, что на деле оказалось достижимым для его страны .и народа. Еврипид не довольствуется одним созерцаниям предлежащего, в нем действует стихия мысли и анализа, неотделимая от юмора, иронии и мечтательности. Ему не помогает традиции в той степени, в какой она служила Эсхилу и Софоклу. Читателя и зрителя он склоняет на свою сторону силой и обаянием собственной личности, Начинав с Еврипида, в греческой поэзии первостепенное значение приобретает личность поэта. Не то важно, какими традициями он послан, какие безличные силы представляет, а важно, кто таков он сам, что и как может он сказать от собственного имени. Поэт обольстительный, печальный, скептичный и возвышенный, Еврипид при всей неоднородности средств к которым он прибегает, никогда .не грешит против поэтической красоты. О нем утверждали и то, и другое, и третье, а о возвышенном характере его поэзии позволяли себе забывать.
Пирейский театр не делает Еврипида «модернистом», и в этом заслуга, в этом существенное новшество театра. Но театр уклоняется довольно заметным образом в сторону противоположную и в какой-то степени делает Еврипида поэтом архаическим, мало обособленным от старших трагиков древлеэллинской сцены, Истина же в том, что Еврипид не архаист и не модернист, а грече-
407
ский «модерн» Еврипид допускает только под условием, что возможно подняться над ним. Пирейский театр в «Медею» вносит некоторые постановочные изменения сравнительно с «Электрой. Дом Ясона в этом спектакле — тот же дом Агамемнона; вместо черного проема вместо двора суда, здесь, в «Медее», дверь, украшенная с затейливостью, наглухо закрытая, — закрытая для изгнанной этого дома героини. Девушки хора в «Медее» одеты более изысканно, чем хоревты «Электры», с извилистыми продольными линиями вдоль светлого поплоса, носимого каждой. В хоровых партиях «Медеи» больше пения, и в этом знак, что переживания здесь углубленнее, что они идут от развитой личной лирики. Нельзя не оцепить эту благородную и тонкую постановочную работу. И однако же, по всей вероятности, нужен был бы здесь более решительный отрыв от первобытной скудости и бедности, отличавшей постановочный фон «Электры», Действие в «Медее» происходит в богатом, позлащенном, пестром Коринфе. Ведь и вся коллизия в том, что Ясон меняет свою Медею на многие деньги коринфского царя Креонта и царевны, дочери его.
По сцене проходят три царя, Креонт, Эгей, Ясон, все с золотыми поясами. Но символов золотя нужно бы больше, Богатство в этой драме — массовая сила, нельзя его представлять двумя-треми предметами. Медею губят богатством. И она мстит тем же. С чрезвычайной яркостью изображения преподносится рассказ о том богатейшем расшитом пеплосе, о той золотой диадеме, что Медея послала в подарок царевне-сопернице, — Медея отравила и извела принцессу роскошью и драгоценностями.
Сцена в «Медее» чересчур бедна намеками на быт. В «Электре» безбытность правильна, в «Медее» вряд ли, Люди у Еврипида разъединились, оторвались друг от друга. У Софокла сила человека в другом человеке, в брате, в друге, в сподвижнике. В трагедии Еврипида сила или бессилие человека в вещах, которыми он обладает или не обладает. Пирейский театр разыгрывает трагедию Еврипида в почти оголенном, в почти геометрическом пространстве. Люди и текстах Еврипида окружены и обставлены несколько иначе. Конечно, незачем загромождать сцену бытом, но полезно было бы иногда на него указывать. Люди Еврипида всегда заимствуют
408
из материального быта и свои мотивы и свои жизненные цели.
«Медея» ведется, подобно «Электре», в стиле и в духе, античного «троноса»— плача: героиня оплакивает свою любовь к Ясону и свой брак с Ясоном. Папатанасиу—Медея снова появляется перед нами в образе великой плачеи. Такая трактовки здесь недостаточно. Медея не только озлобленная, брошенная женщина, хотя и героически противящаяся своей судьбе. Медея — могучая волшебница, женщина великого у ми и великого искусства. Еврипид отлично понимал, что ум — оружие в драматической борьбе, что защищаются и нападают искусной хорошо обдуманной речью, Медею-софисгку, Медею-ритора, искушенного защитника собственных прав, не всегда можно было узнать в женщине, которую представляла Папатапаену. Все чересчур поглощалось звериной энергией страсти и обиды. Волчица, любящая своих детенышей и из злобы, из оскорбленности жертвующая ими, — это еше не вся Медея. По временам хотелось, чтобы ярче горел вокруг Медеи ореол необычности и умственного превосходства. Не станем умалять достижении артистки. Сомнению подлежит не ее искусство, по общий характер спектакля. В границах своего толкования роли Папатанаспу и па .этот раз была сильна.
Когда у нас впервые в уме слагается ее страшный замысел, то он становится физически ощутим, Кажется, что на сцене появилось новое невидимое лицо, — нет, видимое, и лицо это, страшный этот зверь — мстительная мысль Медеи. И в этой постановке хор делал должное. Тяжкий вздох Медеи отразился в хоре глубокими повторами, — хор сообщал переживаниям Медеи грандиозность.
В трагедии Еврипида, конечно, тоже содержится традиция «троноса»; однако значение ее несравненно скромное, чем это представил Пирейскнй театр. В «Электре» все люди были подсобными, они всецело служили потребностям очистительного действия. Для «Медеи» нужны люди иного стиля, более дробного и индивидуального. Люди Еврипида не сливаются в одно совоими поступками, они их совершают и часто отстоят от них, боятся отвечать за содеянное, хотели бы казаться иными, лучшими, чем собственные их дела.
Креонт, Эгей, Ясон — люди слабые. Креонт хочет и неспособен поступать как царь, его сварливость и крик-
409
ливость отсюда и следуют — от недоволен собою, своей нетвердостью и уступчивостью. Эгей, цярь афинский, весь ослаблен семейными заботами, Ясон, бывший герой, ведет себя постыдно, предательски, продается за деньги, мелко политиканствует, лжет и изворачивается, Все они люди, потерявшие групповые связи, коллективные традиции, отколовшиеся от положений, которые были ими унаследованы. Ясон — авантюрист, искатель обстоятельств, Предоставленный самому себе, он стал корыстен и эгоистичен, сходствуя в этом со множеством других лиц, выведенных в трагедиях Эврипида. Как человек одиночка, он слаб по положению. Эгоизм — это его попытка сделать слабое положение сильным, По Ясон не лишен стыдливости перед самим собой. Он не смеет не признавать общественные нормы, хотя и уклоняется от выполнения их, сколько может. Перед брошенной Медеей Ясон ищет оправданий, хочет обелить себя перед детьми от Медеи, к которым он и в самом деле по-своему нежен. Ясон искренне хотел бы слыть за пристойного человека. Злодейство его только наполовину. Он человек середины, и это чрезвычайно важно в трагедиии Еврипида, в этом источник трагической коллизии, как еще видно будет.
В Пирейском театре все мужские роли мало разработаны, в этом главная причина, почему и роль Медеи дана в театре неполно: ведь роли создаются не каждая в отдельности, а одна в виду другой и других, каждый спектакль разыгрывается в порядке некоторой круговой поруки. Эгей и Креонт в некотором роде «хор», двоимое, отражение Ясона, слабого человека. Эгей .и Креонт в спектакле не прозвучали, а вместо Еврипидова Ясона с его смешанным характером, с его неуверенной в себе низостью и с его бесконтрольной и шаткой добротой сцена предъявила нам другого Ясона, опустившегося, вульгарного, чересчур элементарного. Этот Ясон грубо досадует и ждет не дождется, как избавиться от прежней жены, закрывающей ему дорогу к новому и выгодному браку.
Трактовка Ясона у Енрипида много уясняет нам в его художественной и моральной идеологии, Еврипид вовсе не противится тому, что в современниках его прорезалось личное начало. Нет, он в этом видит важное и позитивное завоевание. У Еврипида нет боязни и перед эгоизмом, пусть даже подобным ясовскому, если об-
410
стоятельства позволяют усмотреть в нем только временное и очень раннее проявление чувства личности, если это всего лишь примитивное начало выхода из примитивности, за которым последует нечто высшее и лучшее, и если в дальнейшем моральном развитии человека начало это исчезнет, не оставляя печальной памяти о себе. В «Алкесте» Еврипид изобразил царя Адмета, себялюбца до поры до времени, смешного и жалкого, готового жертвовать кем и чем угодно, только бы ему сохранили жизнь. Но Адмет проходит через тяжкий опыт и через страдание, и так к нему возвращается человеческое достоинство. Приобретенное, выстраданное, на личных путях завоеванное достоинство Еврипид ценит выше, чем когда оно получепо от предков, от положения, «от богов». И трагедиях его немало полемики против героизма» как его понимала аристократическая традиция, — врожденного, богами и небом, происхождением пожалованного. В той же «Алкесте» в комическом порою освещении выводится Геракл, а в трагедии, названной именем этого героя, судьба его представлена автором незавидной.
В прекраснейшей, удивительной «Ифигении в Авлиде» да и в «Ифигении в Тавриде», тоже удивительной, дана концепция героизма, как она представляется самому Еврипиду. В Авлиде Ифигению хотят принести в жертву богине, так как этого требуют интересы Эллады. Насилие над Ифигенией было бы ужасным и отвратительным. Но Ифигения, пройдя сквозь страх смерти, растет и растет нравственно, она сама добровольно соглашается пожертвовать собою ради общеэллинского дела. Слабость, страх за себя были только предисловием для ее героического решения. Она сама, собственным сознанием, свободно возвысила себя до героизма. И этот героизм, этот пафос общественности, возникшие изнутри человека, из самих его личности и личного сознании, по Еврипид, всего дороже. Сравнительно с героями каноническими люди Еврипида знают и падение, но падение это бывает в драмах Еврипида плодотворным. Павшие восстанавливаются, и так как это сделалось их собственным усилием, то они с тех пор стоят кротко. Их геройство — их собствешюе создание, их героическое поведение исходит из их собственной личности, они владеют им. До общих интересов они поднялись, не теряя самих себя. Еврипид — скептик в отношении традиционных идеалов
411
и верующий в отношении новых идеалов общественности, о которой ему мечтается,
Конечно» Ясона Еврипид не принимает. Ясон из тих, кто доволен своим падением и ищет несерьезных к нему поправок, не более того. Ясон отчасти близнец царя Адмета. Ясон не возродился, как Адмст, он прошел менее чем полпути Адмета, идти далее он не может и не хочет. Его компромиссы, его серединность и разжигают мрачную трагедию, направляют действие к грозной развязке. Медея не может ему простить этой серединноети — посредственности. Нужно помнить, кто такая Медея. Она внучка Гелиоса, внучка солнца. Существо стихийно-цельное, носящее в себе огромные страсти, Медея способна быть и выше людей и ниже. Медея способна и на величайшую преданность, на жертвы и на величайшую преступность, чрезмерная во всем — и в любви и в гневе, в дружбе и в мстительных чувствах. Она входит и человеческий мир, в мир современников Еврипида, и встречает здесь слабость, двоение, мелкие хитрости и мелкую политику, ложь, притворство, нежелание отвечать за собственные дела, любовь к вещам, которая действеннее, чем любовь к людям, денежные расчеты и денежные вожделения, загрязненные души, пошлость и предательствно. Медея сама пытается быть политиком, и Медея не может выдержать этой роли. Она хотела быть лучше людей и стала хуже, в ней та мера ярости и жестокости, о которой люди и не ведают. Средняя линия ей недоступна. Если есть мораль в этой трагедии, где героиня поступает столь имморально, то она такая: наказанная середина и посредственность. Полузло рождает зло великое и беспримерное, когда сталкивается с целостными, могущественными требованиями к жизни.
Так как на сцене Пирейского театра более всего подчеркнута в Медее жена, покинутая и отринутая собственным мужем, то возникает известная опасность, как бы трагедия Еврипнда не уклонилась в сторону ограниченной по смыслу своему семейной драмы. Фольклорный стиль и участие хора не могут до конца препятствовать тому, чтобы Еврипидова «Медея» не казалась порой мещанской драмой, хотя и написанной автором очень высокого ранга, хотя и сыгранной па первоклассной сцене.
В эпилоге спектакля на крыше Ясонова дома появляется потемневшая, измученная Медея, с головой, окру-
412
женной бледным сиянием. Сравни с этим меланхолическим и приглушенным окончанием то, что подсказано самим Еврипидом. На крыше Ясонсмва дома колесница, запряженная драконами, и в ней Медея с зарезанными детьми на ее коленях. У Еврипида внучка Гелиоса возвращается к Гелиосу, после преступлений, к которым вынудили ее люди, после того как люди изгнили ее. Театр, быть может, убоялся фантастики. Но в ней заключается реализм Еврипнда. Цельность жизни, страсть, душа устраняются из общества людей, им отказано в пристанище, и тогда как еще иначе они могут людям представиться, если не в виде призрака, устрашающего и мстительного.
Пирейский театр иной раз и по иным поводам побуждает к спору. При этом спорящие не могут не испытывать к театру чувства благодарности. Так много продуманности и художественности, так много опытности и вкуса в его работе, что он же сам помогает зрителю выработать собственное мнение даже в случаях, когда зритель не до конца согласен с театром. Мы хотели бы, чтобы наше знакомство с гостями из Пирея, с их искусством, благородным и серьезным, открывающим нам заново величайшие памятники драматической поэзии, не оказались эпизодическим и чтобы в будущем оно продолжилось.
1968
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР И ДУХ МУЗЫКИ
(По поводу спектаклей Афинского Художественного театра)
Афинский Художественный театр под управлением Каролоса Куна — наш новый гость, после Пирейского театра второе наше знакомство со сценическим искусством современной Греции. Оба театра явились к нам с репертуаром античных авторов. Пирейский театр в два своих приезда показал нам греческих трагиков: Эсхила, Софокла, Еврипида. Театр из Афин привез один трагический спектакль — «Персы» Эсхила, и один спектакль комедийный — «Птицы» Аристофана. Античная комедия на современной сцене внове для нас. Кажется, со времен «Лисистраты» Аристофана, поставленной в 1923 году Немировичем-Данченко, классическая комедия гротов ни разу не появлялась на наших подмостках. Мы встретили ее сейчас с. немалым любопытством и любознательностью. Уже давно она существует в нашем читательском обиходе. Мы располагаем отличным переводам всех одиннадцати комедий Аристофана. Сделал его человек многих умений и дарований, Адриан Пиотровский, ученый филолог, писатель, театральный деятель. Он же придал к своим переводам отличные введения и комментарии. Наши зрители были частью подготовлены этими переводами к спектаклю театра из Афин, который воочию показал нам, что такое древняя комедия. Как бы ни
414
просвещала книга, спектакль всегда может очень важное добавить, оказать влияние, на какое книга неспособна. Спектакль заставляет нас прочувствовать упущенное нашим читательским чувством, обдумать еще необдуманное в читательском нашем опыте. О спектаклях театра из Афин можно утверждать, что они оставили свой след в нашей культуре, вызвали нас на новые мысли, принудили нас полистать книги, в которых, мы полагали, нам искать больше нечего, — полагали, как это видно стало, без достаточного к тому основания.
Театр из Афин, ставящий драматические спектакли, оказался еше основательнее, чем Пирейский театр, нам уже известный, оснащенным в отношении музыкальном и хореографическом. В «Птицах» хор не читал свои партии, но пел их превосходными певческими голосами. Перед нами развертывалось музыкально-плясовое зрелище, поставленное как будто бы по всем правилам большой оперной сцепы. Тем не менее нам все-таки преподносили со сцены литературу, поэтический текст, а музыкальная постановка говорила только о внутреннем его особом стиле. Мы знаново могли дать отчет себе, что такое античная драматургия. Музыка, да и пляска не являются внешним дополнением к ней, которое может присутствовать, может отсутствовать. В самом драматическом тексте заложены указания на музыку, спрос на нее. Мы праве говорить о духе музыки и античной драматургии, — о внутренней потребности в музыке, о потребности, которой проникнут текст, то здесь, то там подсказывающий самый характер этой музыки, Прежде всего нужно помнить, каков внутренний строй античной драматургии, от начала до конца эмоциональной. Античная драматургия не писалась на те или иные отвлеченно-рациональные формулы и тезисы, голое поучение было чуждо ей, она исключала также всякую сколько-нибудь оголенную информацию, будь это бытописание или нравоописание. Ей доступны были идеи весьма высокого порядка, выражались же они отнюдь не в виде философских тезисгов или же загадочных, миогосмысленных речений из дельфийского капища. Само эмоциональное развитие вело к неким скрытно преподнесенным выводам, к тем или иным внушениям, полученным от драмы. Материал быта и нравов, конечно, входил в драматическую фабулу, но зачастую подвергался здесь перестановкам, которые делали его малоузнаваемым.
415
Античность начинает и истории театра драматургию особого рода — по духу своему музыкальную. В новое время, в тот именно период, когда более всего клялись именем античности, сложился совсем иной тип драматургии — чисто литературный и интеллектуалистический. Мы имеем и виду французский классицизм. Если рассматривать мировую драматургию и мировой театр в свете того критерия, борьбы типа музыкального с немузыкальным, то многие связи и соотношения представятся нам совсем по иному. Тогда окажется, чти Шекспир ближе к античности, чем ко многим своим современникам, что Чехов ближе к Шекспиру, чем к Ибсену, а Ибсен состоит в преемственной связи с Расином, ибо оба они психологи-аналитики, поэты слова не столько эмоционального, сколько интеллектуального, зачастую афористически, а не музыкально-выразительно звучащего. Наш Островский окажется тогда драматургом переходного характера, стоящим на пороге музыкально-осмысленного и музыкально-стилизованного театра.
Если говорить о театре комедийном, то весьма явственны аналогии между стилем комедии Шекспира и стилем комедий Аристофана, что уже очень хороню понимали романтики.
Существенней всего связанность античной комедии и античной трагедии с великими всенародными, всеэллинскими празднествами в честь Диониса, бога земледельцев и виноградарей. Комедия и трагедии, каждая по-своему, с большей или меньшей отдаленностью от своего первообразца, отражали страсти Диониса, его зимнее умирание, его весенне-летнее воскрешение. Дионисии были торжеством самой природы, познавшей свой лучший расцвет. Когда Аристотель в «Почтике» своей говорит о перипетии, как об одном из признаков драмы, то признак этот на деле не в пример важнее, чем это может показаться в сухом и беглом Аристотелевом изложении, Перипетия — поворот от состояния к состоянию, от жизни к смерти, от смерти к жизни, от счастья к несчастью или обратно. Перипетия, каким бы ни было частное ее содержание, так или иначе является отблеском истории самого Диониса, его предсмертного томления, его гибели и победы над нею, Очень важно, что весь кругооборот природы был приурочен к одному единому существу, трактовался как единая внутренняя история, пережитая Дионисом в одном-едипстиенном лице его.
416
Жизнь природы получила свою концентрацию и
некое личностное выражение собственных коллизий. У
Комедия, равно как и трагедия, искала покровительства и зашиты у Диониса и у дионисии. Хотя комедия вначале и ютилась где-то очень скромно, на невидном положении, все же блеск дионисийского празднества снисходил на нее, и по приближенно:ги своей к сути и смыслу этого празднества она поздние могла спорить с трагедией, более чтимой своей сестрой. Впрочем, и о трагедии есть известие, что на первых порах она не отличалась еще возвышенной серьезностью, и трагедия и комедия возникли как бы из единой первоматерии, из игрища, стиль и характер которого еще не пришел к определенности в ранний свой период.
Эмоциональный строй античной комедии явственным образом подсказан разгулом и раздольем Дионисиева празднества, восторгом его. Принято говорить о трагическом, трагедийном вдохновении, Но и комедия знала свое вдохновение, столь же высокое по-своему. Праздник
417
со всем своим размахом переселялся в самую глубь комедийного зрелища и творил его внутреннюю музыку. Настроение комедии — настроение большой бурной игры, которая срывает всякую вещь с положенного ей места, неслыханно преуменьшает крупное, преувеличивает малое, не считается с установленными рангами, посягает на любые авторитеты и репутации, Для древней комедии не было запретов. С празднествами в честь вина и виноградников она делит принцип вседозволенности, ко всему смеет прикоснуться, по поводу всего и всех она высказывается без обиняков. Комедия не считается, если ей это нужно, с какими угодно законами, до законов логики включительно[331]. Комедия Аристофана смешивает нарочно категории .логики друг с другом, она и не думает различать, где множественное число и где единственное, великий многоглавый коллектив народа Аттики она выводит в качестве одного-единствеппого персонажа, капризного и привередливого старика Демоса (комедия «Всадники»), абстрактное пускает на пути более чем конкретного, и мир, этот мир, который заключают после войны, она представляет в качестве женщины, находящийся в заточении и ждущей, чтобы освободили ее (комедия «Тишина»). Аристофан поражал афинян величайшими дерзостями. Людей, хорошо известных в городе, со всеми их атрибуциями он выводил на сцене. Он играл в сходство пополам с несходством. По внешним признакам могли узнать со сцены философа Сократа, того Сократа, с которым постоянно встречались на улицах и в домах Афин, Но в комедии Аристофана он вел себя по соответственно своему обычаю, да и учил иному, чем это бывало с ним на самом деле. На сцене был тот и не тот Сократ, тот и не тот Клеон, кожевенник, афинский демагог. Сократ сценический или Клеон сценический оказывались в равной мере и двойниками и антагонистами. Комедия Аристофана с азартом шутила по поводу элементарного закона логики, тождества явления с самим собою.
Комедия бралась за мир, каким его знал каждый афинянин, за мир, строго упорядоченный, и вносила в этот, мир веселую смуту. Могло казаться, что все начинается с самого начала, что мироздание только впервые устанавливается и все находится в состоянии первичного творческого брожения, наподобие описанного ионийскими натурфилософами, учившими, как и из чего возникла
418
природа всех вещей. Обнажились те углы в картине мира, которые принято было держать в тени. Комедия ставила под преувеличенное освещение всю низшую жизнь человеческой плоти. Еда, обжорство, пол — стихии, которым комедии уделяли нарочито повышенное внимание. Дело шло именно о стихиях, комедия воспринимала жизнь не отдельными эпизодами, равнодушными друг к другу, но целыми стихиямм, так что явления родственного порядка, близкие по своему чувственному содержанию, близкие но эмоциям, на которые они способны вызвать, как бы накладывались друг на друга, взаимно усиливаясь, разжигая мотивы, общие им всем. Фантастичность зрелища нередко создавалась тем, что предметы, в качестве предметов очень далеких один от другого, тем не менее, сближались по признаку эмоций, возбуждаемых ими. Комедия нисходила до элементарных сил жизни как бы для того, чтобы снова пробежать через весь порядок мировых вешен, начиная снизу, с первой кладки их, с первоосновы. Ей присущ был резкий бурлеск, они ударялась в физиологию, не задумываясь, что пристойно и что непристойно. Однако самые рискованные выходки не нарушают артистического настроения, царящего в комедиях Аристофана. Автор, следуя почину Дионисова празднества, отпускает на свободу полнейшую — собственные духовные силы, предается их игре, ничем не ограниченной. Нескромные шутки, чересчур крепкий юмор потопляются в огромной и неутомимой импровизации. Что может показаться чересчур физиологическим, бездуховным, то растворяется в этом торжестве духовнейших стихий, беззащитное перед их действием, перед их игрой и натиском. Свободные силы души взрывают это царство физиологии, эту сплошную среду инстинктов и потребностей тела, приводят ее в вихреобразное состояние, в котором она и распадается. Почти каждая комедия Аристофана — борьба за улучшенную жизнь, за дела и меры, которые должны бы принести счастье афинскому государству. Аристофан создает общую раскачку сил, на которых строилась жизнь города и государства, чтобы все что кончить утопией больших или малых преобразований, реформ того или иного свойства, проводимых им в мире воображаемом в ожидании, что мир действительный тоже примет их. Собственно, такова перипетия в античной комедии: мир разрушается и на обломках своих созидается вновь.
419
Комедия Аристофана является проверкой мира в том виде его, какой он принял для самого Аристофана и его современников. Ни время упраздняются все права и преимущества, весь внутренний правопорядок, пользующийся общественным признанием. Начинается комедийное действие, и мы свидетели того, как комедийный восторг все смешал и спутал, вернул мир к первобытному состоянию. Постепенно из этого творческого безразличия выплывают очертания новых порядков, новых прав и новой справедливости, как мыслятся они поэтом. Переплавка общеобязательного мира и есть «катарсис», как осуществляется он в комедии. Античная комедия тоже знает свою эстетику очищения, и она та же. В сказаниях и сказках многих народов говорится о том, как омолаживали старость; бросали стариков в кипящий котел, и они выплывали оттуда прекрасными и юными. Этот сюжет возвращении к молодости известен был и Аристоану. Собственно, то же самое он учинял со своими Афинами в каждой из своих комедий: кипятил их старость и так возвращал им юность. Молодящий кипяток, в конце концов, поэтическое представление, родственное психологии страстей Диониса, гибнущего, чтобы затем в великой славе вернуться снова к жизни живых. Всякая перипетия была испытанием жизненности, то терпящей ущерб, то среди ущерба набирающей со всех сторон средства и возможности к своему новому процветанию. Перипетия — путь к красоте в комедии или проверка красоты, испытание ее на прочность в трагедии. В эстетике Аристотеля перипетия — одно из перноосновных понятий. Можно усмотреть идею перипетии и в риторике Аристотеля, там где он старается обосновать красоту литературно написанной фразы; он находит своеобразную перипетию в соотношениях слов в фразе, в том, как слова сменяют друг друга. То же самое в учении Аристотеля о тропах, о словесной образности. Слово, становясь образом, метафорой, проходит через особую свою перипетию стилистического порядка.
За рубежом делаются сейчас попытки отрешить греческий театр от ритуала и игрищ Диониса, от его пародно-музыкальной основы, — по крайней мере в отношении трагедии эти попытки довольно настойчивы[332]. Думаем,
420
вне дионисийских празднеств трагедия и, быть может, в большей степени еще комедия совершенно померкнут для нас и станут недоступны нашему пониманию. Им грозит тогда превратиться в малоизобретательные сценарии с сомнительной логикой положений и характеров. Мы знаем, из классических поэтов Греции один Еврипид. мог отстоять себя, отделенный от атмосферы праздничного энтузиазма.
Отдельные театральные приемы в античной комедии следует понимать как стремление сделать очевидным, что она пребывает в пределах народного празднества и не желает забывать об этом. Интерпретаторы указывают на «разрушение иллюзии», к которому Аристофан прибегает время от времени. Нам кажется, что при таком толковании его поэтики впадают в неосмотрительную модернизацию. Сперва необходимо наличие театральной иллюзии, лишь тогда можно ее разрушить. А ведь Аристофан нигде и ни в чем этой иллюзии не ищет. Об иллюзии, которая разрушается, говорят по поводу парабазы — принятого в комедиях Аристофана прямого обращения хора к зрителям, будь в античном театре нечто похожее, на рампу, парабаза была бы разговором через рампу, со сцены обращенным в зрительный зал. Но дело все в том, что в античном театре рампы не было, По самому устройству зрелища актеры и зрители находились скорее в добром согласии, чем в оппозиции друг к другу, потенциальной, как это имеет место в театрах современности,
В комедии «Всадники» Демосфен со сцены показывает колбаснику зрителей — видит ли он их. Зрители видят актеров, актеры же ведут свою независимую от зрителей жизнь. Но нет, по Аристофану, актеры тоже видят зрителей. Все это с большим правом мы назвали бы не разрушением иллюзии, но неожиданным расширением ее, — ряды зрителей втягиваются таким образом в сценическое действие, актеры как бы завлекают их в свою собственную область, Или скажем еще вернее: вот способ, каким восстанавливается цельность Диописова празднества. Исчезает деление на зрителей и актеров, если оно и сохраняется, то во всяческой своей относительности. И актеры, и зрители празднуют единому Дионису. Когда парабаза поворачивалась к зрителям, она напоминала, что зрители наравне с актерами служители единого Дионисова веселья, что порыв народного празд-
421
нества объединяет и тех и этих. Театральное зрелище возвращалось в единую стихию дионисий, из которой: оно вышло. В аттическом театре, находилось особое кресло для Дионисова жреца оно напоминало, к чему и как относится театральное действо, где и в чем его первоисточник.
Любопытно, что Аристофан старается продлить впечатление игры по oбе стороны театрального зрелища. Начавшись, оно далее приобретало некоторую безграничность. Но игра, по Аристофану, предшествует и самому началу зрелища. Уже созидание драматического текста представлено у Аристофана как игра, как лицедейство. По крайней мере так в комедии его «Женщины на празднестве». Поэт Агафон вырядился женщиной, потому что сочиняет трагедию о женщинах, писательство есть уже актерство, предварительное актерство, прежде чем трагедия будет передана на руки настоящим актерам.
Мы можем заключить: комедийный театр античности взирал на жизнь вокруг как на итог великого всемирного творчества. Прозаический взгляд на вещи принимал их как непреложное, как систему догматов. Праздничное вдохновение комедии превращало их в сплошную относительность — ничто не стояло от века, все было создано когда-то и могло пересоздаваться вновь. За Аристофаном стоял афинский демос, который действительно сам возвел свое государство, чувствовал свои авторские права на город Афины и волен был ого перестраивать, как то ему хотелось, Комедии Аристофана сочинялись и ставились с санкции античного народоправства. Аристофан был поэтом своевольным, пускался в самые отважные шутки, вдавался в любые фантазии, громоздил выдумку на выдумку, и тем не менее во всем этом фантастическом театре содержался свой внутренний реализм. Афинский демос часть собственных возможностей доверил своему поэту, а демос этот имел право на дерзкую игру, в играх и в забавах он как бы упражнял свое могущество, свою способность разрушать и создавать исторические миры.
Каролос Кун поставил комедию Аристофана, хорошо чуя особый стиль ее. Это был прежде всего спектакль стиля крупного, без погони за мелочами и оттенками. Античная комедия есть жанр грандиозный, она держится этого жанра без каких-либо привнесений из жанров
425
серьезных, оставаясь верной самой себе. Так было и в спектакле театра из Афин. Режиссер предложил нам зрелище, обладающее энергией веселья, шумно-праздничную буффонаду. На сцене царил гром, не совсем привычный для нас, и если мы в чем-либо упрекнем постановщика, то разве в том, что накал спектакля не всегда казался нам достаточным. Подозреваем, что тут немалое значение имела импортная природа спектакля. Очевидно, комедийный спектакль только в относительной степени поддается импорту, не может до конца быть доведенным до зрители, которому незнаком язык автора и актеров. Наушники и перевод, который тут же обслуживают зрителя, мало помогают делу. Они содействуют прозаическому пониманию того, что творится на сцене, и тормозят собственно художественное восприятие.
Зритель, который заранее внимательно прочел текст и потом без толмача будет смотреть и слушать, получит от спектакля больше, чем тот, кому переводят каждую реплику, но для кого теряется целое. Перевод не может не запаздывать, и, следовательно, запаздывает также и смех. На сцене произносят комическую тираду, а зритель откликнется ей, когда на сцене уже забыли ее. Комедийному актеру необходимо играть под смех зрителей, смех ободряет его, смех ему подсказывает, что и как делать, как вести себя, смех для него проверка, играет ли он до конца точно и безошибочно, Играть комедию без смеха в зале плыть посуху, исполнять музыку, которая не звучит. Комедия лучше других жанров показывает, что спектакль делается не только со сцены, но и из зрительного зала, теми эмоциями, которые зрительный зал посылает своим актерам. На спектакле «Птицы» актеры были чужие, чужеязычные, и можно думать, что неполная связь их со зрителями временами сказывалась на характере спектакля, создавала пустоты в его темпераменте, бледнила его в тех или иных эпизодах.
Нам кажется, театр Каролося Куна особо чувствителен к музыкальному строю произведений античных драматургов. Вероятно, одна из причин, почему из комедий Аристофана выбраны были «Птицы», лежит в том же: «Птицы», пожалуй, самая сложная и богатая из комедийных партитур, созданных Аристофаном. Здесь главная тема — идеальное царство птиц, повисший в небе город Тучекукуевск. Держась правила древних,
423
режиссер составил хор из одних мужских голосов. Но был и женский голос соловьиный, и своим запевом, нежным н заливистым, он нес кость о том выспреннем идеальном царстве, что сложилось под облаками. Аристофан любит прибегать к мультипликациям той или иной темы, к обобщениям фигур и эпизодов, взятых под единый для них эмоциональный знак, эмоционально, а следовательно, и музыкально обобщенных. В этом нельзя не усмотреть своеобразную музыкальную логику его комедии. Уже главные герои комедии, искатель счастья Пифетер и его провожатый Эвельнид, являют собою некую тему с вариациями, они движутся один подле другого, то сходствуя, то различаясь. Когда основался Тучекукуевск, туда потянулись снизу, из обыденного мира одна за другой сомнительные личности, каждая из которых кандидат в прихлебатели, претендент на личное устройство без излишних трудов. Это и оборванный, малоопрятный поэт, это прорицатель, оставшийся без доходов, это землемер, надсмотршик, законодатель. Все это «звуки земли» досягнувшие до небесного города Тучекукуевска, все, что мелкая проза, обладающая той или иной степенью назойливости и наглости. Режиссер и провел этих персонажей по сцене как одну-единую музыкальную тему, послал их на сцену как единую комедийную волну, каждый новопришедший обликом, повадкой и манерой так или иначе вторил своему предшественнику, роль в роль, при всей разномастности их.
В порядке общей им всем музыкальной темы, хотя и с крупными вариациями, были объединены и жители недавнего высшего неба, разжалованные боги и герои, город Тучекукуевск занял их место, им ничего не осталось, как молить о милостях у владык и основателей этого города. Для переговоров явились Прометей, Геракл, Ирида, Посейдон. Прометей — бывшая оппозиция Зевсу, он и сейчас интригует против него, но и Прометей тоже подпал отчасти под ту характеристику, которая дана была сейчас этим смешенным лицам древней мифологии. Он довольно жалок со своей гипертрофированной — профессорской, ученой головой, с зонтиком, под который он укрьивается. Особенно же пострадал от комедийной трактовки Геракл, Он был преподнесен как бывшая гроза и сила, проэкзаменованная по пунктам, наименее выгодным для нее. Геракл был дан со стороны интеллекта, по критериям интеллекта, органически чуж-
424
дым ему. Маска на Геракле были младенческая, лицо новорожденного, обросшее, однако же, бородой и усами, рот, просящий соски, усердие ничегонепонимания в глазах. А богатырская мускульная сила Геракла представлена была как ценность, давно упавшая, как чистейший блеф: бесполезно огромный рост, подозрительно тонкие длинные ноги — ломкие ноги и геройская палица в руках, не оставлявшая никаких сомнений, что она вся выдолбленная внутри.
Так из трех больших музыкальных тем слагался этот спектакль, согласно тому, что дано было в самом тексте Аристофана. Тут была обыкновенная земля людей, покинутая искателями идеального царства, тут было само .что царство, основанное через совместные усилия людьми и птичьей ратью, наконец, тут были идеальные существа вчерашнего дня, отмеченные, потерявшие свою былую цену жители недавнего высшего неба, нынче попрошайки, заискивающие перед новыми господами положения.
Среди комедий Аристофана «Птицы»— самая универсальная по идейному составу и по театральному своему стилю. Известен энтузиастический отзыв Генриха Гейне о великом, как он считал, философском смысле ее. В своих мотивах утопии она гораздо шире, чем прочие, написанные Аристофаном, Там идет борьба за интересы не далее чем завтрашнего дня и за интересы довольно специального характера. В « Птицах» строитея целый мир, соответственный человеческим мечтаниям, по самой основе своей отличный от нищего. Этот лучший мир и населен не теми и имеет свой иной устав. И все же отличия эти не дают всего о «Птицах», Нужно назвать еше одно. «Птицы» отмечены важным свойством, особо выделяющим эту комедию. В «Птицах» действует мотив возвращения. Комедия эта оторвалась от обыкновенных условий жизни, занеслась высоко, но обыкновенная жизнь незамеченным образом и исподволь возвращается, Праздник есть исключение, следовательно, все небывалое, исключительное возможно в праздник, находится под его защитой и покровительством. Именно в атмосфере празднества возможны были все безумства этой комедии, «дурачества», как называл их Гейне. Любое фантастическое допущение могло сразу же войти в силу, и одна несообразность спорила с другой, которая из них смелее и веселее. Однако же в «Птицах» все это,
425
обычное и в других комедиях Аристофана, составляет только полдела.
В развязке этой комедии, если взглядегься, перипетия вернулась к своему исходному пункту к тому, что было до праздника, к обыденной логике обыденной жизни, к победе массово-типичного над исключительностью и эксцентрикой, Афинянин Пифетер, вместе со спутинким своим Эвельпидом положивший начало новому царству, гнал, как помним, всех дельцов и авантюристов, которые хотели там пристроиться. Но искатели эти и просители —только слабая прелюдия к карьеризму самого Пифетера. Адриан Пиотровский был не слишком прав, когда назвал Пифетера с Эвельпидом четой, сходственной с Дон-Кихотом и Санчо Пайсой. Афинский театр поступил вернее, придав Пифетеру довольно прозаический житейский облик, выпустив его на сцену с круглой прозаической плешью, присвоив ему манеру, вид человека дела и торговли. Крылышки, которые грещали за плечами Пифетера, не слишком подобали вульгарному его телу. Сам великий город Тучекукуевск, задуманный как прибежище для идеальных существ и идеальных стремлений, исподволь превращается у Пифетера в очень выгодное мероприятие, Аристофан при самых смелых своих и высоко заносящихся выдумках не отказывается от точного реалистическою мышления. Утопический город Тучекукуевск неприметно подводится под законы реальной логики. Утопическое селение это находится на полпути от земли к небу — вот лучший способ устроить небожителям блокаду, если вещи называть нашими современными терминами, Жертвенный дым с земли задерживается и не достигает богов, у них начинается голод, они должны идти на любую сделку с Пифетером, чтобы уцелеть, и тогда-то Пифетер добивается блистательного брака с Базилейей, дочерью Зевса. Так в комедийную фантастику один за другим вкрадываются прозаические мотивы и в конце концов они властвуют над нею. Проникновение прозы дает особую остроту этой комедии, строившейся на чудесных вымыслах. Город-утопия вдруг освещается самым трезвенным светом со стороны его стратегического и экономического значения. Сам основатель города в конце концов более чем удачно устраивает свои собственные дела, утопия в пользу человечества преобразуется в пользу одного Пифетера. Говоря о прозаических итогах фабулы, мы поступаем
426
не совсем осторожно как будто бы, ведь царевна Базилейя, которой добился Пифетер, все же самая настоящая фантасмагории. Но в том-то и дело: у Аристофана фантастика бьется в тенетах самой заурядной прозы, пышный фантастический образ по открывшемуся в нем значению есть нечто ординарное — царевна Базилейя всего-навсего знатная невеста, которой добился один умелый выскочка. Все сплетается по одному смыслу, а расплетается по другому.
Афинский театр недаром так смело и реалистически разрабатывал в спектакле тему «звуков земли». Соблюдая требования античного стиля, он в то же время решительно шел на постановочные модернизмы. Жреца выводили е обличьем, с приемами православного священника, фигуры совершенно обыденной в Афинах наших дней. Сказочные, птицы были хорошо знакомы с электрическим освещением, вносили на сцену гирлянды лампочек подобающего напряжения и повсюду развешивали их. Сам Аристофан не задумываясь пользовался злобой дня своего, тогдашнего. Современный нам театр правомерно обращается к злобе дня нашего, к явлениям, характерным для нашего жизнеустройства.
Из современного обихода Афинский театр заимствовал самое назойливое, бьющее в глаза и правильно сделал. Нужно, чтобы виден был режиссерский умысел в анахронизмах, чтобы зрители их не сочли за ошибки и малую грамотность.
Была в спектакле подробность порядка этического, и весьма красноречивая. Она подтверждала нам, как сомнительна репутация утопического царства, воздвигнутого Пифетером, бывшим обитателем Афин. В утопической стране обещаны были вольности и льготы птичьему сословию, которое подвизалось вместе с Ппфетером. А вот мы видим: две птицы зарезаны, ощипаны, их тела насажены на вертел. Следовательно, о птичьем рае, где все птицы состоят в равенстве и братстве, мы узнаем: в нем птиц подают на обед птицам же.
Возможны раздумья по поводу возвращения к прозе в «Птицах» Аристофана — не упадок ли это для искусства, не вредоносно ли это. Казалось бы, что лучше бы искусству не уходить от блеска и сияния праздничной игры, оставаясь с нею и при ней. Аристофан не романтик, хотя вряд ли был бы раскрыт для нового времени без усилий романтической критики. Он помнит и знает,
427
что уклады жизни, побежденные праздничной фантазией, не побеждены на самом деле и приняты будут меры, чтобы им вернуть упущенное. Искусство не может не включать в свою область и праздник, и самую дурную повседневность. Искусство выше праздники. Оно не может согласиться, чтобы его признавали только по праздничным дням, оно хочет власти надо всем временем человека, Включая в себя праздник, оно и шире и выше его, в него входит не только энтузиазм, но входят и дни протрезвления.
Если бы искусство исчерпывалось праздниками, оно было бы бессильным перед буднями, оно исчезало бы по будням. У греков искусство, возникшее вместе с праздником, тем и было велико, что умело оторваться от своей основы, унестись высоко, стать над праздником и над буднями.
Аристофан универсально, беспредельно свободен. Как поэт он не желает себя ограничивать ничем, даже праздником, даже игрой, даже самой свободой. Аристофан располагает противоядиями всех родов, одно он применяет против другого и обратно, не даваясь никому и ничему в руки слишком надолго. Праздник он смиряет повседневностью, а повседневность смиряет праздником.
Второй спектакль Афинского театра, посвященный «Персам» Эсхила, мы считаем удачей из ряда вон выходящей, Быть может, это был самый совершенный из трагических спектаклей, показанных нам в последние годы гостями из-за рубежа. Он кончался огромными дружными овациями, в которых тоже было свое вдохновение, как бы часть от вдохновения Эсхила и исполнителей Эсхиловой трагедии, У зрителей бывают ошибки, иногда обиднейшие. Но тут нельзя было не гордиться их способностью поддаться власти одного из величайших поэтов мира. Ни в тексте, ни в спектакле не содержалось каких-либо мелких соблазнов и суетностей. Громовой успех относился к Эсхилу, а не к кому-либо нижестоящему, к Эсхилу без чуждых ему приправ и приспособлений, представленному в подлинной сути его поэзии, суровой и художественно бескомпромиссной.
Можно спросить почему и зачем Афинский театр выбрал «Персов», а не что-либо иное, более обычное как предмет изучения и размышления у любителей драматической литературы. Думаем, Афинский театр был увлечен музыкальной цельностью и законченностью «Пер-
428
сов», простотой и грандиозносстью внутреннего хода событий, изображаемых в этой трагедии. В ней почти все — прямое достояние хора; могучая хоровая основа в редкой из античных трагедий, нам известных, так ощутима, так выразительна, как в «Персах». В спектакле Афинского театра возникало впечатление, и оно было всячески оправданным, что хор творит эту трагедию, изводит ее из собственных недр, Из глубины хора вырастали на сцене драматические эпизоды, хор как бы выносил на поверхность зрелища отдельные драматическиефигуры и действия, связующие их.
В трагедии Эсхила трактуется знаменнтая победа, одержанная греками в битве у острова Саламип с полчищами персов, вторгнувшихся в Грецию. Идея справедливой войны хорошо была известна грекам — собственно, ею воодушевлена была «Илиада» Гомера. У Эсхила тот же пафос справедливой войны, которую греки ведут с персами, пришедшими в чужую страну ради того, чтобы разорить ее и .поработить ее. На стороне греков — святое право, на стороне персов — грубейшее насилие. Этим еще далеко не исчерпана коллизия греков и персов, коллизия двух миров, двух способов понимать мир и жить в этом мире. По Эсхилу, война была для греков глубоким актом самопознания. Чтобы победить персов, греки должны были стать самими собой, овладеть собственной самобытностью. Они нуждались в некоем самоочищении, в «катарсисе», нужно было устранить в самих себе все наносное и грубое, что отчуждало греков от их же собственной внутренней природы. Ведь у них была и внутренняя общность с персами, и она-то вредила им. Персы были варварами, но и греки не были внутренне безопасны перед этой стихией. Еще много позднее историк Фукидид писал: «Можно было бы указать и на многое другое в образе жизни древних эллинов, чем они походили на нынешних «варваров». В варварском мире персы были бесконечно сильнее греков; чтобы победить персов, грекам нужно было открыть в самих себе совсем иное начало, антиварварское, только им одним принадлежавшее. Нет сомнения, что Эсхил греко-персидскую коллизию сводил к борьбе свободного народа, воспитанного на началах демократии, с народом, которым управляют варварски-деспотически. На одной стороне были люди, привычные к самостоятельности, на другой — персидская стадность.
429
Греки отличались инициативой и отвати, персы же хотели их подавить несметными своими количествами. Победи греков — победа личной свободы над громадою рабства. Победа греков — превосходство духа над косной и тупой материей, над массивом громоздких и неуклюжих персидских кораблей, над массивом тяжелого и малоповоротливого персидского вооружения. Победа греков были чем-то несравненно большим, чем только событием в истории политической и военной. Она имела также значение в жизни духовной, и именни поэтому Эсхил прославил эту победу.
Чтобы создать образ той колоссальной силы, которую Ксеркс двинул против Греции, хор у Эсхила целыми тучами называет имена воителей и полководцев, вместе с Ксерксом ушедших в поход: Артафрен, Мегабат, Астасп, Амистр, Артембар, Масистр, Фарандак, Имей, Сосфап, Сусискап, Пегастаг, Арсам, Арномард, Митрогат, Арктей, Фарибид, Мардон, Эти имена появляются во вступительной песне хора, в пароде. А когда к концу идет оплакивание погибших, то мы слышим еще и другие имена: Сузас, Пелагон, Псамис, Датам, Агдабат, Фарнух, Севалк, Лилей и Гистихмас. Имена эти были дики эллинскому слуху. Если произносят имя собственное, то представляется чье-то человеческое, лицо. Здесь даются имена, а лица едва ли могут возникнуть. Их слишком много, даже отличительные признаки не помогают, индивидуальности названы, сами же индивидуальности в нем отсутствуют. Мы как бы слышим клич и не слышим отклика, Все эти имена по настоящему своему значению равносильны цифрам. Имена приводятся, чтобы дать понятие о цифрах, которые повлек за собою Кеерке, начиная свою войну. Лица каждый раз поглощаются числом; где мы ждем, что будет лицо, там появляется ужасающая размерами своими общеперсидская безликость, там льется и изливается нечто грозно-безразличное.
Действие трагедии Эсхила происходит в столице персидского царства, у гробницы царя Дария. На сцене варварская пышность, богатые шелковые одежды, излишества головных уборов, широких рукавов и поясов. Жесты и движения то чересчур замедленные, то экстатические. Очерк и силуэты тел, голов несколько растрепанные. Но три всем том эпизоды с персами обладали все же внутренней стройностью, угадывались мера и
430
симметрия сквозь все их нарушения, Это были персы, какими их могли бы мыслить греки, персы соответственно эллинским представлениям о них, персы, хотя и с трудом, но введенные в пределы эллинского стиля, стройных норм, преобладающих в нем. Таким образом, греки, которые отсутствовали в спектакле физически, присутствовали в нем духовно. На сцене, была, как и должно, Персия, но изложенная на художественном языке эллинов, прошедшая сквозь их эстетику.
Все зрелище подвержено было ритму. Помимо малого ритма речей хора и действующих лиц в спектакль вошел еще большой через все и всех шагающий ритм, пронизывающий драматическое действие, и переживания действующих лиц. Мы могли оценить, как велика заслуга и сила театрального зрелища, в котором нам дано ощутить отчетливо, где приступ, где разгон развития, где центр его, где спад. Центром в спектакле послужило, в соответствии и требованиями текста, явление покойного царя Дария, поднявшегося из своей гробницы. Оно подготовлено было с великим искусством. Хор находился в мрачном возбуждении, он пригнулся к земле, странно и лихорадочно действуя руками; могло казаться, что он разгребал землю, кого-то и что-то выгребал оттуда, — это хор выкапывал Дария из его могилы. Где-то в глубине гробницы возникла тень, какая-то страшная внезапность была в ее появлении. Тень двинулась вперед, огустела, уплотнилась, и шеред персами, перед зрительным залом стоял Дарий, весь золотой, с золотым лицом, с золотыми устами, которые шевелились, — с устами азийского Хрисостома. Это была ожившая золотая маска, одна из тех, которые древние народы накладывали на лица своих покойников. Золотая тень Дария была одновременно самым общим, самым сжатым выражением золота и богатства Персии, Она была чем то усиленно умноженно-материальным и в этой материальности своей призрачным. Тень Дария пришла к живым, так как хор хотел этого, так как хор призвал ее. Золотой Дарий со своими учительными словами к народу явился как мираж особого рода; он воплошал силу желания, колдовство желания, и поэтому казался исполнением его, превращением его в осязаемую действительность.
В попытках нарушить границы между миром живым и миром загробным с точки зрения античных греков содержалось нечто варварское, глубочайшим образом
431
антиэллинское. Так подсказывал текст Эсхила, так дано было в спектакле Афинского театра. Вызывании Дария из могилы переживалось в спектакле с оттенком чего-то недолжного, непростительно преступного. При всем исступлении хора, действия его обладали той сокровенностью, что бывает присуща дурному делу, Греческий миф и греческая поэзия лишь очень редко и малоохотно вторгались в царство смерти. Греки предпочитали не беспокоить живых со стороны этого царства, не держать с ним связей. Орфею позволили вынести свою Эириднку из страны мертвецов, но оборачиваться ему не полагалось, это связало бы его ненужными предосудительными связями с. замогильной тьмой. Современный эллинист Джордж Томсон, автор многих книг по истории греческой культуры, часто в них говорит об особой расчлененности и размеченности мира в представлениях древних греков: у них имела особое значение идея жребия, равенства долей, «мойр», распределения в самом общем его смысле. — весь мир подлежал закону строгих пропорций, что дано на одной стороне бытия, не могло переходить на другую, границы между жребиями и долями не подлежали нарушению. Джордж Томсон пишет в одной из своих книг: «Когда Аполлон защитил Ореста от Эринний, они упрекали его в том, что он похитил у них их жребий, который они получили от Мойры при рождении. Асклепий был наказан на том же основании, стараясь воскресить мертвого, он переступил границы Мойр Гадеса»[333]. Сказанное Томсоном чрезвычайно поучительно. Греки смотрели на жизнь и смерть с точки зрения разграничения прав: свои права у смерти и у подземного мира — Гадеса, свои права у жизни. Воскрешение и всякая некромантия — незаконный захват того, что по праву должно числиться за смертью. Хотя защита формально и ведется со стороны смерти, в сущности это стойкая зашита интересов жизни, отъявленное язычество, не желающее, чтобы его смущали, смешивая живую жизнь с делами царства мертвых. Нам же это очень понятно через Пушкина, у которого, по историческим условиям, чрезвычайно бодрым и активным было
432
светское его сознание, и в этом смысле языческим, антикоподобным. В «Каменном госте» и в «Пиковой даме» Пушкин наказывает своих героев, нарушителей границ между жизнью и смертью, святотатцев именно с сугубо светской точки зрения.
Воскрешение Дарий в самом сгущенном виде предъявляло нам персидское варварство — варварство духа, ведающего одни бесформенные массы и количества, чуждого внутренним соотношениям, точно очерченным пропорциям и гармонии, всего, что делает мир стройным и по-человечески осмысленным. Воскрешая Дария, персы творят насилие над .природой вещей, оскорбляют меру и законы, царящие в ней.
Спектакль заключен был относительно скромным появлением Ксеркса, злосчастного полководца, разгромленного в Греции, потерявшего там необозримые свои полки. Не было усилий выразить поражение во всей его чрезмерности, не было слишком назойливых красок бедствия. Думаем, диктовалось это музыкальной логикой всего спектакля. Катастрофа, постигшая Ксеркса, была велика и давала повод к мрачному — мрачнейшему ее живописанию, но Ксеркс вышел к зрителям на музыкальном спаде. Его катастрофа получила свое музыкалыюе выражение и крайне высокое, еще задолго до выхода его, поэтому неизбежным было представить наконец прибывшего домой Ксеркса со всяческой художественной умеренностью. Логика самих событии как таковых, логика голой фабулы диктовала режиссеру очень громкое окончание спектакля: ибо тот Ксеркс, о беде которого столько было речей, показался наконец на сцепе. С этим спорила логика музыкальная, для которой Ксеркс, столь поздно явившийся, был уже кем-то, сколько можно отмеченным и давно пройденным, Режиссер сделал выбор и поступил, как велела музыка. Афинский театр, взявший на себя служение духу музыки, остался верен ему на протяжении всего спектакля, от вступительной части и до развязки,
ДОН-КИХОТ И ДРУГ ЕГО САНЧО ПАНСА
(К спектаклю Ленинградского академического театра имени А. С. Пушкина)
Роман Сервантеса нелегко поддается театру. Великая эпопея о Дон-Кихоте богата зрелищными эпизодами, в ней очень многое в переносном смысле является «театром», представлением, игрой — таковы, например, все эпизоды пребывания Рыцаря Печального Образа при герцогском дворе, таков, наконец, и основной замысел эпопеи: ведь для Дон-Кихота мир, весь целиком,— сплошная видимость, волшебный спектакль.
Но одно дело — зрелище, другое — драма и драматургия. Эти понятия только частично покрывают друг друга. И роман Сервантеса, эпически свободный, беззаботный в отношении времени и пространства, отдаляющий свои смысловые концы большими расстояниями, подчиняется совсем другим, иным законам, чем поэтика драмы.
М. А. Булгакову удалось, однако, построить драму о Дон-Кихоте. На сцене Ленинградского академического театра имени А, С. Пушкина появились не иллюстрации к знаменитому роману, а показан был законченный драматический спектакль, очень сосредоточенный, очень точный и поэтому просто, целостно, без каких-либо потерь и недоразумений воспринимаемый зрителями. Конечно,
434
многое из романа Сервантеса осталось за скобкою пьесы Булгакова, иногда это были эпизоды, от которых отнюдь не следовало отказываться. И все же общее сокращение не только фабулы Сервантеса, но и сокращение, коснувшееся идейных мотивов, художественных оттенков романа «Дон-Кихот», было неизбежным. Пострадал и стиль Сервантеса — широкий живописный стиль Ренессанса. Опять-таки: драма здесь могла дать только гравюрный оттиск, только подцвеченную гравюру. Краски у Булгакова, хотя их и не очень много, всегда выразительны. Текст «Дон-Кихота», которым располагал театр, уже сам по себе подсказывал постановщикам строгость и сдержанность, И действительно, режиссер В, и, Кожич создал спектакль благородный, скромный и глубоко обдуманный. Во всей постановке нигде не угасает внимание к самому главному — к образу самого Дон-Кихота, к его судьбе и его значению. Иногда кажется, что режиссура еще не все доработала, не все досмотрела из деталей, окружающих это главное. Кажется, что постановщик слишком близко держался к нейтральной теме и к центральным героям и поэтому несколько пренебрег тем, что делается по бокам. Очевидно, «Дон-Кихот», этот в основном, решающем, уже чрезвычайно удавшийся спектакль, в своих деталях еще будет развиваться,
В истории сценических успехов Н. К. Черкасова и Б. А. Горин-Горяинова спектакль «Дон-Кихот», вероятно, не будет забыт.
Уже первые два-три штриха в этом спектакле дали верный и стойкий тон. Столик с книгой; горит свеча. Дон-Кихот, обвив книгу рукой, заснул над нею, Он заснул сидя, маленький, худой, жалкий: таким он кажется в этой беззащитной позе. Дается как бы лирическое введение в характеристику героя, после чего проснувшийся, бодрый Дон-Кихот поднимается во весь рост и стоит на сцене, прямой, длинный, Такой полный неожиданности переход очень хорош и содержателен, Сначала он вызывает удивление, а затем становится ясно, что этот Дон-Кихот и есть тот самый, которого мы ожидали. Он воинственнее и важнее, чем показался на первый взгляд. Но лирическая характеристика, которая была придана ему вначале, не будет отброшена, она останется, сколько бы величия и значительности ни было в последующих сцепах похождений героя.
435
Черкасов в роли Дон-Кихота «очень похож», Вряд ли возможен лучший портрет для Рыцаря Печального Образа. Между актером и зрителем возникают размолвки, но временам напряженные, так как актер поступает со своей ролью смело и самостоятельно, но в конце концов зритель соглашается с актером. По окончании спектакля Дон-Кихот, исполненный Черкасовым, остается в памяти как бесспорное изображение героя Сервантеса.
Таков путь Черкасова в этом спектакле: от внешнего сходства к сходству внутреннему, к которому он все вернее приближается; если у него и есть отклонения, то они только кажущиеся, для Черкасова они — способ дойти до полной тождественности с сутью сценического образа.
По замыслу спектакля и но замыслу Черкасова, в Дон-Кихоте пет ничего комического. Дон-Кихот не смешон. Он несчастен, он обманут, но он всегда прав. В изображении Черкасова Дон-Кихот совпадает с замыслом Сервантеса при всех отступлениях в подробностях. Я думаю, здесь особенно сказывается разница между законами драмы и романа. У Сервантеса Дон-Кихот попадает иногда в унизительные положения, он бывает слаб, у него, аскета и идеалиста, появляется иногда обыкновенный, хороший аппетит, и тогда он с завистью поглядывает на козьи сыры Санчо Пансы; великому правдолюбцу случается иногда и соврать, как, например, в истории с пещерой Монтесиноса, когда Дон-Кихот умышленно рассказывает о том, чего не было. Роман другое пространство, чем драма, В романе эти подробности имеют другое звучание, в романе они находятся в другой пропорции с идеальной характеристикой Дон-Кихота. Если перенести их в сжатое пространство драмы, они окажутся крупнее, самостоятельнее, чем это нужно было Сервантесу, они станут бить в глаза и смущать. Поэтому Черкасов поступил правильно, очистив своего Дон-Кихота от быта и от слабостей быта, Черкасов от начала до конца играет Дон-Кихота «безумного, но мудрого», каким его создал автор. В тексте Булгакова и во всем спектакле отчетливо подчеркнута мораль, носителем которой является Дон-Кихот. Он с самого начала появляется как Алонсо Кихана, по прозвищу Добрый, Речь о золотом веке, которую произносит Дон-Кихот, его спор в герцогском дворце со
436
злобным духовником герцога, наставления, обращенные к Санчо Пансе, перед тем как тот отправляется на свой губернаторский пост, — все это программная часть роли Дон-Кихота, тезисы той справедливости и тех человеческих прав, во имя которых Дон-Кихот совершает свои подвиги. Важно, что спектакль не растерял этих идейных слов пьесы, ее «титров», важно, что они оказались в спектакле на видном месте. Еще важнее, что весь зримый образ Дон-Кихота в спектакле воплощает высокие идейное призвание, им носимое.
Дон-Кихот наивен. Черкасов, сочувствуя, любя, играет эту наивность. Человек имеет право быть наивным. Не его вина, если общественный мир не поддерживает этой наивности, готовит ей грубые испытания. Мир должен быть устроен так, чтобы веши и названия сходились друг с другим, чтобы люди и на самом деле были теми, кем они кажутся и кем они могли бы быть. Ложь, раздвоение, криводушие, насилие, уловки, притворство — все это для Дон-Кихота ни на одну минуту не может быть признано подлинной действительностью. Он поступает так, как если бы золотой век уже наступил и общественное зло потеряло силу, Он, где и как может, способствует золотому веку, не замечая, как мало покамест союзников у социальной правды, Покамест убеждения Дон-Кихота всего лишь идея, мысль, они еще не овладели действительностью, они живут в самом ДонКихоте, по-своему в Санчо Пансе, быть может, еще в каких-то людях, но настоящая жизнь для этих убеждений еще впереди. В изображении Черкасова в роли ДонКихота есть историчность, относительность, он близок нам, он и где-то вдалеке от нас. Дон-Кихот — только философ гуманизма, и это от истории; а эти его попытки сделать гуманизм простой жизненной практикой, при всей их наивности и беспомощности, все же придвигают его к нам, Философ, взявшийся за картонный меч, философ, которому суждено быть только философом, — таков Дон-Кихот у Черкасова. Мы его жалеем, так как он не умеет перейти границу чистой мысли, мы его любим, так как одной мысли ему мало, он хотел бы превратить ее в реальность. Образ Дон-Кихота у Черкасова лиричен и интеллектуален. В спектакле хорошо показано это лирическое значение Дон-Кихота и его миссии для окружающих. Родственники Дон-Кихота, соседи в Ламанче, бакалавр
437
Самсон Карраско ценят в бедном идальго не только простого доброго старика, но им известна и его духовная стоимость, они поэтому как умеют берегут его. И вот в ореоле этой нежности, возбуждаемой Дон Кихотом, постоянно перед ними его мысль, его интеллектуальное призвание.
Во внешнем облике Дон-Кихота у Черкасова особенно подчеркнута голова. В этой старческой голове, с большим открытым лбом, с серебряными летящими волосами, больше всего жизни и движения. Больное, нескладное, почти призрачное тело, тело, которое не служит, и голова, в которой сосредоточена вся энергия этого человека. На черкасовском Дон-Кихоте как-то особенно жалобно висят латы, он старается освободиться от них, как только возвращается к себе домой. Не только меч Дон-Кихота выглядит бутафорским — бутафорской выглядит и та рука, которой Дон-Кихот берется за этот меч, У Дон-Кихота руки и тело теоретика. Руки связывают с внешним миром, у Дон-Кихота должны быть слабые, руки. Голова у черкасовского Дон-Кихота время от времени кажется живущей отдельно. Это чуть-чуть фантастично: как будто бы на узких плечах, взобравшись на длинное человеческое тело, как если бы то был для нее насеет, уселась печальная седая птица.
В спектакле ясно было, кто такой Доп-Килот, за что он воюет и недостаточно были переданы другие мотивы фабулы и Сервантеса: почему и с кем воюет Дон-Кихот. Мало было .в спектакле разбойничьей жадной и пышной Испании XVI столетия, Испании с ее великими контрастами нищеты и богатства, с ее инквизиторами и виселицами, с ее набожностью и се смертными грехами.
Художница С. М. Юнович больше дала географическую Испанию, серо-желтую, выжженную солнцем, чем социально-историческую Испанию, современницу Сервантеса. В самом тексте Булгакова отсутствуют такие эпизоды романа, как эпизод с мальчиком и с его хозяином, эпизод с каторжниками, где особенно отчетливо выведен окружающий Дон-Кихота озлобленный социальный мир. Всего содержательнее в этом отношении была в спектакле сцена на постоялом дворе, где Дон-Кихот сталкивается с бытием как оно есть, и здесь видно, с кем Дон-Кихот имеет дело в своих философских странствиях. В этой сцене, быть может, нужна еще большая рельефность обстановки и персонажей, но в
438
основном она проводится постановщиком и актерами очень умно и оживленно. Убогая корчма, с полуразвалившимся сараем, голый двор, и сюда въезжает ДонКихот с Санчо Пансой. Для Дон-Кихота это замок, а трактирщик — кастелян. Трактирщик представлен не толстым и громадным, как бывает обыкновенно в этом амплуа, а маленьким, сухоньким, вертлявым. На сцене маленький остервенелый лавочник. Грубый погонщик мулов сговаривается с грубой девкой Мариторнес о визите к ней на ночь, Дон-Кихот по-рыцарски учтив с Мариторнес, произносит перед ней витиеватую речь. Дон-Кихоту удается чем-то тронуть этих людей, в его присутствии им неловко и стыдно за свой животный быт. Сцена у корчмы разыграна как победа Дон-Кихота. Призрак победы появляется, когда Дон-Кихот покидает постоялый двор, Он не платит по счетам трактирщика, он прибегает к праву странствующего рыцаря. Эти собравшиеся здесь люди и сам трактирщик не смеют тронуть Дон-Кихота: он неуязвим для них, и он быстро исчезает в воротах, ведущих на улицу. Хотя все набрасываются потом на бедного Санчо Пансу, который пробовал подражать своему господину, но за одну минуту до этого странствующий рыцарь, не признающий трактир, трактирщиков, денег, дешевой любви на сеновале и всякой другой скверной прозы, был великой действительностью, и все онемели перед ней. Дон-Кихот восстал против обыденности быта, с его коммерцией, с его тупостью и как моралист, и как художник. Постоялому двору, после того как здесь побывал Дон-Кихот, тоже немножко стыдно, зачем он не замок, зачем он некрасив; корчма как будто начинает замечать свое убожество и свою вульгарность.
В сцене на постоялом дворе самый выразительный частный эпизод приготовление Дон-Кихотом бальзама Фьерабраса. Хороша вся мизансцена: ворожба ДонКихота, очередь любопытствующих и жаждущих отведать волшебный напиток.
Черкасов удивительно манипулирует своей большой поваренной ложкой: он держит ее, поворачивает ее каким-то необычным образом, у него жесты чудодея и артиста. У черкасовского Дон-Кихота жесты, способные переродить вещь, к которой они относятся, Об этом бальзаме Фьерабраса рассказывают, что это простое снадобье. Очень хорошее против чесотки, оно верно
439
действует ни мулов. Когда же Дон-Кихот берется зя аптекарскую кухню, то всякая проза улетучивается. Быт не смеет притронуться к Дон-Кихоту. Наконец люди отведали бальзама, Происходит нечто страшное: их рвет, у них дьявольские корчи. Дон-Кихот глядит на них с недоумением, У него поза, поворот головы, взгляд удивленного естествоиспытателя, старого профессора, который не может понять, почему сегодня опыт в его лаборатории не удался, тогда как годами не получалось как нужно. Черкасов здесь пользуется актерской метафорой: один сценический образ наложен на другой, мимика и жест переносятся с одного сценического положения на другое, по смежности, по сходству. Вся эта сцена с неприятным эффектом от бальзама была сыграна в условных тонах. Это, разумеется, правильно. Сервантес, как известии, не боится сомнительных подробностей, но впечатление от всего рассказа у него всегда непогрешимо эстетическое. Жаль, что режиссура не устранила элементов натурализма в эпизодах драк и потасовок. И здесь условность выровняла бы стиль спектакля.
У П. Л. Горин-Горяннова роль Санчо Пансы оказалась редкостно удачной, Артист вошел в свою роль так, будто бы она была сделана ему по специальной мерке. С первого шага на сцене ожил самый естественный, самый правдоподобный Санчо Пянса. В игре Горин-Горяинова много непосредственного, интуитивно безошибочного. Гёте где-то говорит, что если петля попала на первую пуговицу неверно, то и дальше все будет застегнуто косо, С Горин-Горяиновым случилось обратное: он застегнул удачно на своем Пансо первую пуговицу, и вся роль пришлась как раз. В этом Санчо Пансе все приятно и симпатично. Горин-Горяинов избежал комизма резкого, отрывистого, он играет своего Санчо с полным уважением к нему, облагораживая роль.
Как и его хозяин, Санчо не смешон. Санчо веселит: в нем такой избыток юмора, доброго расположения, что весь он освещен этим юмором. Горин-Горяинов понял значительность своего Санчо, и роль эта на сцене раскрывается только постепенно. Даже в интонациях Санчо есть динамическая последовательность: три «нет», три отказа трактирщику в сцене на постоялом дворе, одно другого увереннее. Полнее всего вырисован Санчо у Горин-Горяинова в сценах на острове Баратария. Его ис-
440
пытывают; способен ли он управлять островом. В эпизодах «Соломонова суда» Сянчо нисколько не беспокоится, какое он здесь производит впечатление на окружающих; он старается не себя показать, а вникнуть в суть разбираемого дела. С живым вниманием он вглядывается в посох, который передает один из тяжущихся другому; решение приходит к Санчо оттого, что он действительно хочет добиться правды. Второе дело Санчо разбирает гораздо горячее: он почувствовал вкус к своим новым занятиям и окончательно поверил, что способен судить и управлять как нужно. Главы об острове Баратария у Сервантеса очень важны: здесь Сервантес как нигде возвышает своего героя, он показывает, что крестьянин Панса и может и должен управлять государством; самая драгоценная привилегия господствующих классов здесь оспаривается. Горин-Горяинов весь слился с замыслом Сервантеса. Советский актер превратил в простую наглядную истину вещи, которые Сервантес мог преподносить своим современникам только как смелый парадокс. Санчо Панса великий народный герой; из старых классиков никто не может сравниться с Сервантесом по силе симпатии и реализма, вложенных в этот народный образ. Горин-Горяинов знает, что в этом спектакле ему доверены настоящие ценности, и обращается с ними осторожно. В тексте Булгакова Санчо Панса лишен некоторых своих непременных атрибутов: пословиц, своей юмористической болтовни. Горин-Горяинову удается возместить мимически то, что у Сервантеса возлагается на живую речь. Есть у артиста позы и жесты, которые воспринимаются как итог, как синтез всего Санчо Пансы; бойкая походка, руки, заложенные в карманы, полная и беспечная независимость, «достоинство человека» в его непринужденном, чуть-чуть комическом образе.
Постановщик выдвинул в спектакле чрезвычайно важный мотив: дружбы, товарищества между Дон-Кихотом и Санчо Пансой. Черкасов и Горин-Горяинов на сцене составляют естественное дополнение друг к другу. Санчо Панса, конечно, скептичнее своего хозяина, он довольно флегматично повторяет приподнятые реплики Дон-Кихота, но здесь есть граница, перед которой Горин-Горяинов разумно останавливается. Да, в Санчо Пансе больше реализма, больше думы о насущном; а все-таки этот крестьянин Санчо Пянса не лавочник, не
441
вульгарный практик. Он ездит с Дон-Кихотом по свету прежде всего потому, что это интересно. Большая жизнь, которая видна из этих странствий, не может не нравиться умному Санчо Пансе. Горин-Горяинов — хороший спутник и товарищ Дон-Кихоту, он по-своему увлечен его приключениями. Но дружба эта развивается и в нечто большее, Санчо Панса сочувствует и идеальной цели этого путешествия; он человек одной правды с Дон-Кихотом, хотя и понимает эту правду трезвее и материальнее. Хорош был эпизод перед рампой, когда в одном углу сцены Дон-Кихот дает советы Санчо Пансе, как ему быть губернатором, а после в другом углу Санчо Панса, соответственно, тоже наставляет своего хозяина. Это было отступление от буквы Сервантеса: в романе советует только Дон-Кихот, но это было в духе и в смысле романа.
Пьеса Булгакова построена как триптих: три выезда и три возвращения Дон-Кихота «из ворот своего безумия», Последнее возвращение самое тяжелое и печальное: разбитый на поединке бакалавром, отрекшийся от своего рыцарства, Дон-Кихот даст обещание победителю, что запрется у себя в Ламанче. Очень хороша сцена, когда Санчо Панса целует родную землю и радуется, что снова увидел ее, а Дон-Кихот стоит молча за открытыми воротами и не торопится входить: ему не хочется признать свое поражение, он оттягивает минуту, когда перед ним окажется старая знакомая повседневщина его деревенского дома.
Сцена смерти Дон-Кихота поставлена и сыграна с настоящим вдохновением. Она полна печали. Дон-Кихот, шатаясь, идет через сцену, он весь темный, и вокруг темно, и только освещены серебряные его волосы и голова — большая усталая голова, которой пора на покой.
Дон-Кихот лежит мертвый. Санчо наклоняется над ним: он еще не верит в смерть. Санчо тихонько насвистывает своему хозяину, — мы узнаем этот свист: он был в первой встрече Дон-К.ихота с Санчо в первой картине, это был их условленный знак. Санчо будит хозяина, он еще надеется на этот сигнал странствий и боевых приключений. Сцена напоминает старую бурлескную и трогательную солдатскую песню: «Служ-или два товарища в одном, в одном полку». По песне, один товарищ был убит в сражении, а другой не верил, что все
442
кончено, наивно и упорно все еще старался привести убитого в чувство.
Академический театр драмы имени А. С. Пушкина этим спектаклем приобрел в свою духовную собственность одно из величайших произведений мировой поэзии. Перед тысячами зрителей пройдет восстановленный «Дон-Кихот», восстановленный с той любовью к смыслу, содержанию, к существу мировых памятников, на которую способны наши художники. И театр, и мы приобрели новое истолкование великой эпопеи об утопическом гуманисте, далеком предшественнике гуманизма нашего, который не утопичен, не знает неразрешимых трагедий и с сочувствием оглядывается на менее счастливых героев прошлого,
1941
«КОРОЛЬ ЛИР», ПОСТАВЛЕННЫЙ Г. М. КОЗИНЦЕВЫМ
Постановщик Г. М. Козинцев в специальной прекрасно написанной брошюре изложил свой взгляд на «Короля Лира» и принципы подготовленного им спектакля. Козинцев — человек многих дарований: режиссер большого опыта в театре и кино, он также самостоятельный ученый, литератор с собственной законченной манерой. Многое в его брошюре убеждает, но есть веши, которые он в Шекспире зачеркивает, и это вещи большого значения; опустив их, нельзя не обеднить великую трагедию и нельзя не обеднить игру актеров, Козинцев низко ценит смысл завязки «Короля Лира». Как извстно, толкователей всегда поражала эта завязка, Козинцев считает, что раздел царства, предпринятый Лиром, не заключает ничего необычного, что Лир устал от возраста, от власти и поэтому передает государство дочерям. Так это и было на подмостках Большого драматического театра: после маленькой сцены с шутом за шахматами Лир с высокого публичного места деловито и спокойно объявляет о своем отречении. Шахматы знаменовали приватную жизнь, которую отныне Лир облюбовал для себя, взвесив свое положение и свои возможности. Однако шут потом твердит своему королю,
444
что отказ от королевства был безумием, и, думаем, шут рассуждал справедливо, хотя он и несколько опоздал с советом.
Да, Лир, безумен уже с самого начала, с первого своего поступка в трагедии. Замечательнее же всего, что в этом безумии есть своя правота, Современники Шекспира охотно изображали безумие как мудрость, как истину, как высший ум. В кругу этих представлений находится и «Дон-Кихот» Сервантеса. Лир, как и Дон-Кихот, делает вещи сами по себе естественные, и если они становятся нелепостью и преступлением, то виноват исторический мир, виноваты время и реальные условия, в которых действует Лир. Как уверен Лир, он царствует потому, что заслужил царствовать, сначала заслуги, потом власть, а не обратное. Этот старый властитель заслужил свою корону, он естественно возвысился в своем народе, власть ему дана как лучшему. Преданность Кента или Глостера не имеет в себе ничего холопского; они знают, что Лир стоит своего места, они привержены не к титулу, а к человеку. Лир наивен, он плохо замечает, что творится вокруг. Ему неясно, что он с заслугами своими составляет скорее исключение, чем правило. Отказ от короны это благороднейший и наивнейший из поступков Лира. У него честная иллюзия героя, будто люди не перестанут чтить его попрежнему и после того, как он расстанется с королевскими регалиями. Лир не дорожит внешними признаками власти, так как убежден, что вся сила в нем самом. Он верит в естественную иерархию. «Каждый вершок король», — говорит о себе Лир. Королем его сделала природа, поэтому искусственные опоры ему не нужны. Трагедия в том, что Лир ошибся — правда ошиблась. Напрасно в спектакле шут на веревочке тащит по полу сброшенную корону и напрасно он заставляет публику смеяться над этой короной, Шут идет против Шекспира и против истории! Ведь это же есть трагедия Лира, что корона оказалась вещью более важной, чем он думал. Нельзя было бросать ее. После отречения Лир остался тем же Лиром, но люди больше не узнают его.
В русском фольклоре есть прекрасная параллель «Королю Лиру». В предании о гордом Аггее рассказано, как царь оставил платье на берегу, чтобы переплыть озеро, и как это платье унесли и царь остался голым. Напрасно Аггей уверяет встречных, что он царь в своей
445
стране. Все смеются над голым человеком, все привыкли узнавать царя по платью. Сама царица отказывается от него. На площади Аггея бьют батогами за самозванство. Он уходит с нищими, а потом много времени спустя ему случается вместе с нищей братией получить угощение во дворе царского дома.
Трагедия Шекспира полна народной иронии, платье делает человека, платье делает короля. Дуализм лица и положения, человека и места дает завязку шекспировской трагедии. Для Шекспира трагичен строй, который не исходит из человеческой личности, не в ней ищет для себя основания и оправдания, Власть, влияние, управление попадают к случайным людям, к худшим людям, которые поднялись благодаря рождению или богатству. Иерархия в обществе отделилась от ценности людей, общество потеряло общественную мораль, превратилось в случайное сожительство, оно поощряет в людях низменное, низкое, грубое и оставляет без последствий благородные поступки или же карает за них, Гонерилья, Регана и Эдмунд — типические лица; Лир и Корделия — обломки древней правды, которая не обязательна более и вся уже растрачена.
Козинцев поставил трагедию в тонах чрезвычайно обобщенных. Эпоха в спектакле не датирована. Это очень правильно. В хрониках своих Шекспир — точный историк. Иное дело «Лир» (или «Гамлет», или «Макбет»). Здесь у Шекспира другой язык — универсальный, мифологический. «Король Лир» — миф цивилизации. Кончается героический век и наступает цивилизация, с ее антагонизмом классов, с ее властью вещей над людьми и с ее моральным упадком, Шекспир, не задерживаясь на мелочах и переходных оттенках, изображает цивилизацию в ее могуществе и в нравственном се безобразии; Козинцев с необычайным красноречием воспроизводит в спектакле этот образ дикого века, внушительного по своему блеску и материальной красоте, звериного, враждебного людям по внутренним силам, которые он привел в движение, Художник Н. И. Альтман своей первоклассной театральной живописью оказался неоценимым сотрудником режиссера, Декорации и костюмы Альтмана стоят высоких похвал — это краски Шекспира и трагедии. Живопись Альтмана соединяет пышность со смелостью и фантазией, и, что важнее всего, этой пышности свойственно трагическое выраже-
446
ние. Постановщик и художник пользуются декоративными мотивами средневековья. Шекспир мог представить железную цивилизацию только в образах и лицах феодальной эпохи, свободно передвигал их и наделяя их всемирно-историческим обобщенным смыслов. В этом отношении постановщик и художник последовали за Шекспиром. На сцене было некое расширенное универсальное средневековье, поднятое до значения минувшей жизни вообще, Огромные безликие статуи железных рыцарей стояли по краям сцены, недоброжелательные, страшные, как всякая слепая сила, отделившаяся от людей и безосновательно сохраняющая человеческий образ. Дворец Гонерильи был красный, кирпичный, цвета свежей крови. Лир с шутом бежали из этого дворца, и за ними обоими затворялась высокая дверь в три человеческих роста. Жилище, утварь, архитектура здесь преобладали над людьми. Всюду господствовало невеселое великолепие, Что-то нежилое, человеку неприязненное было даже в маленьких сценических эпизодах. Интимные сцены режиссер вынес на улицу. На каменном кирпичном ложе, под золоченой архаической богородицей, на каменном дворе возлежала Гонерилья, и Освальд, более похожий на подмастерье палача, нежели на парикмахера, расчесывал медно-красные волосы своей госпожи, Когда по сцене прошла охота короля Лира, черное с красным, когда пробежали страшные борзые и охотники, согнувшись, едва поспевали за ними, появилась тень Брейгеля Старшего, великого трагического живописца, быть может, самого родственного Шекспиру гения во всем изобразительном искусстве. Превосходна и тоже в брейгелевском духе была процессия колодников, которых гонят по степи перед королем Лиром люди с алебардами; процессия возникала где-то в глубине сцены из утреннего тумана и снова исчезала в чаду и сырости. Битва между войсками Корделии и Эдмунда была представлена тоже смутно, сквозь транспарант, и неопределенностью своих очертаний, неизвестностью подробностей впечатляла сильнее, чем если бы она была поставлена открыто и отчетливо. Колодники, варварские сражения, жестокое богатство, звериные нравы, весь моральный быт трагедии режиссер и художник представили как серию тяжелых снов, ненатурально яркой небывальщины, которая тем не менее заставляет с собой считаться, ибо это явь, в каждом по-
447
казании своем неопровержимая. Режиссер и художник совпали с мыслью Шекспира. Шекспир считает, что царство Гонерильи и Реганы — извращенный полудействительный мир. Подобно тому, что находим мы в народной поэзии, Шекспир признает действительностью лишь ценности, созданные трудом и творчеством человека, от человека исходящие и на благо его направленные. Если украденное платье меняет судьбу человека, если гордый Аггей вчера в горностае был царь, а сегодня без горностая он нищий, то отсюда, по фольклору, следует, что все царство Аггея строится на призраках. Точно так же у Шекспира. Человеческая, заслуженная власть Лира это действительность, а фетиши власти и палачество Гонерилыи и Реганы — это морок.
Козинцев с силой, с пониманием настоящего театрального мастера вывел на сцену жестокий мир шекспировской трагедии. Будь это все, что Шекспир требует, мы имели бы непревзойденный шекспировский спектакль. Но жестокий мир — всего лишь половина трагедии Шекспира и даже меньшая половина. И спектакле не получила полного обозначения другая сторона трагедии, весьма важная и поэтическая: противоборство, война войне, героическое сопротивление, которое в трагедии Шекспира оказано жестокому веку. Все это связано с режиссерским пониманием роли Лира. У Шекспира противоборство и есть содержание этой роли, именно Лир восстает против железной цивилизации, в которой он участвовал, наполовину чуждый ей, и которую он понял только тогда, когда проявил к ней незаслуженное доверие. Козинцев ставит «Лира» без Лира. У него Лир и не должен являться носителем добрых героических начал, он был такой же, как все, и только несчастье сделало его более чувствительным ко всеобщему злу и страданиям. Такое толкование почти целиком выводит за пределы трагедии Шекспира ее положительное героическое содержание, В спектакле хорошо играли А. И. Лариков (Кент) и Г. М. Мичурин (Глостер). И все-таки у них не было центра: центр этой партии «добрых людей» — в Лире, старом короле. Кент и Глостер остались в спектакле, как два флигеля к зданию, которое наполовину разрушено; роль Лира, конечно, существенно пострадала. Талантливый актер В. Я. Софронов играл усталого феодального владыку, с некоторым утомлением даже в гневе. Софронов не получил в спектакле
448
морального задания, он поставил себя и чуждое отношение к зрителю. На сцене был старый мрачный синьор, очень выразительно изображенный. По режиссерской экспозиции, это был самодержец, который прозрел в третьем акте и согласился с тем, что самодержавие есть мерзость, Софронов играл в меру замысла роли, а замысел был таков, что подлинное участие к королю Лиру отпадало, Нам не дали шекспировского Лира — старого родового старшину, старого сахема, который носит королевскую корону, не зная, чго она весит. В шекспировском Лире воплощена «правда»; Лир этого спектакля такая же неправда и тирания, как Эдмунд, Гонерилья, Регана. Этому театральному Лиру всего лишь не повезло, он довольно нечаянно столкнулся с действительными вещами, попал в положение страдающих, и поэтому он кончает иначе, нежели Эдмунд или Гонерилья. Для патетической великой трагедии такого толкования слишком мало, Энергия Софронова сокращается, начиная со сцены в степи. В эпилоге трагедии присутствие короля Лира на сцене недостаточно ощутимо.
В брошюре своей Григорий Козинцев придаст особое значение роли короля, именно начиная со сцены в степи; в спектакле получилось другое, и тем не менее, спектакль последовал режиссеру. Козинцев считает, что самое главное в истории Лира это его прозрение; лишенный королевских привилегий, Лир понял, каково приходится маленьким незащищенным людям в его королевстве. Козинцев очень хорошо пишет в своей брошюре против рассудочности в толковании Шекспира. А ведь его Лир тоже рассудочный. Что остается играть Лиру Софронову после отказа от власти, кроме «прозрения», кроме, говоря учебными словами, «познаватсльмого процесса»? И этот познающий, разумеющий король Лир не может не оказаться маложизненным. В шекспировском Лире совсем иное; да, он прозревает, хотя и не в том смысле, который придает прозрению Козинцев. Шекспировский Лир узнает, что вещи были не те, какими он их принимал. В его призрении нет ничего эгоистического, как не было эгоизма и в первоначальной слепоте Лира. Лир думал, что живет в мире людей и героев, а оказалось, что он живет в мире варваров и убийц. Познанием шекспировский Лир не ограничивается: он подымает великий, хотя и бессильный,
449
хотя и наивный, мятеж. Лир не кается в том, что он разделил королевство, и это очень важно, Даже узнав все, что он узнал, он, вероятно, поступил бы так же. Лир не принимает законов окружающего и все равно будет считать, что не корона делает королей. В спектакле не было ни лировского негодовании, ни мудрой его наивности ребенка и героя, ни лировской моральной непреклонности. Характеристика Лира была недостаточна. Неточно толковалось и позднее сочувствие Лира закутанному в лохмотья Эдгapv и все его сожаления о бездомных скитальцах.
Еще в сцене, второго акта со злыми дочерьми Лир говорит замечательные глова, что человек не может жить одним необходимым, что ограничивать себя малым — это значит жить по образу звериному, Дочери, которые подают Лиру экономические советы и настаивают на них, очерчены у Шекспира как прозаичные существа. Лир — не только герой, но и поэт, он понимает жизнь щедро, он требует для человека полных радостей и благ; и баловство Лира, возня его со свитой и охотой, любовь его к праздникам и блеску — это у Шекспира добрая, поэтическая, человечная черта. Поэтому, когда изгнанник Лир заявляет, что голый человек на голой земле есть последняя и единственная истина, то это надо полимать как горечь, как иронию, посланную в адрес, цивилизации, разъединившей праздник и богатство с потребностями людей.
Наивности, героической наивности в правоте поэтического волнения и живописности недоставало Лиру—Софронову. Казалось, что Лир очутился в степи в грозу и бурю только потому, что дочери выгнали его. Шекспировский Лир уходит в степь добровольно: он сам ухудшает свое положение, совершает безумную выходку, уверенный, что бедствия его кого-то тронут и что мир не может вместить низость Гонерильи и Реганы. Те только заперли дверь за своим отцом, чтобы дождь не замочил их, а это бедное героическое дитя, король Лир, в пустыне и в безлюдье взывает к мировой справедливости.
У Шекспира нет так называемых «характеров», отграниченных друг от друга персонажей, которые театр может разрабатывать отдельно, создавая из -них на сцене свою арифметическую прогрессию. Собрание изолированных «характеров» — принцип прозаический. Шекс-
450
пир действует иначе; он дает поэзию ансамблей, органических объединений; персонаж немыслим без дополнительных лиц, вместе с которыми он представляет стихию исторической жизни. Лир в трагедии живет воедино с Кентом, Глостером, Эдгаром; и, наконец, человек его куста, его ансамбля — это шут. В спектакле внутренняя сопринадлежность персонажей представлена была недостаточно, а шут был -связан с королем только красками костюма. Шут (К. П. Полицеймако) заметно погрешил против Шекспира. Актер играл только положение шута, его бытовое амплуа, тогда как у Шекспира профессия шута — форма и повод. Шут по .положению находится вне цензуры; ему дозволена вся правда; и вот шекспировский шут пользуется этими правами и говорит, что хочет и что считает нужным. По своей житейской философии, шут горький реалист и моральный идеалист по своему поведению. Шут — друг короля Лира, самый лучший и нежный друг; в морали он согласен с ним, хотя у него и нет королевских иллюзий. Так шут это важный оттенок, важное дополнение к образу короля Лира. В театре шут обращался вокруг короля, как совершенно постороннее существо, и пошучивал то довольно злобно, то с юродивым добродушием, Почему-то шуту был придан российский облик, и он больше походил на Николку с. площади у собора в «Борисе Годунове», чем на того, каким рисует шута Шекспир. В режиссерской работе Козинцева главная сила внимания отдается всюду и всегда зрительному образу. В иных персонажах только то и было хорошо, что предшествовало словам и поступкам. Превосходна Корделия, когда, еще не вступив в свою роль, в белоснежном платье она сидит и импровизирует на гитаре. Но голос Корделии, ее речи — как это все было обыденно у актрисы В. Л. Осокиной! И опять-таки обыденностью были испорчены Гонерилья и Регана у Л. Я. Ефимовой и 3. А. Карповой. Очевидно, здесь актеры просто не дошли до режиссерского замысла, оттого что нигде не видно каких-либо пристрастий Козинцева к обыденному тону. Козинцев дал актерам превосходный внешний образ, и они его не заполнили. Гонерилья, Регана, Эдмунд у Шекспира прозаики, рассудочные, злые люди. Но Шекспир изображает первозданную эпоху, когда еше самый прозаизм поведения индивидуально вырабатывается, находится ни личной ответ-
451
ственности; поэтому прозаики — тоже личности, у них свое жизненное творчество, своя смелость и резкость. Зрительный зал смеется, когда Эдгар или Гонерилья произносят сильные шекспировские слова, это плохой знак для актеров: зрители воспринимают их речи как обыденную ругань.
У актеров слишком многое зависит от костюмов, от инструментов, которые режиссер дал им в руки. Ефимова—Гонерилья неплохо читала шекспировские» стихи, но в остальном была недостаточно самостоятельна и свободна. Если бы у Е. 3. Копеляпа отнять хлыст, с которым он появляется на сцене, этот хлыст с присвистом, образ Эдмунда не устоял бы, утратил бы свою цельность и окраску. В сцене насилия над Глостером гораздо сильнее актеров огромный красный занавес в глубине сцепы; занавес трепещет, как огонь, по нему бегают черные тени; кажется, что мы видим какие-то страшные телодвижения, производимые самим красным цветом.
Мы считаем, что Козинцев слишком подчеркивает резкости, угловатости и диссонансы Шекспира и оставляет в стороне шекспировскую гармонию. Прекрасная музыка Шостаковича, как и всякая музыка, не может заместить ритма, гармонического устройства, присущего шекспировской трагедии, самой по себе взятой, еще до всякой связи ее с работой композитора; в организации сцен и в игре актеров, очень клочковатой, отрывочной, эта внутренняя стройность трагедии не обнаружилась. Нельзя понимать Шекспира, как понимали его немецкие поэты «бури и натиска» или Виктор Гюго, для которых Шекспир являлся мастером фрагментов и гротеска, Главные сцены шекспировских трагедий — чудо законченности; а каждая трагедия в целом, поверх всех резкостей и потрясений, необычайно благообразна, В «Лире» уже первая сцена строится ритмически: великий гнев па Корделию, затем повторная, но уже ослабленная гроза против Кента и, наконец, новые вспышки и затишье в эпизоде с французским королем, которого Лир щадит и который становится громоотводом для Корделии. Шекспировский внутренний ритм помогает актеру — это мера и форма для трагического тимперамента, это средство быть сдержанным и впечатляющим и самых сильных эпизодах, которые всегда оттенены своим окружением и должны быть не абсолютно силь-
452
ными, но лишь более, чем эпизоды по смежности, данные Шекспиром в пониженной тональности. В театре не было преувеличений стрясти, зато не было и необходимых оттенений степени и силы страсти. Далее: этот шекспировский ритм является одним по главных средств сделать внутренне зримым мир персонажей, он просвечивает этот мир, дает ему форму и внятный язык, а мы в спектакле Большого драматического театра не всегда чувствовали себя близкими к внутренней сути трагедии; несколько эпизодический, подчеркивающий частности стиль спектакля тому виной. Наконец, главное: шекспировская гармония, собственно, и есть тот шекспировский оптимизм, о котором у нас так много и охотно толкуют, В развязке всех развязок гармония у Шекспира остается непоколебленной, Она выражает убеждение поэта, что извращенность мира — еще не последняя истина о нем, что, какие бы фантомы и фетиши ни господствовали в истории людей, в этой истории все же главная истина общественный человек и его деяния. Оттого шекспировские катастрофы имеют очистительный смысл. Справедливое возмездие постигает людей, не верных главному и лучшему в их собственных отношениях.
Спектакль Большого драматического театра дает живописного, зрительного Шекспира и дает весь мрак и ужас его трагедии. Но спектакль этот едва ли тверд в шекспировской гармонии, в положительной стихии шекспировских трагедий. Одно от другого неотъемлемо. И то и другое еще предстоит завоевать нашей сиене.
МАРИВО, МОЛЬЕР, САЛАКРУ И ПАНТОМИМА
(К спеткаклям французского театра Мадлен Рено и Жана Луи Барро)
В июне месяце 1962 года сперва Ленинград, а потом Москва увидели театр Мадлен Рено и Жана Луи Барро. Открывая свои спектакли, Барро во вступительной речи объяснил зрителям, какой характер приведенного труппой репертуара. Французская классика XVII и XVIII веков, Мольер и Мариво должны составлять основу, к ним прибавлена одна пьеса современного драматурга. Армана Салакру. Хорошо говорил Барро о старинных связях французского искусства с русским —-гастроли парижского театра должны напомнить об этих связях и в современных обстоятельствах продлить и обновить их.
Классическая драматургии Франции позволила актерам показать свое искусство с достаточной полнотой и в лучших его чертах. Мольер и Мариво относятся к эпохе высокого расцвета французской культуры, оба они из тех драматических авторов, которые воспитали французский театр и французских актеров, дали им художественную задачу и направили к ее решению, Быть может, актеров иной национальной культуры этот репертуар теснил бы и стеснял бы. Французские актеры, играя Мольера и Мариво, выходили- на простор. Драма-
454
тургия эта явилась для них воздухом, наибольшим благоприятствованием. Они сделали дли нее, что умели и что могли. Она тоже: оказала им дружбу, помогла им развернуть свое искусство с самой отрадной и талантливой его стороны.
Для начала поставлена была комедия Мариво «Ложные признания». Уже не в первый раз смотрим мы у французских актеров малоизвестного в нашем театральном и литературном обиходе Пьера Мариво — комедию его «Триумф любви» привозил к нам театр Вилара, в ней играла .Марин Казарес; после Внлара, после Ьарро мы начинаем понимать этого французскою классика, пути к которому от нашей современности не так ясны.
Мариво, писавший и комедии, и романы, был тонким и даже утонченным психологом. За ним у французов установилась репутация Расина в малом. В этой репутации нет ничего, что отрицало бы значение Мариво или же понижало бы это значение, Мариво был связан с французским ранним Просвещением, его заметно коснулись демократические веяния XVIII века. У Мариво персонажи не полубоги и герои, как у великого Расина, они — люди как все, «милые люди», .поставленные в обыкновенные условия, подверженные обыкновенным, как говорили в этом веке, «естественным» движениям души. Им свойственно любить скромною любовью и добиваться скромного счастья. В каждом из них теплится наивность души, и действие драмы направлено к тому, чтобы сохранить им наивность, не дать ей погибнуть в практике жизни, где нет условий для наивности. Мариво по-своему разделяет идеологию «природы», которая после него стала одной из властительниц в духовном мире XVIII века. Мариво порою находит наивность даже у тех. кому она не полагалась бы, у людей знатных и богатых, избалованных цивилизацией, своим достатком и своими привилегиями. Найти в ком-либо наивность почти равнозначно умению найти в .нем человека. Комедия «Триумф любви» — история спартанской принцессы, добровольно уступающей свой престол, ибо так велит ей любовь — нет, и не любовь еще, а смутное предчувствие, любви, сами любовь приходит позднее. Пусть возлюбленный принцессы Леониды тоже принц, законный наследник престола. Важно, что принца этого, который скрывается от своих гонителей, она обретает где то в загородной зелени, в условиях сель-
455
ской простоты, в облике чуть-ли не пастушеском. Старик философ, бежавший от суеты цивилизации, выпестовал принца и помог ему не утерять черты детства, не предаться порче и вредным изыскам. Принц и принцесса встречаются, как одна человеческая природа может и должна встретиться с другой. Мы помним Марию Казарес в роли принцессы Леониды: переодетую в мужской костюм, чтобы не быть узнанной, из-под массивного белого парика глядящую тоскующими женскими глазами — милями «природы», естественной любовной страсти. У Мариво «природа» равняет людей, опрощает каждого, хотя бы поначалу тот был повеем непрост. «Природа» поошряет нравственность, делает ненужными догматы морали. Принцесса Леонида уступает престол принцу-изгнаннику по мотивам справедливости, но к мотивам этим примешало ее влечение к принцу, и поэтому принцесса выполняет свой долг легко и охотно. Мариво высоко ценит в человеке первичные его чувства. Он постоянно вдается в поэтический анализ этих чувств, уясняет их оттенки, следит за усложнениями, которые претерпевают они. Именно как аналитик он не сколько приближается к поэтике и к методам Расина. Конечно, у Мариво анализ души не обладет той весомостью выводов, как это бывало у Расина. Анализ у Мариво не столько средство познания, сколько особый способ пестовать душевную жизнь персонажей, няньчитъ ее, превращать ее в предмет культа. Анализ нужен ради любования чужой душой во всех ее подробностях, ради обновленного к ней отношения,
В комедии, сыгранной те а гром Барро, богатая вдова Араминта и бедняк Дорант чувствуют склонность друг к другу. Она поставлена в обществе слишком высоко, он — слишком низко, и так возникают препятствия к непосредственным отношениям между ними. Оба вначале, да и позднее очень далеки от прямых бесхитростных признаний. То и дело происходят признания ложные, отнесенные по неверному адресу, сбитые с настоящего пути, не достигающие цели. И вдова, и влюбленный малорешительны, высказываются раздвоенно. Не будь Дюбуа, былого слуги Доранта, ни Дорант, ни Араминта не нашли бы силы сблизиться, вечные недомолвки так бы и остались между ними. Дюбуа прибегает к интриге, в которой он мастер. И эта комедия Мариво и другие его комедии не обходятся без интриги, иной раз очень
456
затейливой и извилистой. Интрига — предумышленное, обдуманное действие. Интрига — направление, которое искусственно и искусно придали событиям, уторапливая, а то и изменяя по-своему их ход. Комедии Мариво замечательны соединением цельной, естественной психологии с чем-то обратным ей — с замыслами интриги, которые с быстротой и с безошибочной точностью приводятся в исполнение. Интрига вся от интеллекта, от правильного и хладнокровного расчета. Интрига рождена от цивилизации, от «искусства», как называл цивилизацию и внутренний строй ее французский XVIII век. В .этом смысле интрига находится по другую сторону «природы», естественной жизни людей. Однако интрига имеет с «природой» и собственную внутреннюю связь. Интрига для успеха своего требует хорошей и точной приглядки к тому, как живет «природа», к нечаянным порывам души, к естественному течению человеческих чувств. Ради воздействия на природу нужна тончайшая подделка под нее, как уже в первобытные времена охотнику нельзя было не применяться к тому зверю, на которого он охотился, он сколько умел подделывался и маскировался под него, под его образ и обычаи. В комедиях Мариво интрига не заключает в себе ничего преступного и злостного. Мариво знает только добрую интригу. Она пользуется средствами естественной жизни не с целью губить или вредить — она устремляется к ней на помощь. В этом дух и стиль эпохи Просвещения. Оно чтило нетронутую природу, и оно же чтило разум, ее оберегающий. Оно дорожило в человеке его натурой и непосредственностью, и оно же приписывало не меньшую ценность умыслу и планомерным действиям. Природа как таковая на взгляд Просвещения малосовершенна. Для твердого и верного счастья необходимо способствовать природе, вызывать ее на благотворные действия, на которые, она была бы скупа и медлила бы, будь она предоставлена самой себе. В комедии Мариво «Триумф любви» неизбежна инициатива принцессы Леониды; без ухищрений принцессы, без ее маскарада, без ее речей принц Агне не стал бы доступен нежному чувству, не удалась бы бескровная перемена в государстве, задуманная принцессой. В комедии «Ложные признания» опять-таки Дюбуа — зачинщик всему доброму и счастливому, что произошло .между Дорантом и Араминтой. Дюбуа, художник интриги, рассказал Араминте, как не
457
смело и в какой глубокой тайне любит ее молодой Дорант, и рассказ растрогал женщину. Араминта находилась под давлением собственной матери и некоторых имущественных обстоятельств, побуждавших ее к удобному и выгодному браку с графом. И тут-то Дюбуа живописует перед Араминтой, как безмолвно, утаенно ей поклоняется Дорант, — тот ничего не навязывает, не требует, оставляет решение в ее руках, и поэтому она, желающая распоряжаться собою свободно, решает в пользу Дораyта[334]. Такова интрига, направленная на «природу», знающая чужой характер и нрав, умеющая извлекать из них подобающее им звучание. У Мариво господствует удивительная гармония между тем, что нужно разуму и что способна предложить наивная жизнь эмоции. Интрига, разум интриги легко проникают в естество вещей, подчиняют их себе, ничуть не насилуя, даже, уступая им. Дюбуа действует с изумительной деликатностью. Он незаметно заставляет Араминту выполнить все заложенное в ее характере и чувстве. Дюбуа играет Араминте ее собственную мелодию, и женщина эта движется, поступает, действует как если бы вмешательства со стороны вовсе и не было. В гармонии природы и цивилизации, природы и «искусства», в счастливом растворении одного из этих начал в другом нашли свое выражение эпоха Просветительства. Шире того: тут сказалась вековые предрасположения французского национального гения. Ведь и классицизм, и Просвещение — два стиля, две эпохи, в которых гений этот выказал себя полнее, чем когда-либо и где-либо прежде. Умение ценить и признавать человека в его первичных потребностях, в его инстинктах, заложенных глубоко, соединяется у французских художников с желанием ввести человеческую личность в границы разума и содержать ее в этих границах. Мы знаем, как много особого ума,— умного ума во французском искусстве, далеком от варварской, насилующей живую плоть и душу рассудочности. Можно было бы говорить о французах, что они привычны к уму, а рассудочность — удел культур, где ум и мысль внове, где к ним относятся гиперболически, не умеют найти -их настоящее место именно
458
по отчужденности от них, по неловкости, на которую они толкают. Во французском искусстве ум кажется тоже одной из стихий, он внутренним образом присутствует в самой среде естественных вещей, сама природа дышит умом и оструяется умом, В комедии Мариьо «Двойное непостоянство» наивную чету переносят и блестящий цивилизованный мир, и ничего — наивность и цивилизация вполне применяются друг к другу. В известнейшей из комедий Мариво «Игра любви и случая» лакей выступает иод личиной господина, господин — лакея, служанки играет роль барышни, а барышня — служанки, Начало натуральное, даже грубое и совсем иное начало, носящее на себе следы культивированного ума, изысканности, утонченности, в этой комедии способны меняться местами. Оба начала близко соприкасаются, служанке для будущего совершенства нужно пройти искус светской образованной девицы, как и обратно, девица эти, побывав какие-то часы под личиной собственной служанки, может заново пересмотреть отношения свои с женихом. Тот впервые перса пей возник, гоже выдавая себя за собственного слугу. «Игру любви и случая» иногда сопоставляют с «Барышней-крестьянкой» Пушкина — замыслы Пушкина и Мариво какой-то своей частью перекликаются. Согласно Мариво, интеллектуальные, изощренные силы жизни нуждаются в закалке натуральностью и простотой, Если они способны к этому, то они подтверждают свою истинность. Ум стоит чего-либо, когда доказана родственность его с самобытной жизнью, когда ему дано состоять в счастливом симбиозе с нею.
Но комедии Мариво еще и шире своего национального значения, К них можно усмотреть эмбрионы некоторой актуальности, далеко выходящей за пределы какой-либо одной только национальной культуры. Разумеется, театр Барро нисколько не форсирует современного смысла старой французской комедии, и все же театр помогает нам его обнаружить. Литература прошлого, предлагая свои услуги современному театру, не может не подвергнуться в той или иной степени влияниям и нашего сегодняшнего дня. Очень существенно, какова эта степень, каков характер связывания пьес классического репертуара с нашими современными интересами и заботами. Как правило, классическая литература трактует коллизии, длящиеся и по наши дни, но в произведениях прошлого дана иная стадия этих коллизий,
459
в ином случае начало их, в ином — середина, еще в ином — нечто наступившее, уже минуя серединный этот период. Коллизия природы и кулыуры, затронутая Мариво, всецело продолжается и в нашем веке, приобретая масштабы, содержание и напряженность, еще не ведомые Мариво и другим старым писателям. Наши современники со всех сторон окружены сложнейшей и изощренной техникой, которая ими создана и не всегда к ним же дружелюбна; теоретическая мысль находится в трудно-уследимых связях с элементарным — «наивным» восприятием вещей; великая задача общества состоит в том, чтобы установить доброе соотношение между человеком как естественной личностью, между его душой, телом, его естественными навыками и всеми этими обступающими его, принудительными для него созданиями техники и интеллекта. Мариво и другие писатели XVIII века не могли и думать о тех формах и о тех масштабах, которые приобрела коллизия «естественного человека» и цивилизации в более позднюю эпоху. Тем не менее эта коллизия у них уже: налицо, и старые писатели имеют то достоинство, что она у них хорошо и легко обозрима именно по причине тогдашней ее простоты. В произведениях Мариво и людей века Мариво она предстает на одной из самых ранних своих стадий. Барро, ставя свой спектакль, почувствовал в классической комедии начало великой коллизии нового времени, Барро, так сказать, «засек» это начало, обозначил его в своей постановке, и поэтому спектакль оказался внятным современному зрителю. К спектакле, поставленном Барро, в домашних масштабах и решенные домашними средствами предъявлены нам конфликты, издалека подобные нашим, имеющим совсем иное протяжение и требующим совсем иных способов развязки, Намека на некоторую близость к нам в спектакле Барро достаточно, чтобы спектакль не оказался фактом порядка музейного и археологического. Бappo устанавливает своеобразную пропорцию между нами и французским автором XVIII века. Живость спектакля и в том, что такая пропорции наличествует, и в том, что она верна, без фальши, без преувеличений в ту или иную сторону.
Барро как режиссер весьма умеренно передал в своем спектакле обстановку, стиль и нравы периода рококо, к которому относится комедия Мариво. Впрочем, сам автор совеем не охотник до бытовой точности. Он
460
дает своим персонажам условные имена и вводит в свою комедию такую условную фигуру, как арлекин из итальянской комедии масок. Араминта — богатая вдова, принадлежащая к .хорошему обществу Она изображается в комедии с некоторым бытовым оттенком. А вот слуга этой женщины, написанной в довольно реальном стиле, — арлекин, условный до конца. Условный слуга сообщает некоторую условность также и своей госпоже.
Находясь в одном контексте с арлекином, Араминта как бы сбрасывает свой бытовой вес. Художник спектакля Морис Бриашон не так стремился к стилизации обстановки в духе рококо, сколько хотел воссоздать идейное настроение пьесы. По декоративному фону прошла и там рассеялась главенствующая в пьесе тема «природы» и «культуры», взятых в противоречии их. Окна и двери изысканного салона были раскрыты в сад, полный нежной, нежнейшей зелени. Присутствовало не только противоречие, налицо было и его разрешение, налицо были счастливая гармонии. Ведь XVIII век и Мариво в особенности верили в близкую достижимость, в легкость гармонии. Морис Бриашон хорошо передал эту близость счастья, веяние его и в те минуты и часы, когда оно не наступило еще. В обстановке спектакля «культура» дружелюбно перекликалась с «природой», при этом в буквальном ее значении — с живописным и лирическим ландшафтом. На сцене была салонная мебель, мертвое, старательно обтесанное дерево ее, прошедшее через руки столяров-искусников, а за высокими окнами это все восполнялось своими живыми, на приволье оставшимися собратьями, листьями и ветвями, живыми стволами сада.
Барро не допустил в своем спектакле никакой модернизации, он не разрешил чему-либо, взятому прямо из нашего века, пройти на сцену. Не нужно думать, что Барро тем самым отказался от всякой связи с нами, и нашим днем. Он действует с другого конца: он позволяет пьесе Мариво чуть-чуть поотстать от своего исторического фона. Все эпохальное, к своим историческим датам приуроченное, в спектакле лишено плотности, плотской навязчивости. Пьеса незаметным образом как бы взяла направленно к современному зрителю, который сам остался на своем месте. Конечно, более всего это движение к нам выразилось в остроумном прочерчивании идейных сил пьесы, в известной их самостоя-
461
тельности относительно исторический обстановки. Идейная коллизия представлена в своих исторических связях и условиях, не будучи запертой в них, ей оставлена перспектива дальнейшего и нового, совсем обновленного развития.
Натуралистическая драматургия и натуралистический театр усматривают в спектакле, в пьесе элементарное собрание — сборище характеров. Барро очень далек от такого понимания драматического искусства. Характеры для него поверх всего смысловые, идейные силы, весьма небезразличные к смыслу пьесы и ее целям, Как постановщик Барро осуществляет своеобразное распределение общего смысла по отдельным актерским ролям. Смысловое содержание пьесы расходится по актерам, «нарцеллируется» и потом снова собирается воедино. «Естественная жизнь», одно из слагаемых идейного мира Мариво, представлена в спектакле разными своими ступенями. «Естество» жизни в своем низшем проявлении нам дано бытовыми фигурами и, пожалуй, лучше всего Пьером Бертеном в роли господина Реми, прокурора. Пьером Бертен, актер с крупным бытовым жестом, с патриархальными густыми интонациями, нес к нам со сцены нечто знакомое. Его искусство — французские соответствие старому доброму бытовому театру, так обосновавшемуся у нас, в России. Люди другого социального ранга, более высокого и совсем высокого, но отнюдь не свободного от житейской реальности, были сыграны Мари-Эллен Дасте (госпожа Аргант) и Габриелем Каттаном (граф). Араминта в изображении Мадлен Рено явилась женщиной, через которую традиционно без усилий сознания живущий мир возвысился до грации и поэзии. Этой Араминте в немалой степени были свойственны разные хитрости, но все они шли от естественного корня, от женского ее существа. Мадлен Рено играла в Ариминте искусную обольстительницу, умеющую, покамест она того хочет, отстаивать свою неприкосновенность, медленно добывающую свой успех с тем, чтобы наслаждаться им вполне, В том, что делала она, была своя политика. Не от головного мозга политика, но берущая свое начало где-то в недрах ее натуры, в каких-то наивных предрасположениях ее характера. Стоит особого внимании жест Мадлен Рено. Французские актеры всегда отличались заботой о жесте. Барро как теоретик театра посвятил жесту немало
462
размышлений[335]. Мадлен Рено, быть может, явственней всего выражает суть своей роли через искусство жеста, очень разработанное у нее. В жесте французских актеров обыкновенно сохраняется деловое содержание и деловое направление, жест имеет цель, и он чему-то служит. Иначе он был бы вял, не обладал бы характером. Однако, сведись жест только к делу, к деловой цели, он стал бы сух и беден, несвободен и прозаичен. Мадлен Рено показывает пример, каков может быть жест. Жест у Мадлен Рено идет к своей цели и зачастую не доходит до нее, Мадлен Рено поднимает руку, будто бы желая подпереть ею подбородок, и останавливается где то на двух третях пройденного пути, Жест то доводится до цели, то опережает ее; не цель господствует над жестом, но обратно, жест слегка играет целью, ради которой он сделан, освобождаясь от ее деспотизма. У Мадлен Рено жест имеет основную линию, окруженную побочными, основная линия свободно избрана, жест выражает непринужденность, балованнисть и прихотливость госпожи Араминты. Можно бы сказать о Мадлен Рено, что жест ее — цветущий жест, Были эпизоды в спектакле, когда именно в жестах, в мимических движениях сполна выказывала себя Араминта — Мадлен Рено. Она диктовала письмо Доранту, и тот сидел к ней спиной. Араминта издалека заходила, останавливалась, сбоку поглядывая, что делается на письменном столе. Араминта придумала писать письмо особого характера — вероломное и хитрое письмо, а движения были у нее бесхитростные: она с детским любопытством проверила пишущего под ее диктовку Доранту. Получилась некая сценическая метафора. Казалось, Дорант не пером работает, но возводит на столе какую-то затейливую постройку — крепость, вероятно, — и всем руководит Араминта. Она контролировала, как удались уже возведенные башни и форты. Лряминта была в этом эпизоде смешением интриги и детскости — была сама собой.
Игре Мадлен Рено в спектакле, отчасти вторила Симон Валер, изображавшая Мартон, служанку. Мартон тоже обольстительница, но с простодушием в более чистом, неосложненном его виде сравнительно с Араминтой. Служанка действует несколько поспешно там, где
463
госпожа не теряет осмотрительности. Таким же вторящим персоняжем возле Барро, игравшего Дюбуа, явился Жан-Пьер Гранваль» игравший арлекина. Гранваль воспроизвел в упрощенном рисунке ту сценическую миссию, которая возложена была в этом спектакле на Барро.
В исполнении Барро слуга Доранта, ловкий, расторопный Дюбуа, занял главное место в спектакле. На его долю пришлась важнейшая задача. Он выражает в спектакле активную силу жизни. Все прочие в конце концов живут, как им указано. Дюбуа, он же Барро, сам по-своему направляет события, связует несвязуемое, разъединяет вещи и людей, которые без него были бы связаны в одно. Без интриги Дюбуа не видать бы его другу Доранту счастья с: Араминтой, о которой тот несмело мечтал, Барро весь в своей интриге, в деле, которому он посвятил себя. Отчасти он человек-орудие, в его движениях и в выговоре слов есть своя особая быстрота и точность. Дюбуа в его исполнении благожелателен, добродушен, но свое призвание он может осуществить только таким образом — действуя отчетливо, спеша, подгоняя события, вырисовываясь на сцене с некоторой резковатостыо. Весь его ум направлен вовне. Фигура Дюбуа была подобна ножу, который, рукоятью кверху, стал на свое хорошо отточенное острие, и гак пустился в путь. На побегушках у собственной интриги он не роняет, однако, достоинства и блистает перед зрителем своей умелостью и удачливостио.
Доранта играл Жан Дезайи. Неопытный зритель мог бы обвинить этого хорошего актера в дурной игре — столь косным было его сценическое поведение. Тяжелый и грузный, он казался каким-то сочетанием чугуна и сырого теста тело чугунное и большая голова под тяжелым париком и пудрой, как бы приготовленная в пекарне. Думаем, в том, каков был Дезайи—Дорант, обнаружился в полной мере принцип построения спектакля. Тут видно было, в какой степени, как неуклонно режиссура Барро держится общего смысла. Он разделен между Дюбуа, носителем интриги, и Дорантом, в пользу которого интрига совершается. Дюбуа — молот, Дорант — наковальня. Чтобы показать, в чем роль Дюбуа, нужно было всячески понизить роль Доранта. В режиссуре Барро нет независимых ролей, все роли соотносительны. Дюбуа и Дорант должны откликаться друг
464
другу. Так как инициатива полностью отдана Дюбуа, то надо в Дорапте ослабить ее, сделать Доранта малоподвижным, туговатым на мысль и чувство. Душа, грация, ум — на стороне Дюбуа, творца событии. Доранту остается принимать благодеяния, которые сыплет на него Дюбуа, бывший слуга, по свободному выбору радеющий о бывшем своем господине, как в очень поздней пьесе того же XVIII века цирюльник Фигаро станет добровольно ходить за молодым графом Альмавива и опекать ею любовные дела.
Мольеровский спектакль, очень удавшийся театру Барро, слился
со многими нашими сценическими традициями. Уже давно русский театр создал
собственного своего Мольера, которому отчасти соответствует Мольер, увиденный
нами у Барро. Наша мольеровскам традиция вела издалека к тем постановкам
Мольера, которые, были нам показаны на гастролях театра Комеди Франсэз и на
гастролях театра Вилара. Русский театр с давнего времени восставал против
общепринятых способов ставить Мольера. Станиславский писал: «Что может быть
скучнее мольеровских традиций па сцене! Это Мольер — "как всегда",
Мольер — "как полагается", Мольер — "вообще!"1[336] От
«скучных» традиций, от постановок в положенном стиле наша режиссура ушла.
Станиславский, Бенуа, Мейерхольд каждый по-иному, но обновили Мольера, вернули
ему значительность замыслов, придали его комедиям театральный размах и расцветили
их, заставили заговорить со сцены необычным для прежних постановок театральным
языком, Комедии Мольера уже с полвека тому назад стали у нас зрелищем, потеряли
тот бедный и черствый стиль нравоописания пополам с резонерством, который принято
было придавать им на сцене. Конечно, как зрелище, чрезвычайным событием был
«Дон-Жуан», поставленный Мейерхольдом в Александрийском театре. Этот же театр
уже в советские годы увидел «Мещанина во дворянстве» в красивой и смелой
постановке
466
«Амфитрион», привезенный французскими актерами, неведом нашей сцене, хотя мы и располагаем отличным переводом этой комедии, который сделан был Валерием Брюсоиым. Но в постановке Барро (художник Кристиан Берар) сказалось что-то родственное методам Мейерхольда и Бепуа, здесь была и умная причуда, и игра театральной фантазии, обнаружившая в мольеровском тексте нечто малоизвестное, скрывавшееся в нем. Как это делял когда-то в «Дон-Жуане» Мейерхольд, так и Бappo усиливает и театре Мольера связь его с предшествующей художественной эпохой, с многообразием, свободой и пышностыо театрального Ренессанса. Мольер — драматург классицизма, мало заботящегося о глазе, о зрелищной стихии спектаклей. Старые писатели, современники классицизма, не принимавшие его, такие, как Скаррон, с насмешкой указывали на зрелищную скудость классицистических спектаклей, на оголенность, безвидность их. Барро дал «Амфитриону» театральное одеяние, которое тому подобает.
В постановке Барро при всей ее красоте есть шутливость. Он помнит, что имеет дело с комедией, миф о Юпитере и о верноподданном его Амфитрионе, фиванском полководце, воссоздается Мольером в едва ли почтительных к содержанию мифа тонах. На сцене нужны великолепие мифа и сказки, фантазия и живописность. Не менее того нужны усмешка, забавный стиль, сквозь который проглядывали бы возможности сатиры. Так и поступил Барро-постановтцик. Начиная с пролога, с колесницы ночи, он не упускает случая придать отдельным подробностям этого почти феерического спектакля игрушечность, инфантильность. При всем том не теряется и серьезный пафос всего творящегося на сцене. Мольеровский «Амфитрион» колеблется между высокой трагедией и фарсом, бесцеремонным и фантастическим. Колебания эти уловлены постановщиком.
Юпитер, отец богов, спускается ня землю. Он вожделеет к Алкмене, жене Амфитриона, который сейчас от имени Фив ведет войну в чужих краях. Юпитер принимает облик Амфитриона, ибо иначе он не мог бы приобрести расположение молодой жены этого полководца. Алкмена любит Амфитриона, мужа своего и властителя. В сюжете, который разрабатывал Мольер, переодевание, метаморфоза образуют сквозную тему. Юпитер прикинулся Амфитрионом, а сопутствующий отпу богов
166
Меркурии принял личину Созия, Амфитрионова слуги. Огец богов и людей пожелал отведать счастья, сужденного одному из смертных, пожелал ня какие-то часы присвоить себе чужое обличье, чужой образ жизни, чужие радости и утехи. Странствование из жизни и жизнь, из одной судьбы и одного положения в другие — мотивы, любимейшие и театре Ренессанса. Бесконечные переодевания и произведениях Шекспира, маскарад, к которому так охотно и так часто прибегают Шскспировы герои, таят в себе большую и важную мысль. Люди Ренессанса хотят выйти за пределы назначенного им судьбою, хотят испытать себя на разных поприщах, хотят для себя многообразия и многоликости универсальности, если пользоваться понятием, которое так часто относят к этой эпохе. Маскарад и метаморфоза — это художественный язык, на котором и выражает себя стремление к широте личной жизни, к безграничности ее. У писателей Ренессанса универсальность и широта обладали демократичеекими предпосылками, предполагалось, что они — права для всех, В комедии Мольера наблюдается узость новых условий жизни, сложившейся после веков Возрождения. В тех веках европейское общество, проходившее через огромный переворот, еще не устоялось, полно было высокой героики и утопического духа. Ко времени Мольера для утопий оставалось мало места. Классицизм сменил искусство Ренессанса, и классицистам поЗдсказывал соьсем иной реальный опыт, перед собой они имели строго иерархически построенное общество, с твердо обозначенными границами сословий и состояний, с крайне затрудненными переходами из одного в другое. Па общественным порядком наблюдало абсолютистское государство, притязавшее на величайший и неоспоримейший авторитет. В комедии Мольера разыграна старая, ренессансная тема человеческой свободы и человеческих метаморфоз, какой эта тема могла представляться в измененных исторических обстоятельствах. Автор чувствует и мыслит демократически, но без должной опоры, хотя бы воображаемой, в общественной обстановке вокруг. Широта жизни, личная свобода, право на перемены, на многообразие стали сейчас привилегией одной верховной власти. Юпитер и Меркурий, если это им угодно, могут вкусить от любых жизненных положений, Юпитер может прикинуться Амфитрионом, а Меркурий Созием. Права верховной власти прости-
467
раютсн бесконечно, они практикуются и масштабах космоса. Юпитер велит ночи, чтобы та остановилась; к изумлению человеков, ночь нескончаемо длится и утро не в силах наступить. У Мольера намечена одна из тем позднейших политических гротесков: верховная власть претендует на права теурга, ей мало предписывать то или иное только людям, она берется предписывать самой природе и ждет от природы выполнения приказов. Властители и боги завистливы, достояние подданных, людей обыкновенных, находится и опасности. Вся комедия Мольера проникнута особым умным юмором, который постоянно нужно удерживать, чтобы он не перешел в сатиру и в сарказмы. Владетельные боги веселится, принимая то одну личину, то другую, а простые люди но могут защитить от посяганий и то скромное свое лицо, что дано им от рождения. Одно положение дается простому человеку пожизненно, да и оно за ним не крепко, стоит кому-то вышестоящему покуситься на него. Ведь и сам Амфитрион только простой смертный в сравнении с Юпитером Громовержцем. По произволу Юпитера этот храбрый фиванский генерал больше не хозяин в собственном доме, но муж своей жены и даже отрешен от собственного имени. Юпитер — агрессивный двойник Амфитриона, который вытесняет и вытеснил его. То же самое Созий. Он не все потерял только потому, что не обладает чем-либо, достойным зависти. Созий восторгается, ему повезло, так как Меркурий обошел своим вниманием жену Созия, сварливую и некрасивую. Но Меркурий палками выбивает из Созия его претензию быть самим собой, Меркурий, беззаконным двойник, завладевает и скромным именем Созия и скромной его наружностью, он даже отбивает у Созня место денщика и вестника при Амфитрионе.
Замечательно, что люди, которых насилует верховная власть, не решаются роптать. Бедняга Амфитрион выглядит глуповатым, потому что гневается, требует справедливости и логики. А очень рассудительный Созий куда быстрее примиряется с проделками богов. Хотя перед Созием сплошные чудеса и нелепости, хотя перед ним двойники, подмена, он все это принимает тем не менее. Умный Созий верит в истину фактов — непреложные факты для него сильнее логики, хотя он и привык уважать ее и пользоваться ею, Два человека к концу одной слишком длинной ночи узнали, что они вовсе
468
не тождественны самим себе, перед каждым из них его двойник-захватчик. У одного из них, у Созия, столь гибкое сознание, что он прекращает свой спор с вещами, едва только видно ему, что вещам угодно было сложиться совсем по-новому, и с той минуты Созий занят только одним — как бы поскорее, да поудобнее приспособиться к этим новым вещам. Мольер освещает юмором особого рода необыкновенную наглость фактов как таковых, фактов, за которыми только то и есть, что они свершились. Оснований для новых фактор, нет, а факты тем не менее стоят очень прочно: в век Картезия и картезианства, господства над умами логики и математики, когда все на свете обосновывалось и выводилось по методам геометрии Евклида, тем более должны были возмущать и удивлять факты, существующие одною силою своей действительности. С точки зрения классической эпохи то была область великих абсурдов, Если угодно, «Амфитрион» Мольера и является своеобразнейшей комедией абсурдов, написанной в классическом веке. Верховная власть — первоисточник абсурдов, она распоряжается, как вздумается ей, среди готовых фактов, но этого ей мало, недостающие факты она создает сама, ставя вверх пятами законы бытия. Нет такой дичи, перед которой отступилась бы власть и в которую посмели бы не уверовать подданные, исповедующие абсурд как государственную религию.
Нам кажется, что театр Барро до конца воспринял социальную и политическую мысль Мольера. Театр подчеркнул ее ради полной явственности. На груди Юпитера вышито было огромное золотое солнце. Предполагают, что Мольер, выводя Юпитера, подразумевал Людовика XIV, «короля-солнце», великого тирана, воображающего себя космической силой, неоспоримой, непреклонной, требующей молитвенного отношения к себе. Жан Дезайи, игравший Юпитера, придал верховному олимпийцу весьма реальные черты. На сцепе был знатный барин, опытный сластолюбец, круглые сутки посвящающий галантным приключениям. Совсем немолодой, он был красив и величав. Изнеженный и избалованный, он также казался вкрадчивым и осторожным; к Алкмене он старался подольститься, он обращался с нею воровато и трусливо как с незаконной добычей. Скажем резче: Дезайи изобразил Юпитера — Людовика как элегантного мошенники, как похитителя, который только
469
потому 6ывает смел, что другие уже позаботились о его безопасности, стоят, как Меркурий, на страже его похождений, Дезайи в сценах Юпитера с Алкменой, прощальных сценах, сразу же очертил своего героя. Он заглядывал в глаза Алкмене — лицедей, притворщик, Юпитер еще проверил, насколько впечатляют эту женщину его слова. Олимпиец совершил хищение, овладел этой женщиной, действуя от чужого имени, теперь ему хочется добиться от нее любви, которая относилась бы к нему самому. Софистику Юпитера, его рассуждения о том, что в муже нужно отличать мужа от любовники, Дезайи преподносил со сцепы с полным пониманием скрытого ее смысла — Юпитеру мало были того, чего он добился под личиной Амфитриона. Юпитер хотел вдобавок, чтобы Алкмена именно Юпитера возлюбила в нем и забыла о муже своем, Амфитрионе.
Симон Валер очень целостно играла эту сцену расставания Алкмены с Юпитером после затянувшейся любовной ночи. Алкмена сияла и цвела, вся была блеск и счастье. Но в эти эпизоды вкрадывались и комедия, и трагедия. Алкмена радовалась своему Амфитриону, тогда как Амфитрион был подставной. Она испытывала повышенные чувства, не ведая, как унизили ее, как обманули. Ей предстояли тягостные сцены с Амфитрионом подлинным после этих сцен с Амфитрионом ложным, ей предстояло пройти через ужасающую путаницу чувств. Первое появление Алкмены в спектакле должно было послужить контрастом всему последовавшему позднее, и Симон Валер внесла в эти первые свои сцены достаточно радости и света, чтобы тем мрачнее оказались эпизоды узнания, через которые Алкмене еще предстояло пройти.
Размышления над комедией Мольера позволяют нам лучше уяснить себе, в чем вековые свойства французского искуссва. Мольер в этой комедии находится на волоске от того, чтобы затронуть области и стихии, вторгаться в которые он не хочет и не может, Как подданный «короля-солнца», он не смеет вдаваться в прямую сатиру по поводу преступлений Юпитера. Он не смеет также вступать на путь высокой трагедии, хотя в судьбе Амфитриона и Алкмены присутствует трагическое начало, — трагедия была бы прямым заступничеством за обоих и косвенным обвинением против богов. Как и герою его комедии, так и самому Мольеру не положено
470
роптать и противодействовать. Изобразить Амфитриона в качестве лица трагического значило бы подстрекать к мятежу, источником несчастий и трагедии для подданных оказалась бы верховная власть. Мировая литература знает трактовку мифа об Амфитрионе и отце богов высокотрагическую, но она была дана много позднее, и в других исторических условиях у немецкого романтика Клейста.
В комедии Мольера заключительные слова Юпитера о том, что делиться с ним женою не есть бесчестие, звучат как сентенция несколько игривая. После этого говорит Созий — он утверждает, что о делах такого рода лучите бы всего безмолвствовать. У Мольера нет ни сатиры, ни трагедии, он молчит, как советовал Созий но молчит красноречиво для понимающих, так что насмешка и осуждение всему случившемуся у него просвечивает. В истории Амфитриона, в мифе о том, как зачат был Юпитером от смертной женщины Алкмены будущий Геракл, есть и нечто скабрезное. Античный предшественник Мольера Плавт разработал сюжет Амфитриона с беспощадной грубостью, с подчеркиванием беременнго живота Алкмены и других физиологических подробностей. Художественное чувство Мольера, автора «Амфитриона», не принимало плавтовскнх вульгарных шуток и комизмов, Мольер соприкасается с ними почти поминутно и все-таки избегает смешении с ними. Мольер ходит вдоль изгороди, за которой трагедия и сатира, за которой непристойный фарс. Он удивляет своим верным ощущением границ, своей способностью не нарушать границу, даже когда соблазны очень велики. Мы думаем, это и есть изящество Мольера, завещанное им и другими классиками французскому искусству. Изящество мы бы назвали чувством пограничности, безошибочным инстинктом того, где проходит граница, где лежит одно качество жизни, одно ее состояние и где по границе начинается другое. Но в поведении Мольера-художника есть свои отличия. Когда граница отделяет Мольера от плавтовской брутальности, то он охотно и готовно запирает границу и не дает ничему непрошеному проскользнуть через нее. Когда же дело идет о трагическом, о предметах, достойных сатиры, о серьезных человеческих ценностях, требующих серьезного обращения с ними, когда по тем или другим причинам все это лежит за чертой доступного для трактовки перед зрите-
471
лями, то Мольер умеет все же указать на эти области издалека и осторожно связать нас с ними. Он вынужден их обходить, но по характеру обхода можно догадаться, почему гак делается и какие именно явлении обходятся. Свой отказ от сатиры, о г трагедии Мольер превратил в мотив художественного порядка. Умолчания у Мольера столь изящно-ироничны, что воспринимается как факт искусства, как нечто виртуозное по-своему. Принудительное Мольер умеет разработать так, что оно кажется добровольным, по собственному почину взятой на себя художником задачей. Ясно, что в истории Амфитриона, как она изложена Мольером, мы очутились рядом с трагедией, что милыми шутками здесь не отделаться, хотя автор только шутит и трагедия гаснет каждый раз, едва лишь готова возгореться. В постановке Барро наилучшим образом была прочувствована эта многосложность комедии Мольера. Актеры играли комедию, а не что-либо иное, — феерическую комедию, и все же нельзя было сомневаться, что ходят они по краю совсем иных жанров и совсем иных явлений жизни, питающих эти жанры. По временам мы слышали трагические вопли Амфитриона — Вильяма Сабатье, виновника же этих воплей, Юпитера, Жан Дезайи изображал исподволь и беспощадно разоблачал верховную власть у древних и у новых, защищенную любыми санкциями, будь то религиозные, будь то чисто политические.
В один вечер с «Амфитрионом» шли «Проделки Скапена» — постановка Луи Жуве, художник Кристиан Берар. В этой комедии снова царил Барро, исполнявший роль Скапена. После вечера с комедией Мариво, после роли Дюбуа в этой комедии изображать Скапена было нелегко, ибо Скапен и Дюбуа очень близки друг к другу, и здесь и там —ловкий .посредник, испытанный ходатай по делам любви, за счет ума и находчивости которого пробавляются молодые люди. Нужно было избежать тождества в исполнении ролей, нужны были вариации, и Барро их дал. Дюбуа добр и оказывает услуги Доранту по доброму расположению к нему. Скапен — платный пособник, он как бы работает по найму, устраивает счастливую любовь с брачным концом для двух молодых шалопаев. Барро изображал Скапена как человека совсем иной нравственной природы, нежели Дюбуа, действовавший и комедии Марипо. В Скапене видна злоба, он совсем не жалует своих молодых кли-
472
енгов, берется нх поддерживать, по чувства у него к этим юнцам не лучшие, чем к старикам, которых он травит н поддевает, как это и предписывает взятия им на себя миссия. Старики— сто деловые противники, он поступает, как если бы ему был поручен судебный процесс, направленный на них. Но и эти старики, и эта молодежь в равной степени его противники социальные, его равно ожесточают и одни, и другие. Скапен, трактованный Барро, казался специалистом, профессия которого всем нужна и к услугам которого то и дело прибегают состоятельные люди. С холодным лицом, клинкообразный, широкий в плечах, узкий в талии, он мелькает по сцене, сея недоброе. Скапен внимает со своих клиентов моральный налог, и очень высокий, он великий охотник посмеяться над людьми, в нем нуждающимися, над их ближайшей родней, и издевки эти для него всего дороже, В злобе Скапена есть свое бескорыстие, в ней есть мстительность вообще и не столь важно, на кого она обращена, на того, на другого или на третьего. Очевидно, Барро вдохновляли на роль Скалена места в мольеровском тексте, остающиеся несколько и тени, прямого отношения к действию комедии не имеющие и все же по сути сыоей весьма небезразличные. В акте втором, в сцене восьмой, — с Аргантом, Скапен рассказывает, что, возвращаясь домой, всегда он может ждать от своих господ поношений словесных, а то и бастонады, пинков, всяческих побоев. В той же сцене Скапен убеждает старика Арганта не прибегать к помощи судов. Его тирада — злейшее ожесточенное обличение практики судов с бесконечным их крючкотворством, с лихоимством, которым отличается любая из сторон, с предательством, как со стороны обвинения, так и защиты. Социальная мысль и социальные чувства вдохновляют Скапена. Оскорбленный одними, он мстит другим, не считая, что месть должна держаться прямого адреса кто обидел, тот и платит. Обида имеет единый источник, поэтому и отвечать на обиду призван не только тот, кто был прямым обидчиком. В исполнении Барро роль Скапена выросла, Барро ослабил в этом спектакле балаган и буффонаду. Мы бы сказали, что он играл лицо более серьезное, чем Скапен, он играл в Скапене Уленшпигеля, бунт, возмездие, социальную бурю, героя XVI столетия. И в «Амфитрионе» и и «Проделках Скапена» театр Барро поступал одинаковым образом, —
473
on усиливал связь Мольера с предшесшующей ему эпохой, где было больше духовной энергии, дерзости и свободы,
«Амфитрион» с одной стороны, «Проделки Скапена), с другой, это два Мольера, которых мольернсты любят отделять друг от друга, «Амфитрион» — это Мольер высокой комедии, «Проделки Скапена» — Мольер балаганный, ярмарочный, площадной. Театр Барро хотел показать в один вечер и того, и другого Мольера. Театр нашел способ соединить внутренним образом обе комедии, столь различные между собой. В «Проделках Скапена» театр тоже обнаружил идейную значительность, эту комедию театр тоже возвел к Ренессансу. Н «Амфитрионе» оживляются традиции Ренессанса артистического, философского, в «Проделках Скапена» — Ренессанса народных волнений и мятежей. Обе комедии Мольера в театре Барро очутились под крышей, общею для них. История, культура, художественный стиль Ренессанса осеняют комедии классицизма — родительские силы берут под свое покровительство младшие силы, происходящие от них.
После Мариво и Мольера театр показал одни из образчнков современной французской драматургии, «Ночи гнева» Армана Салакру, постановка Барро. Драма Салакру, впервые поставленная Барро в театре Мариньи 12 декабря 1946 года, хранит на себе следы этой даты. Салакру изобразил события только что минувшей войны, Драма его проникнута патриотическим пафосом, ее положительные лица — герои Сопротивления, ее сюжет — борьба патриотов и демократов с немцами-фашистами и с теми из французов, кто прямо помогал врагу или же как-либо иначе приспособлялся к нему. Барро поставил драму Салакру с отличием от остальных спектаклей, В «Ночах гнева» театральное зрелище, сведено было почти на нет, оно было преднамеренно скудным, чтобы не рассеивать восприятие и все его целиком обратить к моральной сути драмы. Художник спектакля Феликс Лабисс имел в нем очень мало забот, кроме одной главной — сохранить и спектакле его духовный пафос. Экономия постановочных средств была почти волшебной в такой сцене, как сцена партизанских действий под железнодорожным мостом. Собственно, все впечатление свелось к красному фонарику, который стоял на путях, Ои передавал обстановку и атмосферу диверсии.
474
При этой минимальности всего внешне-живописного отчетливей обнажалась настроенность действующих лиц, состояние великой напряженности, в котором они находились. Они одолевали собственный страх, не теряли в самих себе сил мятежа и геройства. Красный огонек, объятый тьмой, — это и была «ночь гнева».
Барро играл лучшего человека в этой драме — Жана Кордо, инженера, ушедшего в Сопротивление, схваченного немцами, зверски пытанного и ослепленного ими. Жан Кордо появлялся на сцене скромной и укоризненной тенью, тревожной для тех, кто спокойно оставался дома и позволял событиям идти так, как они идут. Барро и в актерской своей игре действовал скупыми средствами, через эту скупость усиленными. Перед нами было темное лицо, без жизни глаз, и это незрячее лицо Барро — Жана Кордо выражало высокую и страшную внутреннюю драму.
Салакру постарался расширить значение своей коллизии. Она не только коллизия людей Сопротивления и приспособленцев, как мы знаем ее из истории недавней войны. Автор имеет в виду и коллизию более обобщенного характера. Есть люди при любых обстоятельствах как бы рантьерствующие у истории, бездеятельно выжидающие, что им принесет ее ход, и есть другие, которые осмеливаются направлять этот ход, ставить себе высокие цели и добиваться их невзирая на риск и личные потери. Они помышляют только о последних итогах борьбы, в которую они вступили, и менее всего дорожат личным своим успехом в ней, Люди отдаленных целей, люди героические — это, конечно, Жан Кордо, изображаемый Барро, а люди паразитарного склада это Беpнар Базир, которого хорошо играл Жан Дезайи. С сытым лицом, толстоватый, медлительный, в полосатом халате, Дезайи дал верный портрет Базира, этого себялюбца и домоседа, который долгие годы был приятелем Жана Кордо, а в войну предал его, В драме Салакру завязывается дискуссия о нравственности. Наше время с его огромными катастрофами и схватками противоположных сторон, как показано в драме, по-новому судит в делах морали.
К концу драмы Бернар говорит о себе, человеке, морально провалившемс я, что совсем по-иному его оценивали бы, родись он и живи о мирную эпоху короля Луи-Филиппа, например, — он был бы тогда образцом поря-
475
дочности. Наше время жестко и окончательно вскрывает, чего стоит тот или другой. Бернар Базир выпрашивает себе снисхождение — он хочет, чтобы его судили по законам минувшего, какой-нибудь вялой эпохи, менее зоркой и менее взыскательной, чем его собственная. Очевидно, мысль Салакру та, что суд над людьми и отношениями должен нестись по самым последним показаниям исторического опыта. Если ты плох на войне, значит, ты был плох и в мирной жизни. Какой-нибудь Бернар Базир всегда был моральной посредственностью и, следовательно, социальным злом. Разница лишь та, что зло, прежде не объявившееся, наконец сейчас объявилось перед нами. Не прошлое судит настоящее и оправдывает его, но обратно: суд исходит из сегодняшнего дня и бывает беспощаден к тому, что таило в себе прошлое. Мораль одна для всех исторических периодов, какова же она, в чем состоит, об этом узнается далеко не сразу и чем позднее, тем вернее. Жан, который прав сегодня, был прав также и вчера, а Бернар уже издавна всей своею жизнью поставлял материал для обвинения. Мотивы поведения Бернара все те же, он все делал прежде и теперь делает ради блага дома и семьи. Вчера все казалось милым и невинным, сегодня семейные мотивы привели к пособничеству гестапо.
«Ночи гнева» спектакль симпатичный и все же далеко не полностью удачный. Виновник неудач всецело автор. Салакру поступил неверно, связав свою драму, исполненную столь насущных тем, с довольно рискованными драматургическими приемами, — они разбивают внимание и вносят в драму суетность. Изображая время очень действенное, Салакру предпочитает прямой демонстрации событий разговоры о событиях. За малыми исключениями драма его, вопреки своим темам, разговорная. Салакру снимает разницу между живыми и мертвыми. Убитые подымаются и как ни в чем не бывало держат речи. В драме войны и Сопротивления, где столь трагически серьезен вопрос о жизни и смерти, Салакру играет им. Приходит злая мысль, не потому ли Салакру учиняет, не задумываясь, воскрешения мертвых, что как французский драматург слишком любит слово, ему жаль, что кого-то убивают и список говорящих лиц тогда сокращается, он восстанавливает за убитыми их право говорящей единицы, человек у него кончается как человек и никогда не выбывает как оратор.
476
Другой эксперимент Салакру состоит в том, что в драме его нарушен порядок времени, События размещаются в отношении времени чрезвычайно свободно. Люди Сопротивления карают Бернара Базнра, который предал Жана, убивают предателя. Потом, в части второй, события идут обратным ходом. Взяты предвоенный годы, взяты Бернар и Жан с их женами, какими были все они накануне второй мировой войны. После этого дается война, даются партизаны, и нас доводят до событий, которыми драма открывается, Считаем, что Салакру совершил художественную ошибку, перенеся в драму ту игру с временем, которую так любит новейшая повествовательная литература. Драма по существу своему страдает от перестановок во времени, она увядает, когда они допущены. Театр и драма целиком лежат в настоящем. Зритель всегда смотрит драматический спектакль, эмоционально в нем участвуя. Происходящее на сцене происходит сейчас. По природе своей драма есть движение поступательное, необратимое, все в ней есть бесконечно раздвигаемое настоящее, все в ней есть разлив и рост из настоящего, Только так она и захватывает, вовлекает в область, ею избранную, все ощущения и чувства зрителя[337].
Напрасно Барро во вступительном слове к спектаклю оправдывал приемы Салакру, ссылаясь на драматургию классиков. Конечно, и классики — Софокл, Шекспир, Ибсен — совершают путешествия в прошлое. «Аналитическая композиция» Софокла и Ибсена действительно состоит в том, что шаг на шагом восстанавливается прошлое действующих лиц. Без минувших событий в датском королевстве, без годов учения в Виттенберге нет «Гамлета» Шекспира, нет судьбы и личности заглавного героя. Но у классиков арена настоящего никогда не пустеет. Она никогда не исчезает. Настоящее во всей его силе всегда перед нашими глазами. Картина настоящего только углубляется всеми этими заходами в прошлое, исследованиями его, к которым обращаются Ибсен, Шекспир, Софокл, По-другому у Салакру. Он останавливает настоящее и прямо выносит на сцену прошлое, движение настоящего рвется, зритель, который проделывал это движение вместе с актерами, выбрасывается из него, оно совершается в дальнейшем без его внутреннего участия. Да, вторая часть «Ночей гнева» доводит до
477
нас, как и почему Бернар с женою и Жан с женою стали теми, какими их мы увидели в первых картинах. Но это сцепление второй и первой части только познавательное, только интеллектуальное, вместо связи эпизодов, которая проводилась бы всецело, всесторонне, увлекая вслед за мыслью и волю и эмоции зрителя. Если в драме происходит рост из настоящего и через настоящее, то перед зрителем иллюзия движения самой жизни. Если же время распадается, как у Салакру, и даются картины минувшею ради комментария к картинам происходящего сейчас, то жизнь заменяется познанием жизни, познание отделено от самих познаваемых событий и вешей. Картины сцепляются одними только крючками логики, а этого мало, это всячески беднит воздействие драмы на зрители. Нам кажется, и театр и драматург много потеряли, пустившись в опыты, несогласимые с природой драматического искусства. Когда хотят наибольшего впечатления, когда в театре мы видим дела и слышим речи, первостепенно важные для наших дней, то вернее было бы обращаться к драматическому искусству, каким оно является по существу, чем делать опыты обойти это существо. Нам кажется, серьезность задачи требует и простого, безо всякого маньеризма ее решения. Вопросы жизни и смерти не допускают решения с забавой и с узорами, с суетными отвлечениями в сторону. Нужна строгая дисциплина, когда трактуются эти темы, иначе их внутреннее качество утрачивается.
Особое место заняли в спектаклях театра Барро немые мимические пьесы. Одна из них шла после комедии Мариво, другие заполнили всю программу последнего спектакля.
Искусство пантомимы получило распространение на современной французской сиене. Барро — один из главнейших его пропагандистов. Тяготение к пантомиме не новость в истории театра последних десятилетий. Русская сцена знала прославленные мимические представления, например «Шарф Коломбины» под режиссурой Таирова. Увлеченность пантомимой не была явлением случайным. Пантомима вернулась на сцену нашего века, когда начался пересмотр элементов, слагающих театральное зрелище. Театр слова был заподозрен, насколько он оправдан и достаточен. Классическая драматургия страдала переоценкой слова. В прошлом веке ве-
478
ликие драматурги Клейст, Ибсен поколебали театр, в котором по примеру Расина и Шиллера слово господствовало нераздельно. У Клейста, у Ибсена со словом спорит мимика; немое движение, немой жесту них зачастую достовернее, чем, слова, произносимые, со сцены. К концу XIX века, к началу нашего вера в слово претерпела жестокий кризис — вера в слово как в силу самой реальной жизни. Классический театр не сомневался, что словом воздвигают города, что словами можно изменить чужой образ мыслей, можно обратить преступника, остановить убийцу и можно заставить полюбить того, кто тебя не любит. Вера и слово держалась верою в духовное начало, в силу сознания, и духовную общность людей, которая не всегда себя проявляет, однако требует только, чтобы к ней воззвали, и тогда она покажет, сколь многое для нее доступно. Настроения эти и идеи были связаны с классическим периодом в истории буржуазного общества и приходили в упадок вместе с ним. На границе веков прошлого и нашего в театре и в драме началось обратное движение. Драматический язык у натуралистов и у родственных направлений одичал и огрубел. Появилась склонность к диалогу из элементарных интонаций и междометий. Духовное содержание жизни обесценивалось коренным образом. Общественная жизнь рассматривалась как нечто в моральном отношении бессвязное, как сфера грубо-ма териальных столкновений и сцеплений. Доверяли только телу, вожделениям и инстинктам. Отчасти это была первоначальная почва и для возрождения пантомимы, В пользу пантомимы могли указать на то, что пантомима — язык человеческого тела, эмотивный в высшей степени, неиспорченный рассудочностью литературной драмы. Пантомиму хотели начисто отрезать от театра слова и идей, Однако под водительством более глубоких и дальновидных художников, не допускающих, что всеобщий распад и анархия плоти есть вся и последняя истина о человеке, о его истории, искусство пантомимы стало выходить из этих низин, которым оно порою обязано было своим появлением. Пантомима одухотворилась, и в своем смысловом богатстве, в выразительности своей стала соперником словесной драмы, а точнее — встречным ей началом. Сама телесность пантомимы стала фактом по-своему духовным. Марсель Марсо из материала собственного тела создает сразу целые ансамбли людей, он иг-
479
рает одного за другим посетителей городскою сада, он Голиаф и он же выдвигается из-за колонны, превратившись в Давида, он продавец в лавке и он же покупатель или даже покупатели. Все это похоже на чудо хлебов, которых было только пять и которыми накормлены были толпы. Марсо переосуществляет собственное тело, лишает тело плотской его ограниченности, лишает тело, так cказать, догматизма, свойственного ему, когда из него, одного-единственного, извлекает такое множество персонажей и характеров, самых разнообразных, плохих и хороших, мелких и героических, комических и серьезных. Тело утрачивает свою косность, свою грубую автономию, оно — только строительный материал. Марсо обращается с собственным телом, как поэт со словарем родного языка, в котором он памятью ищет и отыскивает нужное ему слово. Вряд ли допустимо утверждать, что искусство Марселя Марсо, овеянное мыслью и сознанием, являет собою антитезу литературе, словесной драме. Театр пантомимы, управляемый Марселем Mapсо, стал также и фактом истории литературы. Так, постановка в этом театре «Шинели» Гоголи стала одним из важнейших событии в истории художественных воплощений этой повести в нашем веке.
Французский театр, быть может, более, чем какой-либо другой национальный театр, всегда был привержен к слову. Тем не менее, именно французы сейчас самые активные мимисты. Барро, прекрасный актер, также и прекрасный мимист. Он в драматические свои спектакли включает мимические пьесы, Барро служит слову, но Барро служит и пантомиме. .Марсель Марсо основал театр, который ставит только пантомиму, совсем оказавшись от слова. Но и театр Марсо существует внутри системы драматических театров Парижа. Нам кажется, что театр слова и театр жеста две противолежащие стороны параллелограмма. Они взирают друг на друга как бы в ожидании, что кто-то соединит их диагональю. Совместное пребывание на одних подмостках на протяжении одного и того же театрального вечера или хотя бы в пределах того же мира драматических театров драмы слова и драмы жеста есть как бы призыв к синтезу их или то меньшей мере к взаимному их воспитанию: слово должно сложить с себя свою отвлеченность и проникнуться живостью и материальностью жеста, а жест — пойти навстречу слову в его смысловом богатст-
480
ве и в его смысловой глубине. Реалестическому театру необходимо усвоить и тот и другой опыт. При всей выразительности,достигнутой Марселем Марсо, на его гастролях в Дублине ирландцы, как он сам рассказывает, кричали к концу спектакля: заговори, заговори — «Speak! Speak!»[338].
Наши театральные, служители, уже посмотревшие Марс, принимая публику очередного спектакля, предупреждали: ве бы у нено хорошо, да вот хоть бы одно словечко сказал, предупреждали, забывая, что словечко было бы французским и не прибавило бы понятности. Пантомима идет навстречу слову от немой физической жизни, а слово, идя к пантомиме, и на самом деле способно стать плотью. Эти требования — заговори, скажи — следует рассматривать как доказательство, что в данном случае пантомима по высокой духовности и осмысленности своей уже стоит на пороге слова или же что слово готово устремиться на ней, признав ее родственность,
Первый спектакль, увиденный нами, заканчивается представлением пантомимы Жака Превера «Сон Пьеро», хореография Барро. История Пьеро и Коломбины трактуется в этой пантомиме лирически, но с примесями реализма, сильного и порою резкого. Перед нами прошло балаганное представление с некоторыми напоминаниями о «Петрушке» Стравинского—Бенуа—Фокина. Роль Пьеро исполнил Барро, доказавший на этот раз, что, отлично обращаясь со словами в литературной драме, он умеет, однако, обходиться и без них. Пьеро, трактованный им, печален, нежен, робок; если он любит, то до гробовой доски. Для жизни, куда он брошен. Пьеро устроен слишком деликатно, и для Пьеро неизбежна судьба неудачника. Не в праве Пьеро хватать, грабить, загребать, насиловать, завоевывать. Пьеро бедствует, предается мечтательству, поклоняется статуе Коломбины, что водружена посредине площади. Сны Пьеро — его видения счастья, которого он лишен наяву.
Сны Пьеро весьма примечательны. Здесь и тени нет тривиального и сладкого романтизма. Собственно, счастья Пьеро не ведает и в своих сновидениях. Он всегда только рядом со счастьем, только рядом с Ко-
481
ломбиной, счастье и Коломбина всегда успевают ускользнуть, рассеяться, едва Пьеро пытается посягнуть на них. Диковатый и бесноватый арлекин, звероподоб и без удержу дикий офицер в красной феске — отражение арана из балета Стравинского — те танцуют с Коломбиной сколько им хочется, Коломбина без отказа в их распоряжении.
Пантомима снов Пьеро лирична и трагична. Барро извлекает из мимического искусства и душевность, и духовность, оно создает и растроганность, и высокие сильные чувства. Реальные мотивы реальной жизни включаются и в то, и в другое, они дают реальность и объем эмоциям. Ноги мима и танцовщика попирают землю — «морщат пространство», как сказал Барро в своем теоретическом сочинении[339]. Некий драматизм присутствует в искусстве мимики и танца как таковом. Оно ведет спор с темным тяготением, то одолевает его, то падает его жертвой. Материальное сопротивление, которое непрерывно поборают мим и танцовщик, вносит в их искусство внутреннюю энергию, умножает его выразительность. Тому или иному драматическому сюжету заранее предшествует драматичность средств, его воплощающих.
Бедняк Пьеро покупает у ювелира серьги для Коломбины. Они очень много весят, эти серьги, хотя они и условные. В них содержится реализм и трагизм, в них содержатся слезы и кровь. Пьеро их трудно заработал, они же и его надежда. По драматической своей весомости они напоминают другие серьги — из «Воцека» Георга Бюхнера. Действие пантомимы Превера приурочено к самой глубине XIX века, актеры танцуют в костюмах времени позднего романтизма. Но серьги, преподнесенные ей Пьеро, Коломбина прикрепляет к ушам, как если бы это были современные клипсы. Маленькая подробность эта дает выход за пределы романтической эпохи, она указывает, что история Пьеро и Коломбины имеет силу также и для нас. Маленьким подробностям свойственно порою приобретать фатальное значение. Если и они стилизованы под историческое прошлое, если предусмотрительность художника зашла так далеко, что
482
все и каждая из подробностей провергены с точки зрения моей историчности, то воцаряется музейный дух, Заделывается последняя трещина, сквозь которую идет общение нашей эпохи с той, минувшей, прошлое целиком укрывается для нас. Оставить клипсы Коломбине — полезный анахронизм. Через него мы узнаем в Коломбине сестру сегодняшнего человека, знакомку, подругу, а может быть — врага.
Коломбину играла Симон Валер. Когда она сходила с пьедестала и превращалась в живую женщину, мы видели блаженную, глуповатую улыбку на ее губах. Коломбина радовалась своему сошествию в живую жизнь — пусть будет она трудной, пусть будет суетной, пусть будет полна обманов и ошибок, живая жизнь лучше, чем камень статуи. У Симон Валер великое множество улыбок, у каждой улыбки свое значение. Бросаясь в мир людей, она улыбнулась улыбкой, в которой была радость действовать и жить как все, кто только жив. Можно бы сказать, что простая эта улыбка по смыслу своему была панегириком жизни и ее движению.
Барро выступал в комедиях Мариво и Мольера как комик, иной раз как буффон. В пантомиме он исполнял роль комико-трагическую. Унылое лицо было обсыпано, как это и полагается для Пьеро, белой пудрой, будто бы Пьеро только что побрили. Пьеро вздымал свои огромные раздутые белые рукава, как будто бы они были крыльями, затруднявшими полет, отяжелявшими его, Можно было подумать, что лететь собралась какая-то большая домашняя птица, перекормленная, пожалуй, своими хозяевами.
Юмор, ирония Барро не враждебны лиризму и душевности, вложенным в роль. Французское искусство и в лирике любило и любит комизм, забаву, иронию, только в особых случаях позволяя им проникать до самой сердцевины лирической темы, Обычно в сердцевине своей, в средоточии своем лирика остается неприкосновенной. Ирония и юмор не разрушают ее, но спасают. Они ее обволакивают, предупреждая другие влияния, которые могли бы оказаться для лирики и на самом деле губительными. Так у Мариво, раскрытого нам театром Барро, так у Мюссе, так недавно у Жироду и так сегодня у Ануйля.
Не станем перебирать подряд все мимические пьесы, заполнившие заключительный вечер гастролей француз-
483
ского театра. Некоторые из них уже получили толкование в нашей печати. Так, Т. Князевская хорошо объяснила «Лошадь», пантомиму, исполненную Барро, ее вольнолюбивый смысл[340]. Особого внимания заслуживает пантомима «Лунный свет» — постановка Жюля Сегаля, развернувшаяся как большое трагическое представление. В этой пантомиме можно заметить влияние современной живописи, стилистическое, и, что особенно любопытно, сюжетное. Веселая пестрота ярмарки, как думаем, восходит к картинам Дюфи, а сюжет со старым паяцем, старым Пьеро и его дочерью навеяны картинами «голубого» и «розового» Пикассо, где трактуется печальная и отверженная семья цирковых актеров. Старика Пьеро играл Барро. Это опять-таки был новый вариант уже игранной перед нами роли. В молодом Пьеро была энергия, хотя и нелепая, хотя и не ведущая к цели. Старый Пьеро, старый паяц тоже погас как телесная сила, он едва справляется со своими номерами, у него плохие сборы. Налетают в качестве зрителей молодые люди на мотоциклах. Искусство старого Пьеро не впечатляет их, они как зрители грубо-апатичны, В этой пантомиме действующие лица делятся по признаку одушевленности, как эго часто бывает в современном искусстве. Ослабевший Пьеро — это человек, у которого душа показалась наружу, ослабевшая плоть освободила душу, не подавляет ее отныне. Мотоциклисты — это странное и грозное бездушие, сила беспощадная и неосмысленная; сидя в своих седлах, они похожи на гигантских металлических насекомых, шум и треск машин как предвестие, что летит эскадрилья саранчи. Мотоциклисты подстерегают, когда старый Пьеро остается одни, убивают его зверски и уносят деньги, которые тот подсчитывал. Одни из них не участвует в убийстве, он уже давно не с ними. Этот третий — Жюль Сегаль — подпал под влияние старого паяца и влюбился в дочь его, Коломбину. После того как со старым отцом Коломбины покончено, поклонник Коломбины унаследовал его шутовскую одежду, его призвание и роль. На юного этого человека снизошли силы души и душевности, силы искусства, и они победили его. Являются полицейские агенты. Настоящие убийцы скрылись, агенты заподазривают
484
невинного, бросаются в погоню за ним, одетым в костюм Пьеро. Заключительная минута пантомимы многозначительна. Гонители остановились и щупают прожекторами местность. Юноша, влюбленный в Коломбину, наследник Пьеро, добровольно выходит, не к гонителям, а к свету, к прожектору, который бродит по сцене. Загремел выстрел, и юноша убит. Он мог спастись, мог остаться в стороне от преследования, навстречу смерти он вышел по собственному побуждению. Как человек, как художник, как актер он не может уйти от света — от света рампы, от света жизни. Инстинкт и долг его — предстать свету лицом к лицу. Барри в брошюре, посвященной театральному искусству, писал очень верно, что трагедия — это победа над инстинктом самосохранения: «трагедия начинается там, где инстинкт самосохранения исчезает»[341]. Юный герои пантомимы не посчитался с эгоизмом благоразумия и в качестве добровольного их орудия предоставил себя лучшим и высшим силам жизни, бесстрашно светолюбивым.
По внутренней теме «Лунная одежда» перекликаемся с «Ночами гнева» Салакру. В драме Салакру тоже речь шла о ценностях жизни по ту и эту сторону самосохранения. Юноша из пантомимы, который не хотел прятаться от света, сходствует с героем Салакру, с Жаном Кордо, гуманистом, активистом, гражданином, которого не устрашили ни казни, ни пытки гестапо. Однако свою внутреннюю тему пантомима выразила несравненно внушительнее. На этот раз пантомима, искусство тела, доказала, что может доработаться до самого высокого духовного содержания. На этот раз пантомима не отстает от литературной драмы, она показывает ей пример, как сосредоточить должным образом собственные силы и как вернее делать собственное дело. Языком жеста и телесного движения пантомима рассказала о том, что выше интересов тела, — о красоте подвига, о преданности человека своему художественному и моральному призванию.
Французские гости подружили нас со своим искусством, демократическим, умным, в оболочке изящества, шутки, игры, иной раз сарказма, хранящим свой душевный и добрый к человеку смысл,
1962
(По поводу спектаклей Гамбургского драматического театра)
Гамбургский драматический театр показал нам две свои постановки и еще фрагмент третьей, «Фауст» Гёте, часть первая, поставленный Густавом Грюндгенсом, очень обеспокоил наших зрителей и вызвал их на страстные споры. Если не ошибаемся, со времен постановки Ф. Ф. Комиссаржевского в театре Незлобина в 1912 году, русская сцена не знала каких-либо своих собственных опытов работы над «Фаустом» Гёте, Поэтому спектакль Густава Грюндгенса был воспринят у нас как новость и событие. Другие постановки гамбургских актеров тоже примечательны, но «Фауст» в первую голову подлежит обсуждению.
Гамбургский театр оставил текст первой части неприкосновенным. Зато в театральной интерпретации допущены заметные вольности. Когда на сцене классическое произведение, то оно всегда может постоять за себя, в какие бы эксперименты ни пускались постановщики. «Фауста» в Германии на зубок знает всякий, каждая тирада более чем известна через чтение школьное и послешкольное, весь текст рассыпался на афоризмы и поговорки, как для нас грибоедовское «.Горе от ума». За пределами Германии любой театр тоже вправе предпо-
486
лагать, что «Фауста» Гете зритель знает и помнит. «Фауст» Гёте — достояние мировой культуры, короткое знакомство с ним входит и обязанность всего грамотного мира, будет ли это та или другая страна Европы, будет ли это Европа или Азия.
Если режиссер ставит на сцене новую, впервые уступающую в жизнь, драму нового драматурга, то все находится в руках режиссера, О драме зрители узнают лишь то, что поведал им режиссер, едва ли больше того. В этом случае текст и спектакль равны друг другу. Совсем иное с «Фаустом» Гёте. И текст, и культура его восприятия существуют независимо от театра. В каждую постановку «Фауста», помимо того, что дано от театра, входит еще Гёте сам по сеое, Гёте как таковой. Хочет режиссура ло т пли не хочет, все ею сделанное воспринимается на фоне классического текста и вековых истолкований, связанных с ним. На афише Гамбургского театра значится: текст Гёте, постановка Грюндгенса, и это в самом деле две раздельные силы искусства, далеко не сливающиеся друг с другом. Перед нами и Гёте, каким он дан черен Грюндгенса, и Гёте, совершенно самостоятельный, живущий без Грюндгенса и помимо Грюндгенса, не подвластный любой режиссуре, откуда бы она ни появилась, Подлинный Гёте присутствует в этом спектакле, как и во всяком другом, который строится на подлинном тексте «Фауста». Нам кажется, что слишком беспокоиться о классическом авторе, как бы он не пострадал от новшеств режиссера, от натиска этих новшеств, это значит мало верить в силу автора и чересчур переоценивать режиссерские возможности. Зачем думать, что сознание зрителя — воск, только и ожидающий, какие знаки будут вдавлены в него. Зритель приходит в театр со своим собственным классиком, со своим собственным пониманием текста, Вероятно, по этой-то причине самые смелые из своих экспериментов театр совершал именно над классическими произведениями, казалось бы неприкосновенными. Имея дело с. классиками, театр может рассчитывать, что и зритель внесет свое в спектакль, что не столь нужны обстоятельность и полнота в постановке, ибо недостающее зритель дает от себя, и с экспериментом, не робея перед ним, вступит в спор авторский текст в общеизвестном его составе и истолковании. Можно не досказывать — текст доскажет, можно допустить преувеличение — текст восстановит настоя-
487
щие масштабы и пропорции, можно и пошутить — текст вовремя подоспеет со своей серьезностью. Густав Грюндгенс, конечно, далеко не каноничен в отношении старого Гёте. Но и Гёте совсем не бездействен в этом спектакле, который ведется по тексту его драматической поэмы, он достаточно активен здесь и, можем надеяться, не дает себя в обиду. Перед зрителем происходит борьба между великим классическим поэтом и современным режиссером, современными актерами. Итоги спектакля в том, к чему приводит эта борьба, в том, какова идейная и художественная развязка этой борьбы, где работа постановщика только одна из борющихся сторон.
Гамбургская постановка вся целиком рассчитана на эту третью силу помимо режиссера и актеров, на независимый текст Гёте, досконально знакомый зрителю. Многое в этом спектакле только напоминание. Свой первый знаменитый монолог, всеми вытверженный, многократно комментированный в мировой литературе, актер, играющий Фауста, Вернер Хинц, произносит с необычайной спешкой — «ни курьерских». И эта спешка наблюдается в произнесении многих других речей драматической поэмы Гёте. Актеры не «исполняют» эти речи, не выговаривают их по всем правилам декламации, не выпевают, но как бы только указывают на их место в тексте, отчеркивают от сих до сих. Гамбургский спектакль отчасти похож на быстрое прочтение поэмы Гёте, па прочтение ее «в лицах», на перелистывание ее страниц, при котором одни страницы читаются — цитируются — медленнее» чем другие, с усиленным выражением, другие же поспешно. Этот спектакль, эти зрелищные приемы не позволяют нам забыть, что в основу всего положена книга, заключенная в переплет, созданная искусством печатников. В колорите спектакля преобладает черное и белое, цвета типографской страницы. Спектакль временами кажется возникшим из печатного текста, из шрифтов, как графическое зрительное дополнение и пояснение к ним, как зрительный орнамент на их основе, развивающий их графические мотивы. Спектакль не. притязает заменить книгу, заменить текст, именуемый «Фаустом» Гёте. Назначение спектакля более скромное, подсобное, актеры перечитывают перед нами классически знакомые страницы со своими особыми подчерками и отметинами, оставляя между страниц закладки.
488
Метод режиссера Грюндгенса — упрощение и экономия средств. В отношении стилистическом Грюндгенс как бы сокращает данное нам у Гёте. Где у Гёте несколько стилистических множителей, там Грюндгенс сводит их к одному-двум, устраняя остальные, Мы говорили: черно-белая гамма спектакля напоминает раскраску типографской страницы. Но мы продолжим: спектакль очень далек от того полихромного стиля, который присущ поэтическому воображению Гёте. С печатных страниц. Гёте подымается многоцветный поэтический мир, и ему почти нет соответствия в колорите, которого придерживается Грюндгенс. Постановщик по временам только указывает, что у Гёте краски присутствуют, сам предпочитая черное, серое, белое. В известных случаях постановщик как бы цитирует и своем спектакле расавеченность Гёте, приводит краски Гёте, но как бы заключая их и кавычки. Например, в эпизодах у городских ворот в сценическую раму введены фигуры народного гулянья — красные, голубые, желтые. Здесь перед нами черно-серый Фауст, в сером одеянии Вагнер и по исключению цветные фигуры горожан, Полихромия не есть художественный язык этой постановки, полихромия появляется только в иных случаях, как точно процитированный художественный язык самого автора, которого постановщик отнюдь не придерживается подряд, где цитируя, а где обходясь без цитат. В этом спектакле есть свой язык постановщика, по-особому соотносительный с авторским языком, сам же авторский язык прямо включается в спектакль только эпизодически. Мы бы сказали, что постановщик ориентируется па художественный язык гравюры. Так, «сухой иглой» сделана сцена в погребке Ауэрбаха. В ней есть некоторое сходство с известной гравюрой Калло, изображающей игроков в кости. Жак Калло был издавна хорошо усвоен искусством и литературой Германии, еще со времени Гофмана. Веяние его жесткого, мрачного и обостренно-выразительного искусства ощущается и в этом спектакле. В его постановочных приемах.
Грюндгенс погашает в своем спектакле краски, Он также погашает и песни, которыми так богат текст поэмы Гёте. Песни —все равно, будут ли это вульгарные песни буршей, пирующих у Ауэрбаха, будут ли это музыкальные эпиграммы и пародии, исполняемые Мефистофелем, или же чистейший, удивительная лирика Map-
489
гариты, песни все без различия даются в этом спектакле сухим, торопливым речитативом. Песни не поются у Грюндгенса, они сказываются, притом сказ этот некрасив, угловат, антимузыкален. Гретхен поет (поет ли?) спою балладу о фульском короле, раздеваясь. Она очень бойко и ловко скидывает с себя одежды, и баллада едва поспевает — в исполнении баллады нег чувства, гет задумчивости, неН ничего, что могло бы тормошить обыденные действия обыденного человека. Музыка здесь не властвует над человеком, она у него находится под рукой, и он не очень с нею церемонится.
Гашение всего цветного и песенного важный симптом, важная характеристика режиссерских устремлении Грюндгенса. Постановщик боится поэзии в этом великом поэтическом произведении. Все, что у Гёте относится к живописности, к лирике, все это заставляет постановщика сжиматься, уходить в себя. Грюндгенс последовательно опрозаивает «Фауста» Гёте. Быть может, им руководит недоверие к поэзии вообще, к поэзии Гёте в частности, и прозаизм кажется ему честнее, реальнее. Сейчас на Западе недоверие к поэзии — явление распространенное, и многие художники кичатся им, думая, что без поэзии они ближе к правде — к самой радикальной правде, Конечно же, это недоверие — признак идеологического упадка. Сомнение в поэзии — сомнение в правах жизни, в силе ее обаяния, в ее раскрываемых перед человеком богатствах. Нам кажется, Грюндгенс как художник весьма несвободен от этого сомнения. Но, быть может, оно владеет им в более скромной и непритязательной своей форме: Грюпдгепс не столько скептичен в отношении поэзии вообще, сколько в отношении собственных сил воссоздавать ее, и поэтому берется за текст Гёте с прозаической его стороны, как с более доступной и ему, режиссеру, и актерам, работающим с ним.
Намеренное обеднение, упрощение, близость к прозаизму видны в том, как разработаны в этом спектакле два главных действующих лица — Фауст и Маргарита. В спектакле Грюндгенса Фауст почти лишен своего ореола. Он здесь не мудрец, не чародей, не тот чрезвычайный человек, которому дивятся окружающие, У него нет философской созерцательности, нет лирики. Ему оставлена одна внутренняя напряженность, «буря и натиск» очень в нем подчеркнуты, а еще больше того — вечные муки,
490
вечная растерянность, У Фауста .лицо с портретов работы Альбрехта Дюрера, и у Фауста внутренний надрыв, обыкновенный дли современного европейца. Вернер Хинц, сейчас играющий Фауста, в прежние времена играл на сцене Мефистофеля. Переход из роли в роль здесь очень любопытный, собственно, это переход из одного амплуа в другое, нисколько ему не родственное. Хинц — характерный актер, играющий лирико-героическую роль; очевидно, ему поручили ее, считая важным, чтобы лирика и героика без чрезмерного подъема, без надрыва прозвучали здесь. Талантливая актриса Элла Бюхи играет малообычную Гретхен. Героиня Гёте, подобно шекспировской Офелии и Дездемоне, вся — чистейшая поэзия, беспримесная лирика, и это делает столь трудным изображение ее на сцене. Элла Бюхи упрощает Гретхен, ослабляет лиризм, она отчетлива, едва ли не резка во внешних своих проявлениях, кажется даже несколько совреминной по облику своему, и порою можно заподозрить, не посещает ли Гретхен Бюхи по воскресеньям вместо, церкви футбольные состязания и не занимается ли она сама греблей, например. Режиссерское, а косвенно и актерское недоверие к внутренней теме Гретхен, к лирической природе этой героини сказывается то тут, то там в приемах игры. Гретхен готовится ко сну, раздевается, быстро, точно, педантически укладывает свои одежды, — она делает это, как бы отбывая перед зрителем свою характеристику: смотрите и запоминайте, какая я аккуратная девушка, какое я милое, исполнительное, дитя в доме у своей матери. Герои поспешно отчитывали свои тирады в некоторых местах спектакля точно так же. Подобно тому, как они не произносили своих речей, но как бы ссылались на них, так и здесь Гретхен: кажется, что она не живет на сцене, что она только указывает зрителям на самое себя со стороны, что она не более, чем дорога к Гретхен, стрелка, к ней ведущая, а найти Гретхен должны мы сами,
Некоторая грубоватость и назойливость свойственны этой сцене в комнате Гретхен. На пустой, оголенной сцене помост, на помосте кровать Гретхен, представленная очень подробно. Подчсркнутость кровати — огрубление любовной истории Гретхен и Фауста, развитие которой только предстоит.
В сцене у колодца сам колодец опять-таки представлен с точностью даже технической. Хорошо виден весь
491
старинный механизм колодца с ныряющим ведром. Подчеркнутая техника колодца — его опрозаивание, Колодец у Гете — скрытая поэтическая тема, Гёте любил эпизоды у старинных колодцев, сборища и встречи там с онтеиком патриархальности и идиллии. Грюндгенс его в этом не поддерживает. Отношение Грюндгепса к старинным колодцам исчерпывается знанием, как были они устроены.
Однако не следует спешить с выводами, В спектакле Грюндгенса вещам, ставшим достоянием прозы, отчасти возвращается утраченное ими значение. Если они не становятся поэтическими, то уж наверное они приобретают трагизм. Прозаизмом своим колодец заражает статую мадонны, стоящую возле, Гретхен молится перед мадонной, бросается перед нею со словами последнего отчаяния. Но мадонна в этой сцене пустое изображение, камень, дерево. Мольба Гретхен, обращенная к этому пустому неодушевленному предмету, столь же неодушевленному, как колодец, что рядом с ним, — мольба эта ужасающе бессмысленна, Гретхен в этой сцене лишена всякой надежды, она жалуется истукану и от него ждет помощи. Ответа ей не будет, вокруг нее вещи, не привыкшие общаться с кем-либо, Весь пейзаж вокруг Гретхен исключает жизнь, исключает человека, не воспринимает его, не видит, не слышит, как бы тот ни молил и ни отчаивался.
В эпизодах истории Гретхен каждый раз на пустой сцене высятся какие-то предметы, без органической связи со своим окружением, неизвестно, как сюда заброшенные. Сначала кровать под пологом, потом колодец, потом тюремные нары, на которых томится заключенная в тюрьму и осужденная Гретхен. Конечный смысл всего высокотрагичен. Если предметы, отдельно взятые, и кажутся голой прозой, то совсем иное все они в их совокупности, в их смене от эпизода к эпизоду. Вместе взятые, они приобретают мрачную значительность, все они тот жестокий мир, который не жалует, не милует и от которого исходят наказания и казни. В этом мире жить нельзя, в нем можно только терпеть и терзаться или быть растерзанным.
Скупость постановочных средств, оголенность сцены у Грюндгенса связаны с театральной условностью. Он явственным образом не стремится к полноте иллюзии на сцене и поэтому охотно делится со зрителями свои-
492
ми постановочными секретами. «Пролог в театре» играется без грима, Перед нами актеры, как бы еше не приступиншие к своим прямым обязанностям. Директор театра Шомберг на наших глазах подвязывает себе бороду, чтобы в другом прологе — в небе — явиться перед нами в качестве господа бога. «Комическая персона» пролога в театре — будущий Мефистофель, поэт — будущий Фауст. Мы застаем актеров в первом прологе еще приватными обыкновенными людьми, и нам предложено помнить их в этом их свойстве и после той минуты, когда они превратятся в действующих лиц трагедии. В театральном прологе перед нами тот человеческий материал, из которого будут в дальнейшем сделаны Фауст, Мефистофель, господь бог, дух земли. Мы входнм в спектакль под знаком условности, Сначала перед нами живые люди во всей полноте своих живых черт, потом живые лица превращаются в театральные маски, сокращаются до значения масок. Грюндгенс мастер театральной услов ногти там, где она прямо требуется текстом. Остроумнейшим образом поставлен пролог в небе, с архангелами, сделанными под средневековую деревянную скульптуру, с сиянием над головой господа бога, присутствующего в небе, и тогда, когда ни бога, ни головы его там нет. Господь бог произносит свои тирады с умышленной невыразительностью: в гамбургском спектакле актеры прибегают к очень разнообразным способам читки стихов, произносят со сцены речи действующих лиц как бы набранные разными шрифтами, и среди этих способов произносить стихи самый любопытный у актера Шомберга в роли господа бога. Шомберг читает стихи, намеренно лишив свою читку всякого выражения, так как дло бога какое угодно выражение будет мелко-персональным, невнушительным, будет голосом Мартина, Петра, Ивана, каких-то челоисческих приятелей и кумовей; лучше читать совсем без интонаций, абсолютным, безымянным голосом, уподобляя речь свою древним начертаниям на камне без деления на фразы и слива, чем держаться интонаций тех или иных, слишком реальных, слишком близких к мелкому волнению челонеческих индивидуальностей. Такова и постановке Грюндгенса условность пролога н небе и других сцен «Фауста», где условность предписана самим Гёте.
Но мы возвращаемся к тому, что Грюндгенс не раестдется с условностью на протяжении всей трагедии
493
Гёте, независимо от замыслов автора, клонящихся в совсем иную сторону. У Гёте, как правило, полнота иллюзии, у Грюндгенса, как правило, — неполнота. У Гёте — живописа-ние, у Грюндгенса — гравюра. Еще иначе мы бы сказали: у Гёте — стиль, у Грюндгенса — манера. Как известно, от самого Гёте исходят эти понятия — стиль и манера. Гёте придал им в одной из глав «Итальянского путешествия» особый смысл, связал их и одновременно противопоставил друг другу. В понимании Гёте стиль — это действительность, переданная в искусстве во всей своей цельности, во всем цветущем своем многообразии, во всем своем богатстве. Манера — односторонность, выборка тех или иных качеств и свойств действительности, подчеркивание, нажим, предпочтение, оказанное характерности перед цельной и прекрасной жизнью изображаемого явления. Стиль и манера, по Гёте, два способа художественного познания, и так как они оба обращены к объекту, питаются им, то между ними нет абсолютной враждебности, они не исключают друг друга, между ними возможны переходы, постоянно совершаются передвижения из одной области в другую. Разумеется, для Гёте верховное явление искусства — стиль, как его он истолковывает. Манера, по Гёте, — младшее явление, зависимое от стиля, подготовительное к нему. Думаем, эти понятия эстетики Гёте дают нам опору для оценки художественной работы Грюндгенса. Спектакль Грюндгенса лежит всецело в области манеры, но через манеру он наводит на стиль, на большой стиль самого Гёте. Языком односторонности Грюндгенс говорит о полноте и цельности, языком предумышленной бедности — о стихийном богатстве. К «Тайной вечере», великой картине Леонардо да Винчи, ведут итальянские старинные гравюры, сделанные по ней, через гравюры мы лучше осваиваемся с живописью Леонардо, через скупость и жесткость гравюр — с живописными щедростью и обилием, через абстракцию гравюр — с беспримерной живописной конкретностью, не сразу поддающейся нашему глазу. Гравюра, хорошо и точно сделанная, может служить хорошей пропедевтикой к самой живописной картине, готовить к ее восприятию. Так, после Грюндгенса мы заново овладеваем богатствами «Фауста», сквозь узость Грюндгенса нам доступнее войти в широту стиля Гёте. Вероятно, нет лучшего повода восчувствовать, что такое стиль Гёте и стиль «Фауста», чем зна-
494
комство со спектаклем Грюндгенса. После него, после его абстракций, лаконизмов, условностей нам становится ясным, насколько безусловен Гёте, насколько стиль его — цветущий — родствен стилю Ренессанса и Шекспира. Спектакль Грюндгенса потревожил для нас поэму Гёте, и Гёте как таковой вторгнулся в этот спектакль, договорил все его недоговоренности, расцветил весь его рисунок. Вероятно, для художника современного западного мира нет другого пути к высокой мировой классике, чем избранный Грюндгенсом. Связаться с классикой он не может непосредственно, он может только издали подготовить и себя, и своих зрителей к этой связи. Вергилий в поэме Данте служит провожатым только до ворот рая, тут иссякают его полномочия. Так и современный западный художник. Путем узким, колючим, трудным он в силах доводить до порога классики, и на этом пороге он покидает нас, предоставляя нам самим общаться с нею, предоставляя ей самой на нас воздействовать в полную меру собственных ее возможностей. В спектакле Грюндгенса главное и последнее слово принадлежит самому Гёте. За кулисами театра вертится пластинка. Это — колокольный звон, который Фауст услышал в ту страшную ночь, когда замышлял самоубийство, — праздничные колокола удержали его в жизни. Мелодия с пластинки — едва развитый намек на музыкальное ликование, слышимое в этой сцене у Гёте. Сцена у ворот города в спектакле почти лишена подробностей ландшафта, хотя ландшафт здесь очень важен у Гёте. В подмостки воткнута одна бедная черная розга, и она-то должна служить символом наступающей весны. Однако же по этому нищенскому намеку восстанавливается весь ландшафт весны и пасхи с его характерной лирической настроенностью. Всюду ожидается, что сами собой откроются поэтические шлюзы поэмы Гёте, спектакль всего лишь подает знаки к тому. Досказать Фауста, доработать должны мы сами вместе с Гёте. В это сухое, черное зрелище должны прийти краски и поэтическая влага. В сцене «Лес и пещера» нет ни леса, ни пещеры. Есть схема, конструкция, помогающая разместить в пространстве Мефистофеля и Фауста, причем само это пространство здесь только способ передать, как внутренне соотносятся друг с другом оба действующих лица. Вероятно, в этой сцене сильнее всего проявляется театральная абстракция, здесь резче, «манернее» всего
495
та манера, через которую мы в этом спектакле заглядываем в великую область стиля. Грюндгенс как бы переводит на язык прозы, сухой, обостренной, интеллектуальной, великую поэзию Гёте. Что перевод, таким образом направленный, имеет свои права и смысл, об этом, если угодно, говорил сам Гёте. Он одобрительно высказался Эккерману по поводу работы, выполненной в 1827 году Жераром де Нервалем: это был перевод «Фауста», сделанный на французский язык, в буквальном смысле перевод и в буквальном смысле перевод прозаический. По словам Гёте, в этом французском переводе прозой «Фауст» воспринимался с необыкновенной свежестью, все казалось новым и по-новому живым.
Густав Грюндгенс не ограничился одной режиссурой. Он играет в «Фаусте» Мефистофеля, и Мефистофель, созданный Грюндгенсом, первоклассным актером, — самая замечательная фигура в этом спектакле. Как ни смел и оригинален Мефистофель Грюндгенса, он восходит к одному из направлений немецкой сценической традиции. Мефистофеля, трактованного в этой манере, немецкая сцена знала издавна. Нам известно о герцоге Карле Мекленбургском, выступавшем в любительской постановке «Фауста» на дому у князя Радзивилла в 1819 году. Герцог играл Мефистофеля в черном фраке и в шелковых чулках. О Карле Ла Роше, исполнявшем роль Мефистофеля на немецкой сцене в 20-х и 30-х годах прошлого века, нам рассказывают современники, что он играл в духе изысканной иронии и что Мефистофель походил у него на человека из светского общества. Герцог Карл Ла Рош — предшественник Грюндгенса. В совсем иную сторону идет традиция, созданная Карлом Зейдельманом, любимым актером молодого Маркса. У Зейдельмана Мефистофель был дьяволом из фольклора, шутливым созданием из огня и грязи, выражением земной реальной жизни, ее простых и грубых сил. Аристократизм, очевидно, главнейшая из черт, приданных Грюндгенсом Мефистофелю. Его Мефистофель по всем признакам синьор, владетельная особа. Он очень стар, возраст и положение побуждают его держаться на далекой дистанции от вещей обыкновенной жизни, он брезглив, презрителен в отношении их. О знаменитом Миттервурцере в роли Мефистофеля современный ему театральный критик наивно писал, что тут не одну роль играет этот актер, но целых двенадцать ролей и все они
496
обняты одной. У Грюндгенса, скажем мы тогда скромнее, роль Мефистофеля содержит в себе не меньше, чем три или четыре роли. Как бы трижды или четырежды прорисован у Грюндгенса профиль Мефистофеля, со все возрастающим приближением к исходному замыслу. Мефистофель у Грюндгенса — потусторонняя сила, с бледным, неживым лицом, с красными губами вампира. На голове у него черная шапочка, похожая на пролитый и застывший лак, ни один живой волосок, который шевелился бы отдельно и свободно, не выбивается из-под нее. Но потустороннее — это миф, идеальное понятие. С точки зрения реалистической, можно говорить о потустороннем не в отношении мира в целом, но в отношении к каким-то его отдельным содержаниям. Мефистофель находится по ту сторону положительных содержаний жизни, он вне их, он враждебен им. Его внеположность жизни, его старость, его аристократизм — все эти свойства его перекликаются и служат метафорами друг другу. Основа всему холодная отчужденность Мефистофеля от людского мира. Она выражается как вампиризм его, как старчество, как аристократическая надменность. С другой стороны, каждое из этих свойств как бы выливается и через другое: скажем, старчество — метафора аристократизма, возрастная отчужденность от жизни — метафора отчужденности сословной, социальной и обратно.
Мефистофель Грюндгенса изыскан и изящен даже в одежде. На нем не вызывающе красный наряд театрального дьявола, по-площадному откровенный, но глухая черная одежда, что-то родственное черному фраку, в котором когда-то выступал герцог Мекленбургский. Красные языки нашиваются на эту одежду только начиная со сцен с Фаустом. Мефистофель носит цвета ада и огня, но эти цвета на нем сдержанные. Врезается в память рука Мефистофеля в черной перчатке. Грюндгенс подчеркивает перчатку, всюду на виду эта с натянутой на нее перчаткой рука Мефистофеля, рука брезгливого синьора, который не допустит, чтобы собственная его рука, сама, без посредников, соприкасалась с предметами предметного мира,— он имеет с ними дело только через перчатку. Перчатка в мире жестов выполняет назначение эвфемизма в мире слов — эвфемизма, пристойного слова, примененного там, где непристоен сам предмет.
497
Смело поставлена сцена кухни ведьмы. Постановщик держится мудрого правила, что уродливое не должно иметь формы, не должно иметь образа, безобразное действительно должно быть в этом смысле и безобразным. Это правило соблюдается им и здесь и в сцене Вальпургиевой ночи. Кухня ведьмы — зрелище, которое глаз с трудом осваивает, до конца иные предметы здесь остаются малопонятными, неотождествленными с тем, что нам знакомо и привычно. Мы угадываем чье-то опрокинутое изображение, какое-то пестрое изваяние, поставленное на голову, с ногами, раздвинутыми наподобие ножниц. В предмете, помещенном сбоку, можно, пожалуй, признать качели. Но Мефистофель придает особый характер этому причудливому жилищу. Он в добрых отношениях с ведьмой, хозяйкой его. Кухня ведьмы может вызвать какие-то бытовые представления, она похожа на тайный ночной притон, куда Мефистофель, как видно, хаживал в былые годы. Сейчас этот старый господин пришел сюда воспоминаний ради да захватил с собой приятеля, доктора Фауста. Старый господин присел на качели и стал покачиваться на них, изящно выбрасывая вперед ногу. Ровно век тому назад Богумил Давизон, знаменитый актер венского Бургтеатра, играя Мефистофеля, тоже по-своему орнаментировал эту сцену: он садился в кресло, подзывал свистом маленькую мартышку, брал ее к себе на колени, подкидывал ее, играл и возился с нею[342]. Угадывать в кухне ведьмы возможный ее реально-бытовой прототип, наводить на этот прототип — ночной притон или что-нибудь иное, близкое к нему, — это значит угадывать «внутреннюю форму» всей этой сцены у Гёте, доводить «внутреннюю форму» до нашего сознания. У Гёте, как и у Шекспира, фантастические эпизоды строятся на основе реальности и реальных отношений, которые просвечивают сквозь эти эпизоды на правах «внутренней формы», на правах осмысления этих эпизодов изнутри. Когда вводится в строй его «внутренняя форма», подсказанная реальностями, фантастический образ как бы отвердевает, ему сообщается дополнительная художественная сила. Грюндгенс вносит «внутреннюю форму» только некоторыми деталями своего сценического поведения; жест,
498
полжеста, поза, полупоза, и этого достаточно, чтобы заново осветились и вся обстановка и весь контекст. Детали действия указывают и на место действия, на колорит этого места, на остальных участников сценического эпизода. Здесь ясно, в какой степени сам актер может созидать обстановку, подробностями своей игры вызывать ее в нашем воображении.
Конечно, весь рисунок роли Мефистофеля у Грюндгенса отступает от данного нам Гёте. Традиция старого актера Карла Зейдельмана, продолженная Миттервурцером, продолженная Бассерманом, по-видимому, ближе к тому, что предписано авторской волей. И все же Грюндгенс не может выпасть из текста Гёте, и входит это в замысел Грюндгенса или не входит, в конце концов Мефистофелю в его исполнении дается тот смысл, который предуказан автором. У Гёте первая часть «Фауста» еще далеко не решает спора между Фаустом и Мефистофелем. В меру того, что дано частью первой, у Грюндгенса намечается посрамление Мефистофеля. Его презрительность к жизни, его надменность это же и прикрытое его бессилие перед нею.
В великолепно проведенной Грюндгенсом сцене с учеником это, быть может, особенно ясно. Все злое в Мефистофеле здесь представлено с предельной отчеканенностью. Он поджидает ученика, сидя за пультом, в черном берете, со своими взлетевшими вверх, как бы взвинченными бровями, полуприкрывшись книгой, в которую опущены его глаза. Перед нами зрительный образ притаившегося зла, готового к выпаду, к издевательствам, к игре со своей жертвой. Сцену с учеником Грюндгенс, однако, ведет умеренно, тихо забавляясь по поводу этого простофили, в котором для него наглядно представлен род человеческий. Мы только догадываемся о злом огне, которым горит Мефистофель. Однажды огонь этот вырывается — при иронических словах о зеленом древе жизни. Смеясь и завывая, Мефистофель отпускает ученику поощрительную пощечину. Мефистофель Грюндгенса весь отравлен собственным ядом и изредка лишь он смеет выпустить свой яд наружу. Злое начало боится жизни и предается ненависти к ней, прячась в хорошо обдуманной засаде. Фауст, Гретхен всегда могут ускользнуть и ускользают от Мефистофеля. Старый господин совершает много скверных дел, и все-таки ничего не может поделать с положительными сила-
499
ми человеческой жизни. Мефистофель действует укусами, и укусы эти ей нипочем. Зло в Мефистофеле осторожно, сдержанно — от несостоятельности своей, оно боится настоящей гигантской вспышки, как бы та не вызвала такого же отпора со стороны внешнего мира, как бы та, наконец, не разрушила его самого, Мефистофеля, изнутри. Как везде и повсюду, так и в отношении Мефистофеля стиль побеждает манеру. Мефистофель отходит в тень, и хозяином спектакля остается Гёте.
Нельзя не заметить, до чего модернизованным, подогнанным под нормы времен новейших изображает Грюндгенс Мефистофеля. Этот Мефистофель прожил чуть ли не двести лет еще после того, как написал его Гёте. К нему прибавились годы и годы, к нему прибавилась и новая искушенность. У Грюндгенса Мефистофель являет собою зло мира в современном, в современнейшем его виде. По способу обращения с людьми Мефистофель этот совершенно шелковый, вежливый даже с преувеличениями, идущий навстречу, деликатный, деликатнейший. История человечества шла, цивилизация развивалась, и не то чтобы зло шло на заметную убыль по мере роста ее, нет, у него тоже было свое развитие, оно тоже причастным было ко всеобщему совершенствованию — так внушает нам думать Мефистофель в изображении Грюндгенса. Эта светскость, эта обходительность и учтивость, этот лоск и эта мягкость Мефистофеля, показанного Грюндгенсом, есть как бы плод длительного приспособления к цивилизации, к ее запросам, привычкам и вкусам, ибо цивилизация не терпит грубости, откровенных жестов и слишком откровенного насилия. Можно было бы даже сказать, что у Грюндгенса — Мефистофеля зло усвоило себе некие либеральные формы, согласилось на какие-то конституционные гарантии человечеству, с известных пор ставшие неизбежными. Стоит еще раз приглядеться, как скромен этот Мефистофель, как скромно одет, весь в черном вместо горящего — горючего, красного, рдяного одеяния, с которым Мефистофель оперной сцены и по сей день не расстается. Стоит, наконец, прислушаться, как тихо скользит по сцене Мефистофель — Грюндгенс, можно счесть, что и он принимает участие в очень модной сейчас борьбе с шумами больших городов и подает пример, как можно даже на сцене навсегда отказаться от шума и от его эффектов. При всем том всего важнее
500
что Грюндгенс дает нам понять, насколько фальшиво все это приспособление зла к цивилизации, не перевоспитание, а только лишь приспособление с целью сохранить самого себя. Когда в Грюндгенсе — Мефистофеле вдруг снова заклокочет старое, старинное зло, в натуральном его и безжалостном виде, то ясным становится, что этому приручившемуся злу нельзя ни на минуту верить, что оно затихает из тактических соображений и при малейшем удобном случае еще размахнется и развернется по-грубопримитивному, как это и на деле свойственно ему. Тишина, благопристойность и шелковость — только признаки, что зло остановлено в своем натиске, что прежняя откровенность действий для него более невозможна и что, как верит Гёте, ведущее положение им утрачено. У Грюндгенса, как это предуказано и поэмой Гёте, Мефистофель — древняя, очень древняя сила, но пришли те века, пришел тот век, когда отец лжи потерял свою древнюю самоуверенность. Грюндгенс играет в драматической поэме Гёте с теми интеллектуальными оттенками, с той философичностью общего замысла роли, которые необходимы, если кто берется интерпретировать великую философскую поэму со сцены.
Комедия Клейста «Разбитый кувшин», поставленная Гейнцем Гильпертом, менее дискуссионна, чем «Фауст» в постановке Грюндгенса. Правда, и здесь в режиссерской трактовке есть своя парадоксальность — в духе трезвого бытового реализма поставлена комедия, в которой самая дерзкая фантастика едва обуздана автором. Гейнц Гильперт не хочет преувеличений и эксцентрики, очевидно, по той причине, что и то и другое свойственно самому драматургу, Клейсту. Временами его постановке недостает характерности, временами нужны бы усиленные акценты. Тем не менее спектакль очень хорош по актерскому ансамблю, почти безупречному. Адама, сельского судью, старого грешника, взяточника, обжору, пьяницу и бабника, играет Герман Шомберг, превосходный актер. Масштабами и очертаниями фигуры, широтой жеста, крупной выразительностью игры он (несколько напоминает Эмиля Янингса, впрочем, без той глубокой физиологической веселости, которая свойственна была этому актеру. В изображении Шомберга судья Адам — мрачноватый Фальстаф, комедийная фигура, стоящая, однако, на пороге страшного и жестокого мира. Судья Адам очень опустился, на огромном брюхе
501
у него огромное пятно, его опущенность и неряшливость принимают грандиозные, пугающие размеры. Деспот и самодур в своей деревне, он привык к бесконтрольной жизни. В изображении Шомберга судья Адам — чудовище самоуправства, он ожирел, одичал душой и всем своим большущим безобразным телом от привычки жить самодержавным повелителем, не дающим никому отчета. Подоспевает труднейшая для него коллизия — в деревню приезжает ревизор, высокое просвещенное лицо. Судье Адаму наконец-то предстоит отчитаться перед кем-то вышестоящим, сам судья становится судим. Ревизора, судебного советника Вальтера, правильно играет Вернер Хинц, (накануне представлявший перед нами Фауста. Весь контраст между судьей Адамом и ревизующим его судебным советником хорошо передан в эпизоде нюхания табака. Судья Адам и Вальтер — оба берут табак из той же табакерки, но Вальтер осторожно подносит понюшку к ноздре, боясь запачкать свой костюм, содержимый в отличнейшем виде, тогда как Адам грубо запихивает большую порцию в нос и тут же обтирает руку о свою суконную грудь. Через табакерку хорошо определились оба: в одном просвещение и цивилизация, в другом животная грубость захолустья. На протяжении всего спектакля Вернер Хинц — Вальтер, вежливый, скептичный, проницательный, своею игрою оттенял брутальность, спутанность мысли, зоологическую хитрость судьи Адама — Германа Шомберга.
Гамбургская режиссура умеет поместить то или иное из действующих лиц на фоне остальных, на фоне общечеловеческом. Хорошо дается и отношение одних моментов роли, показанных на сцене, к другим, на сцене не показанным.
Актер играет свое настоящее так, что угадызаются прошлое и будущее. В самом начале комедии показано, как плохо началось для судьи Адама это утро. Судья еще под одеялом, но служанки снуют, открывают окна, ставят перед постелью таз с водой. Из-под одеяла вылезает спавший нераздетым судья, он стонет, на его лысой голове шишка, на лице шрам, он весь в ушибах, в увечьях. Не глядя он находит рукою таз с водой и начинает промывать подбитый глаз, не глядя он находит мазь, чтобы смазывать ею свои раны. Ясно, что такое пробуждение не в новость ни самому судье, ни его служанкам. Беспутная ночь в обыкновении этого челове-
502
ка. Похождения только что минувшей ночи не исключительные у него, и не впервые он поутру старается поправить содеянное накануне.
Писарь Лихт (Зигфрид Ловиц, бывший Вагнер в «Фаусте») сыгран так, что по носу его с самого начала видно, уловил ли он, куда клонятся события, — именно по носу, так как Лихт время от времени и на самом деле нюхает воздух. Писарь Лихт с первой минуты уже соображает, что не позднее, чем сегодня, в суде откроется судейская вакансия, что судье Адаму не усидеть на своем месте. Это провидение событий сквозит во всем, что делает в спектакле актер, играющий писаря Лихта. Он уже чует в судье Адаме труп, а себя мысленно усаживает на место, занятое еще сегодня этим непристойным и скандальным стариком.
Элла Бюхи — Ева выходит на сцену, уже заранее подавленная трудным положением, которое придется на ее долю в этом предстоящем судебном разбирательстве.
Сценический образ возникает из этих сопоставлений человека с человеком, одних моментов в чьей-то индивидуальной биографии с другими, прошедшими или предстоящими. Гамбургские актеры умеют не забывать за настоящим, каковы его предпосылки, каковы последствия из него, и поэтому настоящее у них выразительно, образно.
Уве Фридрихсен (ученик в «Фаусте») отлично играет Рупрехта, жениха Евы. Он играет «идиотизм деревенской жизни». Крепкий, здоровый, белокурый, но с возбужденными фиолетовыми глазами, он как бы наэлектризован собственными своими трудными, вязкими мыслями. В великолепном своем рассказе перед судом он попадает в колею собственных интонаций, с которой не может съехать. Собственные интонации берут его в плен, его рассказ как будто бы идет вперед, но вязнет в мелодике произнесенных слов и фраз и гибнет безнадежно.
Папаша Рупрехта Фейт Тюмпель — молчаливая, почти без речей, фигура с трубкой, переезжающей в течение часа из одного уголка рта в другой и обратно. Фейт и Рупрехт, вместе взятые, изображают идиотизм наследственный, групповой.
Гамбургский театр далеко не до конца исчерпал социальную характерность и социальное содержание комедии Клейста. С этим связано и нежелание театра сле-
503
довать всем изломам и всем гиперболам литературной манеры Клейста. Как художник Клейст причудлив, потому что выражает причудливую, ненормально живущую, по его убеждению, социальную среду. Театр нормализует комедию Клейста, стиль ее, и тем самым ослабляет социально-критический дух комедии. Известная ровность, аккуратность, осторожность режиссерского метода создают здесь впечатление, будто сам жизненный материал спектакля тоже находится в пределах относительного благополучия. Между тем в Клейсте жил грозный обличитель, жестокий памфлетист полуромантического, полуреалистического толка. Он находился на пути к сатире в духе Гоголя. Вероятно, наш театр, прошедший через воспитание Гоголем, мог бы поновому поставить комедию Клейста, тем более что уже был опыт такой постановки в советской Моекве 20-х годов.
Вторая сцена третьего акта из «Смерти Валлеиштейна» дополняла спектакль, в котором играли «Разбитый кувшин». Фрагмент из «Валленштейна», поставленный Ульрихом Эрфуртом, очень хорош у гамбургских актеров. В этот фрагмент они вложили многое, через него проходят все главнейшие мотивы трилогии. На сцене тьма, сквозь тьму светят звезды,— это астрологические занятия Валленштейна, его гороскопы, его судьба. На сцену дается свет, повисает огромный гобелен, на котором в трагически-барочном стиле изображены буря и ужасы битвы. Это нескончаемая война, выдвинувшая Валленштейна, это поприще, на котором нашел он власть и славу. Через декоративное искусство все содержание трилогии сконцентрировано в этом фрагменте, особые события, которые разыгрываются здесь, получают обобщенный смысл. В третьем акте изображена минута страшного кризиса для Валленштейна — он поднял восстание против императора, войска же, на преданность которых он рассчитывал, соединение за соединением отказываются следовать за ним. Валленштейн возлагает надежды на Макса Пикколомини, но и Макс, жених Валленштейновой дочери Теклы, остается верен присяге. Макс любил и почитал Валленштейна, для Макса великое несчастье идти против этого человека, терять Теклу, и все же решение принято.
Макса играет Себастьян Фишер, прекрасный актер. Отчасти он как бы повторяет того архангела, каким мы
504
видели его в «Фаусте», в прологе в небесах. Макс — энтузиаст, человек подвига, «идеалист», как его называет Шиллер. Стройный, высокий, весь как бы взвившийся, светловолосый, с синими молниями глаз, он говорит горячечной речью, взволнованный задачей выбирать и решать, неизбежной для него. Его антитеза — Валленштейн, «реалист», опять-таки по термину самого же Шиллера. Валленштейна играет Густав Грюндгенс, и это его другое актерское достижение. Антитеза «идеалиста» и «реалиста» есть антитеза между человеком бескорыстного идеала, как Макс Пикколомини, и человеком дела, политической интриги, действующим по мотивам властолюбия и честолюбия, как фельдмаршал Валленштейн. Макс в спектакле ослепительно светел, Валленштейн — весь темен. Грюндгенс играет в этом фрагменте раненого старого волка. Волоча ногу, он возвращается в комнаты, после того как убедился, что войска перестали ему повиноваться. Он хромает, как зверь, только что вырвазшийся из капкана. К Максу он держит речь, заходя сзади, как бы ворожа, нашептывая и заклиная, не смея стать к нему лицом к лицу. Движения его по сцене идут по диагонали, по секущим, выписывая странные геометрические фигуры. Макс Пикколомини в этой сцене светел по-особому, Макс — золотой и голубой, морально непобедимый, нравственно превосходящий всех и каждого из присутствующих здесь. Появляется полковник Бутлер — Герман Шомберг, с треугольником седых бровей, с телом, тесно стянутым, в тяжелом вооружении, сам тяжелый и грозный. Бутлер в этой сцене — стиснутая, сдавленная, бронированная человеческая плоть, сдавленные, еще на свободу не вышедшие страсти. Герман Шомберг умеет играть своего Бутлера так, что события видны на большой пробег вперед. Бутлер мало показан в этой сцене, но зритель может угадать в Бутлере будущего убийцу Валленштейна, мстителя за оскорбления от этого челозека.
Геометрические линии и фигуры, симметрия, язык художественной абстракции в этой сцене сочетаются с великим драматическим напряжением, с живописным великолепием костюмов, поз и группировок. Театр стремится передать всю сложную природу зрелого искусства Шиллера, где соединились все большие, последовательно сменявшие друг друга художественные стили нового времени, и Ренессанс с Шекспиром во главе,
505
и стиль барокко, и абстрагирующий классицизм французского XVII века.
Спектакли Гамбургского театра оставили нам многообразный материал для воспоминаний, размышлений и споров. Они обновили наш интерес к немецкой классической драматургии, очень разнообразной по своим направлениям и формам, всегда высокозначительной. Она до сих пор занимала не по заслугам мало места в практике советских театров. Быть может, гастроли актеров из Гамбурга побудят нас по-своему взяться вновь за театральную работу над немецкой классикой. Шиллер еще появляется иногда на наших сценах, но Гёте на них забыт, а Клейст весь еще впереди для нас и почти весь внове.
1959
ШЕРИДАН В МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
Спектакль «Школа злословия» радует хорошей, основательной работой. К тому же спектакль этот красив, притягателен как зрелище. МХАТ довольно свободно обошелся с текстом Шеридана, переставил отдельные сцены комедии, кое-что привнес, кое-что укоротил за счет распространения других партий текста, но это почти всегда были перемены совершенно законные, в пользу которых свидетельствует сам Шеридан, если вчитаться в его комедию поглубже.
Прежде всего переработка коснулась самого стиля комедии. МХАТ сделал из шеридановской «Школы злословия» большой историко-бытовой реалистический спектакль. В тексте Шеридана это заложено, хотя по наружным своим признакам комедия Шеридана соблюдает все основные требования поэтики классицизма. На первый взгляд стиль комедии — рационалистический. Начать хотя бы с имен действующих лиц: эти Снейки, Сэрфэсы, Бэкбайты, леди Снируэл, Тизлы — все это эмблемы и символы пороков и дурных пристрастий. Театр, кажется, только в одном случае внял шеридановским именам-ремаркам: Снейк — негодяй, по профессии изготовитель фальшивых любовных писем — появляется
507
весь в зеленом и с какими-то витиеватыми «змеиными» движениями (Б. С. Малолетков). Снейк — значит по-английски змея. Но Снейк — лицо второстепенное, а в главных лицах театр старался представить живописные характеры безо всяких аллегорий и стеснительного дидактизма. Так написаны эти персонажи и у самого Шеридана; наклеенные на них имена — старая привычка классицизма; он, сам Шеридан, гораздо шире классических привычек, он — реалист, еще соблюдающий классические формы.
Имена персонажей вводят в комедию, они, по классическим правилам, заранее предупреждают о намерениях автора. В эпилоге этому соответствует довольно густая поучительность: Шеридан по форме заставляет здесь добродетель торжествовать, а порок он заставляет унижаться. Театр особенным образом оттенил развязку: беспутному Ричарду была придана реплика, которой нет в тексте, но которая свидетельствует о том, что Ричард, примирившийся на время с добродетелью, понимает ее по-своему. Это опять-таки верно, если брать Ричарда таким, каким его дал Шеридан в главных сценах; Ричард Сэрфэс имеет мораль свою, совершенно собственную, не общую, а под безразличную схему добродетели, обязательную для классической комедии, Ричард не подходит.
Нам кажется, правильно поступил театр и в том, что не слишком много любви вложил в вырисовывание интриги. Единство комедии у Шеридана держится вовсе не на интриге, очень условно, нестарательно у него проведенной.
В комедии Шеридана есть два важных эпизода. Сэр Оливер, который прибыл из Ост-Индии, появляется у своего племянника Ричарда под видом маклера, а у племянника своего Джозефа — под видом бедного родственника, просящего о помощи. Сэр Оливер решил проверить репутации племянников, и его визиты к ним — это два эксперимента. Эксперимент — любимое орудие классицизма, который воспринимает действительность рассудочно-познавательно. Как в интриге, так и в эксперименте писатель-классик радуется отвлеченной силе рассудка, его аналитическим способностям и его умению добывать логическую истину. Театр в сценах эксперимента оставил без внимания форму и пошел в глубь этих сцен, в их психологию. Сэр Оливер (роль
508
которого очень хорошо играет В. А. Вербицкий) в сцене с Ричардом волновался, сердился, падал духом, надеялся, — ведь сэр Оливер любит своего ветрогона-племянника, и ему досадно, что тот не оправдывает этой любви. Так написано и у Шеридана, у которого тоже сэр Оливер приходит к Ричарду не ради голого познания, но будучи эмоционально, сердечно заинтересованным в результатах своего визита. Эксперимент у Шеридана — не содержание, а форма; Шеридан больше занят конкретной психологией, чем игрою логики. Хорош был Вербицкий и в сцене у Джозефа. Этот пребогатый дядюшка из Индии, посылавший своему племяннику золотые слитки, рупии и драгоценности, является к нему в заплатанном пальтишке, препоясанный веревкой, в роли бедняка Стенли, сам немножко удивленный этим маскарадом и искренне испуганный холодностью и резкостью приема, который оказан ему.
У Шеридана проявляется настоящий вкус к подробностям, к побочным обстоятельствам, к персонажам второстепенного значения. Классическая комедия в этом отношении была строга, она скупо отбирала своих персонажей и из жесткой экономии фабулы никогда не выходила. Для Шеридана важны не только события, которые он выставляет в ясном и отчетливом виде. Шеридан стремится представить жизнь вширь, в ее полуосвещенных областях, и явления попутные, смежные, соседние с главными событиями разработаны у него внимательно и характерно. Театр охотно последовал за этими влечениями Шеридана-реалиста и сделал очень много, чтобы извлечь из текста Шеридана колоритно-бытовую Англию XVIII столетия. Шеридан не боится подробностей, которые выводят за пределы непосредственной фабулы. Какой-нибудь ростовщик Мозэс только тем и связан с фабулой, что снабжает Ричарда деньгами, а между тем Мозэс дается в комедии штрихами очень содержательными и любопытными. Вслед за Мозэсом где-то в отдаленных планах фабулы слегка обозначена вся его среда лондонских денежных евреев, которые, как сказано в тексте, молятся в своих синагогах за здравие Ричарда, задолжавшего им под хорошие проценты. А. М. Карев представил этого ростовщика в виде сухонькой и достаточно въедливой личности. Через него на сцене были показаны какие-то закулисные, зафабульные связи героев, достаточно существенные для них. Театр часто
509
сам пополняет текст Шеридана, для того чтобы расширить бытовую картину. Так, уже в самом начале спектакля леди Тизл, выразительно изображенная О. Н. Андровской, появлялась с хлыстом и в полужокейском костюме, в шапке с красным козырьком; между ней и Питером Тизлом начинался импровизированный спор по поводу лошадей и конюшни. Ростовщики, с одной стороны, конюшни — с другой, образуют два направления английского быта: одно — деловое, другое — праздничное, спортивное, и оба они со всей полнотой живописи представлены в спектакле.
И эта же свободная живописность присутствовала в трактовке главных персонажей комедии. Актеры придали своим ролям местные краски. Андровская — леди Тизл — подхватила указания текста о том, что леди Тизл происходит из деревни, что она бывшая сельская красавица, и потому во всех рискованных лондонских похождениях этой дерзкой женщины сохраняется колорит некой неустрашимой наивности. Она героиня вульгарных эпизодов, в которых, однако, она до конца не растворяется. Когда Джозеф Сэрфэс держит в своих объятиях леди Тизл и она свободными руками в черных перчатках колотит его по спине, — это жест утопающей, которая и хочет и не хочет тонуть. Андровская, которая помнит о деревне леди Тизл, как бы возвращает свою героиню по месту жительства. То же самое у Вербицкого, сэра Оливера, изображенного с точки зрения его недавнего прошлого, его профессии негоцианта на далеких и опасных морях, его привычки к чужим и диким странам.
Театр несколькими подробностями оживил и такую едва
намеченную у Шеридана фигуру, как добрая лирическая
Бытовая старая Англия, пышная, чрезмерно разбогатевшая на колониях, на торговле и промышленности, выразительно и сгущенно дана художником Н. П. Аки-
510
мовым. Нам кажется, что Акимов отчасти исходил из гравюр Хогарта, добавив к ним краски и свободно воспроизводя их стиль. В убранстве дома сэра Питера Тизл проявляется хогартовская любозь к материальному быту, хогартовская «многопредметность» в обстановке: цветы, музыкальные инструменты, диваны, кресла, охотничьи рога, ружья на стенах. Очень декоративны колониальные лакеи, ливрейные негры в салоне леди Снируэл, раздвигающие зеленые занавески, из-за которых появляется в неуклюжем цилиндре Питер Тизл. И какой-то уголок культуры XVIII столетия дает Акимов в сцене с библиотекой Джозефа, уставленной золочеными фолиантами.
Театр наведывается и в творчество современников (или почти современников) Шеридана. Здесь не один Хогарт, здесь есть и Смоллет. Старого Раули В. П. Истрин играет совсем не в том амплуа, которое ему дано в тексте. Он играет старого моряка, речь которого уснащена морскими словечками, в манере того юмора профессий, того маниачества пожизненной специальности, которым так охотно одаряет своих героев Смоллет.
Театр взял своей целью, отправляясь от Шеридана, показать Англию и английские быт и нравы в некой общей исторической перспективе. Шеридан заглядывает несколько дальше своего времени, он создает положения и типы, которые устояли в дальнейшем развитии и английской жизни и английской литературы. Поэтому театр часто дает костюмы и обстановку на какие-то десятилетия ближе к нам. М. М. Яншин играет Питера Тизла по-диккенсовски растерянным старым холостяком, который нечаянно оказался мужем молодой и взбалмошной женщины. А у П. В. Массальского, который играет роль Ричарда — бунтовщика против бога и морали, преднамеренно проглядывают черты лорда Байрона. Когда Ричард впервые появляется на сцене со своим безукоризненным профилем, с дерзким выражением лица, в небрежно раскрытой ослепительно-белой рубашке, то сразу вспоминается великий романтический поэт. Этот образ свободен от всякого мрака и демонизма; у Массальского получается «светлый Байрон», но со всеми чертами родства с настоящим «темным Байроном», это как бы моральный предок романтического мятежника, более простой и доступный, наделенный, однако, всеми задатками зреющей романтической бури.
511
Мы говорили до сих пор о приобретениях, сделанных комедией Шеридана в постановке МХАТ. Однако были и потери, и их следует внимательно перечислить. Начнем с меньшего. Еще старый наш критик А. В. Дружинин, написавший очень обстоятельно о Шеридане, особо выделил язык диалога и реплик в «Школе злословия». В спектакле блестящие афоризмы Шеридана, смелые его «грибоедовские» и «крыловские» слова остались незамеченными. Они произносились на сцене, но без ответа в публике. Театр слишком настойчиво погружает каждое слово, каждую реплику в бытовые ситуации. Между тем у Шеридана изображены бытовые люди, которые в то же время и свободны от быта, — они подымают над бытом свои головы, у них есть обобщенное вольное слово, которое смелее быта и долговечнее его. И как раз все это умное и остроумное в тексте Шеридана театр так и не освободил от его бытовой, житейской приуроченности. Сцена «распродажи предков», когда Ричард спускает всю свою картинную галерею ростовщику, была поставлена живописно, с разработкой всех второстепенных деталей, но пропала жизнь слов, игра слов, которыми наполнена эта сцена у Шеридана. В тексте комедии вся сцена держится на юмористической метафоре: Ричард распродает фамильные портреты, но распродает их как живых теток и дядей. В этом -проявляется дерзость Ричарда, в этом его сарказмы, его фантазия; в спектакле же необычайный аукцион был представлен, скорее, как событие из мира физического, и только, без двойного смысла, приданного ему.
Слово в спектакле всегда бывает связано с пониманием внутреннего существа человека. Если театр дает только бытовое слово, значит, и человек для театра весь исчерпывается бытом. Нам кажется, что в шеридановском спектакле театр слишком многое возложил на бытовые вещи и в какой-то пропорции с этим снял ответственность с актеров. Это очень хорошо, когда леди Тизл и Питер Тизл свою сцену примирения и новой ссоры перекладывают на комический музыкальный дуэт арфы и флейты и когда через всхлипывание флейты Питер Тизл передает свое супружеское отчаяние. И, быть может, остроумно и сценично, когда Питер Тизл, которому грозит измена жены, становится под оленьи рога — рога на этот раз метафорические. М. М. Яншин и
512
О. Н. Андровская настолько полно разработали свои роли, что иной раз им дозволено было пользоваться и помощью вещей, вещи играли за них и доигрывали. Но вот Джозеф Сэрфэс в искусном исполнении А. П. Кторова все же недорисованным вышел на сцену. Шеридановский Тартюф должен выглядеть злее, опаснее. Кторов играет своего Тартюфа умеренно, но в умеренный рисунок Кторова должны бы влиться более сильные краски. В сцене на дому у Джозефа оказывается, что за книгами его библиотеки поставлено зеркальце фата, и Джозеф в этом зеркальце тайно охорашивается. Затем отодвигается богатая, «ученая» книжная полка, и за ней обнаруживается будуар с кроватью, вряд ли задуманный как пристанище добродетели; леди Тизл, которая пришла к Джозефу в гости, очень испугана этой кроватью. Иными словами, это библиотека лицемера и притворщика, или еще вернее: сама библиотека есть некий персонаж — «лицемер», «тартюф», она только притворяется библиотекой. Мы бы хотели, чтобы лицемерие играли не только золотые фолианты Джозефа Сэрфэса, но чтобы его играл рельефнее и сам Джозеф Сэрфэс.
Для самого Шеридана Джозеф Сэрфэс отнюдь не является главным лицом комедии. Он должен посторониться перед своим братом Ричардом.
В образ Ричарда Шеридан вложил философский реализм, перекликающийся с художественным реализмом, навстречу которому движется его комедия. Ричард — это реальная свобода личных сил, он воплощает, как Том Джонс у Фильдинга, щедрую личную жизнь, и она заражает своей бодростью окружающих. Его отношения с ближними ничего общего не имеют с буржуазной арифметикой того, что нравственно, что — нет.
Массальский дал прекрасный внешний образ Ричарда, на него
нельзя было не любоваться. И все-таки «Внутреннего» Ричарда недоставало. Театр
не выдвинул Ричарда на подобающее ему место, и тем самым положительный элемент комедии
Шеридана оказался в тени. Вообще в расположении персонажей не было достаточной
перспективы и иерархии. Леди Тизл и Питер Тизл,
513
Тизл и все остальные. Равенство персонажей распространяется и на остальные элементы зрелища, главные герои опускаются до уровня бытовых вещей, которыми обставлен спектакль.
Этим недоходом до смыслового центра комедии, до ее положительного центра, представленного в образе Ричарда, несомненно страдает спектакль, поставленный режиссерами Н. М. Горчаковым и П. С. Ларгиным.
МХАТ дал нам на сцене старую классическую Англию великих поэтов и великих моралистов. Наша сцена до сих пор в своем иноземном репертуаре мало обращалась к английским темам, и МХАТ обогатил нас. Однако мы бы хотели увидеть здесь не только быт старой Англии, но и те ее живые силы, которые от Шеридана и до Байрона боролись против установленного быта. Мы бы хотели дальнейшего развития «чувственного реализма», которым так по-своему богат этот мхатовский спектакль; мы бы хотели дальнейшего развития его в сторону раскрытия человеческого мира, его самостоятельности и духовной энергии, воплощаемых в свободном слове и в независимом действии. Это желание тем законнее, что МХАТ, проявив на этот раз чересчур яркое и одностороннее пристрастие к выразительности и красоте неживых вещей, изменяет самому себе. МХАТ всегда был театром не вещи, а человека, и человеческим театром создал его прекрасный гений Станиславского.
1941
(О «Ревизоре» Гоголя. К выступлениям Игоря Ильинского в роли Хлестакова)
С 1938 года в Московском Малом театре ставится «Ревизор» с участием Игоря Ильинского в роли Хлестакова. Хотя предшественники Ильинского — прекрасные оригинальнейшие актеры Михаил Чехов, Эраст Гарин, тем не менее через Ильинского мы узнали о Хлестакове, а значит, и о всей комедии Гоголя, нечто новое, а старое, знакомое подтвердилось с неизвестной еще стороны. У Ильинского Хлестаков удивительно юн, с глупой юной улыбкой, весь в светоносности какой-то, нежданной, негаданной и почему-то неотразимой. Теперь мы поняли, это дано и самим Гоголем: Хлестаков не написан как фигура элементарно отрицательная, в нем наблюдается, вопреки всем предвзятостям, некоторая романтическая жизнь, ему отпущена своя обольстительность, с жизнью у Хлестакова собственные, ни на что заранее известное не сводимые, счеты. Хлестаков как будто бы находится под защитой заклятья — реальностям не суждено чем-либо и как-либо ранить его, всегда и непременно целого и невредимого, скользящего и ускользающего, для окружающих мучительно безответственного за каждый из своих поступков. Хлестаков, как любое из стихийных существ, воспетых романтиками, никому и ничему не под-
517
падает надолго. Ужасное заблуждение
городничего и всего его семейства, будто они уловили Хлестакова и вскоре
поведут под венец с дочерью дома, — Иван Александрович через десять минут уже
очень далеко отъедет и, вероятно, забудет начисто все матримониальные
приключения того дня. Да и в самом разгаре сватовства Иван Александрович едва
разбирался, где кончается
518
бы, то не стоит, то едва доступно, а
то дается даром. Чтобы жизнь различалась по ценностям, для этого нужно пройти
через труд, тягостный труд, через опыт, большой и мучительный опыт, а где же
это искать в истории блуждающего огня, да и есть ли у вышеназванного огня
какая-нибудь собственная история? Иван Александрович ко всему на свете
приноравливается мгновенно, ибо на его восприятие каждая вещь почти равна
всякой другой вещи и всюду налицо необходимое для процветания. Ильинский делает
его юным-юным настолько, что в нем еще нет личности, если только когда-либо
будет она ему дана. Он сразу в безличии своем и по-особому соблазнителен и
вызывает презрение. Безличие делает его при всех обстоятельствах равномерно
счастливым, и оно же ставит его ниже всех других существ, личностью обладающих.
Располагая к зависти, Хлестаков тут же внушает завистникам чувство их над ним
превосходства. В комедии два персонажа более других в моральном отношении
близки Хлестакову: жена городничего
Городничий или же, по-своему, Осип — оба отлично знают, почем фунт лиха, а те трое блуждающих огней так, вероятно, пройдут по жизни, не утруждаясь этим познанием, освобожденные от него навеки.
В исполнении Ильинского Хлестаков не умеет сердиться, унывать, он больше изумлен, нежели огорчен, когда Осип грубиянит, когда в трактире отказываются отпустить обед и когда ему, неплательщику, грозят тюрьмой. Во втором акте он впервые перед нами, в дверях своего номерка, где на расстроенной, взлохмаченной постели валяется Осип, немытая личность с ехидными речами. Ильинский — Хлестаков долго остается на пороге, в светлом фраке, праздничный, весенний, еще не сбросивший с себя ощущений от прогулки по городским улицам. Кажется, он медлит окунуться в эту обитель, чересчур проникнутую Осипом и неспособную радовать чем-либо поселившихся здесь. Таков первообраз Хлестакова у Ильинского, таким начинается Хлестаков, розовый, невинный, с золотистыми волосами, весна ему сестра и друг. Его несет благая волна, все у него не может не клониться к лучшему, жизнь ему поспешест-
519
вует. Уже взятый своим подлестничным жилищем, заключенный в него, он все смотрит в полукруглое окно, которым все-таки богат и этот темный номер. До окна было теснота, за окном — простор. Естественное продолжение — в сцене на дому у городничего, когда к Хлестакову являются со взятками. Наступила очередь судьи Ляпкина-Тяпкина, который ни жив ни мертв входит к ревизору, страшному зверю, и, к изумлению своему, в комнате никого не застает. Нет, все-таки ноги Ильинского остались там, одни только ноги, а весь он, Ильинский — Хлестаков, всем корпусом высунулся в открытое окно, стал неотличим от духа весны, весь превратился в воздух улиц.
Роль Хлестакова так и ведется Ильинским на золотой струне, лирической. Конечно, лирика у Ильинского неотделима от иронии, от подмесей совсем иного свойства. Хлестаков кажется этим счастливым созданьем, весенним, летним по причине своего бездумья, малого своего сознания того, что происходит вокруг. Безмятежный белый лоб никогда не был тронут ни одной мыслью. У Метерлинка в «Синей птице» появляются сонмы еще неродившихся душ, поджидающих, когда их выпустят в свет. Ильинский — Хлестаков, которому по роли уже за двадцать, тем не менее одна из этих нерожденностей, в жизнь вошедших, а от трудностей рождения уклонившихся.
Лирическое, а лучше сказать, якобы лирическое, начало у Ильинского сочетается с весьма откровенным комизмом личности Хлестакова. Он весь внешность и только внешность. Строго говоря, к голубому своему фраку Иван Александрович весь и сводится. Помнится и помнится голубой этот фрак с большими белыми пуговицами, Ильинский с самого начала в него замкнулся и до конца отождествился с ним. Одежда актера и тело актера у Ильинского — великие силы театральной выразительности, и в этом видна школа Мейерхольда, воспитателя его. Как никто, Мейерхольд учил значению на сцене всего внешнего и зримого, того, как движется на сцене актерское тело, как действуют ноги и руки. В автобиографии Ильинский рассказал о своем раннем опыте спорта — от спарта к сцене шло его развитие; на сцену Ильинский попал физически тренированным, «выразительным человеком», владеющим языком физического движения, мастером мимики и жеста. В театре Мейер-
520
хольда «Великодушный рогоносец», «Лес» были спектаклями, где блистал как превосходный трагик-мим и как комик-мим молодой тогда Игорь Ильинский. В Малом театре, в «Ревизоре», здесь поставленном, Ильинский сохранил и умножил прежние свои умения. Хлестаков — Ильинский ложится в постель, подымает под прямым углом ногу —белую штанину с лампасом,— любуется на нее. Элизод чисто гоголевский. «В Мертвых душах», часть I, конец главы 7, рассказывается о приезжем поручике из Рязани, который все не мог заснуть у себя в номере, все любовался на свои новые сапоги — подымал ногу «и обсматривал бойко и на диво стачонный каблук». Ильинский приурочил сходный эпизод и к своему Хлестакову. Голубой фрак, фрак Вертера, и белые штаны с лампасами — в этом весь Хлестаков, как он есть, в этом его мечты и призвание, его эстетика и его деловая жизнь, его душа и мысль. Снова о сцене с Хлестаковым у окна в доме городничего: да, Хлестаков весь впивал в себя перспективу, 'которая начиналась за окном, а здесь на виду у зрителя волочились его ноги, в тех же белых щегольских штанах, ноги, как бы отделившиеся от туловища, глупые ноги петербургского франта, претендующие также и на сепаратное значение. В одном и том же эпизоде смешаны были два смысла, исключающие друг друга, тут заговорили одновременно и лирика Ивана Александровича и вся его малая одушевленность. Если хотите, он душевен, при условии полного отсутствия души, при условии, что власть тела над ним очень продлена сравнительно с тем, как это бывает со всеми прочими.
В комедийном искусстве Ильинского душевная жизнь обладает склонностью чересчур перекидываться на сторону тела, довольствоваться только преувеличенным параллелизмом всему телесному. В том же Малом театре, на представлении «Доходного места» Ильинский — Юсов, изображая важность, высокую степень самосознания, сидючи все старался обхватить руками высоко, погенеральски закинутое колено и все упускал его, а когда появлялось высшее начальство, с Юсовым случалось чудо — его обыкновенные, по-обыкновенному широкие плечи какой-то игрой природы, совершенно непостижимой, вдруг вбирались и исчезали — очевидно, по той причине, что в виду начальства какие бы то ни было плечи у подчиненного являются дерзновением и неприличием.
521
Играя Хлестакова, Ильинский не попросту выставлял на вид внешнее и внешность, усиливая особую их жизнь. Он показывал, что верит в них и больше ни во что не верит, что в них его религия, культ, вся лучшая жизнь ума и сердца. Хлестаков Ильинского — исповедник и фетишист собственного голубого фрака, собственной наружности, собственных поз и собственной осанки. От головы до пят весь он тот же — герой видимости, убежденный, что видимость, она-то и есть первое слово божие, она же и последнее, в ней и Ветхий завет и Новый. Стоит вполвзгляда взглянуть на этого человека, и ясно, в чем состоит единственная забота его — казаться. Вся суть, каким он тому или другому покажется, каким померещится. Этот хорошо одетый призрак угадывает, что для него чем призрачнее, тем лучше. Блуждающий этот огонь хорошо поддерживает свое мерцание, питает его. Мечты Хлестакова все сплошь состоят из костюмерии, из бутафории, из маскарадных ухищрений, «а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику, под крыльцо с фонарями, а Осипа сзади, одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились: "Кто такой, что такое?" А лакей входит: "Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять?"» Тут все морок, все декорация, все в этой мечте представляются переодетыми. Карета и та — подложная. Хлестаков хотел бы выдать за собственную взятую напрокат в Петербурге, у каретника Иоахима. Фонари — это костюм кареты, даже нераскаянного неряху Осипа и того Хлестаков приодел в ливрею. Представительство, при этом ослепительное, — такова высочайшая идея Хлестакова, идея всех идей. В изображении Ильинского Хлестаков видится приставленным к самому себе, Хлестакова, собственно, нет, а присутствует некто, его с успехом заменяющий, вдвинутый в его праздничное платье.
В трактовке Ильинского становится вероятным все невероятное происшествие, приключившееся в уездном городе. Хлестаков получает здесь для себя триумф. Причина всех побед очевидна: Хлестаков — никто и ничто, поэтому Хлестакова так изумительно чествуют и едва ли не обожествляют. Хлестаков — полнейшая безличность и бессознательность, дух стихийный, а может быть, и дух небытия, и поэтому все так падки поклониться ему. В игре Ильинского отлично было показано, что
522
Хлестакову делают его успех, а он только его принимает. Гоголь предупреждал актеров: «У Хлестакова ничего не должно быть означено резко». Он нисколько не характер, не индивидуальность, и даже не амплуа, предварительная схема характера и индивидуальности. Советы Гоголя превосходно усвоены Ильинским. Слова, им произнесенные, проходят бесследно, одно слово как бы смывает другое, только что сказанное; через Хлестакова — Ильинского льется нечто неудержимое, к чему он сам едва причастен. Как известно, сюжет «Ревизора» был взят Гоголем из разговоров с Пушкиным. Сохранились три строки у Пушкина, по которым отчасти видно, как бы разработал сам Пушкин занимавшую его историю мелкого самозванца. «Криспин приезжает в губернию» — начинается эта запись. Губернатор, с которым имеет дело Криспин, как сказано у Пушкина, — «честный дурак». По вероятности, Пушкин сделал бы из этого сюжета комедию в классической манере. Ловкий и хитрый Криспин направил бы свою интригу на глупого губернатора. У Гоголя на месте пушкинского губернатора городничий Антон Антоныч, умный и искушенный, совершающий свои ошибки вовсе не потому, что в игре жизни ему пришлось сразиться с более сильным игроком. Комедия Гоголя явственно усвоила многое из опыта и навыков романтизма. По сюжету острая, она лишена начисто интриги, любимой классиками и обычно пренебрегаемой романтиками. Интрига предполагает замыслы и точные расчеты у действующих лиц. Самозванец, трактованный в правилах классицизма, должен сам оказаться мастером своей судьбы, сам должен задумать свое самозванство. В комедии Гоголя самозванец не выбирает собственную роль, он впал в нее невольно, ему внушили играть ее, он выполняет все ему внушенное почти как лунатик. Обман — обыкновенный мотив классической комедии, на нем построены многие сюжеты Мольера. Хлестаков никого и не помышляет обманывать. Все пошло в ход от самообмана городничего и чиновников, они хотели увидеть в Хлестакове ревизора, и они увидели. Весь второй акт комедии Гоголя демонстрирует бессилие фактов и истины, если представление и мнение у людей уже сложились. Хлестаков в гостинице все выложил перед городничим, как будто бы нарочно опровергая всякое подозрение, что он-то и есть вышереченное лицо, посланное из столицы. Но городничий тем сильнее верит в эту
523
версию о Хлестакове-ревизоре,
пущенную Бобчинским и Добчиноким, и каждое слово Хлестакова городничий
перетолковывает в ее пользу и в ее смысле. Глубокий, глубочайший самообман
городничего есть нечто новое в комедийной психологии, и зародиться оно могло в
век господства романтизма. Внушение, наваждение во всех его видах, иллюзии,
фатальные ошибки получили место в литературе по инициативе романтических
писателей. Амфитрион в комедиях Плавта и Мольера тоже попадает под власть
наваждения, и вот оно отличие классицизма: у обоих авторов наваждение есть
следствие интриги, придуманной верховным божеством. Ближайшая причина, почему
так колоссально ошиблись умный городничий и совсем неглупые чиновники — это
страх, вселившийся в них при первом известии о предстоящей ревизии, страх,
соразмерный бесчисленным грехам каждого из них. Хлестаков преобразился для
городничего в ревизора в силу особой одержимости, которой городничий страдает,
— одержимости страхом. Страх — отец богов, Хлестаков стал богом для городничего,
ибо городничий боится. С первых же шагов великую важность имеет и другое обстоятельство.
Городничий превратил Хлестакова в ревизора, ибо Хлестаков в высшей степени
наделен превращаемостью, как ни одно создание на свете пригоден для метаморфоз. Эту плавкость, текучесть,
газообразность Хлестакова Ильинский
прочувствовал и передал, прибегая к
разнообразнейшим приемам театральной выразительности.
Так он выразил ничтожество Хлестакова,
— коренные свойства
Ивана Александровича можно обозначить, пользуясь еще и этим словом. В репертуаре классицизма немыслимо существо столь негативное, как Хлестаков; чтобы открыть его, нужна была фантазия романтиков, исследовательский глаз классиков не обнаружил бы его, сквозь стекла классического разума он не различим. Романтиков обыкновенно именуют поэтами сновидений, довольствуясь самым броским их признаком. По всей вероятности, для литературы важнее было другое — открытие ими состояний промежуточного качества: ни сон, ни бдение, явь, похожая на вымыслы, и вымыслы, похожие на явь, всякого рода полужизнь, наполняющая пустоты жизни в действительном ее содержании, незаселенные пространства между землей и небом. Человеческие иллюзии, заблуждения, одержимости, внушения и внушаемости, наконец,
524
и отдельные индивидуумы, подобные Ивану Александровичу, относятся сюда же. Романтики пустились в подробности переходов и оттенков там, где классики усматривали только полюс и полюс, антитезы и контрасты. Недаром так полюбились романтикам некоторые образы и персонажи из низшей народной мифологии, которые и манят и разочаровывают, и прекрасны и двусмысленны, мучительны в своей неопределенности.
В сценах торжества Хлестакова у Ильинского сквозило чувство и сознание, что он-то, Хлестаков, и есть законнейший завоеватель и городу надлежит валяться у него в ногах. Ильинский — Хлестаков принимал чиновников на дому у городничего как посольство, вышедшее к нему навстречу с ключами от городских ворот, с хлебом-солью. Хлестаков, по Ильинскому, предъявлялся как центральный человек своей среды и времени, как общий смысл их. Ильинский играл не отдельную роль, размежеванную с другими ролями. Через Хлестакова он играл всю комедию Гоголя в целом, весь исторический мир ее, характерные и характернейшие силы, сложившие этот мир, явным образом послужившие ему опорой, а тайным — готовые разрушить его от верху до основания. Так повелось со Станиславского: настоящий актер играет не отдельный характер, а всю пьесу через этот характер, весь спектакль, весь режиссерский замысел. Ильинский после роли Хлестакова стал играть в «Ревизоре» городничего, — чему же тут дивиться, ведь, уже исполняя Хлестакова, он взял на плечи всю комедию, значит, и городничего, второе в ней лицо. Будучи еще Хлестаковым, Ильинский в сцене первой встречи с городничим прочувствовал и городничего, так как поведение и душевное состояние Хлестакова, перепуганного этим визитом, всецело определяется тоном, от городничего идущим. Итак, сперва был городничий сквозь кожу Хлестакова, а позднее городничий в коже своей собственной, сперва городничий, только пережитый, а потом и представленный.
В «Ревизоре», которого[343] ставил Мейерхольд, Ильинский не участвовал. Нет сомнения, что великий этот спектакль был прочувствован Ильинским как зрителем, глубоко запомнился ему, и спустя годы Ильинский как художник возвратился к нему на совсем иной сцене, в том же «Ревизоре» играя Хлестакова. Постановка Малого театра, хорошая, крепкая, лишена, однако, каких-
525
либо затей и замыслов, идущих далеко. Ильинский — Хлестаков своей трактовкой роли воскрешает известной мерой мейерхольдовский спектакль, к тому же вносит в него свои поправки, весьма небезразличные для его общего смысла. У Мейерхольда в силу особых его режиссерских соображений несколько смещенной в сторону оказалась роль Хлестакова, из чего, оговариваем, не следует какое-либо умаление заслуг и таланта Эраста Гарина, исполнявшего эту роль. В исполнении Ильинского Хлестаков, как то ему и подобает, снова получил преобладающее значение — смысл комедии, смысл мира и нравов, в ней изображенных, лежит не в ком другом, а в Хлестакове.
Мейерхольд чрезвычайно раздвинул, ставя комедию Гоголя, ее
смысловой масштаб. Он придал ей масштаб, который и на самом деле ей присущ.
Внешне у Мейерхольда это выразилось в переносе места действия: не уездный
город, а уж, наверное, большой губернский, что-либо сходное с городом Эн, где
подвизался Чичиков, не то и город поважнее. В спектакле Мейерхольда веяло
столицей и размахом столичной жизни, веяло близостью к верховной власти, к
средоточию империи Николая Павловича. В трактовке Мейерхольда раскрылся большой
политический стиль комедии Гоголя — аристофановский. Как у афинского поэта, так
и у Гоголя комедия написана на темы города и государства. «Ревизор», которого
принято играть в низких маленьких комнатенках, по духу своему комедия агоры,
городских площадей, на которых совершаются решающие политические события. У
античного Аристофана город и государство полностью совпадают: город Афины, он
же гогосударство афинское, «полис». У Гоголя сквозь комедийный образ города, где
властвует городничий, только проступает российское государство во всей
обширности своего существования. При всех этих различиях Мейерхольд все же имел
основания вернуть комедию Гоголя к ее аристофановской сути. Критики нещадно
корили Мейерхольда, почему городничий в его спектакле затерялся, а жена
городничего
526
личным модам и нравам, уездное они
оставляют на потеху своим мужчинам, собачникам и грубиянам. Раз это Мейерхольд
сообщил городу городничего почти петербургский блеск, то естественным было
собрать этот блеск над легкомысленной головой Анны Андреевны, водрузив Анну
Андреевну на достаточно видное место. Мейерхольд поставил комедию Гоголя как
комедию империи, законным образом усилив ее обобщенность, ибо к этому призывает
и сам авторский текст. Об Ильинском же надо сказать, что созданный им герой
видимости законченно выражает эту империю Гоголя — Мейерхольда и, если
восходить к первоисточнику, — империю императора Николая Павловича. Дух
Ильинского взят от духа ее, стиль от стиля ее. Старая Российская империя, как и
Хлестаков, вся стоит на видимости, вся мираж и затмение здравого ума. Спектакль
Мейерхольда отличался, с одной стороны, чрезвычайной материальностью, на сцене
был целый массив превосходного красного дерева, с изобилием, с преднамеренным
излишеством на сцене громоздился натюрморт мебели, посуды, плодов природы и
произведений поваров. Люди были преувеличенно физиологичны, им подносились
тяжелые яства как со стола жирной кухни, изображенной на картине
Брейгеля-старшего; казалось, поплясывали на очень толстых ногах эроты Анны
Андреевны, сама
527
было заметить и в Ильинском, исполнявшем Хлестакова: усиленный язык тела и зрительных образов, означающих, однако, нечто бестелесное и призрачное.
Основная, главнейшая причина успехов Хлестакова в том, что у него под ногами наилучшая почва для них. Ему ворожит Российское государство. Тютчев назвал императора Николая Павловича фасадом великого человека[344]. Вся империя этого императора состояла из одних фасадов. Хлестаков — фасад существа на двух ногах, утвержденного вертикально, фасад, о котором Хлестаков при всей беспечности своей умеет позаботиться. Если приглядеться, то и близко, и далеко — всюду одни фасады и самозванцы, не те люди и не на тех местах. Иван Александрович нисколько не исключение. Он присел на чужое место, остальные же на чужих местах сидят давно, сидят прочно. В Иване Александровиче содержится нечто исторически всеобщее, в этом условие его побед и триумфов. В самом деле, какой же это судья знакомец нам Ляпкин-Тяпкин Аммос Федорович, какой же ревнитель просвещения другой знакомец — Хлопов, Лука Лукич, и можно ли доверить наблюдение над больницей Землянике, Артемию Филипповичу? Все они по сути дела самозванцы, хотя и рукоположенные в должности свои. Далее: а сам городничий, Антон Антоныч, какой же он градоправитель? Почему бы Хлестакову не ударяться в бурные фантазии о том, как он управлял департаментом, если Антона Антоныча считают достойным управлять городом. В комедии Островского городничий именуется Градобоевым, имя верное, ибо городничие — разрушители своих городов. В империи, на арене которой появился Хлестаков, ничего не значат лица сами по себе, ничего не значат труды, таланты, опыт, заслуги. Люди размещены по соображениям внешнего, случайного порядка, в силу этого для Хлестакова нет повода вести себя скромно и отказываться от звания фельдмаршала, например, ежели при каком-нибудь необыкновенном ералаше Хлестакову его бы предложили. Может Антон Антонович возглавлять город, — тогда почему бы Ивану Александровичу и не
528
ездить всякий день во дворец и почему бы не прикоснуться к высшему управлению страною. Лоску да и бойкости в Хлестакове побольше будет, чем в немолодом уже городничем. Очень дивился городничий, как это Хлестаков при своей щуплости оказывается все-таки важной персоной. У городничего физические критерии репрезентативности, а новость, и эта новость заключена в Хлестакове, что даже критерии физические отменяются.
В «Ревизоре» Гоголя светится вся сетка людских отношений, какой она бывает в бюрократической империи, управляемой самодержавно. В отношениях этих логика слаба или же она вовсе отсутствует. Алогизм отношений переходит на людей как таковых, сами люди утрачивают реальный смысл, если он ушел из отношений между ними. Анализ первоначал нам скажет: все бессмыслие отношений оттого и повелось, что люди в своих реальных качествах, люди как живая сила не были приняты в расчет. Строя общество и государство, людей обошли, и в дальнейшем только и делают, что обходят снова и снова. Мир людей устроен как если бы то был мир безлюдный. Таков же и мир Гоголя, пораженный болезнью универсального комизма, все налицо, и в то же время все отсутствуют, всюду плоть и всюду столько же небытия.
Гоголь с несравненной проницательностью изобразил, каким становится мир, если им управляет высочайший каприз. Царство произвола — царство пустоты. Произвол опустошает жизнь во всех ее направлениях. Исчезают ценности, градации, раз их можно устанавливать произвольно. Все на свете столь же дорожает, сколь и дешевеет, недоступность оборачивается доступностью и обратно. Примеры можно взять из некоторых деклараций и озарений Ивана Александровича. То он хвалится, что его хотели коллежским асессором сделать, то рассказывает, что он гроза Государственного совета. То он сдает шинель свою в четвертом этаже Мавруше, кухарке, то ждет назначения в фельдмаршалы, и на завтра же. Расстояния головокружительно короткие: от асессора до грозы и от Мавры до фельдмаршала. Собственно, никаких расстояний, если все достигается назначением и приказом. Все стоит на самодержавном капризе и на лицах меньшего ранга, имитирующих этот каприз. В комедии Гоголя есть один
529
поучительнейший эпизод, Хлестаков, который хорошо выспался после устроенного для него обеда, испытывает желание чем-либо поощрить окружающих и вопрошает Землянику: «Мне кажется, вы как будто вчера были немножко ниже ростом?» Земляника не спорит: очень может быть. Иными словами, творческая воля начальства не знает границ. Она декретирует самое природу. Этот мотив, открытый Гоголем, перешел потом к Щедрину, а потом и на Запад, к Чапеку, написавшему рассказ, как у солдата сама собою отсохла нога, ибо по бюрократической случайности в бумагах он значился одноногим, — природа подумала, подождала и подчинилась указаниям документа. Если природа слушается приказа, каков бы он ни был, исходи он только от надлежащей инстанции, то всякая самостоятельная действительность упраздняется. О реальном прототипе приказаний, обращенных к естеству, может нам сказать Герцен, от него мы узнали, как начальством было велено перевести мальчика Василия в женский пол. Естество расхищается, реальность расхищается и подавляется. Реальность там, где есть способность сопротивления. В бюрократической империи есть беззаконие законов, всякое сопротивление из вещей вынуто. Открывается огромная область, где нет ни лжи в борьбе с правдой, ни правоты в борьбе против лжи. Все превратилось в пустоту и пустошь, в ложь, владычество которой безмерно. У всеобщей лжи есть дитя, и родное это ее дитя — сам Хлестаков. Ильинский изображает невинность и благожелательность этого дитяти. Ильинский прав. Ведь не Хлестаков сочинил основы лжи, а ложь сама его же сочинила.
Сцены лганья и в тексте комедии Гоголя и всегда на театре по справедливости считаются главнейшими. Стоит заметить, какие важные — важнейшие материи затронул Хлестаков в этих исповедях своих перед чиновниками. Он повествует о делах верховной власти — государь, Государственный совет, о делах управления государством и о своем участии в них, о войске — он завтра станет фельдмаршалом, о делах искусства и культуры, о театральных новинках, о модных романах, якобы им самим написанных. Как будто бы у него в руках портфель империи и он оттуда достает досье, помогающее его импровизациям. Все актеры, Игорь Ильинский в их числе, заботятся быть в этих сценах лганья сколько
530
можно натуральными. Ильинскому натуральность, легкость, нечаянность, вдохновение удались счастливейшим образом. В особом смысле можно было бы утверждать, что Хлестаков лжет под суфлера. Каким бы алогичным ни казался в его изложении строй жизни империи, сама эта алогичность подсказана Хлестакову повседневным опытом. Жизнь на верхушках бюрократического государства через Хлестакова предстает в конгениальном освещении, до великого комизма усиленном; бюрократический строй как бы в/падает в несвойственную ему наивность и с неслыханной доверчивостью делится своими заветнейшими убеждениями. Говоря об авторах, Хлестаков не очень затрудняет себя вопросом, какое произведение кому принадлежит, и всегда готов в качестве автора вещей, уже кем-то написанных, предложить самого себя. По Хлестакову, не существует интимной связи между автором и его произведением, что есть труд, творчество, духовная собственность, Хлестаков вместить не может. Не авторы делают то-то и то-то, самих авторов делают, сочиняют, назначают, наконец. Ведь император Николай Павлович весьма тяготел к тому, чтобы самолично назначать отечественных гениев, например господина Кукольника, в гении драматической поэзии. Почему бы не назвать себя бароном Брамбеусом, известным литератором, если хорошо известно, что в бароны жалуют, значит, могут пожаловать и в Брамбеусы. Ведь барон это большее, Брамбеус — меньшее, значит доступнее стать Брамбеусом, чем бароном. Можно приписать себе «Юрия Милославского», ибо случай может тебе подкинуть авторство и славу, как он же подкидывает хорошее казенное место. Не нужно в самом деле быть автором романа, достаточно назваться, слыть им. Иван Александрович воспитан на одних фикциях. Он и Пушкина в течение минуты может обратить в фикцию — ну что, брат Пушкин. Мы и оглянуться не успели, как Хлестаков отнял у нас Пушкина, сделал Пушкина эфемером, будто подлинного Пушкина и не было. Комедия империи держится на всеобщем безличии. Есть одно существенное лицо, наделенное всей полнотой реальности, лицо деспота и самодержца, остальные сподоблены реальности в меру своей близости к нему и в меру его благоволения.
Стоило бы указать на некоторые приемы Гоголя, обозначающие эту зыбкость лица, его значения и прав
531
в комедийном мире. Чтобы передать фантастичность положения, Гоголь покусился, как это по-своему делала еще и античная комедия, на категорию числа, подвергнул произволу число, по природе своей всегда хранящее точность и враждебность произволу от самого корня своего.
Персонажи комедии Гоголя то одним способом, то другим задеты
в своих притязаниях существовать на правах единственного числа, singularis.
Бобчинский и Добчинский — неизвестно, всегда ли их двое или же случается, что
иной из них бывает и сам один.
Мир, способный произвести Хлестакова, конечно, безумен. В комедии Гоголя впадают в безумие поочередно, а в рязвязке, в немой сцене, все вместе. В комедии этой каждый развращен по-своему. Единственные здравые и трезвые головы — сахарные, иждивением Осипа увезен-
532
ные Хлестаковым на тройке, да и те — разврат, взятка, полученная от купцов.
Гоголь не умел кончить свою комедию, как это бы ей подобало. Так как мир лжи возник с попущения верховной власти, то и спасти этот мир может она же — вот логика, открыто руководящая Гоголем. В комедии Гоголя праздник своего безумия справляют кто в одиночку, кто небольшими группами, а в развязке, в немой сцене все вместе, одним ансамблем. Прибывает настоящий ревизор. Империя убивает Хлестакова, я тебя породил, я тебя и убью. Гоголь был еще далек от мысли, что винить следует не Хлестакова, а самодержавную империю. Настоящий ревизор — утопия. Игорь Терентьев, который в те же годы, что Мейерхольд, ставил в Ленинградском Доме печати своего «Ревизора», нашел остроумную развязку. Провозглашается о чиновнике из Петербурга, приехавшем по именному повелению, и что же, в качестве настоящего ревизора входит тот же Хлестаков, Иван Александрович. Гоголь стал бы спорить против такого эпилога, комедия же Гоголя очень готовно присоединила его к себе. Кажется, Игорь Ильинский и дал нам этого Хлестакова, неувядающего и вечно воскресающего. Его Хлестаков не человек, а вещество, всероссийская магма, из которой можно сделать что и кого угодно, империя его сочинила и сочиняет, поэтому им друг от друга не отказаться. Хлестаков есть сама бесконечность. Он вершит дела в империи, он же их проверяет и он же, как в терентьевской постановке, является, чтобы проверить проверяющего. В этой постановке комедия империи доведена была до подлинного своего конца: нет фальшивых ревизоров и нет настоящих, все — фальшивые. Иван Александрович Хлестаков ушел за кулисы, чтобы потом опять появиться перед зрителями с обновленным назначением.
Игорь Ильинский, Эрасг Гарин, Михаил Чехов и еще один-другой их предшественники по сцене превратили Хлестакова в главную действующую силу комедии Гоголя, в носителя ее исторического и философского смысла. Не всегда так было в истории русского театра. В XIX веке, да и несколько позднее, главный персонаж на сцене, ставившей комедию Гоголя, постоянно тот же — городничий, будь это Сосницкий, будь это Щепкин, Давыдов или Уралов. Читают «Ревизора», а в театре смотрят городничего. Эту роль играют гастролеры,
533
за исполнением ее следят пристально и охотнее всего обсуждают именно ее. Чем дальше по времени, тем явственнее все меняется. Хлестаков вытесняет городничего. Началось это уже со спектакля Художественного театра в 1908 году, где чуть ли не впервые появился обеспокоивший зрителей Хлестаков, младший Горев, А. Ф. После того наступило время Степана Кузнецова, М. Чехова, Э. Гарина и, наконец, И. Ильинского. Один из вернейших критериев, указующих, как, в какую сторону меняется сценическая концепция драматического произведения, сводится именно к этому: кто из выведенных там персонажей главенствовал на сцене до поры до времени и кто его сменил. «Ревизор» с господствующим городничим иначе понят театром, чем «Ревизор», где преобладает Хлестаков. Двуречивая по своему стилистическому составу комедия Гоголя на сцене была освоена с более доступной, с очевидной своей стороны и только лозднее с той, что требует от режиссуры, от актеров известного «умозрения». Телесный материальный состав комедии был освоен первым, да и то не без малых трудов, на сцене, мало привычной к серьезным стихиям жизни, а тело и быт серьезны. Городничий представлял на сцене мир плотский да еще в некотором его сверхизбытке, когда от жестковатого Сосницкого эта роль перешла к классическим для нее Щепкину и Давыдову, актерам благостным и гиперболическим в рассуждении тела, его элементарной жизни и потребностей. Первенство в комедии, уже с начала нашего века переходившее к Хлестакову, означало, что все понимание комедии сдвинулось. В нашем веке призрачность империи, Гоголю доступная и видная еще тогда, стала достоянием, которое дается многим, не одним только одиночкам со сверхпрозорливостью автора «Ревизора». В спектакле Художественного театра бытовое, так сказать физиологическое, содержание «Ревизора» торжествовало как никогда. Через всю сцену волокли огромную перину, на которой должен был отсыпаться в доме городничего Хлестаков. В том же спектакле с большей активностью, чем это бывало прежде, зашевелилось и нечто иное: возле городничего в спектакле образовался еще и другой центр, смысловой и стилистический, — Хлестаков.
Мейерхольд в своем спектакле передал и материю быта во всей ее тяжеловесности и соблазнительности
534
и ту особую ирреальную логику, которая соединяет здесь друг с другом грузные реальные вещи, созидая комедию империи. Мы знаем, Гоголю при первых постановках «Ревизора пришлось изгонять из театра дух водевиля, основательно здесь водворившегося. В особом, высшем, возвышенном смысле «воздушная водевильность» присутствует и в его великой комедии. Водевиль нужно было убить, чтобы с помощью глубоко значительного по духу своему искусства воскресить его вновь. И эту работу воссоздания водевиля, вбирающего, однако, в себя крупнейшие исторические коллизии, трагедию умирающих форм быта и государственности, эту работу и проделал Мейерхольд. В колоссальном зрелище «Ревизора» на мейерхольдовской сцене сохранились обломки водевильности, получившей, однако, совсем иной и далеко не маловажный смысл.
Ильинский играл в «Ревизоре» один, без Мейерхольда, без мейерхольдовского спектакля. Ильинский — из актеров, умеющих нести с собой все художественное и жизненное целое, откуда они пришли. Приписываем к этой статье один пример, взятый из очень поздних лет сценической практики Ильинского. Во «Власти тьмы» он играл и играет старика Акима. Войдя в зимнюю избу, он довольно долго стряхивает с валенок снег. На сцене нет нигде снега, снег воображаемый, зима и снег в одних только жестах Ильинского, и это полнейшая зима, ни в каких дополнениях к актерской игре не нуждающаяся. То или иное целое создало и настроило этого актера, прежде чем он вышел на сцену; с тех пор актер более в этом целом, как он существует воочию, не нуждается, он сам его создает. Попутно Акиму Ильинский играет также деревенскую зиму.
Предоставленный самому себе, одними собственными средствами, Ильинский однако играет в «Ревизоре» все теневое содержание великой комедии, всю мнимость и все начала гибели императорской России.
1947
ЦАРСТВО ТЕНЕЙ И ЛИРИЧЕСКАЯ ТЕМА
(Комедия Щедрина «Тени» на сцене Театра Ленсовета, постановка Н, П. Акимова)
Н. П. Акимов поставил на сцене театра Ленсовета, руководимого им, «Тени» Щедрина, комедию, за всю историю свою однажды только до того показанную зрителям, и то по исключительному поводу, — в Мариинском театре, в 1914 году, в спектакле Литературного фонда[345]. Комедию свою Щедрин при жизни не публиковал, написана она была, по всей вероятности, в иачале 60-х годов, дошедшие до нас четыре акта ее, быть может, не исчерпывали весь замысел, быть может, предполагался еще и пятый, заключительный, — наличие пятого акта в ту тору действовало на автора драматических произведений и на публику его успокоительно. Законченная или незаконченная комедия «Тени» выдерживает сравнение с другим драматическим созданием Щедрина, со «Смертью Пазухина», уже давно, со времени замечательного спектакля Художественного театра, признанным нашей сценой.
536
Комедия Щедрина в Акимове нашла сочувственного и остроумного истолкователя. Режиссер уловил истинные масштабы, ей подобающие. Со сцены на зрителей шла комедия большого стиля, далеко выбившаяся из границ изображения быта и нравов петербургского чиновничьего круга, — быта должностного и домашнего. «Тени», какими их написал Щедрин и какими их поставил Акимов, следуют традиции великой комедии Гоголя «Ревизор». «Тени» — из числа ее отпрысков. По примеру Гоголя Щедрин тоже задумал «комедию империи», сценическую сатиру, направленную против бюрократического государства и той части общества, что безропотно принимает насилие, от этого государства исходящее. Щедрин-драматург, как, впрочем, и Щедрин со всеми другими своими сочинениями, помимо написанных в драматической форме, являет черты семейного сходства с Сухово-Кобылиным, чья трилогия могла бы носить название тоже имперской, общегосударственной, настолько широка она по темам и по смыслу. Рядом с трилогией А. К. Толстого стоит в нашей литературе трилогия Сухово-Кобылина, у одного история, далекое .прошлое, предчувствие смуты, в которой все утонет, у другого современность, середина XIX века со смутой уже подоспевшей, все тронувшей и все разложившей. Разумеется, мы тут сопоставляем не дарования этих писателей, немалое у автора «Царя Федора» и огромное у автора «Дела». Мы имеем в виду лишь некоторую перекличку их по теме, по предмету. А. К. Толстой продолжил по-новому у Пушкина обоснованную трагедию государства. Гоголь, Сухово-Кобылин, Щедрин создали комедию государства же, которой не было в европейских литературах со времен древнего Аристофана. Литература классицистов и просветителей отмечена была своеобразным «этатизмом», повсюду у нее преобладали интересы государственные, будь то трагедия, поэма или ода. Трагедия классицистов трактовала судьбы личности, осмелившейся вступить в спор с государством. В «Борисе» Пушкина уже нечто иное: трагизм постигает не оппозицию против государства, а само государство, верховную власть в ее традиционном виде, в правах, которыми она веками пользовалась. Комедия, начиная Гоголем, по-своему освещает тот моральный развал самодержавного государства, предвестие развала физического, который уже не за горами,
537
Спектакль в театре Ленсовета начинается с особого занавеса, на .котором появляется теневой образ — конный памятник императору Николаю. Не следует думать, что режиссер сделал хронологическую ошибку. В комедии Щедрина изображаются времена поновее, первые годы последующего царствования. И все же в комедии проводится мысль, что император Николай продолжает править страной и посмертно, слова и речи при сыне пошли иные, а суть происходящего все та же, отцовская. Занавес с черным конным силуэтом иногда шевелится, на занавесе живая тень, которая того и гляди потребует для себя свежего жертвоприношения. В новое царствование сохранялись, сколько можно, идеи и тенденции покойного императора и даже оставались у власти все те же сановники, по поводу которых Тютчев выразился, что они напоминают ему парадокс природы: волосы и ногти растут у мертвецов и после их погребения[346].
После занавеса с Николаем возникал занавес с другими «тенями», действующих лиц комедии, дельцов из казенных канцелярий и из контор частного значения. Тени эти страшноватые, растрепанные как будто бы слетались на свой шабаш, опрокинув и опозорив все невинное и чистое, что повстречалось на дороге.
И тот, и другой занавес служили прологом. Символика теней вышла далеко за пределы прологов, она появлялась и появлялась на протяжении спектакля. Фабула комедии дана была обычными сценическими картинами, трехмерными фигурами актеров, расцвеченными всеми цветами, как это им и положено. Однако же иные эпизоды представлены были силуэтно, черными тенями. Спектакль был разыгран как бы на двух языках сценической выразительности, которые чередовались друг с другом. То это была живописная, цветная, цветистая манера богатого подробностями театрального зрелища, то все сжималось в однотонно-черный эпизод, в коротенькую пантомиму силуэтов, лишенную диалогов, пояснительных речей. Двойная манера вести спектакль оправдала себя множеством остроумнейших режиссерских изобретений; главное же — она позволила отчетливо расценить жизненное содержание комедии Щедрина, в явственном виде передать ее смысл.
538
Комедия трактует карьеру Клаверова, петербургского бюрократа, и некую интригу, ради упрочения карьеры им задуманную. Судьба подкидывает ему в Петербург двух старых знакомцев из провинциального периода его жизни: Бобырева, неуклюже-наивного человека, преданного идеалам честности и правды, и супругу Бобырева, Софью Александровну — Соню, милую молодую женщину, с которой у Клаверова некогда был тайный роман, и которая продолжает и сейчас по неведению своему любить этого человека. Клав еров весь насквозь чиновник и честолюбец, душу заложивший дьяволу повышения в чинах и в должностях. Клаверов — молод и уже удивительно преуспел по службе. В тридцать лет он генерал. Щедрин по-особому ироничен в отношении петербургской бюрократии. Режим бюрократического государства берется все и всех перемолоть по-своему. Нынче государство вдруг проявило интерес к молодым и стало их поощрять, на молодых раскрылась старческая пасть государства. Клаверов не замедлил броситься в эту пасть одним из первых, и нам видно, как изобильно его вознаградили. Клаверов и молодые чиновники вокруг него — либералы — пошучивают с оттенком вольнодумства и знают литературные цитаты. Щедрин здесь, как и всегда, безжалостен к этим свободным мыслителям, сидящим на хорошо оплачиваемых местах. Новое царствование порождало либеральную моду. Щедрин предостерегает, что либеральность эта не более как вспомогательное средство самого непримиримого консерватизма, тактическая и мнимая уступка с его стороны, мера самосохранения. Клаверов вольнодумствует и тем временем укрепляег связи с консерваторами допотопной формации, он не сомневается, что сила как была, так и пребудет с ними и у них, все пройдет, они останутся. Сейчас он ходит за именитым ретроградом князем Таракановым, сластолюбивым старцем, которому он успел уже переуступить бывшую свою возлюбленную, некую Клару Федоровну, «женщину вольного обращения». Так как Клара приобрела возле князя слишком большую самостоятельность, то Клаверов спешит заменить Клару каким-либо другим, более послушным ему женским влиянием. Он наметил в новые фаворитки к князю Соню, бобыревскую жену, которая нисколько не догадывается, что для нее измыслил, как хитро хочет ее продать этот по-прежнему любимый ею
539
человек. В расчеты Клаверова входит и избавление от давно уже ненужных ему чувств бедной провинциалки, сейчас очутившийся в Петербурге рядом с ним. Он задумывает перевести чувства Сони на иные пути, дать им, так сказать, государственное направление, заставив Соню служить его карьерным умыслам и замыслам.
В комедии Щедрина действуют обыкновенные человеческие интересы и силы — любовь, склонности, привязанности, молодость и молодые влечения, а на другой стороне интересы, относящие человека к государству, к делам государства, крупным ли, повседневным ли. В старом классицизме человек становился прекрасен и высок, когда он подымался в сферу государственного служения, ;когда он подчинялся своему политическому призванию и всеобщее овладевало им. У Щедрина обратное. Частно-человеческое у его персонажей есгь большее, всякая связь их с государством сразу же уменьшает их, они сникают, как Клаверов, едва только вступают в соприкосновение с интересами казенного своего места. У тех героев классицизма было служение, у этих служба, подслуживание и прислуживание. Все низменные предрасположения души выходят на свет и развиваются, только лишь государство со своими учреждениями предъявляет спрос на этих людей и приводятся в движение их постыдные служебные карьеры. Комизм комедии Щедрина доброй долею тем и держится, что общее здесь меньше частного, государственное меньше партикулярного, общее лишено какой-либо общезначительности, не является благородной, вызывающей уважение всеобъемлющей силой, какой оно представлялось в старинных трагедиях. Дребедень чиновничьих успехов, ради которых Клаверов жертвует Соней, есть нечто бесконечно низшее, чем Соня и любовь Сони. В комедии существует лишь одна видимость «общего» и его исключительных прав. Клаверов очень охотно ссылается на государство и на долг свой перед государством, чтобы отуманить бедные и вульгарные мотивы собственного поведения. Морально развалившееся государство Клаверова — удобный предлог для того, чтобы ускользать от ответственности перед жизнью и перед живыми людьми. Авторы-классицисты тоже имели перед собой далекую от добра и правды государственность, но попытки поправить ее на высокий политический идеал не казались тогда безнадежными. Бюрократическая империя импе-
540
ратора Николая не допускала иллюзий ни в настоящем, ни в будущем. Разве что Кукольник мог как ни в чем небывало сочинять официозные драмы в духе классицизма…
Двойная манера развертывать театральное зрелище позволяет Акимову сделать наглядным также и переход линий, положений, отношений от морально большего к морально меньшему и обратно. В первом акте представлено, как начинает свой петербургский день Клаверов, его превосходительство. В кабинете Клаверова, где есть и античный мрамор и другое внушительное убранство, поджидают выхода его чиновники, вместе с ними новоприезжий провинциальный приятель его Бобырев. В этой сцене Клаверов впервые должен возникнуть перед зрителями. Режиссер хорошо обдумал этот первый подступ к персонажу. Клаверова все еще нет на сцене, он за дверью, занятый утренним своим туалетом. Из дверей выскакивает необычайно пышный парикмахер. Это он — предвестие Клаверова, эмоциональный первообраз его. Только после того выходит к алчущим лицезрения сам Клаверов. Появление Клаверова разработано так, что мы как бы ступень за ступенью возвышаемся до него. Однако же великость Клаверова воспринимается нашим глазом, а умом — ничтожество. Глашатай этой великости — парикмахер.
Тема Клаверова развертывается и дальше так, что восхождение этого человека по нашей оценке тождественно с его нисхождением. Он наполняет собою весь первый акт, важный, но довольно шумный, занятый и такими делами и этакими. Акт окончен, и опять представлен теневой, силуэтный эпизод. На занавесе тень Клаверова, который готовится к выезду, бросает лакею свои вчерашние перчатки, чтобы тот подал свежие. Клаверов представлен в своем сверхофициальном виде, сжатый до одной только официальной, штатной функции своей. Этот сценический образ в буквальном смысле почернел, обеднел, сократился. Только что была на сцене полная жизнь, воспроизводящаяся «в цвете», в подробностях. Был зеленый фрак Клаверова с золотыми пуговицами, были зеленые мундиры других чиновников; была мебель из красного дерева, был мрамор. Теперь все это погасло, вместо цвета одни линии, вместо жизни одни силуэты, гротескные отвлеченности, как бы подмена жизни умозрениями. Силуэтный Клаверов тя-
541
готеет к первому занавесу, к силуэту скачущего на коне императора, через тени и силуэты персонажи даются в своем общегосударственном смысле как подданные покойного императора, пасущего свою империю даже из загробного мира. В силуэте своем Клаверов только генерал, хотя до того в нем обращалось еще и многое другое. Силуэт Клаверова — это линии его большого роста, генеральского, администраторского, это линии повелительных его жестов, рук, отдающих приказы и распоряжающихся. Режиссер перевел живописный образ на язык второй своей манеры, цветного и жизненного Клаверова обратил в государственную тень, в кого-то, ведущего призрачное существование, в образ лжи. Тенеобразный Клаверов меняет перчатки, из знакомства с Клаверовым в подробно-живописном образе его известно, что руки у этого человека не слишком бывали чисты, в своем теневом виде Клаверов маскирует свои малоотмываемые руки, свою малоприглядную нравственную личность. Перчатки в теневом эпизоде — ложь, как и все здесь ложь. Мы говорили о людях и вещах, данных в спектакле то большими, то меньшими. Существовать в трехмерном расцвеченном мире и потом сойти на нет, сойти на силуэтный, теневой образ — это и равносильно тому, чтобы двигаться от большего к меньшему. Когда из персонажей извлекается их социально-политическая суть, когда они осмысляются как всего только штатные единицы неразумного полицейского государства, как опора его, то персонажи тем самым нравственно уменьшаются, в их человеческое содержание идет на убыль, у них была реальность жителей земли, она стала исчезать, когда они обнаружили себя в качестве соучастников своего государства. Тут начался упадок права, правды, наконец, самой реальности.
Режиссер спектакля, пользуясь выгодными эффектами двойной, двухязычной сценической выразительности, повторил на сцене основные принципы, принятые в поэтике Щедрина. И у Щедрина, безразлично к тому или иному жанру его произведений, гротескно обостренный образ выходит из недр образа жизненно конкретного, упрощение, стилизация следуют из познания национальной жизни во всем ее объеме, во всей ее широте. В сочинениях Щедрина трехмерный образ логически предшествует образу двухмерному, линейному, издалека его подготовляет.
542
Второй акт тоже завершался в спектакле итогами, выраженными на языке теней, черных силуэтов. В этом акте шумели многочисленные гости Сони, а заключительно тенями были представлены все вместе, чуть-чуть страшноватым канканом дам и кавалеров, несущихся неведомо куда. Общество вокруг Сони морально сродни Клаверову и Набойкину, да и сама Соня наивным и невинным образом втянута до поры до времени в эту компанию, поэтому законным было всех этих бездумно веселящихся, всех этих вольных и невольных пособников и сателлитов обмана и зла заново перерисовать мятущимися черными призраками.
Режиссер по-разному добивался комических упрощений, выработки новых по методу своему сценических комизмов. Князь Сергей Кириллович Тараканов, о благосклонности которого так заботится Клаверов, в комедии прямо и зримо не выводится. Но о нем мы слышим часто, слышим целый рассказ его племянника, Тараканова-младшего, о выходке, которую князь себе позволил в английском клубе. За клубным обедом у князя вышел спор с либералом Секириным, «зажигателем». Секирин поддразнивал князя, ибо разговор вели о предстоящих реформах, князю ненавистных. Чем отвечать, князь повернулся к Секирину всем корпусом и показал ему язык. Повествуя о высунутом языке, актер, играющий княжеского племянника (А. В. Гюльцин), прибегает к иллюстрации: вынимает из кармана красный платок и подбрасывает этот платок, так что платок развевается, волнуется длинной красной лентой. Племянник движением платка изображает дядин язык, красная лента — антилиберальный язык князя Сергея. Так старый сановник сведен на одну только, к тому же физиологическую, подробность самого непочтенного, ребяческого порядка. Весь облик князя Сергея так и остается нам неизвестным, но одна подробность, в подчеркнутом виде, в передаче красным платком дается нам воочию. Платок племянника здесь служит как точный образ.
Особое значение приобретает цвет, по цвету мы прежде всего и ловим сходство, догадываемся, на что указывает образ. В этом спектакле, где так много места заняли тени, цвет нисколько не забыт. Цвет — орудие комизма, средство разоблачения, цвет — постоянный антагонист теней и их притязания на первенство.
543
В этом спектакле весьма важна была тема культуры, носимой персонажами, проникшей в их вкусы, быт и обстановку. Характеристика культурой, стилем стала заметной частью сценической поэтики уже в некоторых более поздних спектаклях Московского Художественного театра, в ту пору, когда Бенуа и Добужинский сблизились с ним, взяли на себя всю живописующую часть иных спектаклей. В театре Мейерхольда еше заметнее стали в спектаклях мотивы культуры, бытовой, обстановочной стильности. Так было и в постановке «Маскарада» и в более поздних постановках «Ревизора», «Горя от ума», где со сцены демонстрировались вкусы прошлого, культурный обиход его, не только свойственные ему способы жить, но и способы украшать свой быт, вносить в него эстетику. Иной раз весь спектакль строился на имитациях стиля каких-либо явлений искусства, стиля, более характерного для эпохи и более богатого, чем стиль самого автора пьесы. Так было в постановке «Дамы с камелиями» у Мейерхольда, где хозяином сцены был не Дюма, но великий живописец Ренуар, в стиле которого разрабатывалась вся сценическая картина; внешность актеров была из Ренуара, вещи быта из него же и, конечно, декорации. Ренуар воссоздавал в живописи образ культуры своего времени. У Дюма этот образ отсутствовал, поэтому Ренуар потеснил Дюма, стал по меньшей мере соавтором «Дамы с камелиями». Писателю остались в этом спектакле обветшавшие проблемы и психология, а на долю живописца пришлось все более прочное и стойкое, обращенное к зрительному восприятию[347].
В тексте Щедрина культура представлена по преимуществу французским языком этих чиновников новой складки, щеголяющих своею образованностью. В русскую речь персонажи Щедрина постоянно вставляют французские слова и речения. Режиссер отказался от французского языка на сцене, чуждого большинству наших зрителей. Взамен он ввел музыку, музыкальные цитаты, которые и должны говорить о культуре дейст-
544
вующих лиц, об их вкусах, об их художественном кругозоре, о том, на что эти люди претендуют. На квартире у Бобыревых стоит рояль, который и способствует распознанию гостей, своеобразному разоблачению каждого из них. Рояль держат открытым, гости к нему подсаживаются, то один, то другой извлекает из рояля что-либо свое, соответственное, дешевый наигрыш лесенок с подозрительными куплетами. Таким образом и узнается, чего просит душа каждого и всех, каков их культурный мир, а рояль кажется оскорбленным и без вины пострадавшим. Во втором действии на рояле что-то выстукивает Набойкин, жизнерадостный департаментский чиновник, состоящий при Клаверове, а затем весельчак с одышкой, толстый откупщик Обтяжков .пускается ему подыгрывать, и тогда эти две души, Набойкина и 06тяжкова, единятся в музыке.
Среди музыкальных цитат спектакля преобладает взятое из оперетт, «оффенбаховщина». Оперетта и Оффенбах в Париже тогда уже царили, а в России начинались их первые успехи. Хотя в спектакле и допущены легкие анахронизмы — «Прекрасная Елена», которая цитируется с текстом Виктора Крылова в начале второго акта, ко времени действия комедии еще не существовала, — но соединение клаверовского общества с опереттой — счастливая идея режиссера. Оффенбаховщина и есть та культура, которая доступна Клаверову, Набойкину, Обтяжкову. Пленяет их, разумеется, не музыкальный талант Оффенбаха, но тот дух всеобщей профанации и всеобщего нигилизма, которым веяло от его окружения. Культура и мораль втайне тягостны этим официальным их носителям, и они очень радуются, когда им дозволено бывает под предлогом культуры же, притом самой высшей, парижской, несколько облегчить собственную ношу, сбавить бремя. Владычество оперетты беспокоило наших писателей. В «Анне Карениной» встречаются упоминания об Оффенбахе, игривые, курсивом данные в устах персонажей и сопровождаемые глухой, неодобрительной интонацией автора, о которой свидетельствуют те же курсивы. Высказывание против оперетты было и у самого Щедрина. В позднем его романе мы находим страшное по духовному убожеству письмо головлевских племянниц Анниньки и Любиньки, поступивших в оперетту, вернее, продавших себя в оперетту, где их ожидает окончатель-
545
ное духовное уничтожение. Введенная по инициативе режиссера «оффенбаховщина» уже здесь, в «Тенях», указывает на первые признаки будущего головлевского распада. Канкан и оперетта разрушают семейство Бобыревых, мать Сони, ослепительно-яркая, звонко-розовая и золотая дама более чем зрелых лет (актриса В. А. Будрейко), носится по сцене в лихой пляске и с лихими куплетами, кладущими конец всякому семейному благообразию. Канкан и оперетта — отряда Клавероеа и его друзей , душа, нет — свидетельство отсутствия души у этих тенеобразных людей. Соня перед концом комедии говорит Клаверову, лицемеру и притворшику: «Вы играете кожей, а не внутренностями…» Если держаться слов Сони, то именно внутренностей лишен Клаверов, победоносный штатский генерал, и поэтому внутренности не играют у него, поэтому тень, официозный силуэт выражают его сполна.
Актерская игра в этом спектакле была очень хороша, Театр Ленсовета превзошел самого себя, показав, как велико значение режиссуры, чего может достигнуть актерский состав, соединившись с режиссурой умелой и талантливой. П. И. Лебедев, игравший Клаверова, Ю. Г. Бубликов, игравший Набойкина, направленные режиссером в одну и ту же сторону, как люди, родственные по главным мотивам своей души и поведения, все же получили в спектакле каждый свои отличия. У Клаверова, старшего по чину и положению, была некоторая своя монументальность. Набойкин был более суетлив и тороплив, извилист, мелкоподвижен. От обоих исходил невеселый шум деятельности, которая совершается впустую. Под общим знаком с этими двумя в спектакле воспринят был Обтяжков — О. З. Каган. Но Обтяжков также и явление особое, заметным было, что только недавно Обтяжков покинул свой лабаз и перешел в гостиные, где увеселяются молодые люди из петербургских департаментов. У Обтяжкова патриархальное купеческое брюхо, однако одет он в черный фрак, «обтягивающий». Голова у Обтяжкова старого фасона, купеческая, с купеческой бородкой, на голове же у него цилиндр. Обтяжков стар, оффенбаховские радости жизни, на которые он бросается, общедоступны, они требуют только денег и снисходительны к условиям возраста.
Роль Бобырева, провинциального увальня и правдолюбца, с успехом играл В. В, Петров. Бобырев хотел бы
546
противостоять царству лжи и теней, у него другой тон, другой голос, другие движения, чем у прочих, вертлявых, приплясывающих столичных деятелей и дельцов. Бобырев — оппозиция неудавшаяся. Хотел бы гневаться, выходит только сердитость. Из того же рояля, который недавно еще под руками Набойкина и Обтяжкова звучал веселенькими мелодиями, Бобырев, недовольный, страдающий, извлекает ноты сердитые и мрачные.
В драматическом произведении очень важны группировки действующих лиц: кто с кем заодно, во имя чего связаны, против кого и с какой целью действуют. Акимов умеет это размещение драматических сил в спектакле сделать наглядным, зрительно отчетливым с помощью многих дополнительных средств. Не только сюжет, драматическое действие, поступки и речи разделяют и объединяют персонажей, но это достигается в постановках Акимова также через зрительные и музыкальные впечатления. В постановке «Теней» люди одного направления — это также люди одного ритма, одного способа двигаться, одеваться, произносить слова. Тяжеловесный Бобырев по походке, по манере садиться в кресло, по тембру голоса отличается от мелкобесия Клаверова и его сподвижников, от ритмического и зрительного образа, которым все они собраны в единую по смыслу своему силу. Есть группировка персонажей, как она дана в самом тексте драматического произведения. Акимов на сцене воспроизводит эту текстовую группировку, добавляя к ней очень многое на языке, свойственном театру, театральному зрелищу как таковому. Текст остается тот же, но усиливается, приобретает на сцене добавочный накал, ради которого, думаем, режиссеру и следует ставить текст, а зрителю смотреть его в театре, не довольствуясь одним только прочтением его у себя дома.
Драматический театр от режиссера получает то, что театр музыкальный имеет целиком уже от композитора, от партитуры оперного произведения. В музыкальной драме помимо соотношений между действующими лицами, которые определяются сюжетом, ходом событий, ходом драматической борьбы и идейным ее смыслом, музыка предлагает нам еще другие — это перепевы действующих лиц друг с другом, общность их музыкальных характеристик, музыкальные контрасты между ними. На драматической сцене чувственные знаки размещения
547
персонажей по смыслу, образный язык Для этого размещения доброю долей становится делом постановщика.
Особо нужно вести речь об актрисе Г. П. Короткевич, игравшей Софью Александровну Бобыреву, она же Соня. Для актрисы этот спектакль был ее расцветом. Игра Короткевич имела для спектакля решающее значение, от Сони в исполнении Короткевич спектакль заимствовал внутреннюю свою цельность. Когда на сцену выходила Соня, то намечалось самое крупное и многозначащее в спектакле разделение ролей. Все, все прочие, включая сюда и Бобырева, невзирая на его попытки не соглашаться и протестовать, составляли одно, а Соня была совсем другое,. Одна Соня это и есть в комедии положительная сторона коллизии, что и удалось показать актрисе. Едва возникала на сцене Соня, все остальные персонажи приобретали сплоченность, вопреки всем различиям между ними. Та цельность, что была в спектакле, она и приходила через разделение. Мелкие разногласия между персонажами потеряли вес, когда проведена была линия основного драматического противоречия — линия Сони. Здесь находилась Соня, а там остальные, по смыслу своей души и жизни противники ее. В этой комедии все способно перейти или уже перешло в тень и эфемер, одна Соня живая реальность, действительная душа и действительная личность.
Короткевич играет свою роль лирически. Для действующих лиц комедии Щедрина нет ничего более недоступного, чем лирика, обыкновенное лирическое чувство. В спектакле лирика отрицает всех персонажей подряд, из их неспособности к лирике видна их лживость, пошлость, мелочность и мелкость. Лирика обособляет Короткевич — Соню, освобождает от внутренних связей с Клаверовым, со средой Клаверова. Элементы содержания так распределяются в спектакле, что лучшее и высшее место дано лирике. Для Акимова это ново, он никогда прежде не уделял лирическому началу такого внимания.
Лирика требует человеческой чистоты. Софья Александровна Бобырева — существо, испорченное с младых своих лет, матушка у нее вульгарная, образ жизни сомнительный, предмет любви — Клаверов. Актриса, играя Соню, сохраняет в ней все бытовое, ничего не улучшает и не подчищает, и невзирая на то, Соня в ее исполнении
548
совсем светла, без оговорок прекрасна. И к Клаверову, и к оффенбаховщине, и к канкану причастна Соня, но она, как передает ее Короткевич, не понимает собственной жизни, собственного быта, поэтому уходит из-под их влияния. В сценах третьего акта, пьяная, она не допускает 'ни одного вульгарного движения. Для пьяной она странно хороша, хотя для трезвой она ведет себя предосудительно. «Камаржинцев, хотите, я вам позволю себя в плечо поцеловать», — говорит она пошлому человеку и указывает на свое обнаженное плечо жестом мальчишеским, чистым. В разгаре пьяного веселья Соня ложится на рояль и неожиданно произносит фразу: «Отчего так скучно жить на свете?» Однако же эта фраза исподволь подготовлена всей игрой актрисы — Соня заблудилась и заблуждается, Соня как лирическая личность и Соня в ее реальном бытовом образе далековаты друг от друга.
Перед четвертым актом на теневом занавесе показано: на санках Соня мчится ранним утром к Клаверову искать у него защиты, мчится к человеку, который уже обдумал, кому и как перепродать ее. Она ничего не знает об этом, ее обида совсем иная, она плачет и погоняет ямщика, в сани впряжена игрушечная лошадка, перебирающая своими тонкими ногами с небывалой быстротой, — это бег на месте. Соня, тоже вовлеченная в царство теней, здесь только лучше выражает свою наивную живую жизнь. Силуэт с лошадкой выводит наружу детское, наивное, милое в самой Соне и в Сонином предприятии ехать за спасением к Клаверову. Нужно на теневом занавесе читать не эпиграмму на Соню, а в графических образах высказанное сочувствие к ней.
Соня в комедии Щедрина действует во всех актах, начиная со второго. На сцене во втором акте она подомашнему мила и скромна, в третьем она «Венера, разливающая нектар», как выразился один из ее поклонников, в четвертом опять скромна, ясна в красной своей шубке и будничном клетчатом платье. Соня третьего акта — пьяное наваждение, а настоящая во втором и в особенности в последнем — четвертом. Клаверова Соня не победила, зато победила зрителя, для которого последним явлением Сони могущество теней поколеблено.
В спектакле царство теней присваивает себе фигуры и события из живой жизни, оно постоянно дает о себе
549
знать и совершаем все новые хищения. Мы осматриваемся, кто же ему поставит предел. Цвет сопротивляется, и все-таки цветное превращается в линейное, трехмерные вещи сопротивляются, и вот справляются и с ними, их трехмерность улетучивается, вместо них черные силуэты. Толстый человек из провинции хотел быть честным, и тени съели его. Одна только лирическая тема могла что-то сделать и сделала.
Акимов ставит комедию Щедрина как законченное произведение. Режиссер останавливает спектакль там, где обрывается текст, и вместо текста недостающего вводит краткую пантомиму: Клаверову удается спровадить бедную Соню, явившуюся к нему в столь неудобных обстоятельствах, Соня уезжает домой к мужу, вероятно, на тех же санях, что везли ее сюда, в генеральское логово, а оставшиеся на сцене и довольные Набойкин и Клаверов смеются торжествующим смехом — пустым, «от пустого нутра», пустоутробным.
Сцены, которых Щедрин не написал или же не хотел написать, действительно мало нужны в комедии. Что сталось с интригой Клаверова, победил ли он Клару, что сталось с ним самим, для нас почти не любопытно. Герой трагедии умирает на сцене физической смертью и все еще живет для нас морально. Гамлет, Ромео бессмертны для нас как друзья и собеседники. Герои комедии продолжают благополучно здравствовать, но, разоблаченные, они умирают морально и становятся безразличными для нас. К последнему падению занавеса с Клаверовым покончено, для зрителей живут и будут жить иные силы жизни, входящие в лирическую тему Сони, хотя лирическая тема едва намечена и еще не окрепла на сцене. Театр поступил правильно, не допустив никаких закруглений. По эпилогу спектакля можно судить, какой долгий путь и какая долгая борьба предстоят лирической теме. Покамест довольно того, что лирическая тема присутствует, уже успела быть занесенной в книгу бытия.
Лирическую тему, да еще в женском изложении, не следует понимать в каком-либо слишком узком и специальном смысле. Она говорит об очень общем и широком — о человеческом содержании в жизни людей, лирика и женственность неизбежны, чтобы выразить поэтичность его. У Щедрина можно найти сатиру на совсем иную интерпретацию человеческого начала, свой-
550
ственную персонам высокого положения в сословном государстве. В «Губернских очерках», раннем произведении Щедрина, содержится глава под названием «Озорники». Это сильный монолог, чей — должны мы сами догадаться, авторские ремарки и пояснения отсутствуют. По мыслям монолога, по складу речи, по тембру голоса, который в нем слышится, по интонациям можно предположить, что говорящий — лицо вельможное и барственное, убеждений самых консервативных. Монолог позволяет судить, какая сила драматурга скована была в раннем Щедрине,— мы слышим речь и голос, нам ничего иного не дано, и мы видим, различаем, как это и бывает у призванных драматургов, лицо, характер, положение. Речь и голос живописуют, портретируют человека, как если бы он был представлен нам воочию, описан в свете всех пяти наших чувств. Оратор этот славит государственность, произносит в честь нее философски-одическое слово, смешивает пафос Гегеля с пафосом Державина. В государстве он восхваляет элемент насилия, пренебрежения к гражданскому обществу, к живой жизни, к «беспорядочным поползновениям», как называет он ее потребности. Величие государства в том и состоит, что оно абстрактная мертвая сила, все созидающая из самое себя: «принцип чистой творческой администрации» — так именует он государственную власть. За откровенность похвал злобному, убивающему началу Щедрин и окрестил своего оратора «озорником» — это циник, высокопоставленный нигилист, насмешник по адресу всего, что может и хочет жить. Государство, он заявляет, «чистая идея»,— «скажите же на милость, зачем ей… натыкаться на какого-нибудь безобразного Прошку, который даже может огорчить ее своим безобразием? Чистая идея — нечто до того удивительное по своему интимному свойству все проникать, все перерабатывать, что рассудок теряется и меркнет при этом представлении об этом всесильном могуществе. Она все в себя вбирает, и это все, пройдя сквозь неугасимые и жестокие огни творчества, выходит оттуда очищенное от всего случайного, "прошковатого" (производное от Прошки), выглаженное, вычищенное, неузнаваемое»[348]. Нужно обратить особое внимание на
551
удивительное слово «прошковатость». Как указано в самом тексте, оно происходит от Прошки, от уничижительного имени, вызывающего представление о мальчике на побегушках, о казачке, которому поручены платок и трубка и которого дерут нещадно. Прошкой обозвано все живое, что есть в обиходе общества и государства, его человеческое основание. Согласно воззрениям оратора, оно ничего не стоит, являет собой самую отъявленную прозу, самое жалкое безобразие, огорчительное даже. «Прошковатость» — с Прошкой поступлено как следует, он размолот в абстракцию, от конкретного Прошки ничего не осталось, вся конкретность перешла на абстрактный термин. «Прошковатость» — здесь все дано очень точно и подробно, слово это с зазубринками. «Прошковатость» — здесь налицо количественная определенность, подразумевается только ограниченная доза Прошки, щепотка его, да и та отвергнута перед лицом чистой идеи.
В комедии Щедрина предмет тот же, что в монологе властительного лица, направленном против Прошки и «прошковатости». Но чистая идея того панегириста государственности в комедии превратилась в уродливо мигающее сборище теней. В комедии Щедрина чистой идее так и не дано уберечься от «прошковатости», она все же наткнулась на сопротивление. Только живая суть жизни не предстает на этот раз в качестве придурковатой к презренной прозы. «Прошковатостью» она больше не именуется. Как это й должно, она приобретает пленительность, женский образ и женский лирический голос. Так в тексте комедии и так в театральной постановке, где все это подхвачено и усилено, где лирической теме поручено вести борьбу с царством смерти, с мертвым образом бюрократического общества и государства.
1954
Пушкинский театр драмы к юбилею Островского выпустил новую постановку «Леса». Спектакль хорош, разыгран хорошими актерами, публика смотрит его охотно, тем не менее он оставляет простор для критики. Хотя скоро исполнится сто лет пребыванию пьес Островского на сцене, но все еще не установилось к ним должное отношение. Уже давно понято, что не годится в Островском подчеркивать элементарного бытовика, хроникера купеческих и помещичьих нравов, писателя чуть ли не этнографического. И все же от ориентации на быт и только быт режиссура и актеры отрываются робко. Они почему-то еще не уверены, что Островский — замечательный глубокий мыслитель в своем художестве, что драматургия его высокоидейна и что главная задача спектакля — выразить идейную суть его пьес. Островский тем велик, что мысль его скромна, она не выскакивает на передний край спектакля, все у него до конца заверено, подтверждено событиями, реальными отношениями, человеческими фигурами. Островский классичен, он не страдает той вычурностью, той самостоятельностью мысли по отношению к художественно-
553
му образу, которою уже грешит Ибсен, его западный полусовременник. Искусство Островского классически утонченно, оно не знает навязчивых преувеличений и острых подчеркиваний, оно терпеливо выслушивает жизнь и обобщает, толкует ее неприметно, считаясь со всеми ее подробностями, иной раз даже с капризами ее течения. Отсюда и происходит, что мысль Островского проглядывают и видят у него сплошной быт и сплошные бытовые эпизоды. «Лес» ставил В. П. Кожич, один из самых талатливых и интеллектуальных ленинградских режиссеров. Отдельные сцены поставлены выразительно и находчиво. Все же пьеса в целом неясна, трудно определить, куда и к чему ведет режиссер актеров. Пропадает главная тема Островского — тема искусства. Несчастливцев и Счастливцев — это искусство, зашедшее в быт, на минуту смешавшееся с ним. Актеры, трагик и комик, зашли в усадьбу Гурмыжской, они и в этом «лесу» быта и тяжелых нравов остаются людьми искусства, они участвуют в реальном быту наряду с реальными персонажами, но как художники, как поэты, руководствуясь моралью, подсказанной им искусством и поэзией. Несчастливцев: «Я чувствую и говорю как Шиллер…» Ю. В. Толубеев играет Несчастливцева сильно, мягко, краоиво, но однородно. Не виден актер Несчастливцев. Его бытовые реплики и цитатные, взятые из высокого репертуара, сливаются неразличимо; когда он цитирует своего Шиллера, то у зрителя иллюзия, что это собственные слова Несчастливцева. У Толубеева получается, что Несчастливцев и хороший человек, и хороший актер. У Островского Несчастливцев — плохой актер, трагик с наигранным пафосом. Толубеев чересчур правдоподобно произносит свои трагические цитаты Несчастливцева, пафос Толубеева умеренный, он читает слова Карла Моора не тем голосом провинциального трагика из Лебедяни за сто лет до нас, но своим голосом, прекрасного, сдержанного по манере и стилю современного актера. А эта взвинченность, это актерство Несчастливцева в быту, в жизненных положениях должны присутствовать на сцене. В пьесе Островского все держится на печальной иронии. Явился в этот лес Гурмыжской добрый волшебник, он расколдовывает томящихся здесь, но он не есть настоящая сила, и выход он дает мнимый — он актер, и наивный актер, верящий в театральную фразу, в полное тожде-
554
ство между жизнью и сценой. Несчастливцев натура простая, а разработана она автором сложно, оценивается автором двойственно. Тема искусства в пьесе проводится через актерство Неочастливцева. Если сгладить в спектакле актерство, то и тема искусства тоже сглаживается. У Островского показано, что искусство может изменять жизнь. Несчастливцев расшевелил даже Восмибратава (живописно и нетривиально сыгранного В. В. Меркурьевым). Однако же это не вся мысль Островского. Он слишком реалист, чтобы допускать тут преувеличения. Для Островского, по существу, надолго и прочно не одним искусством изменяется жизнь, ей нужны более глубокие и более реальные воздействия. Это Несчастливцев, а не Островский верит в единственную магию искусства. Актеры явились в усадьбу Гурмыжской, совершили тут свой переворот как могли и насколько могли, и актеры снова пускаются в дорогу. И после них «лес» останется «лесом», неизвестно даже, будет ли Аксюша счастлива со своим Петром, а ведь соединение обоих — это и есть главное волшебство Несчастливцева. Скорбь о быте, который покамест только и может быть поправлен деяниями захожего актера, и должна бы составлять смысл этого спектакля.
А. Ф. Борисов играет Счастливцева разнообразно — он и забитый, и бесшабашный, и дерзкий. Опять-таки и Борисову недостает участия в главной теме пьесы, он не придал Счастливцеву черт художника, не передал артистизма, присущего этому человеку. Счастливцев ведь тоже по-своему художник-обольститель, он даже низменную Улиту полонил, у него свое волшебство, даже для Улиты. Островский не любил, когда актеры превращали Счастливцева в «Аркашку», в мелкую и сомнительную личность, он хотел, чтобы Счастливцеву сохранили особый его ореол, комедийно-лирический.
В спектакле был прекрасный трогательный эпизод (II акт): Несчастливцев и Счастливцев пьют в лесу вино из фляги, и так как нечем закусить, то они братски целуются. Тут было трогательное единение трагика и комика. К сожалению, дальше режиссер пустил их в спектакле врозь.
Недостаточная забота о целом сказывалась и в разработке других персонажей. Правильно и лирически сыгранной Аксюше не соответствовал Петр. Забыто было, что он не отдельно ходит в пьесе, а в паре с этой де-
555
вушкой. Сделали его юродивым купчиком, и тогда Аксюше некого любить в нем.
Необычайно богатый у Островского четвертый акт казался в спектакле разбитым, малосвязным. На сцене сад, лунный свет, скамейка, залитая лунным светом. У этой скамейки попеременно разыгрываются самые противоположные сцены — и Улиты со Счастливцевым, и Несчастливцева с Аксюшей, и Буланова с Гурмыжской.
Общая связь этих сцен: «причуды лунной ночи», трагикомедия жизни, игра нелепостей быта. Сначала лирическии роман с пятидесятилетней ключницей, чья сила в том, что она распоряжается закусками и бутылками, затем горе-злосчастье юной девушки, у которой нет двух тысяч приданого, затем любовные радости богатой старухи с ее женихом-гимназистом. «Единство места» здесь ведет к сопоставлениям, та же скамья, та же лунная ночь, она приютила и красоту и уродов, уродам она отдала предпочтение. В этом акте хорошо шли комические сцены, вяло — патетические. Если бы их объединить контрастом, если бы усилить единый ключ к ним, весь акт ожил бы.
Бесспорнее всего персонажи, в которых заложена злая сила быта, — и купец у В. В. Меркурьева и гимназист у Г. Г. Кульбуша. Твердо и выразительно сыграна Гурмыжская — Е. И. Тиме. Ей удалось внутреннее движение — от ложного траура к подвенечному платью, от вдовьих слез к наглому торжеству новобрачной. Всюду у Тиме видна барыня, удержавшая свой деспотизм и произвол также и после крестьянской реформы. Гурмыжская у Тиме в своем роде лицо историческое, законченное. Можно бы сказать, что искусство Тиме — исторический реализм. Ее игра дает двойное чувство: ее героиня живет, существует характерно и осязательно на сцене, и тот же зритель воспринимает эту героиню как нечто вне сцены принадлежащее к прошлому, к минувшему, к давно определившейся и давно умершей эпохе в истории русского быта. Деловая скороговорка Гурмыжской и Восьмибратова, традиционный торг между ними, все перипетии которого выполняются почти автоматически, своеобразный дуэт обоих, действующих как два пущенных в лад друг другу устарелых механизма, не забывших, однако, свою работу и правила ее, — все это остроумные находки режиссера.
556
Как ни велики старые достижения русского театра в сценическом истолковании Островского, у советских актеров и советских режиссеров еще непочатый край работы над его пьесами, и в пьесах этих сколько угодно неоткрытого, что только советским театром и может быть открыто. Нашему ленинградскому театру драмы надо пожелать полной веры в драматургию Островского, дальнейшего углубления в нее, в ее особый стиль и в ее философское богатство.
1948
I. «ИДИОТ», ПОСТАВЛЕННЫЙ Г. А. ТОВСТОНОГОВЫМ
Роману Достоевского исполнилось девяносто лет. Новая постановка его в Большом драматическом театре имени М. Горького — проверка того, как он живет сейчас и как может жить. Спектакль, созданный Г. А. Товстоноговым, нет сомнения, является важным событием в биографии этого романа, получившего множество критических истолкований и уже издавна приспособляемого к сцене. Конечно, и сцена есть истолкование. Новое, достаточно неравнодушное дается нам Г. А Товстоноговым и его актерами. Молодой актер И. М. Смоктуновский, играющий князя Мышкина, стал в несколько недель знаменит. В переполненном зале господствует ощущение, что не всякий день увидишь творимое в этот раз на сцене. Среди зрителей много таких, кто смотрят этот спектакль уже не впервые, они хотят снова и снова быть свидетелями полюбившихся им сцен и эпизодов или же досмотреть какие-то упущенные подробности. Игра Смоктуновского так щедра и богата, состоит из такого множества первоклассных тонкостей, что не истощается желание опять очутиться лицом к лицу с главным в этой игре и делать для себя новые открытия по частностям ее. В театр ходят, чтобы побывать снова с князем Мыш-
558
киным, он же Смоктуновский, как в другой театр Ленинграда ходят ради новых свиданий с Федором Протасовым, которого изображает Николай Симонов.
Товстоногов, постановщик и автор сценической композиции, проявил смелость в отношении к роману Достоевского. Смелость эта — в доверии к роману. Постановщик, следуя роману, предоставил главенствующее положение князю Мышкину. Он пренебрег уже делавшимися попытками извлечь из романа Достоевского одну линию — историю Настасьи Филипповны, например, — и одной этой линией удовольствоваться.
Бояться князя Мышкина в романе «Идиот» равносильно тому, что бояться Дон-Кихота в «Дон-Кихоте» Сервантеса или Гамлета в «Гамлете» Шекспира. Разумеется, и тот, и другой, и третий требуют на нашей сцене коррективов. Но мощь произведений Достоевского, Сервантеса, Шекспира как раз в том и состоит, что они сами логикой ими развернутых фабул ограничивают своих героев. Что герои могут и чего они не могут — превосходно видно из самого хода событий, их реальной завязки и реальной развязки.
«В нашем ремесле… первое дело действительность», — пояснял Достоевский одной своей корреспондентке[349]. Постановщик уделяет главное внимание именно действительности, ее силам, их естественному движению. Князь Мышиин представлен в контексте этих сил, они-то ему и дают самую точную и безупречную оценку. Они делают и роман и героя романа независимыми от самого автора, от его неверных идей, от его политических и философских заблуждений. Сам Достоевский весьма колеблется в оценке своего героя: то возносит его чересчур высоко, то повергает в полнейшее ничтожество. На взгляд Достоевского, князь Мышкин с его способом жить, думать, чувствовать, поступать — это и есть единственное спасение для человечества. Но есть еще и другой взгляд у автора на героя романа, и тогда спаситель в глазах автора полон самого унизительного бессилия.
Смоктуновский играет князя Мышкина как адвокат собственной роли. Но в романе, в сценической композиции выдвинуты против него и обвинения. Борьба сторон и делает драму драмой. Подлинная, богатая жизнь дра-
559
мы не исчерпывается ни .в коей мере одним движением событий, хотя оно и главное в ней. По ходу событий меняются репутации действующих лиц, совершаются то едва заметные, то крутые переоценки, падают мнения героев о самих себе, падают мнения, составленные о них другими, и реальная правда получает наконец всю полноту власти. Спектакль Товстоногова весь стоит на реальной правде, взятой из романа Достоевского, на том, что позволило этому роману близко подойти к юбилею своей почти уже столетней непрерывной жизни.
Первая же встреча зрителя со Смоктуновским, первое же его появление на сцене носят характер узнавания: да, это он, князь Мышкин, он такой и другим быть не может.
Надо думать, подобное узнавание происходит каждый раз в театре, когда зритель — это бывший читатель, когда он еще до театра знает текст, по которому спектакль ведется. Зритель приходит в театр с собственным своим Гамлетом, и в этом особый подвиг актера — он должен убедить зрителя, что его сценический Гамлет совпадает с тем мысленным Гамлетом, которого себе составил зритель, или же, если совпадения нет, актер должен добиться, чтобы зритель уступил и принял толкование со сцены. Труднее всего положение актера в инсценированных романах. По роману зритель коротко знаком с героем, знает о нем сотни мелочей, видел его вблизи и издали, подробно и мимоходом. Инсценировка не может не идти на крупнейшие сокращения, а актер должен возмещать своей игрой все устраненное или же сжатое в сценарии.
Тайна удачи Смоктуновского в том, что он выходит на сцену из романа, из глубины романа, понятого и прочувствованного им без пропусков, во всех его эпизодах подряд. Смоктуновский играет не сценарий, он играет роман — через сценарий.
Первая сцена с князем Мышкиным: железная дорога, вагон, подъезды к Петербургу. Смоктуновский — Мышкин в штиблетах, в оранжевом плащике, в темной мягкой шляпе, поеживается от холода, сидя на краю скамьи, постукивает чуть-чуть нога об ногу. Он зябок, нищеват на вид, плохо защищен от внешнего мира. Но сразу же актер передает самое важное в князе Мышкине: во всей своей нищете он радостен, открыт внешнему миру, находится в счастливой готовности принять все, что мир ему
560
пошлет. В исполнении Смоктуновского князь Мышкин — «весна света», та самая ранняя весна, что начинается в воздухе, в освещении и предшествует весне воды, весне зверей и леса, а потом и человека. Поезд бежит, в середине замутненного окна крохотная дырка, сквозь нее видно, как бегут сосны петербургских пригородов. Князь Мышкин придвигается поближе к окну, весь в живом любопытстве, в наивной любознательности. Начинаются разговоры. Голос актера досказывает, что представлено было внешним обликом: голос неуправляемый, без нажимов, курсивов, повелительности или дидактики, — интонации вырываются сами собой, «от сердца», лишенные всякой предумышленности. В этом тоненьком, не совсем установившемся теноре есть призвук детского. Голос Мышкина — Смоктуновского доверчивый, готовый к полнейшему сочувствию, в нем не слышно ничего принудительного для собеседника, напротив — этот голос ищет, как ему примкнуть к встречному голосу, примоститься к этому голосу, заразиться им, поддакнуть ему. Всякий диалог — борьба. Диалоги князя Мышкина в исполнении Смоктуновского парадоксальны: борьбы в них нет, это не диалоги, но желание вторить, найти в самом себе того человека, к кому обращена речь, откликнуться ему, втянуться в его внутренний мир.
Смоктуновский актер обдуманного внутреннего вдохновения, все у него идет легко, свободно. В то же время каждый жест отчетлив; твердо запоминается, как держит князь в вытянутой руке свой нищенский узелок, как передает его служителю в прихожей генерала Епанчина, — в этом узелке, в этих пожитках, закутанных в наивный домашний клетчатый платок, — все его социальное положение, все, чем он держится во внешнем мире, и нужно, чтобы жест с узелком врезался в сознание зрителя. Когда Смоктуновский впервые снимает с головы свою темную шляпу, то зритель делает новое открытие. Перед ним, наконец, все лицо князя Мышкина, прибавилось лба, хорошо видны его непышные, но длинные волосы с какими-то косицами, характерные волосы поэта, быть может, миссионера, странствующего проповедника каких-то неведомых еще истин. Есть минута, когда Смоктуновский держит эту свою голову чуть-чуть напоказ, позволяя зрителю к ней повнимательнее присмотреться.
561
У этого актера дар внешнее делать внутренним и внутреннее осторожно и деликатно выражать вовне. Улыбка, светлый беглый смешок так же аттестует князя Мьгшкина, как непосредственность интонаций. В сцене у генерала Епанчина, когда генерал, собственно, начисто от него отделывается, он так весело, так по-детски легко и просто, так светло-наивно не воспринимает обиды, что отношениям естественно принять новый оборот. Генерал Епанчин морально разоружается и впервые проявляет к князю свое расположение. Актер играет не только свое отношение к окружающим; в его игре — ключ к тому, как окружающие в своей черед относятся к нему, как встречают его. Смоктуновский играет — выразимся так — возвратно, в его игре дано, как возвратятся к нему самому оказанные им слава, как отразятся на других его движения и что другими будет сделано в ответ.
Товстоногов почти исключил из своего сценария философские монологи и рассуждения князя Мышкина. В этом упрекать постановщика не следует, так как театр плохо приспособлен к произнесению и выслушиванию теоретических речей. Помимо того, у Достоевского многое из высказанного князем Мышкиным соединяет его с ветхой уже и тогда, девяносто лет назад, политической программой. Князь Мышкин лучше, духовно привлекательнее без этих его программных речей. Тем не менее есть такие речи у князя Мышкина, которые неотделимы от самого его существа. Актер, потеряв эти речи, должен их как-то возместить на сцене, и Смоктуновский в жестах, мимике, позах, интонациях передает философию князя Мышкина, не излагая ее словами. Он играет жизненный метод князя Мышкина, его образ мыслей, строй чувствований, ему присущий, обходясь без сколько-нибудь пространных деклараций. Здесь-то и видно, как освоился актер с романом, сколь многое он вынес из него.
Смоктуновский в диалогах как бы изолирует своего собеседника, выхватывает его из среды остальных, устанавливает глубокую связь с ним одним и только с ним одним. Он повернут к собеседнику всем корпусом, весь — слух, весь — полнота внимания. Так ведется сцена в гостиной Епанчиных. Их пятеро в гостиной: князь, генеральша и три дочери. Через игру Смоктуновского создается впечатление, что в гостиной пять миров и что
562
все миры равноценны друг другу. Князь Мышкин поворачивается к генеральше и всеми мыслями предается ей, потом он так же предается в разговоре каждой из сестер, — предается всем вниманием, всей своей вникающей и понимающей душой. Так будет и дальше: он слушает Настасью Филипповну, и есть один-единственный мир — эта женщина. Он слушает Рогожина, и опять-таки остальные и остальное как бы исключаются. Князь весь дрожит и трепещет, воспринимая волны, которые идут к нему от каждого из людей в отдельности, пусть это будет даже пьяный генерал Иволгин. Он слушает генеральский вздор спиной к зрителям. Видно, как он страдает за генерала, как ему стыдно за этого павшего человека (в спектакле генерал выводится как последняя степень падения — и только, что далеко не полностью соответствует Достоевскому). В этой сцене генерал Иволгин преувеличенно растет через внимание к нему князя Мышкина, он вынут из обстоятельств, из переплета семейных и других отношений и тоже становится некоторым миром в себе и для себя.
Если актер адвокат своей роли, то этим не сказано, что он улучшает написанное в ней и таким образом искажает ее. Смоктуновский — правозащитник князя Мышкина в том смысле, что все положительное, заложенное в этом образе, все, составляющее жизненный .принцип его, развито им вполне. И уже независимо от актера сыгранное и показанное им переосмысляется. Сцены общения — апофеоз князя Мышкина. Его самоотдача, его служение людям, стремление и способность признать за каждым его человеческие права, живую ценность — все это дано в игре актера с чрезвычайной выразительностью.
Но тут же завязывается нечто, не предвиденное князем Мышкиным. У него лучшие намерения, а ведут они к мрачным дурным последствиям. Сам того не ведая, князь раскалывает людей, хотя является с призванием их соединить. Он устанавливает отношения между собой и каждым в отдельности и, казалось бы, достигает всякий раз полнейшего успеха. К людям он пришел, чтобы воскрешать души, и каждый раз как будто бы близок к цели. Будет ли это Настасья Филипповна, будет ли это Рогожин или же кто другой попроще, но князь Мышкин возле своих людей все тот же, каждый раз он апологет чужой души и ее исцелитель. И вот здесь-то, в этих эпи-
563
зодах кажущихся побед очевидна фатальная слабость князя Мышкина. Он успевает договориться с каждым порознь, и когда он убежден, что дело сделано, наступает крушение. Князю Мышкину приходится узнать, что общество не есть сумма отдельных лиц. Каждый живет совместно с другими, и это лишь иллюзия, будто каждого можно изъять из общей жизни. Едва воскрешенные души соприкасаются с другими, тоже воскрешенными, все достигнутое князем Мышкиным рушится в одно мгновение. Князь может радоваться своей власти над отдельными душами, но над всеми душами, вместе собранными, соединенными друг с другом, он безвластен. Можно дружить порознь с Настасьей Филипповной и с Рогожиным — нельзя дружить с ними, едва только они сведены лицом к лицу. Нельзя из дружбы с Настасьей Филипповной отдельно и с Аглаей отдельно сделать одну дружбу с ними обеими в единстве времени и места.
Общество вокруг князя Мышкина неизбежно антагонистично, и антагонизмы в нем бесконечно разнообразны, проходят через все области жизни, через всю психологию людей. Такова природа этого общества, таковы его законы. Князь Мышкин обходит общество как таковое и верит в свой метод обращения к отдельным лицам. Сам того не зная, он провоцирует катастрофу. Он вызывает ревность, не только женскую, но ревность и в более общем смысле ее. Князь Мышкин делит себя между окружающими, они же вовсе не намерены делиться им. Сама его доброта — повод к междоусобицам. Аглая хочет во всем и всегда обладать единственными правами на князя Мышкина и не прощает ему доброты к Настасье Филипповне. Вокруг него идет борьба, и, наконец, он сам, против собственного намерения, становится соучастником ее. Князь не хочет быть соперником Рогожину, никому он не соперник, и все же Рогожин обходится с ним как с враждующей стороной. Князь даже Ганечке Иволгину невольный соперник. Уступчивость и незаинтересованность князя Мышкина многим подозрительна, его готовы счесть шарлатаном, опасным искусителем. Князь Мышкин сам подготовляет собственную трагедию, а также трагедию своих друзей, тогда как ему кажется, что в спасении людей от трагедии и заключается все его призвание. В ленинградском спектакле князь Мышкин — «весна света», и он же
564
косвенно виновник самых черных катастроф, затмения ума и совести, постигнувшего близких ему.
Философию князя Мышкина, его метод спасения мира, поневоле трагический метод, Смоктуновский сделал чем-то наглядно ощутимым, театрально-образным. Смоктуновский — актер интеллектуального стиля, умеющий объединить позу, жест, мимику с «игрой души», с тем, что велит авторская мысль. Сценический его стиль имеет свою традицию: Орленев, Сандро Моисси, Михаил Чехов. Те играли вдобавок тот же тип человека — мирян-праведников, без вины виноватых, людей с трагической судьбой и без трагического характера.
Со стороны критики было бы нескромностью самовольно приравнивать молодого актера к прославленным именам прошлого и выдавать ему собственным произволом патент на театральное величие. У Смоктуновского все впереди, он сам докажет, какое место ему надлежит занимать в театре. Речь идет не о приравнивании, а о том, какую традицию развивает актер. Предшественники были актерами своего времени. Они изображали ущербное, и они любили ущербное, вызывали сочувствие не столько к подвигу своих героев, сколько к их болезням, не столько к их дерзанию, сколько к их неудаче. Иные из них впадали в стиль клиники, преподавали со сцены своеобразные уроки психоанализа. Вспомним Моисси, прекрасного актера, поэта сцены, однако же очень связанного со вкусами тех дней. Он всегда на сцене был чьим-то «бедным сыном», не только фру Альвинг, жены камергера, или Гертруды, королевы Дании, нет, «бедным сыном» вообще, младшим братом зрителя, который с жалостью и состраданием следил за его судьбой. Ничего похожего у нашего молодого современника Смоктунтовского. Он не скрывает ущербного, недостаточного в своем герое — в качестве «рыцаря бедного» князь Мышкин представлен здесь в самом тщательном рисунке.
Главное же устремление актера в совсем другом — в том, чтобы показать светлую уверенность князя Мышкина в самом себе, в том, чтобы воссоздать всю борьбу его с преградами, которые встречает он в собственной личности и во внешнем мире. Смоктуновский играет желание победы, он вызывает в зрителе это желание, и уже дело всей связи исторических обстоятельств, представленных в романе и спектакле, доказать нам, что
565
победа добра достигается совсем на иных путях, чем избранные Мышкиным.
Смоктуновский очень точно очертил своего «рыцаря бедного», не подчеркивая, однако, его немощей. Они сами должны сказать о себе в ходе драматической коллизии, они должны многое объяснить в ее развязке. Очень точно на сцене выводится то отвлеченно-духовное, безоружное, что свойственно князю Мышкину. Его фигура — узкая, с удлиненными руками и ногами, не столько тело человека, сколько контуры тела, бедная схема плотской жизни. Руки и ноги очень выразительны, — вспоминаешь технику Михаила Чехова, лучше сказать, «стилистику» рук и ног у этого актера. Походка князя Мышкина легкости необыкновенной, он как будто бы боится обидеть землю, не печатает своих шагов, но тут есть и обратное значение: земля его не держит, отказывается от него. Ладони у князя Мышкина кажутся совсем плоскими, руки его предназначены, чтобы гладить людей и зверей, всегда «по шерсти», или же чтобы благословлять их. Где-то рядом загребущие руки Гани Иволгина или же хватающие — молодцов из рогожинской компании. Но руки князя Мышкина неспособны владеть оружием, будь оно поднято и за правое дело. Есть сильная минута в спектакле, и она тем удивительна, что князь Мышкин здесь превосходит самого себя: вытянутыми руками, руками-копьями он отстраняет своего обидчика Ганю Иволгина от собственной его сестры, которую тот тоже собирался обидеть. Этот эпизод можно было бы назвать чудом живых копьев.
Князь Мышкин в изображении Смоктуновского — голая человеческая душа, сильная своей интенсивной жизнью, слабая, так как она только душа, без настоящей связи с материальным миром. И, быть может, острейшие минуты спектакля — это когда в доме Иволгиных князь Мышкин греет у печки свои длинные худые руки: человеческая душа, странствующая Психея, ищет материального тепла, угнетенная непогодой, познавшая общую нужду всех обыкновенных существ, получивших и душу и тело.
Щедрин по поводу романа «Идиот» писал о Достоевском: «По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное
566
общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества»[350]. Князь Мышкин и миссия князя Мышкина в Петербурге — это и есть «область предвидений и предчувствий», говоря щедринскими в цель попадающими словами.
Роман Достоевского проникнут предвосхищением того, чем может стать человеческое общество в своей моральной жизни, в своих внутренних отношениях. Как и современники его, Достоевский находился под впечатлением распада старого сословного строя[351]. Личность освободилась от многовековой сословной опеки над нею, и как будто бы возможным стало внутреннее сближение людей без каких-либо предустановленных средостений между ними. Достоевский, однако, угадывал классовые отношения, до поры до времени скрывавшиеся под сословной формой, понимая, что дворянскую Россию сменяет Россия буржуазная. В романе «Идиот» над людьми уже вполне господствует имущественный ценз, и старый барин Афанасий Иванович Тоцкий, и генерал Епанчин, и какой-нибудь ростовщик Птицын, и некто Салазкин, которого в романе поминают не однажды,— все они в равной мере приобретатели, собственники, дельцы современнейшего типа.
Вопреки консервативным своим политическим идеям Достоевский разделял с лучшими своими современниками чувство недовольства пореформенной Россией и вместе с ними ждал высшего будущего. Роман его передает всю широту («ширину» — сказал бы Щедрин) начавшегося освободительного движения и невозможность для него остановиться на скудном достигнутом. Роман Достоевского — мечтание о человеческом братстве, о единой морально-целостной жизни общества, о внутренних узах между людьми, о победе над их духовной рассредоточенностью, о полной и действительной победе, тогда как все реформы, через которые уже прошла Россия, были только ложным обещанием ее. Вот это недоволь-
667
ство, надежды и еще неясные стремления — они-то и вошли в образ князя Мышкина. Он весь — душа, потому что взят из души современников, из их неотчетливых чувств и предчувствий, он весь — зыбкая мысль, он лишен чего-нибудь твердо-фактического, потому что он всего лишь симптом, общественное настроение и покамест ничего больше. Князь Мышкин — веяние «конечной цели» (Н. Щедрин), веяние последней чистоты и правды, дороги к которым еще не видны. Ошибка князя Мышкина та, что он уверовал в собственное знание путей и перепутий и принялся выполнять свою миссию. Явившийся сам из области души, он обращается к душам в надежде, что здесь единственно лежат рычаги перемен. Действуя от души к душе, от лица к лицу, он пренебрегает общественной природой человека и материальными силами, определяющими эту природу. Пренебреженные силы трагически мстят ему. В мире материально нереформированном он проводит свою духовную реформу, даже не подозревая, что и материальные основы жизни тоже могут быть изменены и что с этого надо бы начинать. Сам автор, Достоевский, расположен думать по князю Мышкину,— объективная логика романа учит другому. Герой Достоевского зовет порвать с общественными преимуществами именно тех, кто этими преимуществами обладает, он проповедует братство тем, кому дорого разъединение. В своей гостиной Настасья Филипповна насмешки ради составила своеобразное братство; вельможнейший Тоцкий и генерал Еланчин, весьма себя уважающий, внутренне рычат, посаженные рядом с проходимцем и скандальной личностью Фердыщенкой. Выступление князя Мышкина перед гостями на епанчинской даче, очевидно, не без умысла автора, сходствует с тем, как вел себя Чацкий в гостиной Фамусова. Витийство князя здесь такое же безумное и напрасное.
Материальный мир, нетронутый в своих основах, зловеще и насмешливо воспринимает миссию князя Мышкина. Тремя ударами он гонит его туда, откуда он явился, в болезнь, в небытие, в безвестность. Трижды князя Мышкина постигают приступы его фатальной болезни, последний — без возвращения к деятельной жизни и к ясному сознанию. Миссия князя извращена страшными последствиями, она по-страшному осмеяна, так как пролита кровь по косвенной его вине. Внешний мир, кото-
568
рый сначала казался податливым, потом овладел миссией князя и повернул ее по-своему.
В романе Достоевского скрывается мысль о том, что князь Мышкин слаб, так как его идея — частичная идея и жизнь в ее целом не охватывает. Мысль эта выражена чисто художнически, соотношением двух фигур — князя Мышкина и Рогожина. Еще в английской книге Мэрри, книге сумбурной, но клочками содержащей в себе также и верные мысли, высказывалось соображение, что князь Мышкин и Рогожин — двойники[352]. Разумеется, они двойники не в том смысле, что повторяют друг друга. Они — парны, взаимно дополнительны: что дано одному, не дано другому. Князь Мышкин — душа, не овладевшая телом, не достигнувшая того, чтобы облечься в тело. Рогожин — черное тело, черная земля, в которых возбуждены элементы духовности, но на горе Рогожину и тем, кто находится вблизи Рогожина. Эпизод мены крестами имеет два значения. Первое: Рогожин меняется крестом с князем, чтобы связать себя, не допустить себя до убийства. Второе значение мены крестами в том, что Рогожин и князь Мышкин, «крестовые братья», являются братьями и по внутренним своим отношениям. Однако же оба они братья враждующие, как Мооры, Карл и Франц, в «Разбойниках», трагедии Шиллера. Традиционный мотив двойников осложняется у Достоевского тоже традиционным мотивом двух враждующих братьев. Как моральное целое жизнь разорвана, в этом причина трагических потрясений.
Рогожин рвется к свету князя Мышкина, к красоте Настасьи Филипповны, но остается в потемках инстинктов, зверских страстей. Про запас он держит грубейшие средства — материального принуждения и присвоения, с их помощью он надеется сделать недоступное доступным. Его мучит духовная далекость от Настасьи Филипповны, его мучит духовная близость между нею и князем. Нож должен устранить соперника, ножом Рогожин уничтожает духовную дистанцию между собой и Настасьей Филипповной. Он приобрел наконец бессмысленную, ненужную власть над нею, превратив ее в труп.
В первоначальных планах романа Достоевский наделил героя, обозначенного именем «идиот», рогожински-
569
ми чертами, в нем сидел зверь, насильник, «самость бесконечная», записывал о нем Достоевский[353]. Когда же он разделил главного героя на Мышкина и Рогожина, то оказалось, что материальный, плотской Рогожин — условие, без которого нет князя Мышкина, без которого князь — небытие, призрак. Рогожин выражает материальную силу жизни, собственническую, тупую, мрачную, и так как она осталась неприкосновенной, верной самой себе, то князь, его дело, его друзья осуждены на гибель. Нужен братский союз между материальным строем общества и глубокими духовными потребностями общественного человека, в этом смысле нужно примирить «дух» и «плоть», этих по образу князя и Рогожина братьев-противников.
Режиссер Товстоногов в должной мере выдвинул тему парности князя и Рогожина, симметрии и асимметрии между ними. Уже в сцене вагона светловатый плащ князя Мышкина дополняется контрастом черных овчин Рогожина: князь здесь светел и легок, Рогожин темен и тяжел, князь тих и ласков, Рогожин громкогласен и задумчиво озлоблен. Сцена «крестового братства» попала в спектакле на то место, какое и должно было ей занимать, ясна была ее знаменательность.
Нигде связанность князя с Рогожиным не была так художнически очевидна, как в последней, заключительной сцене у тела Настасьи Филипповны. Тут явственно было, что они в последний раз и окончательно сблизились как совиновники. Ведь князь повинен в гибели этой женщины, в устройстве его души и характера лежит причина, почему эта женщина очутилась под ножом Рогожина. Князь понимал в ней страдание и не понимал мятежа, а мятеж был сутью в ней, она была земной человеческой личностью и вложила собственную личность в мятеж.
У тела Настасьи Филипповны князь и Рогожин — примирившиеся братья, но примирились они не в том и не так, как этого требовали бы законы жизни и счастья. Пожалуй, самая замечательная из интонаций Смоктуновского там, где у Рогожина он спрашивает, чем тот убил Настасью Филипповну, спрашивает голосом детским, обыкновенным, чуть ли не деловым, — голосом человека, который знал, что так будет и не знал только
570
технических подробностей. Смоктуновский проник в страшную тайну князя — у князя голос морального соучастника в убийстве, увы, какими-то путями собрата Рогожину и в этой казни, совершенной над Настасьей Филипповной.
Первые признаки духовной смерти князя — Смоктуновского — это тихий, страшный смех безумного; у него вырываются странные звуки — это речь, потерявшая свою нормальную фонетику, наши слова, но уже в изменившихся, плохо узнаваемых звуковых оболочках.
Князь Мышкин, человек «конечной цели», увлекает ею людей, вызывает в них чувство недостаточности той жизни, какой они жили и живут, стремление к высшему и лучшему. Но он утопист — свой рай он насаждает личными, духовными, домашними средствами. Великим освободительным идеям свойственно первоначально появляться в виде утопии. Но так же исторически неизбежна и гибель утопии, а зачастую и самих утопистов. Трагедия утопии плодотворна: она указывает дорогу действительным методам изменения жизни. В подготовительных записях Достоевского герой задумывается над вопросом «что делать»[354]. Изображая гибель князя Мышкина. Достоевский ответил, если не себе, то нам, — что же нужно делать, когда ты хочешь не гибели, а победы.
Сам Достоевский склонялся думать, что трагедия утописта — безотносительная трагедия. По Достоевскому, большая человечная идея гибнет, едва только она переходит в руки общества и затрагивает его земные интересы. Силу общества, силу интересов Достоевский превосходно знал, вряд ли допуская, однако, что она подлежит внутреннему преобразованию, что ее можно очеловечить. Идеальные стремления, в его представлении, едва ли отделимы от их утопической формы. Поэтому миссия князя Мышкина в романе одновременно и выше всего и ниже всего — она все обещает и ничего не может.
Когда писался этот роман, в русском обществе уже развивались тенденции революционные и материалистические, названные Достоевским и его современника-
571
ми неверным словом «нигилизм». В своем романе, в сценах с племянником Лебедева, с Ипполитом, с Бурдовским Достоевский посрамляет «нигилистов», трактуя их существами безобразно-грубыми, лишенными настоящего человеческого развития, жадными до скандалов и благ, неравнодушными к чужой собственности. У Щедрина в его отзыве об «Идиоте» особо отмечены эти нападки Достоевского на революционеров — точнее, на тех, кого Достоевский за них принимал. У Щедрина говорится о непоследовательности Достоевского, о его неверности пафосу «конечной цели»: «г. Достоевский, нимало не стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей, которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, по-видимому, устремляется и заветнейшая мысль автора»[355].
В сценической композиции пасквильные эпизоды с «нигилистами» сняты. В этих эпизодах Достоевский запирал единственно возможный выход из трагедии — выход реалистически осмысленной, массовой революционной борьбы, настаивая, таким образом, что трагедия по своему значению абсолютна. Очистив сюжет от эпизодов с Бурдовеким, Ипполитом и прочими, автор сценической композиции снова делает выход возможным, и тогда сама трагедия князя Мышкина предстает для нас в своей истинной, исторически относительной природе.
У Г. А. Товстоногова первоклассные заслуги перед этим спектаклем, срежиссированным с большой энергией, с пониманием замыслов Достоевского, с настоящим пиететом в отношении великого писателя. Сценарий сделан удачно, без излишеств и без недохваток в тех или иных материалах, которые мог бы дать роман. Это не снимает одного-другого укоров, которые можно обратить к Г. А. Товстоногову в качестве режиссера и постановщика.
Роман Достоевского нуждается на сцене в более богатой расцветке, чем увиденная нами. По примеру Шекспира, Достоевский представил не только лишь трагедию, но и комедию внутри трагедии. История утописта идет к трагической развязке, а по дороге она то и дело расцвечивается комедийно. Ведь и в том, что князь Мышкин по временам кажется идиотом, и в том, что
572
его именуют так, нельзя не усмотрев комедийности особого рода. Весьма не случайно в роман вводятся фигуры, написанные в духе широкого комизма, — генерал Иволгин, Лебедев. В спектакле генерала Иволгина играет А. И. Лариков, актер яркий, но играет невесело, подчеркивая, какая это опустившаяся, малопочтенная личность. Генерал у Достоевского — поэт лжи. Во лжи он состязается с Лебедевым. О них в черновиках записано: «Взаимно лгут»[356]. У генерала Иволгина ложь чрезвычайная, вдохновенная, он не столько лжец, сколько сильно развеселившийся фантаст, для которого не существует простейших законов природы и который на каждом шагу готов провидеть чудеса. Прочитанный в газете анекдот он без колебаний выдает за реальный эпизод из собственной своей биографии, не уважая границ между литературой и действительностью, между собственной личностью и какой угодно чужой. Нет для Иволгина и границ между жизнью и смертью. Сыпля точными подробностями, он рассказывает князю о чудесном воскрешении рядового Колпакова, умершего в больнице и ожившего на бригадном смотру. Фантазии генерала Иволгина имеют свою местную характерность — это вранье нищего и пьяного отца семейства, который подбадривает самого себя и компенсирует плохую и скучную быль собственной биографии занимательными небылицами, заимствованными из чужих. Как это обычно у Достоевского, сцены с Иволгиным имеют и другой, более широкий смысл. В романе речь идет о чуде, которое призван совершить князь Мышкин, о преодолении преград, если не природы вообще, то человеческой природы в частности, — и вот, гигантское вдохновенное вранье генерала Иволгина, воскресителя Колпакова, бросает тень пародии на главенствующую в романе тему, на призвание и замыслы князя Мышкина. Князь — фантаст и чудодей трагический, генерал Иволгин — фантаст комический, в опасном смысле симметричный князю.
Князь приподнимает небо над людьми, генерал Иволгин не прочь делать то же самое, а есть еще третий — Лебедев — тоже сходственный с генералом по своему назначению, тоже великий любитель преображать действительность.
573
О Лебедеве у Достоевского есть заметка: «гениальная фигура»[357]. О нем же: «Искривлявшийся человек»[358]. Личность живописная более, чем это допустимо и возможно, он делает грязнейшие дела, хвалится ими и сам же отрекается от них, прикрываясь самой возвышенной моральной философией. В несерьезном, шутовском изложении Лебедева зло, которое сам же он творит, есть сплошная несущественность, игра, призрак. В его пьяных импровизациях зло жизни как бы побеждено — опять-таки некоторая пародия на этическую миссию князя Мышкина, взявшегося победить зло на самом деле. Лебедев и Иволгин, двое пьяных, в пьяном вдохновении уже достигли того, что недоступно князю Мышкину. История учит, что вначале был труд, а потом на основе труда людей возникли игры. Иное в отношениях Лебедева и генерала к князю Мышкину, к его серьезной миссии, к жизненному его делу. Их игра — впереди его труда, внушая подозрение, что это труд напрасный. Князь Мышкин отбрасывает юмористические тени. Это и понижает нашу оценку его, это и выкупает все сомнительное в нем. В тетрадях Достоевского запись: «Если Дон-Кихот и Пиквик как добродетельные лица симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны»[359]. В самом князе Мышкине комическое дано дозами, чуть заметными. Оно представлено громче и свободнее в персонажах, подобных Лебедеву, состоящих с центральным лицом в отдаленных соответствиях. Эти персонажи — по-особому преломленная и ничем не стесненная правда о нем, о его значении и месте в делах современного мира.
В спектакле не выдвинута роль Лебедева, как она того заслуживает. Лебедев в спектакле (М. В. Иванов) довольно шумный, суетливый и малозначащий персонаж, в смысловой колорит спектакля он войти не умеет.
Столь важная для романа Достоевского «биосфера», в которой живут его герои, в спектакле мало разработана. Почти не затронута петербургская тема, а между тем роман едва ли возможен без нее. Князь Мышкин сходит с поезда не с тем, чтобы попасть на Литейный к Епанчиным и там остаться, но чтобы проповедовать в
574
Петербурге, столице империи. Масштаб действия и масштаб катастрофы без петербургского фона сокращаются. На сцене слишком много нейтральных шкапов и шкапчиков, диванов и письменных столов и слишком мало характерного и колоритного для Петербурга.
«Биосфера» романа «Идиот» — Петербург и белые ночи. Князь Мышкин возвращается из Москвы к началу белых ночей, и белые ночи на исходе, когда совершается убийство Настасьи Филипповны. Столь популярное сравнение колоритов Достоевского со светотенью Рембрандта не всегда верно. Достоевский стремится создать ощущение сверхмощной жизненной и духовной напряженности, и тогда ему лучше служит тот белый свет без заката, который царит над летним Петербургом. Белые ночи — это духовное бодрствование героев, далеко зашедшее за обыденный предел, это фантастическая победа света, чрезмерная и в своей чрезмерности недостоверная, подобающая роману, где господствует трагическая утопия. Постановщик и художник (М. М. Лихницкая) дали нечто петербургское в сцене у зеленой скамьи в Павловске и в сцене около убитой, на дому у Рогожина, где в окна, как и должно, глядят остатки белой ночи. Но как странная хронологическая ошибка и непоследовательность воспринимается сцена свидания Настасьи Филипповны и Аглаи, где почему-то сквозь окна видны осенние деревья с желтыми листьями, тогда как в дальнейшей сцене, у Рогожина, белые ночи продолжаются.
Главные же критические замечания приходятся на долю актерского ансамбля. В спектакле заняты хорошие актеры, но они оказались малоподготовленными для того, чтобы играть Достоевского. Ближе других к стилю Достоевского Е. А. Лебедев, играющий Рогожина. Он не впал в соблазн вместо Парфена Рогожина играть, например, братца его, Семена Семеновича, заурядного стяжателя, наложившего руку на все состояние Парфена, когда тот ушел на каторгу. Лебедев передает порыв Парфена Рогожина, его коллизию. Хорошо передана рогожинская молчаливая, мрачная покорность перед Настасьей Филипповной, покорность, предрекающая месть и убийство. Рогожин понимает, что Настасья Филипповна ценит его как нож, который она может обратить против себя, когда захочет, и Рогожин становится этим ножом. Рогожин — убийца, Рогожин отча-
575
сти и жертва. Случайность это или умысел, но Рогожин, черноголовый, чернобородый, со сцены в профиль похож на жертву Грозного, царевича Иоанна с картины Репина.
И все же актер взял не тот размах, который нужен для героя Достоевского, и по стилю игры он не совсем отошел от приемов, правильных для драм Островского и неправильных для Достоевского. Равнение на стиль Островского и явилось источником многих недоразумений в этом спектакле.
Известная негибкость сценического стиля, неполная отзывчивость на требования, которые ставит стиль драматурга актеру, нередко наблюдаются в спектаклях наших театров.
Наши музыканты отлично умеют исполнять по-разному музыку разных национальных, исторических, индивидуальных стилей, и Бах у них непохож на Шопена и Листа, а Глинка и Чайковский — на Шостаковича. Не то у драматических артистов — даже если иметь в виду только русский классический репертуар. Великий русский реализм XIX века включал в себя множество индивидуальных разнообразий и манер. Нет совпадений там, где, казалось бы, писатель к писателю, драма к драме подходят совсем близко. Значительно разнятся, например, «Дело» Сухово-Кобылина и «Доходное место» или же «Волки и овцы» Островского. Еще дальше стоит от Островского Достоевский, трагический автор с колоссальным тематическим и философским кругозором.
Есть в этом спектакле роли, в той или иной мере нейтральные в отношении стиля Достоевского. Умелый и опытный актер В. Я. Софронов играет Епанчина, не вызывая никаких критических претензий. Но претензии растут при переходе к ролям, на которых стиль Достоевского сказался полностью.
Н. А. Ольхина играет Настасью Филипповну хорошо и сильно в отдельных эпизодах, в особенности в сцене «свидания двух королев», которая удалась и В.М. Талановой — Аглае. Но у Ольхиной «тождества» с Настасьей Филипповной не возникает. Не тот внешний облик, нет своеобразного аскетизма Настасьи Филипповны, нет ее повышенной нервной жизни. Характер дарования Ольхиной, самой по себе прекрасной актрисы, мало сходится с тем, чего требует от нее роль Наста-
576
сьи Филипповны. Героиня Достоевского у Ольхиной говорит тем распевом, тем народным ритмом, который по природе своей хорош и красив, а здесь едва ли уместен. Настасье Филипповне актриса придает некоторую фольклорность и этнографичность, некоторую узость в сравнении даже с общенациональным типом, тогда как в разработке Достоевского русские коллизии и русские характеры превращаются в коллизии и характеры все мирно-исторического значения. Настасью Филипповну знает теперь весь мир: Америка, Азия и Европа, а в исполнении Ольхиной она слишком связана с тем уездом, с тем селением, где впервые увидел ее Афанасий Иванович Тоцкий, пленившийся ею.
О. Г. Казико взяла очень верный тон для генеральши Епанчиной, но нужен бы больший размах и нужна бы большая острота характеристики. В заметках Достоевского по поводу Епанчиной сказано: «характерная мать»[360], но это еще не все. Генеральша тоже затронута брожением русской жизни, она близка к вольнодумству своих дочерей, с трудом сопротивляется миссии князя Мышкина, в ней сидит «дикая честность»[361], вместе с тем она хочет пребывать ее превосходительством, приятельницей важной старухи Белоконской и хочет дочерей своих выдать замуж солидно, как положено в лучших домах. Генеральша досадует на самое себя, на размах своего увлечения современными идеями, на свою, с точки зрения генеральства, малую ортодоксальность — и отсюда грозы, исходящие от нее, отсюда и ее выходки, ее «вскидчивость». Характеры жанрового или полужанрового порядка — и те разработаны у Достоевского со стороны внутренних противоречий, во всей остроте их.
В характерах Достоевского виден раскол, видны стороны души, противодействующие друг другу, так как все они втянуты в трагический кризис. Характеры «раскрылись», и очень явственным становится, что каждый из них означает, какую несет в себе «идею». Пушкин, Толстой, Тургенев, Гончаров, Островский «идею» человека прячут, и часто прячут глубоко. Стиль Достоевского не тот, интеллектуальное содержание обнажено, иногда оно навязчиво, актер, играющий героя Достоевско-
577
го, должен действовать «чертами» и «резами», как это в старину называлась у наших гравировальщиков.
Особо следует сказать о темпах этого спектакля — медленных, не по Достоевскому. Нет отвлеченного вопроса о театральных темпах, они опять-таки зависимы от стиля, от автора. Люди Достоевского живут быстро, актеры же играют этих людей медленно. Еще Добролюбов писал о медленных темпах, органических у Островского. Но в спектаклях, поставленных по романам Достоевского, медленная игра удаляет от автора и иногда грсшт потерей связи с ним.
Театральный Достоевский — многотрудная проблема. Ленинградский спектакль, поставленный очень сильным режиссером, с замечательным актером в главной роли, богат уроками. Не все из искусства Достоевского схвачено до конца, не все сыграно, как автором указано, не всюду наблюдается цельность стиля, не все персонажи на сцене достаточно значительны. Но хороший итог этим не опровергается. Кончаем тем, чем начали: спектакль Товстоногова со Смоктуновским во главе будет особо отмечен в истории нашего театра и в истории усвоения Достоевского нашей культурой. Спектакль этот уже сейчас есть история, хотя и не пройденная еще. Думаем, его будут называть и помнить, пусть он даже исчезнет из репертуара театра, где он был поставлен. В полках числятся воины, давно ушедшие из жизни, а их по-прежнему вызывают на перекличке, как если бы они и не собирались выбывать. Так и этот спектакль.
II. «ИДИОТ» У ВАХТАНГОВЦЕВ
Скажем сразу: способ интерпретировать Достоевского, которого держится А. И. Ремизова, .постановщик романа «Идиот» на сцене Государственного театра имени Евг. Вахтангова, вызывает у нас серьезные сомнения. Ремизова последовательно заменяет язык художественного реализма, свойственный Достоевскому, каким-то иным, который, очевидно, и представляется ей единственно возможным. В этой постановке у Достоевского отняты масштабы замысла, — все очень укоротилось, опростилось, стало арифметически ясным и доступным
578
и в этой своей элементарной доступности — малонужным и малоувлекательным для зрителя. Роман Достоевского, роман целой эпохи, в спектакле стал серией картин, иллюстрирующих едва ли даже один какой-либо исторический период. Очень подчеркнуты моды и нравы какой-то одной точной даты из истории русской жизни, тогда как роман Достоевского по своему значению много шире. Автору этой статьи уже пришлось высказываться, как он понимает содержание романа. Этот роман — трагическая история социального утописта, прихода которого люди ждали и желали, но потом ополчились против него же: он слишком многое обещал и слишком важное, как это и свойственно утописту, оставил без внимания. Утопист обращался к душам, о души человеческие определялись материальным порядком жизни, страстями, пришедшими извне. И вот эти-то страсти, не оцененные по их настоящей цене утопистом, и решили дело. Мы говорили о значении романа Достоевского для наших дней. И в наши дни в капиталистическом мире нет недостатка в опытах подновить старые утопические учения: там, где нужно дать людям хлеб, там толкуют о духе, как если бы хлеб насущный не был необходимейшим началом, без которого нельзя приступить к духовному переустройству человека. Роман Достоевского, независимо от того, как предпочитал рассуждать сам автор, демонстрирует неизбежную трагедию попыток спасти человечество духовными и частными средствами в обход спасения общества через общество и силою реальных мер и методов.
В спектакле вахтанговцев главный герой, князь Мышкин, — человек без миссии, без призвания, представленных достаточно выразительно, и это-то понижает внутреннюю значительность спектакля в целом. Мы, зрители, издавна знаем и ценим Н. О. Гриценко по сцене и по экрану. Хороший актер Гриценко играет и князя Мышкина по-своему хорошо, но он играет неверно. Артист изображает героя Достоевского, не посчитавшись с тем, что означает этот герой для окружающих, как взирают на него они, чего ждут от него. Сперва берется князь отдельно, трактуется как бы в портретном жанре, а уже потом — все остальные в соотношении с ним, тогда как надо было действовать в обратном порядке. Согласно актеру и режиссеру, князь, во-первых и по преимуществу, человек больной, эпилептик, размаг-
579
ничейный болезнью до степени постоянного благодушия, и поэтому снисходительный, уступчивый в отношениях своих к окружающим. Он сам вызывает жалость, и поэтому способен жалеть других, например, Настасью Филипповну. Впрочем, жалость его не слишком активна. Медицинская сторона в образе князя Мышкина у Гриценко подчеркнута — какая-то одутловатость лица, замедленность реакций, тусклость голоса, разбитость интонаций, неуверенность в походке. Актер и режиссер понимают Достоевского в буквальном смысле, и в этом одна из особенностей того сомнительного реализма, который так вредит этому спектаклю: все принято чересчур буквально, всякая вещь равна только самой себе. В «идиотизме» князя Мышкина у Достоевского скрываются разные смыслы, нельзя сводить их к одному, к простейшему. Князя именуют «идиотом», хотя князь и очень умен и очень проницателен. Но дело в особых качествах его ума, и если окружающие захотят безоговорочно признать этот ум, то собственный свой деловой, корыстный ум им придется взять под сомнение. Они окрестили князя этим нелестным именем идиота ради самообороны, из желания убедить самих себя, что тот ум, которым умны они сами,— единственно настоящий. Князь, по Достоевскому, быть может, «идиот» перед лицом настоящего и, быть может, великий мудрец перед лицом будущего. В спектакле этой двойственной характеристике князя не уделено внимания. Болезнь определяет отношение князя к обществу; она отъединила его на время от грязной практики людской и воспитала в нем утописта. В ней и условие его морального превосходства, и условие катастрофы, постигшей его в конце концов. Болезнь имеет не медицинское, а образное значение; князь приходит к людям извне, «из болезни»; извне пришедший, он надеется овладеть их внутренними делами, по-своему направить их. Очевидно, по Достоевскому, нужна одна почва с людьми, если хочешь их учить; у князя этой почвы нет. Что же касается Гриценко, то он углубился в клиническую характеристику князя, не ставя для нее необходимых пределов. А особенно густа была эта характеристика в сцене с разбитой китайской вазой. В сценарии Юрия Олеши, по которому играется вахтанговский спектакль, сцена эта оказалась разработанной даже подробнее в иных деталях, чем это дано в самом тексте Достоевского. Сцена с ва-
580
зой у Епанчиных разыграна была как апофеоз клинических свойств князя Мышкина. Он выкрикивал бессвязно, рубил руками воздух. Гриценко представил здесь князя тягостно жалким и тягостно смешным. Тут было далеко до полной правды, это была только частица ее. У Достоевского князь Мышкин тоже не лишен комизма, но это особый подголосок трагического. В спектакле, поставленном Ремизовой, комизм обособился и разросся непозволительно. Достоевский писал о том, каким он задумал князя: «Давно уже мучила меня одна мысль… изобразить вполне прекрасного человека»[362]. Этот замысел Достоевского в спектакле почти потерян. Гриценко играет человека, как бы выпущенного на поруки из больницы и не слишком оправдывающего доверие, оказанное ему врачами. Идейное призвание князя ослаблено, поэтому ослаблены моральная атмосфера вокруг князя, внутренний свет, поэзия, исходящая от этого человека. Если князь не тот, то это удар по всему спектаклю. Пусть остальные роли будут сыграны вернее или даже совсем по-верному — они слишком зависят от главного лица, чтобы каждый раз не терпеть ущерба от соприкосновения с ним.
Так, прежде всего бедны становятся отношения князя с Настасьей Филипповной. Собственно, на сцене перед нами всего лишь история о том, как князь жалел одну женщину, не любя ее. Так как общая большая миссия князя выпала из спектакля, то должным образом не прозвучала и тема Настасьи Филипповны; отношения князя к этой героине — часть его миссии к людям, и если нет миссии, то и отношения становятся тривиальными.
Так как к эпохальному идейно-историческому содержанию романа спектакль оказался равнодушным, то ему осталось тщательно разрабатывать общественный быт в его статическом, застывшем, бездуховном виде. Очень многое в спектакле подсказано довольно элементарными социологическими соображениями. Действующие лица помещены каждый в свою особую социологическую клетку, пояснительная надпись над которой без труда угадывается. Епанчины — генеральское семейство, с особым ударением, что именно генеральское. Сцена у Епанчиных в Павловске с сановитыми гостями вокруг
581
китайской вазы в спектакле самым решительным образом отгородила это семейство от демократического общества— такой здесь светский блеск, такие верноподданнические анекдоты, в тексте Достоевского отсутствующие. На деле же резко отгораживать Епанчиных совсем не нужно было, да ведь и у Достоевского смысл этой сцены тот, что с сановниками и князьями связей у Епанчиных не получается. Их связи направлены совсем в другую сторону, не всегда по их собственной воле. В романе изображается Россия, взволнованная реформами, предчувствующая революцию. Власть демократических идей так велика, что на время она, эта власть, распространяется даже на генеральские дома, ломает социальные стены. В семействе Епанчиных новыми настроениями затронуты Аглая и даже сама генеральша. Сценарий и спектакль построены так, что у Е. Г. Алексеевой не могла должным образом развернуться роль генеральши Епанчиной — лица в романе Достоевского чрезвычайно выразительного и рельефного. Хороша Л. В. Целиковская — Аглая, однако же вопреки узкому значению, в спектакле ей приписанному. В сценарии и спектакле приглушены отношения между Настасьей Филипповной и Тоцким, зато весьма разработано все идущее против Настасьи Филипповны от Аглаи. По контексту спектакля Аглая более всего и прежде всего — генеральская дочка. Весь сюжет романа в спектакле складывается так: князь из сострадания возился с одной несчастной женщиной, генеральская дочь занялась князем, потому что приревновала его, у несчастной женщины князя она отняла, ее самое затравила, а жители города Павловска, мещане, помогли генеральской дочери в этом. Конечно, мы чуть утрируем, но, право же, мы только увеличиваем степень. Во всем этом очень видна незамысловатая социология и очень мало виден Достоевский. Целиковская, к счастью, самостоятельна, в ее игре мы наблюдаем и порыв, и искреннюю идейную увлеченность князем, его новым словом; она слышит это новое слово не прямо со сцены — там оно почти отсутствует, но из прочитанного в Достоевском.
Очень сильный актерский ансамбль театра имени Вахтангова, конечно, и в этом спектакле проявил себя. Хорошо обозначен Рогожин в исполнении М. В. Ульянова. Актер в этой роли не погрешил ни грубостью, ни мелкостью. Ульянов поставил себе верную задачу: сде-
582
лать понятным, почему и как Рогожин может оказаться крупным и красивым человеком, а страсть его — по-своему значительной и привлекательной. Особый разбор нужен для Ю. К. Борисовой — Настасьи Филипповны. Борисова — актриса весьма талантливая, впечатляющая своим искусством, а все же есть поводы для спора с ней. Она и близка и отчасти далека от героини Достоевского. Она хорошо передает ее взорванность, ее негодование, она весьма достоверна по внешнему облику, своей большеглазостью, блеском лица и шелков, стремительностью и остротой своих движений. Вместе с тем Борисова несколько однолинейна, слишком много у нее восклицательных интонаций, слишком много «вскидчивости», говоря словами Достоевского. В романе Настасья Филипповна человек с непредвиденным поведением, она ведь и очень тиха бывает, и высокие ноты вовсе не обязательны для нее всегда и всюду. Сценическая Настасья Филипповна кажется в этом спектакле и более юной и менее умудренной, чем героиня романа Достоевского. Автор дал своей героине большую духовную жизнь, дал ей умственный опыт вслед жизненному. Подлинная Настасья Филипповна и очень непосредственна и очень скептична, князю она верит до конца, а всем остальным ничуть не верит. Она и стремится к людям, и презирает их. Для себя самой то требует очень многого, то отказывает себе в самых несомненных своих правах. Она горда, но способна судить о себе очень низко, так же разрушительно, как судит она о других. У Борисовой хотелось бы видеть большую разработку тех смешений, тех переходов, той внутренней осложненности, которыми Достоевский наделил свою героиню. Зато гнев, любовь, ненависть во всей их цельности переданы были актрисой с силой и страстью. Существенное в Настасье Филипповне актриса уловила и потом не упускала его на протяжении всего спектакля.
Лучшая сцена в спектакле — свидание обеих женщин, Аглаи и Настасьи Филипповны в Павловске, при Рогожине и князе. Здесь общий замысел спектакля, где эта женская вражда сделана была главной темой, совпал с тем, что дали от себя актеры. И наступление Аглаи, и оборона Настасьи Филипповны были разыграны с подъемом, с воодушевлением и очень правильно и точно. Обе взаимно оттеняли друг друга, тут был и молодой, горячий, ребячески злой наскок Аглаи, тут были
583
срывы с тона, задуманного ею, тут была и более зрелая, горькая, ожесточенная отповедь Настасьи Филипповны. В этой сцене Борисова обрела стиль «старшей женщины» — стиль, которого недоставало ей в других эпизодах спектакля. Для сцены свидания не только уместной, но и совершенно необходимой была подчеркнутая, вперед выдвинутая социальная характерность. Здесь стоят друг против друга, как их обеих витиевато назвал Лебедев, «невинная высокоблагородная генеральская девица и — камелия». Само неистовство Настасьи Филипповны в этой сцене вызвано тем, что ее трактуют как камелию, трактуют свысока, пренебрежительно. Гриценко в этой сцене удачно поддержал игру обеих актрис. Заключительный эпизод, когда князь успокаивает Настасью Филипповну, «покоит», обнимает ее, припавшую к нему, был одним из самых верных, соответственных Достоевскому в игре этого актера. К сожалению, в дальнейших сценах напряженность спектакля пошла на убыль. Режиссер в павловском свидании, в павловском столкновении Аглаи и Настасьи Филипповны исчерпал тему борьбы двух женщин, по преимуществу занимавшую его в романе Достоевского. А так как сам роман на этом не останавливается, так как роман развертывается и после Павловска со все возрастающей энергией, то на сцене наступил весьма и весьма заметный разлад с Достоевским.
В постановке Ремизовой можно наблюдать явственную боязнь трагического, как если бы трагическое искусство и реализм были несовместимы, как если бы нужно было спасать художественный реализм от претензий, которые предъявляет к нему Достоевский, в такой же мере трагик, как и художник большой, необыденной мысли. Режиссер очень держится за обыкновенный быт, чтобы защититься им. Достоевский мимоходом, совсем шутливо обмолвился, что сестры Епанчины отличались совсем не девичьим аппетитом. Это дало режиссеру повод завтрак в доме Епанчиных разыграть с настоящей пышностью, удлинить его во времени и очень подчеркнуть в руках девиц Епанчиных ножи и вилки, как бы преувеличить необходимые эти инструменты. От дома Епанчиных веет в спектакле такой сытостью, таким благополучием, что и на самом деле возможность трагедии здесь начисто исключается. Однако же у Достоевского трагедия посещает и этот
584
дом, да и сами Епанчины напросились на связь с трагедией. Ведь у Епанчиных принят князь, носитель и инициатор трагедии, ведь Епанчины, смеясь и сопротивляясь, все-таки всей душой прислушиваются к его речам, а младшая Епанчина готова идти за князем, куда тот позовет.
В спектакле, как некая область, где нет обмана, культивируются и быт и обыкновенные земные страсти; чрезвычайное, ломающее быт преподносится с недоверием — «такого не бывает», это будто бы выдумка и уж обман, конечно.
Один из очевиднейших промахов спектакля — сцена сборов Настасьи Филипповны к свадьбе с князем. Сцена эта лишняя, она сбивает драму с ее настоящего направления. Очень разработано улюлюканье всяких скверных людишек под окнами Настасьи Филипповны. Когда под выкрики и свист она выходит на крыльцо, а потом бросается к Рогожину, то сцена воспринимается так: она ищет у Рогожина защиты от своих гонителей, она опирается на него. На деле же совсем иное — она бежит от князя перед самым венцом, так как одумалась. Свадьба с князем — месть Аглае. Настасья Филипповна выше мести. А навлекать на князя несчастье она не желает, она и прежде и теперь в тех мыслях, что для князя она — бремя, добровольно им взятое на себя. Вместо свадебного апофеоза она выбирает собственную смерть и гибель. Рогожин, стоящий у ворот, к которому она кинулась,— это верная смерть, она хочет этой смерти. Все эти малообычные переживания спектакль заменяет чем-то обыденно бытовым, какими-то прятками Настасьи Филипповны от толпы и от ее злобы, какой-то простосердечной надеждой на Рогожина, на дружбу его, на силу его. После этой сцены дальнейшее едва понятно, насильственная ясность одного отдельного эпизода затемняет связь событий в целом. Нельзя уяснить, почему верный друг Рогожин в ту же ночь зарезал у себя на дому эту женщину, так искренне и просто доверившуюся ему.
Если быт, если повседневные интересы, входящие в быт, мало одушевлены, то режиссер должен найти какую-то компенсацию. Ремизова вознаграждает зрителя тем, что быт в спектакле внушительно красив, обладает всеми качествами зрелища богатого и разнообразного. Режиссер возвысил социальный ранг Епанчиных, всего-
585
навсего людей средневысшего круга, как подчеркивает это Достоевский. Простоватый Иван Федорович Епанчин в спектакле выглядит весьма вельможно, едва ли не министром или около того. Добрейшая Елизавета Прокофьевна — статс-дамой с несколько неустойчивым характером.
Постановщику в этом случае понадобилось поднять ранг, так как это дает повод к декоративной пышности. В окна епанчинского кабинета глядят клодтовские кони, повсюду рдеет красное дерево, лакей с седыми баками разгуливает, похожий на престарелого и великолепного павлина, похожий, быть может, на раззолоченного камергера какого-то ослепительного двора. Настоящее возвышение Епанчиных состояло бы в том, чтобы их, по Достоевскому, включить в смятение русской жизни, в идейную коллизию эпохи. Режиссер, подчеркивая их сановитость, усиливает также и социальную их обособленность. Любопытно, что социологическое понимание вещей, дробящее общество на замкнутые, недоступные друг другу социальные сферы, в спектакле идет рука об руку с эстетизацией. И тут и там — внешние подходы, которые сродни друг другу именно как внешние.
Работа художника в спектакле, Исаака Рабиновича, сама по себе очень хороша — безотносительно к Достоевскому. Споры вызывает отнюдь не зрелищность вахтанговского спектакля, но характер ее. Что спектакль вахтанговцев красив, это, конечно, не аргумент против него. Речь идет о том, какой красотой он красив. И тут мы скажем: красотой чересчур спокойной, равнодушной к людям, которые живут среди нее, к событиям, которые тут же происходят. Трагической красоте Достоевского спектакль остался чуждым. Как у Шекспира, так у Достоевского трагедия возникает из глубины общественной жизни, она захватывает многое, если не все. Трагический конфликт у обоих не может быть локализован, так или иначе все в него втягиваются. Нельзя играть Шекспирова «Макбета» так, чтобы в Макбетовом замке царила идиллия и только один хозяин да еще хозяйка замка были связаны с трагедией. Точно так же у Достоевского нет ничего нейтрального вокруг героев, которых коснулась трагедия и которых она отметила.
В спектакле дом Рогожина своеобразно уютен, в сводчатом покое сумрачно, почти черно, на столе Биб-
586
лия в сафьяне, она горит алым огоньком перед Парфеном. Тут нужно бы другое, тут нужна бы жесткая, выразительная скудость обстановки, тут нужно бы логово, в котором этот звереющий человек передумывает свои тяжелые думы. В предпоследней картине все очень красиво и заманчиво. Кусок Садовой улицы возле рогожинского дома, потухающая белая ночь, игрушечные фонарики — «фонарики-сударики» из старой песни, игрушечные лошадки с игрушечными извозчиками, вклеенные в этот уличный пейзаж,— вот что дано на сцене. Упущено только одно: что в рогожинском доме, видном с улицы, за тяжелыми шторами лежит зарезанная женщина.
Если это умышленный контраст, то для него здесь нет основания. У Достоевского гибель Настасьи Филипповны вовсе не есть происшествие, изолированное от остальной жизни, происшествие, предназначенное только для уголовной хроники, выделенной из общего контекста событий дня. После павловских сцен роман полон тревоги за судьбу этой женщины, и сонно мерцающая Садовая совсем не то, что должно бы занимать нас под конец спектакля. В спектакле перед нами ночная детская сказка; в романе — ночь преступления, распада человеческих умов и душ.
Заключительная сцена с Рогожиным и князем у одра убитой охлаждена назидательной тирадой, которую князь произносит накануне падения занавеса. Князь в спектакле кого-то судит, высказывается со стороны, а это ему совсем не пристало. Тирады князя, конечно, нет у Достоевского, она внесена сценаристом. По Достоевскому, князь — косвенный и, быть может, первый виновник конца Настасьи Филипповны, поэтому он должен сам кончить, как об этом написано в романе, бессвязностью сознания, возвращением болезни, той самой болезни, которая предшествовала его миссии к людям и в которую снова столкнули его вызванные им события.
В этом спектакле развернул свои незаурядные художественные ресурсы такой театр, как театр Вахтангова, но сам Достоевский не слишком у дел, хотя из него взяты и фабула, и диалоги, и действующие лица. И этим расхождением с Достоевским определяются общие итоги новой постановки. В спектакле есть труд, талант, культура — все, чем всегда славен был вахтангов-
587
ский театр. Но на этот раз автор и театр, за вычетом отдельных эпизодов, не совпали друг с другом, автор же таков, что заслуживал совпадения и много помог бы театру, если бы оно осуществилось. Мы хорошо знаем — у Достоевского есть сила и есть слабости. Лучший способ сделать нейтральными его слабости — это развить его силу, а она в широком реализме, в правдивом следовании по путям трагических конфликтов.
1958
(О Н. К. Симонове)
О художниках того разряда, к которому принадлежит актер Симонов, Николай Константинович, принято говорить — большой художник, с некоторой остановкой на прилагательном, с желанием увеличить его вес сравнительно с обычным. Быть может, за словом большой скрывается другое — великий, и современники оставляют это слово где-то за кулисами произносимого ими, то ли от нещедрости, то ли из скромности — гордость за кого-то из нашей собственной среды есть и наша собственная гордость, наше собственное притязание. Не станем спорить о прилагательных и степенях, они не меняют дела. Скажем только, что этот театральный год показал нам Симонова в необычайном блеске. Он продолжал и продолжает играть одну из своих старых ролей, — вероятно, лучшую, и появился перед нами в двух новых, в которых он заново захватил и поразил нас. Актер Симонов, большой актер — пусть так, будем держаться этого негромкого слова, — играет с вдохновением больших людей, он делает новые открытия в глубь человеческой породы и умеет находить все новые благородные залежи. Вместе с тем для нас, зрителей, открывается нечто неизвестное до сей поры и в самом
589
актере. Мы думали — он тот, а он еще и этот и этот. Объем его дарования оказался еще и шире, чем об этом можно было предполагать до недавних впечатлений.
Старая роль Симонова, многие годы им трактуемая со сцены Пушкинского театра в Ленинграде, зафиксированная кинофильмом,— Федор Протасов в «Живом трупе» Л. Н. Толстого. Симонов играет Протасова своеобычно, быть может, с некоторым удалением от буквально написанного Толстым в этой пьесе, но с верностью лучшим устремлениям Толстого, с соответствием художественному миру Толстого в целом его. Толстой, задумывая Протасова, писал в дневнике: «Какой хороший, художественный тип слабого, порочного человека и доброго. Кажется, уже бывали такие, но я такого по-новому чувствую» (запись от 24 октября 1891 г.). У Симонова почти исчезает слабый и порочный Протасов. Разгул, вино, цыганщина — все это отодвинуто на задние планы. В. П. Кожич в свое время поставил этот спектакль. Хотя спектаклю и не дана яркость иного рода взамен цыганской, но цыганщина, с хаосом ее и внутренней надорванностью, должным образом обеззвучена в спектакле, почти устранена. Многие прежние актеры играли Протасова в духе старых романсов, стилизованных Блоком, — «Вино и страсть терзали жизнь мою…». Старый, еще досоветский стиль исполнения «Живого трупа» у Симонова исчез. В игре Симонова присутствует нечто строгое. Симонов играет не бесконечную слабость человеческую, милую и безнадежную, но играет подвиг и трагедию, как, собственно, и велит Толстой. Протасов у Симонова совсем не фамильярничает с жизнью, не потакает ни ей, ни самому себе. Он прослушал цыган, их песни и впал в длительное раздумье. Протасов с цыганами, и он же далеко от них. Так по всему ходу спектакля, во многих сценах Симонов играет Протасова, который отсутствует присутствуя. Для Симонова Протасов в первую голову — человек, в котором совершается тяжелая и постоянная внутренняя работа. Все время он что-то решает и решает про себя. Протасов у Симонова занят самоопределением. Он боится внутренней ошибки, как музыкант неточного обращения со своим инструментом. Протасову нужны в каждом слове и в каждом поступке верность самому себе; окружающие, как недобросовестный стрелочник, хотят перевести его на фальшивые пути, он должен смо-
590
треть и смотреть, что с ним делают и что с ним делается. Памятна у Симонова — Протасова поднятая бровь, она постоянный мотив его мимики: бровь размышления. Симонов — Протасов не позволяет себе ничего предвзятого, ничего непроверенного собственным судом и чувством. Симонов не позволяет также и зрителям судить о Протасове по каким-нибудь показаниям извне, со стороны. Зрители уже много слышали о Протасове злого и неверного, прежде чем он сам появился перед ними на сцене. В картине с цыганами Симонов — Протасов поместил себя где-то сбоку, его не сразу найти, он повернут к зрителям спиной, и только попозже Протасов предъявляет зрителям собственную личность, возникает для них. Он возникает из ничего. Все прежние толки о нем, которые доходили до зрителей из протасовской старой квартиры, как дурные, так и хорошие, начисто несостоятельны. Зритель должен сам увидеть и понять Протасова, мнение о Протасове должно образоваться заново, нужно следить и следовать за самим Протасовым, не доверяя ни хулителям его, ни защитникам, пусть это будет даже такой защитник неистово-проникновенный, как Саша, Лизина сестра.
Как это и дано у Толстого, Протасов у Симонова человек, в котором бодрствует совесть. Он испытывает стыд за свое привилегированное положение в обществе, за большие деньги, которые он зря получает, за неравенство свое с другими. Но у Симонова Протасов требователен к себе без какой-либо аскетичности, без подавления собственного «я». В этом чуть сурового оттенка человеке заключена действительная сила жизни. Он требователен ради этой силы, ради свободы для нее, ради чистоты ее. Существенна хорошо переданная Симоновым уже самим внешним обликом Протасова артистичность его — любовь к песне, попытки писать художественное. По Толстому, моральный инстинкт — необходимое условие художника и артиста в человеке. Есть и обратная зависимость. Художник не может держаться аскетической морали, для всего живого убийственной. В Протасове, как изображает его Симонов, этическое и эстетическое действуют вместе, строгая прелесть свойственна этому человеку. Мир, окружающий Протасова, враждебен ему и как моральной личности, и как художнику. Он живет в обществе паразитическом, а ему нужны прямой и честный доступ к людям, добрая связь
591
с ними. В этом условие самоосвобождения. Эксплуатация, ложь, несправедливость, неравенство, насилие обрывают путь к другим, запирают человека в самом себе, извращают его. Если в том или ином смысле он что-то уворовывает у других людей, то он обкрадывает также и самого себя, — жизнь других не вливается в его собственную; без этих чужих, но дружеских влияний он нищает сам. По Толстому, люди морально питают друг друга. Общество, разбитое на отдельные интересы, ставит средостения между людьми. Если снять средостения, если уйдет вражда и наступит любовь, как называл ее Толстой, то все сложится по-иному: духовное достояние всех станет достоянием каждого в отдельности, каждый станет богаче, лучше и свободнее.
Фильмы с Симоновым обошли всю страну. Все знают и помнят Симонова по фильму «Петр Первый». Биография Петра развернулась в двух сериях фильма. Серия первая: Симонов — могучий и веселый исполин в день победы под Полтавой. Серия вторая: Симонов играет позднейшего Петра, с утомленными глазами сквозь очки в железной оправе, стареющего и по-прежнему непреклонного в своих делах. В Петре стареющем обнажается единая тема всей жизни Петра, сознание исторической миссии, принятой им на себя, неотступное ее выполнение. По физическому облику своему атлет, борец, Симонов подчиняет этот облик внутреннему смыслу. И когда во второй серии атлетический облик несколько потускнел, то внутренний смысл стал еще виднее. Перед нами воля и призвание, как бы прорвавшие свою материальную оболочку.
То же самое в роли Феди Протасова. Огромный этот, хотя и негромоздкий, человек менее всего материальная сила как таковая. Внешний образ Протасова у Симонова символичен. Это сила духовная и моральная, данная Протасову в избытке и обществом, временем не использованная, как бы вся оставшаяся при самом Протасове, едва перешедшая на службу окружающим. Не будь Протасов при всей силе своей еще и удивительно изящен, вспомнился бы Жан Вальжан, в котором тоже внешний облик был свидетельством, какие внутренние мощности сокрыты в нем. Семья, приятели, знакомцы считают Протасова человеком опустившимся, безвольным. Однако он отважен сравнительно с Карениным, сравнительно с Лизой, своей бывшей женой,
592
сравнительно с кем угодно из людей одного с ним быта. Протасов умел порвать с благами богатой жизни, к которым те приспособляют свою мораль и свою религию. Те скудны, пробираются по жизни осмотрительно, по сухим и проверенным тропкам. Их отношение к людям хорошо измерено — от сих и до сих и не далее того. Каренины пристойны, уступчивы, но это больше тактика, чем глубоко сидящий принцип, они отступают, чтобы наступать, когда им это понадобится. У Протасова совсем иное — неизмеренное, неподсчитанное, бесконечное отношение ко всякому другому человеку. Симонов—Протасов способен на такое отношение, располагая внутренними ресурсами для этого, дозволяя себе расточительность чувства в делах любви и дружбы. Есть какая-то самоотрешенность в сценах Симонова—Протасова и цыганки Маши (роль ее в верно взятых тонах исполняет О. Я. Лебзак). Он разговаривает с ней как бы издали, хотя она тут же, рядом. Какой-нибудь Афремов не задумался бы, губить ли ему Машу, ведь Маша сама идет навстречу. Для Протасова это ничего не значит, он исходит не из своих настроений и не из ее собственных. Протасов взвешивает судьбу Маши, как сама бы Маша ее взвесила в ясном сознании, не в горячую минуту, а в часы раздумья. Симонов играет того Протасова, который умеет жить и чувствовать с позиций других людей, умеет вживаться в эти позиции. Он вдоволь одарен духовно, чтобы передать часть самого себя другому — другой, смотреть на вещи, как должен бы на них смотреть кто-то ближний — ближняя. Рядом Виктор Каренин, Лиза, которым едва хватает морального прожиточного минимума для самих себя. Они люди вежливые, и Толстой тоже вежлив с ними. Он позволяет им выложить по ходу пьесы все оправдательные аргументы в пользу самих себя. Актеры спектакля А. А. Дубенский — Каренин и Г. К. Инютина — Лиза нигде и ничего не шаржируют, как это и должно. Актеры могут положиться в отношении оценки этих людей на самого автора, он обходится с Карениным и его мамашей, с Лизой достаточно жестко, к авторской жесткости актерам ничего не нужно от себя прибавлять. У Толстого бесконечно ироничны эпизоды, когда Каренины узнают, что Федя, которого числили погибшим и которого в этом качестве оплакали, вдруг воскрес. После мнимой смерти Феди новое семейство очень хорошо
593
устроилось и в память Феди произносились добрые слова. И вот им послано еще одно испытание, пожалуй, горше всех прежних. Им совсем не нужен Федя, который воскрес, так сказать, в собственную пользу. Они предпочитали Федю, покончившего с собою на пользу им обоим, Лизе и Каренину. Добродетель Карениных имеет меру, и именно этого Толстой им не прощает. Когда ожил Федя, мера эта исполнилась. А по Толстому, Федя тем и прекрасен, что для Феди добро безмерно, ведь Федя в самом деле на благо близких людей готов был наложить на себя руки. По Феде, по Толстому, в самом добре нет и не может быть никакой ограниченности, она грозит только самому человеку, когда тот совершает добрые дела, когда тот благотворит, и человек в поведении своем призван подражать самому добру, не имеющему оговорок и пределов.
И. Н. Берсенев вешал в комнатке Протасова, ушедшего от семьи, портрет Достоевского. Это был сигнал особого значения для зрителя. Указывалось, что берсеневский Протасов родня и вариант князя Мышкина. Такое толкование у Симонова совершенно отклоняется. Федя Протасов по-особому воинственно-героичен у Симонова, а князю Мышкину это направление ума и духа совершенно чуждо. Нравственная необычность князя Мышкина коренится в его ущербности, хотя и нисколько не сводится к ней. Духовный свет, который зажегся в нем, оказывается недолговечным, соприкосновения с большой и повседневной жизнью князь Мышкин не выдерживает. Источник трагедии Протасова, как обьясняет ее Симонов в противоположном. Федя гибнет от избытка, от чрезмерной жизненной одаренности сравнительно с тем, что отпущено его среде, и это более классичный тип трагедии, чем тот, которому следует Достоевский, развертывая историю князя Мышкина.
Симонов нашел свою сочетаемость с Федей Протасовым, он угадал себя в нем, несмотря на совсем инакий опыт своих предтеч по сцене. Совесть заводится не на руинах человека, а требует богатырского его состояния. Совесть — убежище и оправдание слабых, падающих или падших,— это не для Симонова. Совесть — это сила. Этому актеру с внешностью Геракла или святого Христофора только сила и подобает. Добродетели человеческие в толковании Симонова рождаются не от распущенности и распаянности, но от мужества и здоровья.
594
Коллизия Фадора Протасова ясна: ему, обладающему
несравненными правами на жизнь, люди и обстоятельства навязывают самоубийство. Таково
подводное течение сцены с князем Абрезковым. Старый князь пользуется очень
осторожными, бледными словами, но советует он Феде только одно — добровольную
смерть. Нужно принести жертву — ради Лизы, ради друга своего Виктора Каренина.
Ведь и сам юнязь — пример того, как всю жизнь свою превращают в жертвование; он
любил и любит безответно только одну женщину, мать Каренина Анну Дмитриевну.
Бессменным князем был в спектакле этом Я. О. Малютин, бессменной Анной
Дмитриевной была Н. С. Рашевская. Актеры эти умели показать каждый со своей
стороны, как бессмысленны жертвы, которыми гордится князь Абрезков, как ничем
не оправданы отношения старых людей, изображаемых ими на сцене. Старый князь у
Малютина был тем человеком, который всю жизнь занимался самоистреблением во имя
верности и единственной любви, а Рашевская хорошо представила, как мало
заслуживала этого культа и этих жертв
Симонов придает внутреннему миру Феди значительный и крупный стиль. У Симонова, как это и в тексте Толстого, Федя Протасов чрезвычайно добр. Но это не доброта физиологического свойства, приводимая в движение по пустякам и позволяющая, чтобы ее увлекли в дурную сторону. Начиная с греков, философия различала в человеке душевность и духовность, в жизни духа она усматривала жизнь души, первичных чувств и побуждений, поднятую на более высокую ступень сознания. Федю Протасова было принято трактовать на сцене как человека душевного, внутренне рыхлого, доступного любым воздействиям. У Симонова Протасов обладает развитым чувством и чем-то высшим, более духовным — умом чувства, разумным его осознанием. Для него неизбежно защищать собственную доброту — от родных и близких, которым только и надобно обратить ее во зло. Есть сцены, где Симонов—Протасов тверд, сух и краток; тем, кто хотят на него
595
влиять, ничего не поделать с ним. Его зовут и заманивают — вернуться в дом, в семью. Взывают именно к его доброте — что ты делаешь, подумай, пощади мать, ребенка. Вернуться в семью значит вернуться к образу жизни, который он считает постыдным. Семья и дом для Феди — та же среда, богатая и праздная, которая знает занятия и знать не хочет о труде. Жена и ребенок — это снова погоня за доходами, служба в банке, которую он презирает. Его уговаривают, чтобы он отказался от одной разновидности эгоизма — личного, которым он ничуть не грешен, ради другой, ради эгоизма семейного и сословного, самого несомненного и неизбежного. Вот почему у Симонова Федя так откровенно, так трудно доступен, когда Каренин, когда Саша являются к нему со своими увещеваниями. Хотят разграбить его душу — во имя души. Отсюда отпор Феди, и отсюда убежденность этого отпора. Нельзя уступать всем этим к нему обращенным словам, задушевным пополам со злобою и злостью. Уговоры старого князя лучше других — на этот раз от него по крайней мере не требуют продолжения дурной жизни, хотят всего только его собственной смерти. Если не предложение князя, то остается развод с Лизой. Федю ужасает позорная, унизительная и пошлая техника бракоразводного дела, какой навязывает ее полицейское государство. Поэтому он выбирает как лучшее — уступить, самоустраниться, поэтому так решительна сцена со старым князем, где этот совет впервые преподносится ему. Симонов играет сцену покушения на самоубийство полторы минуты И так, что для зрителя они длятся как часы, месяцы и годы. Тут в сжатом виде вся трагедия. Отличный, великолепный человек, «чудо природы», отличное ее достижение, готов насиловать самое природу — себя. Протасов остается в снятом номере один. Официант уже все подготовил для хорошо известного ему ритуала самоубийства и мешать не станет. Федя для него не первый и, конечно, не последний. Номера снимают в гостинице также и для этого. Симонов наполняет свои минуты немой игрой, обдуманной и многозначительной. Он поправляет подушки на диване, переносит пальто с одного места на другое и держит при этом пальто в руках по-особенному, как вещь мертвую и заштатную, отслужившую, которой пользоваться уже не придется, — и пальто и всё и вся, в чем нуждаются
596
живые люди, для него утратили свое значение. Прибирает он все-таки из какой-то вежливости уходящего. Не хочет мелочами увеличивать беспорядка, который возникнет после того, что он совершит; самое главное — он хочет отсрочить смерть и еще над собой подумать, продлить заботы жизни, прощаясь с жизнью. У Толстого сказано: «Федя вздыхает облегченно… берет револьвер, взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и осторожно опускает». Симонов берет не револьвер, а ключ, которым он только что запер дверь, и ключ этот приближает к виску. Взять ключ вместо револьвера — перенесенный жест, театральная метафора. Ключ играет роль револьвера, ключ как бы тоже становится актером. И как актер живее на сцене, чем случайно очутившийся на ней натуральный человек без грима, так и ключ. От револьвера в ключе остались только железо и холод, мы не видим револьвера, зато мы его ощущаем лучше, чем если бы это был револьвер воочию. К живому телу, к живой, бессмертной голове Феди Протасова прикоснулся холод смерти. Короткое мгновение происходит поединок, и долг жизни, долг присутствия в жизни у Феди Протасова побеждает. Он не станет, не может стрелять в себя. Симонов раздергивает занавеску, в комнату входит белый свет. Звуки и свет жизни избавляют его от искушения.
Сцена эта, вероятно, самая важная у Николая Симонова. В Протасове, как его играет Симонов, никакой доброй воли к смерти нет. Он не тот человек, кто родился, чтобы потом уничтожить себя. В отказе от выстрела нет ни морального упадка Феди Протасова, ни его нерешимости. Это его сопротивление.
В дальнейшем движении драмы продолжается та же борьба с принудительной смертью, которая снова и снова надвигается на Протасова. Его уход, Ржанов дом, в котором он очутился, «дно», почти горьковское, где Федя потерялся, это опять-таки самоубийство в ослабленном своем, иносказательном виде. Тема ухода, добровольного или недобровольного социального падения разрабатывалась Толстым и до «Живого трупа» — в народных драмах о царе Аггее и Петре-Хлебнике, после — в повести о старце Федоре Кузьмиче. По «Живому трупу» явствует, что уход невозможен, уйти некуда. Суд, варианты ожидаемого приговора, из которых каждый по-своему плох и страшен, толкают Протасова со-
597
вершить наконец на самом деле и во всей непоправимости его этот поступок, предначертанный уже издавна обстоятельствами. Протасов стреляется в коридоре суда из револьвера, который доставляет ему старый трактирный знакомец Иван Петрович. Тут связь начал и концов, револьвер тот самый, который тогда лежал в гостинице под салфеткой и от которого Федя тогда отказался: Федя ушел от револьвера, и револьвер пришел за ним.
Полиция, церковь, суд, семья погубили Федора Протасова, уничтожили его физически. Как духовная личность он доказал свою неистребимость. Суд требовал от него, чтобы он изменил своему образу мыслей и чтобы он изменил свое поведение. Федя остался верен самому себе, ни в чем не покривил душой и умом. Суд не победил его морально, дальше физического насилия над Федей борьба с Федей не подвинулась. Трагедия в том, что жизнеспособный — жизнеспособнейший — уходит из жизни, а господами ее остаются злейшие ее враги — лицедеи и лицемеры, доносчики, как тот Артемьев, выдавший Федю полиции, как те люди чинов и должностей, в чьих руках были следствие и суд над Федей. Полиция, казенная церковь, суд, официальная нравственность — фальсификация жизни и требований жизни. Протасов — жизнь в ее подлиннике. Протасова, подлинного, вытеснили фальсификаторы, правду вытеснили лжецы.
Оптимизм трагедии именно тот, что Протасова изнутри разрушить нельзя. Эту неразрушимость Феди Симонов передает превосходно. Уже опустившийся, он тем не менее остается Федором Протасовым. В грязном заведении, наполненном ворами, провокаторами, проститутками, Федя сохраняет свою неприкасаемость. Беседу с Петушковым Симонов ведет вполголоса среди шума вокруг, в особом музыкальном смысле он исключает себя изо всего, что творится в этом вертепе. Есть в этой сцене минуты слабости Феди Протасова — он, нынче оборванец, человек дна, с некоторой гордостью рассказывает о своей былой хорошей жизни. В эти минуты Симонов в разладе с самим собой, ему не мила собственная слабость, он чуть-чуть хвалится и ему стыдно, зачем он хвалится. Зато в сценах следствия и суда к Феде, каким его играет Симонов, возвращается вся прежняя бодрость героической самозащиты. Точнее,
598
Федя перехватывает у обвинения миссию, обвинению присвоенную. Судят Федю, а он и обвинитель и судья.
Симонов — актер, за которым не помнишь ничего актерского. Не всегда наши современники верят в права и в обаяние театра. Симонов один из тех актеров, которые могут оправдать театр и переубедить сомневающихся, — по той причине, что всему слишком театральному и специально-театральному Симонов чужд. Он не актер иллюзии, не актер-обманщик, на сцену он несет истину. Симонов прост, естественно-прекрасен, его герои светятся собственным светом, без привинченных к их голове венцов, венчиков, нимбов, ореолов. Искусство Симонова лежит в традициях русской классики. Оно без вычурности, без вывесок, без зазывов — смотрите, вот что прекрасно и высоко, и то и другое сказывается без понукания со стороны художника.
Толстой говорил литератору Сергеенко о Феде Протасове: «Это чисто русский тип… отличной души человек»[363]. Федя Протасов — герой с большим и хорошим соседством в русской классической литературе. Замечательно, что для Протасова, для людей его духовного рода и типа пробуждение личности и пробуждение совести одно и то же. Русская классика, и так, начиная с Пушкина, личную душу понимает как совесть и совесть как личную душу. Федя Протасов жил материальным бытом привилегированных, его этикетом и внешними формами, покамест не нашел самого себя. Обратившись к собственной душе, в ее глубине Протасов открыл не только собственную личность, но вместе с нею и в теснейшем сплетении с нею он открыл там и других. Свое стало своим, потому что исчезла чуждость чужого. Духовная сила Протасова держится этим чувством: через него говорят многие, говорит каждый. В русской классике душа человеческая по природе своей демократична. Поэтому чем ближе человек к собственной душе, тем ближе к людям, тем демократичнее и проще. У Симонова, играющего Протасова, исключительность его — временная. Он как бы поджидает других, способных проснуться, как это было с ним, и он духовно уже давно готов к тесным отношениям с ними. В ужасном вертепе, где главенствует Артемьев, Симо-
599
нов—Протасов как бы тяготится своей исключительностью, неизбежной здесь, отходит в сторону, чуть горбясь от брезгливости и от огорчения, когда назревает кабацкий скандал, а с добрым и наивным Петушковым Протасов здесь был душа в душу, хотя Петушков совсем не родня ему по воспитанию и культуре.
Мы знаем за Симоновым и в других ролях, им исполняемых, это умение стоять в стороне так, что связь с остальными лицами все же сохраняется и нет равнодушия к событиям, которые происходят тут же: Симонов сопереживает и не соучаствует.
Федя Протасов создан ходом русской жизни, освободительным движением, начавшимся еще в глубине прошлого века. Оно раскрепощало человеческую личность, впервые распечатывало ее. Федю Протасова играли социологически, как тот же покойный Берсенев, — у Берсенева Федя был милым и слабым баричем, потревоженным этическими переживаниями, на коже Феди как бы отпечатались полосами прутья социальной клетки, в которую заключил его актер. У Симонова иначе, весь Федя в борьбе с собственной социальной узостью. Симонов играет Федю добывающим свою независимость от ближайшей среды, сословия, слоя, прослойки, внутренне апеллирующим к большому социальному миру, который посылает ему невидимые свои волны. У Симонова Протасов — человек как таковой, ставший человеком через общество, через усилия, невидимые, многих и многих. Когда Протасов держался барского образа жизни, внешне доступны были для него лишь некоторые; теперь, когда он покончил с барами и с барством, внутренне доступны стали для него все. Сценическая манера Симонова, лишенная эгоцентризма, передает эту связанность Протасова со всеобщей жизнью, эту его принадлежность к большому кругу жизни, завоеванную вместе с резкостью к людям малого, прежнего круга, из которого он хотел выйти и вышел наконец. Федя Протасов вряд ли отчетливо знает, какое историческое движение подсказывает ему. Он не главный человек в этом движении, требовавшем героев, о себе же Федя сам говорит, что он не герой —в точном и очень строгом смысле этого понятия. Федя не был человеком общественной арены и борьбы, на ней происходящей. Он из тех, чья реальная жизнь протекает вдали от глаз общества и становится общественно значитель-
600
ной только через литературу. Сам Федя был явлением «в себе», а явлением «для нас» он сделался, когда его изобразил Толстой. В Феде укрывается моральный смысл современного ему движения; что оно было такое по моральной своей природе, об этом говорит пример Феди, которого оно косвенными воздействиями пробудило.
Симонов — русский трагик, следовательно, он натурален и прост даже в возвышенном. Русский трагический стиль требовал, чтобы не торговали возвышенным, не делали из него особого и главного блюда на театральном пиру. Были у нас попытки основать и другие традиции трагизма, они отпали, Каратыгина победил Мочалов. Современники писали о Мочалове, слишком вдаваясь в неровности его искусства, в прихоти его и срывы. Провинциальные горе-трагики вредили имени Мочалова, ссылаясь на пример, будто бы полученный ими от него. Малограмотные в своем искусстве, они уповали, что во всем поможет им собственное чрево, пресловутое «нутро», тот суфлер, которого они носили в себе и который вызывался заменить всякую работу и изучение. Суть Мочалова была совсем в другом — в искреннем трагическом подъеме. Он играл пафос и возвышенное, как состояния, свойственные человеческому естеству, без особых усилий, без подхлестывания. К этой настоящей мочаловской традиции принадлежит и Симонов, актер, который не грешит беспорядочным вдохновением, а соединяет вдохновение с прочной школой и с прочным стилем актерской игры. Симонов играет скромно и верно, так как сценическая техника до конца ему послушна. У Симонова бывали неудачи не от недостатка сценической техники — не всегда роли, ему порученные, совпадали с характером его дарования, случалось и так, что Симонову доставались роли, не стоившие Симонова. С 20-х годов Симонов стал появляться на сцене. Как актер он почти ровесник нашей революции, от которой у него и внутренняя строгость и тяготение к большому стилю. Национальный стиль Симонова не архаичен—стиль этот прошел сквозь новый и новейший опыт нашей истории.
В спектакле Пушкинского театра мало разработана фигура Александрова Ивана Петровича, маленького человека с колоссальным жестом. Он-то и есть трагик устаревшей школы, близкий к персонажам того же мрач-
601
но-комедийного порядка, которых так охотно выводил Островский. У Островского они были комедийными, чуть ли не фарсовыми поминками трагедии, как ее понимал Каратыгин. В драме Толстого Иван Петрович с его возвышенными воплями: «Я — гений!», «Я — аристократ духа» — по контрасту оттеняет подлинность и скромность Феди. Возле Феди он находится в самые решительные для того минуты, в наиболее выразительные, когда у Феди происходит борение между жизнью и смертью. Перед нами рядом мнимый трагик и человек трагической судьбы на самом деле, без жестов, без потрясающих слов и шумов.
Русские трагедии — «Горькая судьбина» Писемского, «Гроза» Островского, «Живой труп» и «Власть тьмы» Толстого — писаны прозой, что далеко не один только внешний признак для них. Проза у нас помогала демократическому стилю в трагедии, смывала все ненужное, наносное, сбрасывала украшения. Пушкин вклинил в стихового «Бориса» сцену, написанную прозой, которая по сюжету не главная в трагедии, а по стилю своему проникает во все прочие сцены, выдержанные в пятистопных ямбах. К «Корчме на литовской границе» со всем ее влиянием внутри «Бориса» восходит наша трагедия в прозе, Островский ли это, СуховоКобылин ли, который в «Деле» тоже был трагиком, или же Толстой. Проза обнимает жизнь всех и каждого, обыденную жизнь, которой живут миллионы. Проза не боится будней и быта — в русской трагедии они представлены особенно жестоко, и на Западе, кажется, есть только одна аналогия русской трагедии в прозе — Георг Бюхнер, у которого тоже чрезмерная, гиперболическая материальность быта соединялась с необычайно высокой духовностью, как в «Воцеке», например. Трагического героя с его малообычной миссией к людям русская трагедия включает в обычный быт, порою в самый черный быт. Происходит тяжкая и долгая борьба за свет и воздух. Каждая подробность сценической картины таит в себе препятствие для героя. В каждом лице, мимо идущем, в каждом предмете обстановки, в каждой мелочи жизненного уклада заключены вековые силы, всюду бытовая косность, всюду отрицание инициативы и свободы, а ради них и поднимает свой мятеж трагический герой. Он хочет утвердить себя, и у него нет никаких привилегий, он должен пройти путями
602
каждого и всякого, побороть препятствия, которыми обставлен каждый. У Толстого в его крестьянской трагедии «Власть тьмы» моральное сознание, «свет» пробивается из ужасающих бытовых низин. В «Живом трупе», напомним снова, даже самоубийство имеет свой быт: помещаются в гостинице средней руки, требуют чернил, пишут прощальную записку, запираются. Федя Протасов, который стреляться не стал, победил и эту силу — не совершил поступка, заранее предрешенного бытовой обстановкой, диктатом быта, навязчивого в большом и в малом, в важных вещах и по мелочам. В Федоре Протасове слишком ярка живая душа, чтобы сразу же поддаться уговорам обстановки, уговорам смерти.
Когда люди в трагедии пользуются не стихом, но прозаической речью, это сразу же опрощает их. Стих, будет ли это александрийский, будут ли это белые пятистопные ямбы, уже сам по себе придает значительность персонажам и отдаляет их от нас. Проза предоставляет персонажей их собственным силам и укорачивает расстояние между персонажами и зрителем. Кто бы он ни был, персонаж трагедии, высокий или вульгарный, все дело в его подлинной стоимости, к ней извне ничего не будет прибавлено, зато ничего не будет и убавлено. Строй души, красота или безобразие помыслов, поведения — вот на основании чего судят героев в русской трагедии. Вероятно, Федя Протасов многое потерял бы, не будь ему дана по-обыкновенному скудная речь. Этот бедный дар должен же он чем-либо восполнить, и он действительно восполняет его стройностью и красотой собственной моральной личности. Красивые, эстетически организованные слова могли бы только ослабить впечатление от Феди Протасова. Без этих слов, вне этих слов мы каждый раз отлично знаем, что действие, которому мы подвергаемся, исходит от самого Феди, — это не приданные ему слова и речи, это он сам как таковой столь существенно впечатляет нас. Прозаическая неукрашенная речь по своему художественному эффекту подобна наготе в скульптуре. Как в скульптуре нам дана красота самих тел, а не одежд и драпировки, так в русской трагедии нам прямо дана красота характеров и душ. У Толстого мы соприкасаемся без эстетических посредников с душою Феди Протасова.
603
Симонов чувствует речевую стихию русской трагедии. Он умеет произносить главные слова так, что они звучат главными, без эмфазы, без демагогии в способе их выговаривать. Часто кажется, что он нехотя пользуется словами, — от неполного доверия к ним: хорошие слова чересчур испорчены дурными людьми. Люди, пользуясь хорошими словами, слишком часто обманывали друг друга. Симонов любит прибегать к скороговорке. Это те же слова, но без малейшего любования, это близость к сути дела, это как бы перескок через слово к предмету, о котором речь. Как скоропись отрицает каллиграфию, так скороговорка — важность и надутость речей. Тут мы встречаемся с еще одной разновидностью борьбы на русской сцене против фетишизма слова, против непомерной преувеличенной власти его. Нужно вспомнить о Станиславском, который заставлял актеров на репетициях говорить не по тексту, а «своими словами» — ради открепления от слова, ради выработки умения выражать стоящее за словами без рабства у самих слов. На русской драматической сцене слова не являются последней реальностью, они произносятся так, чтобы первоосновы человека, его жизненных отношений не заволакивались ими. Мы знаем, наш стиль игры имеет и свою изнанку. Порою актеры наши отучаются от красивой, законченно звучащей сценической речи, им не всегда удаются слова, отпускаемые полным весом, когда драма, когда драматическая ситуация требуют этих слов.
Такого порядка оговорки к Симонову не относятся. В драме Толстого есть эпизоды, когда Симонов выступает с настоящим ораторским словом, начисто освобожденным от бытовой невнятицы и бесформенности. Имеем в виду сцену следствия, где Симонов во всю их силу произносит слова обличения, политического и социального. Сцена следствия — особая сцена. Слова подследственного суть его поступки, речь на допросе не дублирует поступков, не сопровождает их, здесь она сама становится действием, и поэтому Симонов придает ей неподдельную энергию. Он не только вправе позаботиться о том, как станут звучать его слова, он обязан сделать это. Слова Протасова в этой сцене суть дела Протасова.
Так как сцену, это место, где царят условности, Симонов заполняет реальностями жизни, то он приобрета-
604
ет право действовать также и в обратном направлении — распространять свое искусство и за пределы того, что, строго говоря, есть сцена, перебрасывать его через театральную рампу прямо в зал, где сидят неиграющие люди. Выходы Симонова к публике после заключительного акта тоже становятся, как правило, художеством — продолжением художества. Мы знаем, Шаляпин оставался художником и в разгримированном виде, даже выходя из театра, на пороге его, перед публикой, которая на улице прощалась с ним. Симонов играет Федю Протасова ближе к концу постаревшим, седеющим, полуседым. Таков он в сцене с Петушковым, таков он со следователем. Занавес падает в последний раз, спектакль кончился, и на вызовы появляется Симонов, еще одетый в платье Протасова, с высоко поднятой головой, уже со своими волосами — совсем белыми, серебряными. Протасов все приближался к собственному подлиннику, совлекая с себя одеяния и личины. К концу спектакля перед нами сам Симонов в своем доподлинном виде, который медленно подготовлялся последними эпизодами драмы. Искусство продлевается вплоть до самой жизни, до реальной личности актера, и обратно,— от его реальной личности пути ведут в глубь только что сыгранной им роли. Протасов живет Симоновым, а Симонов — Протасовым, оба нужны друг другу, обмениваются составом души и крови.
Недавняя работа Симонова — Сальери в трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери», постановка Л. С. Вивьена. Симонов играет человека, сделавшего недоброе, черное дело. По традициям русского классического стиля зло, творимое людьми, требует осторожного размышления над ним. Вовсе не ради всеотпущения и всепрощения. Зло есть зло, и честная логика не может переделать его в невинном смысле. Предпосылка и цель здесь другие. Для русских художников зло никогда не представлялось чем-то самоявственным, фактом человеческой природы, обсуждению не подлежащим. Напротив того, они спрашивали: как возможно зло, откуда оно, что его питает, нет ли в общественном человеке противоядий против зла. Так же и у Симонова. Для него преступление Сальери — проблема, а не факт, который принимают, не допытываясь. Симонов исходит из доверия к человеческой природе. Можно было бы построить Сальери соразмерным его низкому и ужасному
605
деянию. Пушкин этого не посоветовал бы, и Симонов этого не делает. Сальери у Симонова большой, огромный человек, страстно живущий, страстно размышляющий. Можно было удивляться: как, каким образом Симонов, вчера игравший Федю Протасова, вынул из себя Сальери. У Симонова Сальери равен самому себе и с другими ролями Симонова не смешивается. Актер же, играющий Сальери, все тот же, черпающий из того же человеческого материала. Сальери у Симонова что угодно, только одного в нем нет — нравственной заурядности. По Симонову, заурядные злые замыслы Сальери, его зависть к Моцарту — это не сам Сальери. В большом человеке завелась маленькая мысль, в львиную лапу вошла заноза, и лев не умеет от нее избавиться. Симонов играет в трагедии Толстого человека, который превосходит собственное положение. В трагедии Пушкина он играет человека, который больше, значительнее собственной мысли, тех или иных собственных переживаний. Это не предполагает амнистии для Сальери, это всего только указание, каковы истинные масштабы этого человека.
Симонов начинает трагедию с долгой паузы. Сальери сидит, глубоко задумавшись, положив свою белую напудренную голову на черную крышку рояля. Трагедия Сальери началась еще раньше, чем подняли занавес. Так и нужно. «Маленькая трагедия» Пушкина — пятый акт трагедии обыкновеной, в который втеснились все четыре предыдущих. Она — фрагмент, более цельный, чем любое целое. Она только начинается, и она уже издавна длится, вся в настоящем и вся в уже прошедшем. Сальери ведет давнюю борьбу с самим собой. Усилия его тратятся на то, чтобы маленькую свою, злобную и некрасивую мысль поднять, возвысить, уравнять ее с самим собой. Он хочет примириться с собственной мыслью, дать ей авторитет, значение, которыми обладает он сам. Ему нужны сразу и неправое дело и убежденность в собственной своей безупречной правоте. Поэтому Сальери строит грандиозные и смелые софизмы, по которым выходит, что устранить Моцарта требуют интересы самой музыки,— за интересы музыки как таковой он рад бы выдать недобрые профессиональные интересы одного из музыкантов, профессиональную зависть и ревность, месть за собственное свое второе место в музыкальном мире, за неполноту собст-
606
венных успехов, за славу, купленную очень дорого, — безрадостную, «глухую».
Сальери и верит в созданные им доводы и не перестает сомневаться в них. В голосе и в мимике Симонова есть какая-то лихорадочность, характерная и для других его ролей: ведь он изображает людей сильных и тем не менее мучимых и измученных, податливых на муку. В исполнении Симонова злодей Сальери — человек по природе своей этический. В нем самом сидят и подсудимый и судья, они меняются местами, он пытается уговорить каждого, мечется от одного к другому и поэтому беспокоен чрезвычайно. Моцарт, как передает его в этом спектакле В. И. Честноков, сам того не зная — моральный антагонист Сальери. Из Моцарта Честноков почти изъял все, что считалось для этой роли обязательным: беззаботность, детское веселье, повадку «гуляки праздного». Моцарт у него человек бессознательно и бесконечно опечаленный — злая смерть веет над ним. Вместе с тем Моцарт, каким изображает его Честноков, это само спокойствие, это удивительная ясность: у Моцарта нет вины перед другими, нет тайны перед самим собой.
Главнейший эпизод у Симонова тот, когда Сальери слушает Моцартову музыку. Симонов слушает всем своим существом, сердцем, головою, слухом души своей и слухом тела, в музыку он уходит, утопает в ней. В эти минуты Сальери — друг, приверженец, защитник Моцарта, музыка снова соединила их обоих, с Моцартом он сейчас живет душа в душу, звук в звук. У Симонова Сальери переживает трагедию совести как музыкант, как художник. Музыка это и есть совесть Сальери. Слушая музыку, Сальери общается с высшей правдой. Свой ум Сальери старается подкупить сомнительными рассуждениями, свой слух он подкупить не может. Убивая Моцарта, Сальери совершает преступление перед самой музыкой, и Сальери знает это, и все-таки Сальери не отказывается от задуманного. Ведь и злые мысли Сальери тоже отсюда, их родила та же музыка Моцарта. В музыке Моцарта источник преступления Сальери и в ней же наказание Сальери. Способность слушать самозабвенно музыку Моцарта, до конца предаваться ей — это реабилитация Сальери. Но он привык и бороться с этой музыкой, с ее сверхъестественным воздействием, с ее незаконным, как хочет он
607
считать, происхождением. Все в музыке Моцарта — она блаженство Сальери, она его казнь. Музыка связывает Сальери с жизнью, с людьми, она же обособляет его.
В эпилоге Симонов играет Сальери смятенного, ложно торжествующего по поводу долга, который он будто бы выполнил перед музыкой и человечеством, убивая Моцарта. Он в последний раз силится поверить в свою софистическую идею, будто бы самой музыке нужна смерть Моцарта, и не верует в нее окончательно. Симонов дает самое истинное толкование «маленькой трагедии» Пушкина; в ней две жертвы — отравленный Моцарт и отравитель его Сальери, которому не дано уйти от суда над самим собой. В лице Сальери музыкальный цех из ревнивых соображений покусился на самое музыку, на музыкального гения. И что же: гений уже на краю могилы, и вместе с ним живая музыка отстояла себя — в душе самого преступника.
Вероятно, вместе с Симоновым впервые на драматическую сцену вышел несомненный пушкинский Сальери, — музыкальная сцена имела великого Сальери — Шаляпина в опере Римского-Корсакова. Мысль ведет к Шаляпину и по той причине, что Симонов, как это делал и Шаляпин, прилагает особые заботы к тому, каков будет зрительный образ, создаваемый им на сцене. Сальери Симонова — это настоящее живописание. Он высоко несет свою голову «Сальери гордого», на нем переливаются две краски, два цвета — серебристо-белый и черный. Белое жабо, белые манжеты, белые волосы, черный камзол казались писанными рукой классического портретиста, умеющего многое извлекать из немногого. Облик Симонова — Сальери вызывал очень важную ассоциацию — мерещился тот «человек, одетый в черном», тот «черный человек», заказчик «Реквиема», о котором, предчувствуя недоброе, рассказывал Моцарт. Представлялось, что есть внутренняя связь между черным Сальери и черным заказчиком, что равно они оба могильщики Моцарта. Ассоциативные связи очень действенны и на сцене. Здесь не только важны реальные отношения и соотношения, здесь в строку пишется и то, что воображается, всего лишь навеяно мыслью. Неведение и наивность проявляет Моцарт, когда говорит о беде, угрожающей со стороны какого-то неизвестного ему черного человека,— ведь черный человек, близкий приятель его Сальери, стоит тут же перед его
608
глазами. Предчувствия Моцарта верны и все-таки бессильны защитить его от настоящей опасности. Вряд ли в этом спектакле «черный человек» входил в режиссерский расчет. Но Симонов всем обликом своим двигался навстречу этой внутренней, закулисной теме, и можно было думать, что вот он — подлинник черного человека, в то время как Моцарт говорит всего-навсего о смутном и слабом двойнике его. В самом тексте Пушкина дано особое удвоение Сальери — мы имеем в виду «создателя Ватикана», на чей пример Сальери ссылается, желая опровергнуть для себя мысль Моцарта о несовместности гения и злодейства. «Черный человек» — другое удвоение, так сказать факультативное. Оно не имеет прямой опоры в драматическом тексте, и все-таки оно напрашивается, по крайней мере в спектакле, где играет Симонов.
Нужно сказать об исторической достоверности, которую Симонов придал своему Сальери. Он казался одетым в платье Сальери, а не переодетым в него. Симонов ходил по сцене, садился в кресло, заложив ногу на ногу, и можно было думать, так двигался по своим высоким покоям, так пользовался своей нестаринной еще тогда, а современной ему мебелью сам исторический Сальери, сочинитель «Тарара». Хорошо, что вызывались в памяти и другие фигуры того же периода, чем укреплялось чувство достоверности Сальери, сыгранного Симоновым. Могло подуматься, например, о позднем Гёте, расхаживающем в длиннополом сюртуке по своему веймарскому дому, отдавая распоряжения на остаток дня, неспешно диктуя что-либо ученое или художественное рачительному в своем писании секретарю. Хорошо, когда актер играет свою роль так, что изображенный персонаж не кажется одним-единственным на свете, а еще отсвечивает во множестве иных. Без этой способности отсвечиваться, частично повторяться в людях, мысленно нами представляемых или попросту присутствующих тут же, нет сценического реализма. Мы принимаем, что персонаж такой-то действительно существует или существовал, если к нему есть параллели, — приблизительные, конечно. Параллели укрепляют чувство и сознание реальности, дают устойчивость художественному образу.
Симонов, красивый актер, никогда не был так прекрасен, как в роли Сальери, никогда и нигде не было
609
той же львиной игры. Светотени, волны бело-серебряного и черного во внешности Сальери определяли, как нам оценивать моральную личность этого человека; в восприятии нашем моральный колорит колебался и качался. Красота и величие Сальери внушали нам, что при любых доводах за и против мы находимся перед человеком необычайным. Красота не оправдывала его преступления, она подтверждала, что вызванная им трагедия Моцарта и мировой музыки была также трагедией для него самого. Он оставался для нас мрачно-прекрасным при всех оговорках, какие только могут быть сделаны по поводу трудного и темного человека, изображаемого Симоновым на этот раз.
Другая из новых работ Симонова — роль Матиаса Клаузена в драме Гауптмана «Перед заходом солнца».
Постановщик А. А. Музиль поставил спектакль, содержание которого беднее того, что дает нам Гауптман. Текст драмы подвергнулся сокращениям, а в сокращенном содержалось немаловажное для нее. На сцене сыграна была семейная драма: в богатом буржуазном доме происходит безобразная битва детей с их старым отцом, Матиасом, из-за наследства, которое, как боятся дети, находится под угрозой, ибо у отца появилась молодая любовь, милая девушка Инкен, и отец намерен жениться на ней, ввести ее в свой дом, уже давно лишенный хозяйки, — прежняя жена Матиаса умерла, после чего семейство стало разваливаться. Сыновья и дочери Матиаса прикрываются тем, что они ревнуют к памяти матери. На деле же они хотят во что бы то ни стало избавиться от сонаследника; этот будущий сонаследник — Инкен, а отца они рассматривают как человека, чье назначение в том и состояло, чтобы собрать для них капитал и оставить им его, без дележа с кем-либо, со стороны пришедшим. Невестка, зять Матиаса — рьяные участники борьбы, ведущейся против него в собственном доме. В спектакле на виду социальное содержание драмы Гауптмана, а содержание политическое от социального неотделимое, здесь почти упущено.
У Гауптмана очень важны место и время действия. Это Германия после первой мировой войны, с подсказкой в тексте, что она готовит вторую. Драма Гауптмана в некотором смысле еще и драма историческая, в ней происходит коллизия двух эпох немецкой жизни, что в
610
советской критике хорошо раскрыто[364]. Гауптман написал свою драму в 1931 году — во времена крупных успехов фашизма и на пороге столетнего юбилея смерти Гёте — года 1932-го. В постановке едва подхвачены очень существенные для драмы Гауптмана параллели с Гёте. Матиас Клаузен — известный книгоиздатель, не столько делец, сколько просветитель, гуманист, пропагандист культуры через книги, им издаваемые. В доме его, по его почину, всюду следы культуры и художества. Он — библиофил, коллекционер, знаток поэзии и философии, поклонник Гёте, который в доме Матиаса духовно присутствует повседневно. Гауптман не символист, но реалист. События, эпизоды, подробности следуют друг за другом согласно их простой реальной логике. Однако постоянно появляются у реальных тем его драмы тематические призвуки и постоянно возникают аналогии. Детей Матиаса зовут: Вольфганг, Эгмонт, Беттина, Оттилия. В одном случае это имя самого Гёте, в других — имена, взятые из произведений его и биографии. Что же, естественно, если поклонник Гёте назвал своих детей именами, ведущими к Гёте и к миру Гёте. Другим же своим смыслом имена эти — осторожное усиление и укрупнение тем, разработанных в драме. Сам Матиас — далеко не полная, но все же ощутимая аналогия с Гёте как таковым. Его любовь к Инкен — некоторой частью повторение мариенбадского романа, когда Гёте, на восьмом своем десятке, влюбился в юную Ульрику фон Левецов и был остановлен в сближении своем с этой девушкой, к которой сватался, неистовством сына и невестки — предшественников детей и домочадцев Матиаса. Гауптман вовсе не собирался населять свою драму фигурами символическими, призраками минувшего века. Параллели с Гёте ведут Гауптмана к генеральному конфликту немецкой его современности, а не уводят от него. Матиас Клаузен — старая немецкая культура, охраняемая именем Гёте, гуманная и гуманитарная. Дети его и подстрекатели детей — это шум улицы, шум фашизма, уже слышимый в доме Матиаса. Классическая культура подвергается первому нападению, приближаются варвары.
В начале драмы Матиас празднует свое семидесятилетие — опять-таки аналогия с Гёте и его наступающим
611
юбилеем. И Матиас, и культура Гёте подводят себе итоги — вовсе не предсмертные, они могут и хотят жить дальше и только озираются на совершенное, прежде чем продолжать путь. Любовь Матиаса к Инкен, планы его новой жизни вместе с Инкен — свидетельство, образное указание на то, что мир Гёте, что мир гуманизма и его культуры вовсе не угас, не истощил себя. Фашисты приготовили ему насильственную гибель.
В спектакле почти слиняли аналогии, столь важные в тексте драмы Гауптмана. Приближение фашизма тоже не было обозначено заметным образом. Между тем в действующих лицах драмы угадываются в одном — будущий группенфюрер, в другом — даже обер-группенфюрер. По драме Гауптмана видно, а по спектаклю не было видно, что фашизм наступает с разных сторон и крупными силами. В спектакле было немало хорошей игры, но актерам удались по преимуществу роли положительные и нейтральные; например, Штейниц, домашний врач Клаузена, — В. И. Янцат, профессор Гейгер — Я. О. Малютин. Отдельно скажем о М. К. Екатерининском, актере, умеющем маленькую роль сделать равнозначною роли большой, полувнятное сделать выразительным. Он играет Винтера, старого слугу при Матиасе. Винтер — тайный друг Матиаса, полный сочувствия к нему и готовности помочь ему, сколько тот позволит. Дружба тайная, так как не надлежит слуге высказывать чувства, вмешиваться в семейные отношения хозяина, выходить за черту своих прямых обязанностей. В спектакле хорошо видно, как Винтер молча угадывает Матиаса, его состояние духа, как оба близки друг другу, при всей разнице положений. –Екатерининский играет Винтера так, что почти беззвучное звучит. Роль Винтера как бы проникает изнутри в роль Матиаса, вносит туда свое, доокрашивает ее. Присутствие Винтера на сцене всегда означает, что Матиас не одинок в собственном доме, что ему отвечает кто-то. Мы видим, какие преграды между Матиасом и его потомством, его родней. А с Винтером у него прямое общение, обмен от сердца к сердцу. Гауптман уделил Винтеру и его отношениям с Матиасом очень мало текста, Екатерининский ничего в тексте не оставил без внимания, обратил в жизнь каждое слово и, что еще важнее,— каждое движение.
Если же от сил положительных перейти к трактовке сил агрессивных в этом спектакле, то первых нужно
612
признать, что они не были изображены в настоящем своем калибре. Кламрот, зять Матиаса Клаузена, в спектакле весь укладывался в рамки домашнего злодейства; у Гауптмана Кламрот много страшнее — и сегодня он злодействует в домашнем и в деловом мире, а завтра покажет себя в мире политическом, Кламрот у Гауптмана — дикий и злой кабан, клыки у него растут и еще будут расти. Злодей меньшего значения, угодливый пособник злодеев покрупнее, советник юстиции Ганефельд, тот удался А. А. Дубенскому, игравшему свою роль остро и точно.
О женских ролях: Паула Клотильда (В. Н. Вельяминова) была сыграна не совсем правильно, слишком спешили разоблачить ее, и сразу же из этой дамы, аристократки по своим притязаниям, вырвалась и громко зашумела женщина улицы и рынка. То же самое относится к Беттине, дочери Матиаса (Л. П. Штыкан): Беттина — ханжа, и сразу же было показано, что ханжа, с чрезмерной откровенностью игралась роль, суть которой в неоткровенности. Не станем утверждать, что таков всегдашний метод обеих актрис. Но их игра именно в этом спектакле дает повод к некоторым общим размышлениям о природе театрального искусства. По всей очевидности, нельзя сводить задачу актрисы или актера к прямой информации: глядите, я такая-то, я такой-то. Разница между игрой на сцене и простым сообщением зрителю, кого он имеет перед собой, почти исчезает таким образом. А ведь мы говорим о театральной игре отчасти по той причине, что информация получается нами только невзначай, сам актер на сцене занят непосредственно совсем иным делом. Актер на сцене живет за человека, выписанного в драме, живет его жизнью, его целями; о том же, что означает этот человек, чего он может стоить, до зрителя доходит только косвенно. Доброй долей игра актера и состоит в этой двойственности: на сцене он существует сам по себе, независимо, как если бы никаких зрителей и в помине не было, а тем временем исподволь актер дает зрителям все им нужное, постепенно разжимается, разгибается перед ними, как сжатая ладонь. Важна иллюзия, будто актер и не догадывается на сцене, что из зрительного зала на него смотрят, следят за ним. Без этой иллюзии нет подлинного интереса зрителей к происходящему на сцене. Внимание актера и внимание
613
зрителя по направлению своему не совпадают, между зрителем и актером происходит полезное трение, без которого нет истинного драматизма в драматическом спектакле. Актер живет чьей-то жизнью, а зритель познает эту жизнь. Когда же актер тоже устанавливает себя на информацию, на познание, то он докладывает, преподает, поучает и обучает — что угодно, только не выполняет задачу художника. Старый классицизм тем и грешил, что принуждал актера не играть, но предъявляться, аттестовать себя перед зрителем: смотрите, я скуп, смотрите, я ханжа, смотрите, я ревнив. Роли тогда с самого начала опустошаются, дальнейшее присутствие актеров на сцене становится малообязательным, ибо главное свое дело они уже сделали. Не говорим уже о том, что в самих реальных отношениях жизни человек совсем не желает доводить до сведения окружающих, кто он таков, к чему способен или неспособен, какие карты у него в руках. Именно так и ведут себя те две женщины в драме Гауптмана, обе очень таятся от общества, им очень повредило бы, будь заранее известно, кто они такие, к чему стремятся, на что рассчитывают. Мы уже давно научились понимать, что навязчивая дидактика губит драму в целом, губит общее впечатление от спектакля. Но поучительности этого же рода не должно быть и в частностях, не должно быть в отдельных ролях. Не только драматург или режиссер способны впадать в дидактизм, с отдельными актерами по временам случается то же самое, как на одном весьма специальном рисунке Альбрехта Дюрера, они указуют перстом, где у них сердце, где у них печень. Поневоле в спектакль проникает неправда: люди живут ради того, чтобы жить, а по спектаклю выходит, что они живут ради подачи сведений о самих себе, ради опознания их другими. Интересы зрительного зала тогда прямо проникают на сцену, пропадает различие между зрителями и актерами, пропадает театральная иллюзия, и, что любопытнее всего, вместе с нею пропадает театральная правда.
Разумеется, центром спектакля был Симонов в роли Матиаса. Своей головой Симонов как бы приподнял крышу этого спектакля, слишком низко нависавшую над ним и прочими, кто действовал на сцене. Он играл и что написано было в тексте у Гауптмана и что подразумевалось там. От Симонова веяло духом свободы и
614
нравственной независимости. В изображении Симонова Матиас Клаузен был не только отцом семейства, патриархом, человеком, которого чтит весь город, он был еще чем-то гораздо большим — эпохой, очень значительной и славной, которая отходит, поневоле уступая мелким и подлым силам, явившимся, чтобы поскорее покончить с нею и разграбить, осквернить все, что от нее останется.
В трагедии Пушкина Симонов играл иностранца, здесь его роль — иностранец в иностранной драме, и роль ему пришлась как раз. Национальный русский стиль не являлся для Симонова, как и для всех лучших наших художников, стилем национальной исключительности, сквозь русский характер, сквозь русский образ Симонов умел дойти до общих основ человека, до общеязыка человеческих чувствований и состояний. Великая заслуга русских писателей, русских актеров в том, что с редкостной силой они умели выразить всечеловеческое в человеке, всечеловеческое, присущее всем и каждому, невзирая на условия места и времени. Общеизвестный пример силлогизма: Кай — человек, люди — смертны, поэтому Кай смертен… Понятие о людях вообще, которые все смертны, обыкновенно отличается пустотой и бедностью, безразлично, входит ли оно в учебный силлогизм или же в построение совсем иное по своему характеру. Но у русских классиков род человеческий, в недрах которого обретается Кай, отнюдь не является только абстракцией. Всечеловеческое в русском искусстве обладает удивительной полнотой реальности, оно по силе своей не меньшая действительность, чем люди в своих эпохальных, национальных, племенных, специально-личных разновидностях. С точки зрения Льва Толстого, например, человек, взятый из большой посылки силлогизма, человек вообще, о котором заранее известно, что он смертен, и тот Кай из малой-посылки — оба в одинаковой степени наделены реальностью, быть может, в человеке как таковом она выражена более прочным образом. Иван Ильич в рассказе Льва Толстого так и назван Каем, по фигуре силлогизма. Несчастье Ивана Ильича в запоздании — всю жизнь он прожил на правах Кая, кого-то малодействительного, а человеком вообще, человеком, действительным вполне и на самом деле, стал только в час смерти. Не пускаясь в розыскания, почему это и как, скажем о русских писателях, что
615
они верят в общечеловека, в прекрасную реальность этой фигуры не менее, чем верили в нее великие поэты античности и близкий к ним мировой фольклор. Власть над общечеловеческим миром, над общеязыком, его выражающим, позволяла нашим писателям, начиная с Пушкина, с редкостным пониманием трактовать жизнь и быт чужих наций, чужих культур, чужих характеров. При свете некоего общеязыка душ, быта, нравов трактовались те или иные частные явления, имевшие или имеющие где-то и когда-то особое свое национальное, местное значение. Великие русские актеры, носители русского национального стиля в сценическом искусстве, превосходно играли иноземный репертуар: Мочалов, Щепкин, Варламов. Национальнейший Варламов был также и лучшим Сганарелем при мольеровском ДонЖуане, какого только знала мировая сцена. Снова вспомним о Шаляпине: Борис, Варлаам, Пимен, Сусанин, Досифей и он же Мефистофель, Лепорелло, Дон Кихот, король Филипп.
Нечто похожее на великие эти примеры можно наблюдать и в репертуаре Симонова: после Феди Протасова, Сальери и Матиас Клаузен, причем ни Сальери, ни Матиас не обработаны под русских, а в то же время им не придана чересчур заостренная характерность, в духе чужих для нас национальностей, одному итальянской, другому — немецкой. Как роль Сальери, так и роль Матиаса Симонов прочел с помощью общеязыка человеческих характеров и душ, известного ему через русское искусство.
Для роли Матиаса, столь же классичной, сколько и современной, чрезвычайно был важен опыт великой нашей борьбы с фашизмом и с варварами, которых породил фашизм. У нас и у Матиаса общие враги. Не менее важно, что через косвенные исторические связи положительные ценности, за которые стоит Матиас Клаузен, близки и нам. С ним у нас родство по высокому гуманистическому идеалу. Родство это помогало Симонову войти в роль Матиаса, духовно освоить ее.
Матиас Клаузен у Симонова без усилий, естественным образом возвышается среди людей, его окружающих. Самое главное — он обладает внутренней законченностью. Матиас Клаузен человек, сам себя создавший, подчинивший собственную жизнь единому замыслу, обладающий целостным стилем поведения и воли.
616
Симонов играет возраст Матиаса по-особенному; не старость его, а победоносную борьбу со старостью. В Матиасе есть и старость и, мы бы сказали, вечность. Он так собран в самом себе, так много в нем запасов энергии и движения, что, кажется, он идет сквозь годы, почти незатронутый ими, почти недоступный им. В других ролях Симонов изображал людей, выходящих из оболочки сословия, класса, профессии. Матиас Клаузен у него тоже побеждает эту оболочку бюргерства, коммерции, достаточности, богатства. Сверх того, он разрывает еще и оболочку собственного возраста. В нем есть возраст и нет уступок возрасту, нет обветшания. Кажется, он вошел в жизнь, чтобы остаться в ней навсегда.
У Симонова создается дистанция между Матиасом и полудурными или вовсе дурными людьми, наполняющими его дом. У Матиаса есть своя неприкосновенность. Дистанция имеет в игре Симонова и обратное значение. Матиас и сам ее соблюдает, когда происходят него встречи с людьми, которых он любит и ценит; он не посягает на их внутренние миры, на их самостоятельность. Когда с профессором Гейгером ведется речь об Инкен, Симонов берет фигуру с шахматной доски, с бесконечной осторожностью до нее дотрагивается. Белая фигура — это Инкен. Опять перед нами один из методов Симонова, искусство перенесенного жеста. Когда же Матиас приезжает к Инкен и разговаривает с ней в саду воочию, то здесь один только пиетет любви и нет ни малейших намеков на фамильярности любви. К сожалению, в этой сцене с Инкен постановщиком пропущен эпизод с бутербродами, которые Инкен раздает детям, — косвенная цитата из «Вертера» Гёте. Матиас, по тексту драмы, входит и любуется этим эпизодом из Гёте, возникшим перед ним внезапно, без чьего-либо умысла. Актриса Н. Н. Ургант едва отвечает тому, что играет Симонов—Матиас. Не хотим сказать, что Инкен играет плохая актриса. Ее играет не та актриса. Режиссер, очевидно, предписал ей играть племянницу садовника, и она простовата, тогда как по драме племянница старого Эбиша (исполнитель Б. Е. Жуковский) — девушка, одаренная высоким умом и чувством, смелая, способная к подвигу. Для Матиаса она — призванная подруга. В спектакле нет даже любви Инкен к Матиасу. Есть незрелость и любопытство, с которым
617
поглядывает девица Инкен на седого господина, который обо всем на свете забыл, ведет себя, как юноша, и возит ей цветы.
Матиас Клаузен в исполнении Симонова — человек, обладающий строгой формой, он весь — некий «образ» в смысле построенности и законченности, и это ключ к его трагической коллизии. Гёте и античность, которую чтил Гёте, которую чтит Матиас Клаузен, требовали от людей, чтобы те были завершены в самих себе, подобны были безупречному художественному произведению. Для античной культуры существенны слова философа Платона в его «Симпозионе»: великие герои древности с тем же рвением совершенствовали собственную личность, с каким поэты сочинения, задуманные ими; одни творили самих себя, как другие трудились над внележащим. Катастрофа для Матиаса начинается, когда истеричная родня, эти варвары и громители, снова проникают в его дом, откуда они ушли, и когда они обращаются со своим родственным натиском на него. У Симонова в этой сцене происходит самое страшное для Матиаса, каким Симонов его задумал: Матиас теряет «образ». Матиас, человек, введенный в художественную форму, непогрешимо-цельный, тут разбивается в куски. Родственники, с их назойливостью, ханжеством, фальшивой сентиментальностью, домогательствами, в точнейшем смысле выводят его из себя. Он бушует, слабеет и бушует снова, неистовствует. Его безобразный гнев — полнейшее саморазрушение. Матиас в припадке ярости режет ножом портрет покойной жены, столько лет висевший у него в доме, и этот его поступок как бы обратное изображение происходящего с ним самим и в нем самом. Он тоже изуродован, искромсан, опозорен по почину своих наследников. Распался целый строй духовной жизни; старинной, неумирающей культуре ударили ножом прямо в сердце.
Матиас, утративший образ и форму, дальше жить не может. Последний акт поставлен с некоторым уклоном в мелодраму, с бутафорской непогодой и громом за окнами, с контрастом между бурей на улице и идиллической, уютной бедностью в домике садовника, где умирает Матиас Клаузен. Семейной драме, предоставленной самой себе, всегда угрожает чрезмерная близость с мелодрамой, ее соседкой. И тут и там чувство, не охваченное большой мыслью, переходит в чувствитель-
618
ность, а это для мелодрамы законная добыча. Симонова, конечно, мелодрама не коснулась. Матиас Клаузен появляется в последнем акте сначала в своей потрепанной, потом в чужой одежде. Растерзанного, разбитого, его хотят склеить заново. Он не может существовать как сцепление, как склейка собственных фрагментов. Его расколотили на осколки бесформенные дикие, одичавшие люди, хотели уподобить его себе, он спасается от них и умирает.
После драмы Гауптмана Симонов выходил на приветствия торжествующий, неуязвимый, бессмертный, каким Матиас был в первом акте, в минуты своего юбилея. Матиас Клаузен и его высокая культура опять воскресли для новой жизни и для новых форм ее после насилий и надругательств, испытанных ими еще недавно. Носимое Клаузеном в Клаузене погибло, и в Клаузене оно же сохранилось для других, кто будет жить дальше. И в этот театральный вечер героическое искусство Симонова, как это ему свойственно, продолжилось через рампу. В трагедии, как жанре, нет ничего условного, она самый доподлинный из жанров. Обставлено историческими оговорками, в особом смысле условно в ней одно — развязка, окончательность ее, бесповоротная гибель трагического героя, смерть, которая есть только смерть.
1963
(«Смерть коммивояжера», драма Артура Миллера)
Вилли Ломену, коммивояжеру от одной нью-йоркской фирмы, шестьдесят три года; он без прежнего успеха представляет фирму по городам и городишкам Америки, деловые разъезды ему стали трудны. Хозяин, Говард Вагнер, увольняет его, не посчитавшись с тем, что вот уже тридцать шесть лет он служит фирме, — сначала служил отцу, старому Вагнеру, а потом Говарду, сыну. Драма у Артура Миллера строится на коллизиях возраста. В драме содержится назидание, что выходить в старики в Соединенных Штатах не рентабельно. Но коллизии возраста в драме, а тем более в спектакле, который поставлен иа ленинградской сцене режиссером Р. Р. Сусловичем, весьма и весьма обобщаются. Драма затрагивает великий вопрос, куда деваться, если им распоряжается безжалостная общественная система, человеку как биологическому существу, как живому телу с кровеносными сосудами, с нервами, с душой. Тема возраста и несчастий возраста — только частность, ведущая к чему-то большему, к размышлениям о судьбе человека, о его живой, телесно-духовной, личности, поддетой на железные зубы большой современной цивилиза-
620
ции. Еще не так давно одно из самых ходких оправданий капитализма состояло в сведении его к природе — его дела и отношения объяснялись процессами, прямо следующими из естества вещей, из ландшафта, переполненного звериной жизнью. Если кто сомневался в правоте буржуазной цивилизации и законов ее, то ему внушали, что иначе быть не может, что так велит и диктует сама несозданная, от человека независимая природа. Сейчас наблюдается известный поворот даже у писателей, далеко не свободных еще от буржуазных навыков мысли, у таких, как Артур Миллер. Иной вчера писавший, что капитализм это и есть природа, пишет сегодня, что между ними вражда, постоянный поединок. Биологическая тема 'была апологетикой и становится обличением. Слишком явствует из опытов сегодняшнего дня, что капитализм — законченный противник всего живорожденного. Успехами техники, ростом автоматизации он не на помощь идет человеку, а на вытеснение его живой силы, естества его мышц и мускулов, способностей его ума. войны, которые капитализм вынашивает, более всего разоблачают его. Здесь видно, что для него человек — мишень, что бытие человеческое лишено для него малейшей ценности. Биологический человек так занимает мысли буржуазных писателей, потому что он не растворен в отношениях социального мира, не нашел в них исхода для себя. Биологический человек плохо слит со своей социальной системой. Казалось бы, «природа» передоверяет себя в руки «культуры», преобразуется в культуру. На деле обе стороны не примирились, не сошлись в одно, и с каждым днем сильнее ропот биологического человека, взятого социальными отношениями, как в тиски, трактуемого в них как неживая вещь, как материально-техническая подробность среди других подробностей, таких же. Главный мотив спектакля, поставленного Р. Р. Сусловичем, развивается в этом направлении. Герой этой пьесы, существо теплокровное, столкнулся с холодом, мертвечиной, ужасом общества и цивилизации, которым дела нет. до живой, естественной жизни с ее потребностями. Экономика, политика, бизнес двигают этим героем, не задумываясь, что он живая плоть, живая душа. Он для них оловянный солдатик, нет — солдат, до поры до времени годный в дело и потом, когда срок его истекает, выметенный вместе со всяким иным мусором.
621
Ключ «к живописному, зрительному содержанию спектакля дается этим противопоставлением: с одной стороны, простое, малое, живое, худо защищенное, с другой — мертвое, грозное, злобное. Художник А. Г. Тышлер, вслед режиссерскому замыслу, создал для спектакля ландшафт весь в контрастах, весь в борьбе сторон, из которых одна подавляюще сильная, другая слабая. Режиссер и художник воспользовались словами авторского текста о доме Вилли Ломена, дом когда-то весь тонул в зелени, а потом его кругом обставили другими домами, он потерялся в их тесноте и давке. Этому деловому замечанию о жилище героя режиссер и художник придали образное значение. На сцене коттедж Вилли Ломена, на подоконнике в верхнем этаже зрительно ярки цветы в кувшине, внизу, в кухне, — белый холодильник, откуда Вилли достает молоко. Скромное жилье, скромная личная собственность, маленький дом, где люди жили и состарились, где выросли их дети, где в нем живущие спят, отдыхают, едят. Надо всем этим висят и нависают стены и окна небоскребов, коммерческих зданий, не внушающих мысли о какой-либо их соразмеренности человеку, создающих впечатление, что люди этих домов — заключенные или же что за этими окнами не найти живых душ, хотя повсюду светятся огни — адские огни. Небоскребы поедают дом Билли Ломена, поедают его семью; мертвое, огромное, железобетонное, стеклянное осиливает маленькое живое органическое существо, именуемое человеком.
Едва жизнь, протекающая в официальных своих формах, вбирает героев Артура Миллера, как герои эти начинают терять самих себя, связь с собственной своей человеческой природой. С очень большой тонкостью это представлено в недавней пьесе Миллера — «Воспоминание о двух понедельниках» (1955), написанной шесть лет спустя после «Смерти коммивояжера». Артур Миллер, воспитанный на мертвом единообразии деловой и культурной жизни современного города, весьма чувствителен ко всякому проявлению индивидуального в ней. Из шести дней рабочей недели на капиталистическом предприятии каждый день равен другому, все дни того же цвета, исчезла пестрота календаря, живописность его, как это было в добуржуазных укладах жизни, с их обилием праздников, с их днями, по-особому отмеченными в хозяйственом быту деревни, города, общины, цеха.
622
семьи. Но понедельник и в буржуазной практике — день со своим лицом среди других, безличных. Понедельник — начало дней труда и их уныния, с понедельника герои Миллера снова подчиняются единообразию обыкновенных деловых операций, упаковок и надписываний адресов, с «понедельника ими полностью владеет этот ремонтный склад, в котором они состоят на службе. Накануне, в воскресенье, они принадлежали самим себе и как могли радовались жизни. В понедельник они еще люди — бывшие люди бывшего воскресенья, в понедельник они укладываются еще не столь бесшумно и легко в порядок действий, дум, чувств, предписанных им на предприятии, как это будет в остальные дни недели. Понедельник — день перехода и поэтому беспокойный — «тяжелый», как утверждается в поверье. В пьесе Артура Миллера двигаются эти люди, еще не совсем умятые буднями с остатками свободы, естественных чувств, которые в этом индустриальном заведении кажутся прихотями и фантазиями. Сквозь неживое — тупую работу на хозяина — пробивается живое, сквозь неорганическую материю склада с автомобильными деталями проглядывает порою душа человеческая в своей непредвзятости, в своем неизбежном соответствии с другой материей, живой, органической. На складе грязно, окна мутные, немытые. Молодой Кеннет, любитель стихов — есть такой среди работников на складе,—взлезает на стол и протирает стекла. «В окно врывается желтый свет лета и постепенно заливает всю комнату». Ощущение, знание, что есть еще другой мир, кроме бизнеса и служения ему, даны в этом эпизоде пьесы. Впрочем, Артур Миллер не позволяет своим героям долго вдаваться в иллюзии. Скоро узнается, что же находилось по другую сторону улицы, лицом к непротертому окну, — отныне в это окно без помехи глядятся окна сомнительного заведения, с девицами его, которые выставлены напоказ. Бизнесу открыли глаза, и он увидел окно в окно другой бизнес— братский бизнес публичного дома.
Пьеса «Смерть коммивояжера» тоже занята промыванием стекол, и с некоторых пор обычный мир Вилли Ломена предстает для Вилли не столь обычным, как это Вилли полагал о нем. Испортилась гармония между Вилли Ломеном и его официальным окружением, и он впервые усомнился в том, что привык считать непрелож-
623
ным. Годы, нездоровье впервые просветили героя этой пьесы, заставили его оглянуться на себя и на других, почуять свою отделенность от порядка вещей, с которым недавно еще он был заодно мыслями и ощущениями.
Ю. В. Толубеев играет роль Вилли Ломена с обычным своим умением передавать на сцене плотского человека, со всеми качествами его плотской природы, а на этот раз и со всеми ее страданиями. Он появляется у калитки своего дома с двумя чемоданами, в которых, по тексту, должны находиться образцы фирмы Вагнера. Вилли Ломену трудно с этими чемоданами, он то ставит их наземь, ставит неловко, боком, то опять несет; он задыхается, мучится, вытирает пот со лба и потом присаживается, чтобы как-то привести себя в порядок. Глядя, как играет Толубеев вступительную сцену, думаешь, — вот перед нами они, генеральные законы искусства. Конечно, актер вынес на сцену пустые чемоданы, с ними в руках мог бы шагать и ребенок. Искусство требует, чтобы одно из условий действительности устранялось. В данном случае устраняется вес чемоданов. Тогда все остальные условия берут на себя задачу заменить устраненное, сделать незаметным его отсутствие. В чемоданах нет тяжелых предметов, и поэтому их вес должен всячески сказываться в движениях, в жестах носильщика, — вес как бы перемещается, он отсутствует в вещах, он должен присутствовать в обращении актера с этими вещами. Будь все условия действительности налицо, исчезло бы искусство. Актеру как точка отправления его искусства полезен чемодан и совсем не нужен вес этого чемодана. Если наполнить чемоданы подлинными образцами фирмы Вагнер или же просто булыжниками, то все разовьется само собою — булыжники дадут мускульное усилие, оно даст или не даст, глядя по физическим данным актера, усталость и т. д. и т. п. Возникнет натуральнейшее сходство, и не дано будет места игре, а вместе с нею художественному познанию. Возникнет сама «природа», и не станет задач искусства, не станет «подражания природе», а через подражание — познания, умения осознанно, на внутренних путях и внутренними средствами воспроизводить явления внешнего для нас мира. Оставьте чемоданам их натуральный вес, и вы побудите этим актера отнестись к ним тоже натуральным образом; он, подымая их, выкажет свою реальную силу или же свою реальную физическую не-
624
достаточность, тогда как дело идет не об актере, а о том герое пьесы, которого актер изображает. Актеру нужна свобода от собственной личности, актеру нужна свобода внутренних и внешних действий, .позволяющая ему осваивать чужую душу, чужие положения, чужие состояния. Актер уходит от собственных своих реальных зависимостей, от собственных связей с вещами, чтобы тем лучше сыграть чужие зависимости и чужие связи. На сцене не действуют, не работают, не делают фактических усилий, но изображают действие, работу или усилие.
За счет устраненного фактического усилия сцена предлагает нам характеристику усилия, окрашенного свойствами персонажа, героя той или этой минуты.
Толубеев, конечно, с первых же минут играет не себя, но Вилли Ломена и все более вживается в него. На сцене человек, быстро устающий и очень досадующий на малые свои силы, на упадок их. Он гневлив, он легко возбуждается, ему бы пристало жаловаться, если бы не самоуверенность; чем жаловаться, он предпочитает обвинять тех, кто попадется под руку, например, старую свою жену. Роль начинается с физического состояния, которое претворяется в состояние некоего лица, входит в сочетание с его устойчивыми качествами, становится характером.
Вскоре узнается вся тягость положения Вилли Ломена — он вернулся из своей коммивояжерской поездки без каких-либо успехов, давно уж он работает почти впустую, так как деловая энергия изменила ему. Решающий пункт сюжета: свидание Вилли Ломена с патроном, Говардом Вагнером (играет Говарда Г. И. Соловьев). В этой сцене хорошо демонстрируется великая разность интересов. Говард Вагнер увлечен слушанием магнитофона. Но это для него и маскировка, способ защиты от Вилли Ломена и его просьб.
Толубеев — Вилли пришел сюда по делу, в котором для него содержатся жизнь и смерть. Соловьев — Говард старается лишить это чужое дело всякого значения. Речь в этой сцене срежиссирована как бы двумя шрифтами. Соловьев — Говард о своем магнитофоне говорит крупным набором и петитом о том, что относится к Вилли Ломену. Вся эта сцена — обдуманно проведенный диалог хозяина с работником, классовая борьба в ее повседневном виде, в ее, если угодно, фонетическом выраже-
625
нии. Хозяин преуменьшает — говорком, манерой, интонацией — вещи, для работника его первостепенно важные. Вилли пришел просить, чтобы ему дали постоянные занятия в Нью-Йорке, ему больше не по силам ездить. Говард отказывает ему вообще — и в разъездной работе, и в работе здесь, на месте. Интонация у Соловьева — Говарда нарочно бесцветная, беглая, слова испаряются раньше, чем они были сказаны, он как будто бы не позволяет зацепиться за них, делает невозможными опор, протест, опровержение. Чем неуловимее звучат отказы Говарда Вагнера, тем мрачнее и отчаяннее состояние Вилли, просителя перед ним. Мы видим, мы слышим, как Вилли вначале пробует говорить и действовать в лад хозяину. Толубеев — Вилли весь сжимается, маленьким голосом поддакивает Говарду, терпеливо слушает его болтовню по поводу магнитофона. Требования свои к Говарду он все снижает и снижает, и все-таки тот с ужасающей вялостью, ибо это дело начисто решенное, повторяет свой отказ. Тогда-то Толубеев — Вилли и разражается гневом — страшным гневом, безоглядочным. Режиссерская и актерская работа в этой сцене заслуживает изучения. Перед нами театрально-обдуманный диалог, музыкальное согласование речи одного лица с речью другого, состязание голосов, то мнимо совпадающих, то резко расходящихся, причем истина отношений это и есть распад, разрыв. Звучат два социальных голоса, между которыми мнимый мир и действительная война.
Вилли свои злые слова против хозяина нечаянно наговорил на магнитофон, и в магнитофоне они потом повторяются, устрашая Вилли, к тому времени пришедшего в себя. Когда-то Юлиус Баб[365], известный критик и теоретик театра, написал опыт о месте телефонных разговоров в современной драме. Теперь наступил черед магнитофона — новая техника, усвоенная бытом, по-особому пополняет средства художественной выразительности. Магнитофон воспроизводит речь, когда прошло время и отпали условия, при которых речь была сказана. Это дает поводы для пародии—в данном случае мрачной, трагической. Вилли Ломен слышит в магнитофоне свою недавнюю тираду, взвинченную, негодующую, но тем
626
временем он уже принудил себя справиться с этими своими иллюзиями, ясным стало собственное его положение, насколько он беззащитен перед лицом хозяина. Магнитофон дразнит и передразнивает Вилли Ломена, это злоба механизма против живой горячей жизни. Вилли Ломен, как работник, как агент фирмы, был целиком вставлен в некую систему до конца механизованных отношений. Он сделал попытку вырваться из этой системы, дать выход своему человеческому чувству, но когда мятежные тирады Вилли Ломена повторяются через магнитофон, когда слова снова налицо, а сам мятеж кончился, то они звучат пусто и бессмысленно. Получается так, что Вилли Ломен на минуту выскочил из отношений механизованного мира, а магнитофон вернул его к ним. Мертвая речь магнитофона содержит в себе более типическую истину, чем живая речь живого человека. Магнитофон убивает живое время, которое течет и течет, без возврата, без остановки, бесконечно расширяя арену настоящего. В магнитофоне вновь появляется уже пройденное время, вынутое из своего живого течения, время, в котором нет души, в котором нет человеческой окраски. Вставленный в ход драмы магнитофон из самой драмы как таковой изымает ее внутреннее движение, уничтожает чувство жизни, непрерывно творящейся, жизни, обладающей путями свободы и непредвиденности, без которой драма в качестве драмы становится невозможной.
Итак, Вилли Ломена вытолкнули из мира бизнеса, хозяин ему велел отдыхать; существование Вилли Ломена внутри бизнеса кончилось, но с тем большей яростью он стремится демонстрировать, что существует вообще, за границами, которые указывает бизнес. Именно эту ярость существования незабываемо передает Толубеев. Немало ролей прекрасно переиграл этот актер, и все-таки, надо думать, никогда и нигде не случалось ему развернуться с таким вдохновением, никогда не было такого масштаба в его игре, как на этот раз. Толубеев в этой роли ведет защиту жизни как таковой — пьеса называется «Смерть коммивояжера», но Толубеев изображает в ней горячую, не желающую сдаваться жизнь. Защита жизни — в этом смысл спектакля, в этом миссия, которую взял на себя главный актер, в этом тенденция, приданная спектаклю режиссурой. На сцене перед нами герой с красноватым оттенком лица, с пло-
627
хим дыханием, несколько отяжелевший, с какими-то подробностями сценического облика, наводящими на мысль о нарушенном обмене — например, героя этого, по сюжету пьесы, ловят на его физических несовершенствах, наказывают за физический упадок, а мы, зрители, ему сочувствуем, мы за него стоим, когда он хочет все превозмочь и доказать свои права на людскую любовь, на прежнее людское внимание. Толубеев в роли Вилли Ломена — это бунт жизненности, сил ее, входящих в человека, их самооправдание. Толубеев как бы разносит себя, свой голос, свое моральное вдохновение по всей большой двухъярусной сцене, населяет собою этот угол и тот, отепляет собой и озвучивает собой площадки и верхнего и нижнего этажей, удвояется, утрояется, как бы растет и множится в своей жизненной силе для восприятия зрителей. В недавно вышедшей в ГДР книге известный театральный критик Герберт Иеринг пишет об игре И. М. Москвина, что у этого актера была сила первоначального толчка (Stosskraft), он играл из глубины своего напряженного тела, он был весь заряжен энергией и умел овладевать пространством[366]. Так сказано по поводу «Вишневого сада», а еще вернее было бы сказать этими словами о Москвине в «Унтиловске» или в «Горячем сердце». Характеристика Москвина вспоминается, когда хочешь дать себе отчет, в чем манера игры Толубеева. И у Толубеева— поток жизненной энергии чрезвычайный, несоразмерный с ограниченностью человеческого тела, стремящийся заполнить все пространство вокруг. Толубеев — Вилли борется с Говардом Вагнером, своим хозяином, с логикой и моралью бизнеса. С точки зрения бизнеса он забракован; мы можем сами убедиться, какой вздор приговор бизнеса, как мало определяют человека его способности к бизнесу, ибо Вилли Ломен более чем медленно уступает каждую пядь, занятую им в жизни. Он всего-то-навсего больше не в состоянии шмыгать с образцами по дорогам Америки, и поэтому его хотят упразднить. Связь его с деловыми интересами была и есть минимальная. Коммивояжер, собственно, человек без дела, ибо дело его лишено содержания. Нигде в пьесе не сказано, что производила фирма Вагнера, с образцами чего разъезжал всю
628
жизнь Вилли Ломен. Все это столь безразлично и пусто с точки зрения самого же бизнеса, что не стоит упоминания. Бизнес коммивояжера самый пустой из пустых — к области так и не изжитых иллюзий Вилли относится его убеждение, будто для этой профессии нужны какие-то серьезные и весомые человеческие качества. Подсовывать покупателю образцы с тем или иным успехом может кто угодно, — бедный Вилли напрасно воображал, что был лицом, был деятелем через свою профессию. Оправдание человека перед лицом капиталистической системы держится на самых ничтожных и мнимых основаниях. Вилли Ломен как человек, как индивидуальность нисколько не покрывался своей профессией коммивояжера, в эту профессию входила жалкая, нищенская частица Вилли Ломен а. А между тем как работник, как общественная полезность весь Вилли Ломен сводится к своему коммивояжерскому промыслу, к той физической выносливости, которая требуется, чтобы волочить за собой чемоданы. Самой тоненькой, тщедушной ниточкой Вилли Ломен привязан к капиталистической практике. Всю жизнь он, строго говоря, провел лишним; человек, весь как он есть, остается, за самым малым вычетом, позади полезности, как ее понимают в капиталистическом мире. Капитализм равнодушен к человеческой личности в ее настоящем жизненном объеме, даже когда человек работает; тем равнодушнее к ней капитализм, если отношения с нею по работе навсегда разрываются. После отставки своей Вилли, живая плоть и живая душа, окончательно переходит на положение ненужности. Толубеев — Вилли свидетельствует перед нами жестокость и нелепость этого положения: Вилли, отвергнутый фирмой Вашера, нужен людям, нужен близким, нужен самому себе, более чем нужен нам, зрителям театра. Толубеев — Вилли — это человек как абсолютная полезность против той относительной, условной полезности, которая признается за ним в деловом мире. Когда Вилли пьет на сцене молоко, когда слышен его громкий говор, когда угадывается работа его легких, то хочется сказать, что на сцене самоутверждается стихия плоти. И это было бы, однако, высказывание бедное и неверное. Толубеев играет своих героев, ведя их дальше, — от телесной жизни к душевной и духовной, от физической к моральной. Древние народы в мифологии своей считали, что кровь в человеке — посредник между телом его
629
и душой, что в ней соединяются обе стороны: по подсказкам плоти кровь 'выговаривает слова души. В метаниях по сцене Толубеева — Вилли нам слышна лихорадочная музыка крови, в которой протест уязвленной плоти становится .протестом человеческой души, тоже уязвленной.
Толубеев, которого мы знаем как превосходного характерного актера, играет на этот раз с характерностью весьма приглушенной, как это указано ему и пьесой, и ролью. Вилли Ломен представлен весьма обобщенно: он — американец и не слишком, он — коммивояжер и тоже не слишком, он — маленький домохозяин, и опять-таки эта его характеристика тоже сделана без нажима. Число жертв современного капитализма множится и множится, «те же удары приходятся на все более компактную массу, в которой оттенки теряют свое значение». Толубеев не преувеличивает акцента на американском происхождении своего героя. Современная Америка — это капитализм в наиболее общем виде, когда индивидуальные черты ослаблены. В 20-х годах немецкий режиссер Мурнау поставил фильм «Последний человек» с Янингсом в главной роли. Пьеса Артура Миллера — некоторое подобие старому фильму. Но обобщенность темы у американского автора усилена. Перенос темы в Америку и в ее условия достаточен, чтобы в теме обнажилось ее существо. Старик, разжалованный своими хозяевами, в немецком фильме — швейцар богатого отеля. Судьба немецкого героя может показаться чем-то неотделимым от швейцаров как таковых. В фильме Мурнау очень важна ливрея, которую с такой охотой и с таким величием носит Янингс. Старик не хочет и не может с ней расстаться. Страсть к ливрее, к мундиру — это старонемецкая страсть, воспитанная в немцах веками. Герой немецкого фильма скорбит, почему его отрешили от униформы. В американской пьесе скорбь и страдание по прямому и существенному поводу, здесь сразу же добрались до собственной кожи героя, минуя все иные оболочки. В американской пьесе, как это свойственно Америке, едва ли важно, какой именно профессией занимается герой: Америка профессию от профессии различает только по доходу. Герой Артура Миллера — тот, на кого падают удары современного капитализма, он представлен миллионами, и поэтому шум ударов разносится далеко.
630
Характерные маски, которые мог бы надеть в этом спектакле Толубеев—Билли, все же не окончательно отвергнуты им, но сохраняются в подчиненном значении, и в этом богатство толубеевской игры. На сцене — образ Вилли Ломена с тем содержанием, которое вложил в него Толубеев. Но в окрестностях этого образа, как бы толкаясь о наружные стенки его и стараясь проникнуть вовнутрь, постоянно появляются в намеках и какие-то другие, более простые и клонящие к комизму сценические характеристики Вилли Ломена. Время от времени мы ловим в герое, каким изображает его Толубеев, черты коммивояжера по преимуществу, человека представительства и рекламы. В Вилли Ломене иногда усиливается местная характерность, она в грубоватости и развязности жестов, в несколько вульгарном динамизме, приданном этому американцу.
Аналогию этим театральным приемам можно найти в явлениях словесного стиля, в некоторых особенностях стилистики. Ведь слово, которым пользуется писатель, попало на его страницы по избранию, после долгих раздумий — у этого слова были слова-соперники, и оно их вытеснило. Сколько-нибудь опытный глаз угадывает за литературным словом все остальные слова, перед которыми этому одному было оказано предпочтение. Отринутые слова какими-то своими бликами и тенями присутствуют в строке, окружая слово прямо в нее вошедшее, посылают этому слову дополнительные значения. Слово, за которым оказалась победа, отчасти сохраняет вокруг себя среду других слов-претендентов, не порывает с ними начисто. Это же относится к любому элементу художественной системы, к изображению человека, в частности. Толубеев располагал вариациями человеческого образа, какими-то более узкими, комическими или полукомическими характеристиками. Центрального положения они не заняли, но на правах вариаций они отсвечивают у Толубеева в завершенном образе Вилли Ломена, человека как такового, в этих своих качествах человека вообще не способного целиком войти в быт и в культуру бизнеса. Обобщенность стиля позволяет Толубееву возвысить Вилли Ломена до значения фигуры трагической; дополнения, поступающие со стороны бытовых, характерных вариаций образа, придают трагическому герою простоту, приближают его к обыденности. Замечательный художественный такт Толубеева сказывается в
631
том, как он подвигается среди всех этих побочных, дополнительных возможностей образа, соприкасаясь с ними и никогда не попадая под власть какой-либо одной из них; он не однажды близится к комизмам, к комическим положениям. И все же своеобразнейший трагизм общего стиля при этом не разрушается.
Многие эпизоды пьесы Артура Миллера — путешествия в страну воспоминаний. На сцене появляются дети Вилли, какими они были когда-то, жена, какой она была когда-то, на сцену также выходит по временам Бен, умерший брат его. Вилли пускается в воспоминания от неуверенности в себе, разыскивая причину, почему и откуда взялся сегодняшний его кризис. Эпизоды воспоминаний сценически обособлены от эпизодов, происходящих в настоящем. С персонажами прошлого Вилли общается, проходя сквозь стены, — не считаясь с указаниями сценического плана, по которому на таком-то месте непроницаемая стена. Когда действие совершается в настоящем, то входят в дом Вилли и выходят только через точно указанную дверь. Сцены прошлого хорошо продуманы постановщиком. В печати были сделаны упреки, почему сыновей, Бифа и Хеппи, в настоящем играют В. И. Честноков и В. А. Медведев, и их же в прошлом, подростками, играют Ю. И. Дубравин и А. П. Олеванов, тогда как старшие Ломены и здесь и там, и в воспоминаниях и сейчас представлены Ю. В. Толубеевым и Н. В. Мамаевой, без замены их. Упреки эти безосновательны. Биф и Хеппи в прошлом — другие дюди, они не были еще тогда ясны самим себе, не были ещё собою, логика развития здесь велит за каждым актером поставить другого, его юного двойника. Иное дело родители, Вилли и Линда — в воспоминаниях Вилли оба они, конечно, моложе, нежели теперь, но каждый из них тождествен самому себе, оба в те времена как личности вполне сложились, их сегодняшний день — простое продолжение вчерашнего.
Сцены воспоминаний — замечательное достижение Толубеева — Вилли. Без предупреждений он сдвигается по времени, изображает Вилли, каким тот был лет десять-пятнадцать тому назад. В сценах воспоминаний сыновей играют совсем новые актеры, Линду воспоминаний Мамаева играет в другом костюме и в другом гриме. Совсем по-иному ведется в воспоминаниях роль Толубева. Он сбрасывает с плеч десятилетия, прибегая к одним
632
лишь внутренним средствам игры. Он уже староват сегодня — растрепанные волосы у него поредели, в его наружности наблюдаются беспорядок и разбросанность, видны неудачи, сквозь которые он .прошел. Из этих данных сегодняшнего дня мгновенно воссоздается былой Вилли Ломен: волосы приглаживаются, весь облик становится твердым, крепким, лицо бесконечно светлеет — озабоченность, неуверенность смыты с него, на нем написаны сознание собственного счастья и благоволение к ближним. Толубееву удается передать движение времени в человеке. Само существо жизни в этих эпизодах обнажается, а этому существу, ограждению его от ударов и от обид и посвящен спектакль.
Воспоминания Вилли Ломена в спектакле обладают особой энергией. Фигуры юных Бифа и Хеепи предстают интенсивно освещенными. В самом Вилли в минуты воспоминаний все дано в усилениях. Вилли вспоминает не ради того, чтобы вспомнить. Он мобилизует самого себя, хочет восстановить свою наибольшую силу, какой она была когда-то. Воспоминания — акт борьбы с настоящим. Поэтому и зрительно они рельефнее, чем настоящее, они стремятся зрительно подавить его, свести на нет.
Особо поставлена в воспоминаниях фигура Бена Ломена, умершего брата Вилли, — Г. М. Мичурин. Что он приходит издалека, из царства смерти, что он призрак — это дано и некоторой его мрачностью и умышленной старомодностью его одежд; в способе одеваться он отличается от прочих действующих лиц, как XIX век от XX. Облик Бена таков, что он может вступать в общение с этими ныне живущими людьми и все-таки он явственно отделен от них. Бен пришел из исторической эпохи, когда в Америке царила удача, когда создавались состояния, когда каждый день появлялись новые богачи. В его образе сквозит, что это времена почти баснословные. Бен — та Америка, которая стала призраком.
Восстание Вилли Ломена еще не означает, что Вилли Ломен как должно понял свой мир и свое в нем положение. То и дело он опять хватается за свои американские иллюзии, уповая на счастливый случай, на чью-то щедрость, на успех собственных сыновей. Толубеев очень хорошо передает приливы и отливы надежд Вилли Ломена, восторги его по поводу весьма сомнительных проектов, сулящих будто бы блестящие дела. Постанов-
633
щик умело применяет иронический язык в отношении этих высоких взлетов Вилли Ломена. Жена чинит подкладку его пиджака, обыденного темно-серого пиджака, в котором он ездит по делам и представительствует. Когда Вилли Ломен предается мечтаниям о лучшем будущем, жена подходит к нему со спины и набрасывает на него этот пиджак — заключает Вилли в него, возвращает его к форме, предписанной ему жизнью в Америке. Скучный пиджак Вилли Ломена как бы халат больного или арестованного или же ему придается значение смирительной рубашки.
Самоубийство Вилли Ломена можно понимать как последнюю надежду, с которой еще носился этот человек, можно в ней видеть и акт отчаяния. Судьба полна сарказмов, и, пожалуй, в самоубийстве совместились оба смысла — оно и последний -бизнес, оно и последний крах.
Вилли Ломен больше не способен зарабатывать жизнью, он зарабатывает собственной смертью — 20 000 долларов страховой премии в пользу своих наследников. В довершение всего для зрителей ясно, что ни Бифа, ни Хеппи эти доллары не спасут.
Неуверенность мысли свойственна как герою пьесы, так и автору ее, Артуру Миллеру. Он обращен к важнейшим вопросам нашего времени и учится размышлять о них социально. Тем не менее он далеко еще не тверд в социальной логике. В ранней своей пьесе «Все мои сыновья» Артур Миллер проявляет склонность отношения современной жизни сводить к абстрактной морали, он впадает в утопический анализ переживаний совести у одного американского предпринимателя, ради долларов погубившего на фронте войны множество молодых жизней, и надеется, что через переживания эти в мир войдет социальная правда. Артур Миллер в этой пьесе находится в зависимости от Ибсена и Чехова. Этический анализ идет от Ибсена, причем Артур Миллер мыслит отсталым образом сравнительно с этим классическим писателем. Понимание общественной жизни в категориях морали у Ибсена есть достояние людей, остановившихся на некоторой стадии исторического развития, — так мыслят в Росмерсхольме и так не мыслит сам Ибсен.
Иное в пьесе Артура Миллера — морализирование происходит здесь с позиций автора. От Чехова у Артура
634
Миллера лирическая настроенность действующих лиц. Сохраняя вокруг людей бизнеса чеховскую дымку, Артур Миллер неверен их грубому стилю, он подменяет их, он им сообщает душевную утонченность, для них недоступную. И Чехов и Ибсен присутствуют также в «Смерти коммивояжера».
Постановщик спектакля Р. Р. Суслович последовательно вытравил все чеховское в пьесе и поступил правильно — он вернул действительность бизнеса к самой себе, избавив Чехова от ответственности за нее. Труднее было с морализированием, претендующим на последование Ибсену. Оно глубоко въелось в сюжет, стиль пьесы исправляется стилем постановки, сюжет такому исправлению прямо не поддается. У Артура Миллера социальная фабула коммивояжера связана с этической фабулой старшего сына и зависит от нее. Старший Биф уже давно определился в качестве неудачника. В пьесе идет расследование, длительное, медленное, наподобие тому, как это бывает у Ибсена, откуда неудачливость Бифа, тяжкая и закоренелая. Ответ тот, что всему виновник отец. Когда-то юный Биф нечаянно навестил отца в Бостоне, в гостинице, и застал у него женщину. Отсюда его разочарование в отце, а затем и во всех вещах на свете. Дурная нравственность отца выставлена причиной, почему у Бифа нет вкуса к буржуазной карьере, почему он не делает усилий в мире бизнеса и опускается все ниже. Что бизнес сам по себе может в молодой душе вызвать отвращение, такая гипотеза устраняется.
Артур Миллер пишет пьесу против капитализма, но в этой пьесе налицо еще другая пьеса или же по меньшей мере налицо запасной ход. Зло приходит от капитализма, говорится в пьесе, а потом добавлено: быть может, зло приходит е совсем иной стороны — из области личных отношений между людьми, в частности — внутрисемейных: несчастный Биф ненавидит отца и думает, что через отца сводит счеты с мировым злом в его первоисточнике. Ориентация Бифа довольно заметно сбивает движение пьесы. Честнокову нелегко с Бифом, которого нельзя же до конца играть, как его задумал автор.
Пьеса Артура Миллера «Вид с моста» тоже совмещает в себе два сюжета и две мысли, взаимно исключающие друг друга. Опекун без ответа любит юную свою
635
воспитанницу. Любит хищно, преступно, готовый на все. В этой пьесе присутствует и другая тема, социального характера — тема иммигрантов и американского законодательства, зверского в отношении этих людей. Социальная тема в этой пьесе сама, без автора, подчиняет себе этическую — опираясь на постыдные, зверские правила об иммигрантах, герой дает выход темной разрушительной своей страсти. В пьесе о коммивояжере не так — между элементами сюжета здесь отсутствуют те необходимые объективные связи, подхватив которые мы могли бы сами, не спрашиваясь у автора, выровнять его пьесу.
Артур Миллер как художник платится за это несведение идейных концов с идейными концами. У него нет полной художественной самостоятельности, в пьесах его слышны чужие голоса, если это не Чехов, не Ибсен, то, например, О'Нил, мрачный стиль которого налицо и в «Салемской колдунье» и в пьесе «Вид с моста». Нужна идейная цельность, нужна через нее власть писателя над действительностью, иначе писатель не принадлежит самому себе и не избавляется от навыков и приемов ученичества.
Постановщик Суслович сделал все возможное, чтобы дать спектаклю стройность. Суслович — режиссер с сильной рукой, энергичный в отношении того, что в пьесе существенно и необходимо, смелый в устранении авторских ошибок.
Перед нами режиссер, у которого есть характер. В спектакле взят хороший разбег, и, вероятно, нужно освобождать темп и там, где автор чересчур его задерживает, как в ресторанных эпизодах, например. Невзирая на отдельные заминки, виной которым текст самой пьесы, в спектакле постоянно ощущалось наличие бодрого военачальника, который привел его в движение. Бок о бок с постановщиком действует Тышлер, смелый театральный художник. В сцене ресторана по стенам размещены гротескные эротические изображения, женщины в виде клиньев. Мебель в ресторане асимметрическая, с некоторой кривизной, стулья с лапками, которые хватают садящегося, стулья-хищники. Мы привыкли к тому, что в искусстве человеческий образ может быть не портретом, спокойно выведенным, черта за чертой, но очень острой оценочной характеристикой, прямо нам преподнесенной.
636
Тышлер понимает эти права искусства всегда распространительно. У него предметы обихода, стены комнат, мебель представлены не сами по себе, но сквозь резкую характеристику их. Быт Америки, враждебный человеку, несообразный органическому его существу, представлен этими кривыми стульями, этим неуютом комнат высотой в три человеческих роста, этими иероглифами, в которых нужно подразумевать изображения красавиц. Если весь спектакль по замыслу своему защита жизни, то материальная бытовая среда, в которой пребывают люди, должна быть представлена здесь в ее отрицательном виде, должна источать опасный для жизни яд.
Суслович свободно распоряжается сценическим временем. Для театра канонично совпадение времени на сцене и времени в зрительном зале. Что мы, зрители, сейчас видим на сцене, то, как правило, и по самой пьесе происходит сейчас, не в прошлом и не в будущем. Суслович делает интересные опыты освобождения от этих правил. В заключительном монологе Линда говорит, что последний взнос за дом внесен, а жить в доме некому. Ha сцене все пустеет, на сцене и на самом деле нежилой дом. В эту минуту все Ломены еще на месте, дом населен. Нежилым он только будет. На сцене — образ будущего.
И нашим зрительским глазом, из нашего зрительского настоящего мы уже созерцаем на сцене будущее, физическим глазом мы предвосхищаем картину, которую умом вообразить можно, а увидеть воочию еще никак нельзя.
Оголенный дом Вилли Ломена говорит о том, что жертва его была напрасна — никого не осчастливят двадцать тысяч, выплаченные после его смерти.
В пьесе конец таков: Вилли Ломен в последний раз выезжает из дому, за сценой слышно, что происходит автомобильная катастрофа, и затем, почти без пауз, приступают к оплакиванию Вилли Ломена. В постановке очень подчеркивается быстрота этого перехода. Жизнь Вилли Ломена была представлена перед нами со всей наглядностью, с физической навязчивостью, а смерть его разыграна вдали от нас, как чистейшая театральная условность.
Мы, зрители, были в течение спектакля очень близко придвинуты к людям и к событиям на сцене: в решаю-
637
щем пункте сюжета между нами и главным лицом вырастает дистанция Спектакль преподносится нам как материал для нашего вчувствования. Внезапно и в важнейшую минуту возникшая дистанция — приглашение, посланное нам автором и постановщиком, не довольствоваться одним чувствованием, каким бы интенсивным оно ни было, но и поразмыслить над жизнью и смертью Вилли Ломена, массового человека из современного буржуазного мира.
1959
Н. Я. БЕРКОВСКИЙ
ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР
Редактор Н. Филина. Художественный редактор Г. Александров. Художники А. Семенов и А. Коноплев. Технический редактор Г. Давидок. Корректоры В. Акулинина и А. Паранюшкина.
Сдано в набор 19/VI 1968 г. Подписано к печати 14/11 1969 г. А03978.
Формат бумаги 84 ![]() 1081/32.
Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 33,6.
1081/32.
Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 33,6.
Уч.-изд. л. 35,364. Тираж 10 000 экз. Изд. № 4667. Издательство «Искусство».
Москва, К-51, Цветной бульвар, 25. Заказ № 204. Московская типография № 20 Главполнграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Москва, 1-й Рижский пер., 2. Цена 2 р. 40 к.
639