
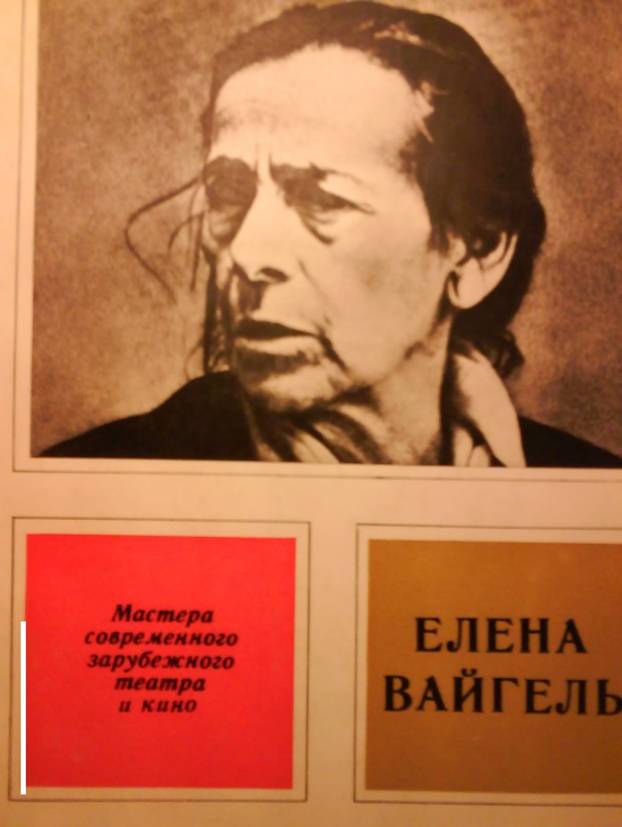
Е. ВАРГАФТИК
ЕЛЕНА ВАЙГЕЛЬ
«ИСКУССТВО»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1976
Художник серии Я. ЯШОК
© «Искусство», 1976 г.
ЩЕДРОСТЬ НАЧАЛА
Она всегда отказывалась давать интервью. Даже в тот день, когда республика торжественно отмечала семидесятилетие своей великой актрисы, репортерам, осаждавшим ее, почти ничего не удалось услышать. «Ну что я могу вам сказать? Я начала играть в восемнадцать лет. Мне очень везло. Я с самого начала играла в больших театрах. Потом я познакомилась с Брехтом. Вот, собственно, и все…»
И снова — речи, цветы, телеграммы, письма. Одно из поздравлений подписано нечетким старческим почерком. «Милая Хелли, когда я тебя увидела впервые, ты была юным существом пятнадцати или шестнадцати лет, ученицей школы, где я дебютировала тогда в роли педагога». Школьная учительница сохранила память о необыкновенной девочке — Хелли Вайгель, девочке, которая твердо решила стать актрисой и стала ею, проазив всех окружающих сперва — волей, страстной
3[1]
настойчивостью и энергией, а очень скоро — талантом. «Много лет спустя, когда тебе с мужем и двумя детьми пришлось бежать из Германии и вы нашли приют у Карин Михаэлис на острове Туро, мы подружились по-настоящему. Ты никогда не теряла мужества, никогда не переставала работать над собой. Я восхищалась тобою и тогда, и после, когда эмиграция осталась позади и твой талант смог полностью развернуться в нашей ГДР. Я никогда не переставала учиться у тебя. Недавно ты дала мне еще один урок — возобновление спектакля «Мать». Не знаю, сколько раз я уже видела тебя в этой роли, считала свою игру совершенной и не представляла себе, что можно в ней что-нибудь изменить, тем более — улучшить. Но возобновленный спектакль показал мне, что всякое произведение может засветиться по-новому, открыть новые оттенки и глубины — нужно только серьезно,, интенсивно и вдумчиво потрудиться над ним. Этот спектакль придал мне храбрости на старости лет (мне ведь за восемьдесят), и я еще раз переработала свою книгу, которая вот-вот должна выйти».
Школьная учительница давно стала известной писательницей, автором многих книг для детей, лауреатом Национальной премии. Свое письмо Августа Лазар[2] кончила словами: «Елена Вайгель, мой великий образец, спасибо тебе».
Елена Вайгель родилась в Вене 12 мая 1900 года. Семья жила подобно другим небогатым еврейским семьям, экономно и рассудительно; отец был прокуристом, доверенным лицом одной текстильной фирмы; мать держала лавчонку, где продавались игрушки. Решено было дать Хелли «приличное» образование, поэтому после народной школы ее отдали в лицей, где учились многие дочери чиновников. Однажды директор лицея запретил девочке приносить в школу «Книгу песен» Генри-
4
ха Гейне. Хелли, давно тяготившаяся ханжеской обстановкой лицея, использовала этот случай как повод чтобы выпросить у родителей разрешение перейти в другое учебное заведение. Она стала заниматься в гимназии — единственной в Вене, куда принимали девочек. Руководила гимназией доктор Гениа Шварцвальд, известный педагог, которой хотелось не только дать своим питомицам отличное общее образование, но и воспитать в них энергию, предприимчивость, творческие задатки — все, что позволило бы им в труде и общественной жизни не уступать мужчинам.
Хелли уже выбрала себе путь — медицина. Учителя довольны: у девочки ловкие руки, цепкий, острый взгляд, быстрый ум; она добра, настойчива и не сентиментальна — Хелли станет хорошим врачом. Довольны и родители.
Внезапно все меняется. Вечер декламации — выступает актриса Лия Розен. Семнадцатилетняя гимназистка приходит к госпоже Розен после этого вечера. «Я слушала вас, — говорит она, — и поняла, что больше всего хочу в театр, хочу играть на сцене. Пожалуйста, послушайте, как я читаю! Лия Розен слушает балладу Гердера и отрывок из шиллеровского «Вильгельма Телля», ей нравится, она согласна давать уроки Хелли, но только с разрешения родителей.
«Я хочу играть в театре!» — твердит Хелли дома. Родители категорически возражают, несколько месяцев проходит в бесконечных уговорах. Девочка, «заболевшая» театром, не теряет времени зря: ее прослушивают директор Венской актерской школы Арндт, руководитель «Бургтеатра» Альберт Хейне, одна из его видных актрис — Хедвиг Блейбтрой.
В то время такие прослушивания были широко распространены, проходили в домашней обстановке, напоминали прием у врача или консультацию юриста — и точно так же оплачивались. Поэтому Хелли приходится
5
время от времени заимствовать деньги из кассы материнской лавки.
Все, кому она читает, говорят о несомненной талантливости девочки, все готовы давать ей уроки — и всем необходимо согласие родителей. Вайгель вспоминает: «Я симулировала конвульсии, которые достались мне ценой огромного напряжения, вызвали ужас родителей и повергли в недоумение многих знакомых врачей; при этом я постаралась намекнуть, что причина болезни — тяжкие духовные страдания»[3].
Конвульсии не помогли, врачи рекомендовали перемену климата, родители не смягчились, оставаться дома было тяжело. Хелли решает покинуть гимназию, зарабатывать стенографией и жить самостоятельно.
Доктор Гениа Шварцвальд, директриса гимназии, хочет помочь своей воспитаннице — ей кажется, что она действительно талантлива. Правда, Хелли не назовешь красавицей, но у нее огромные глаза, низкий красивый голос, а главное — она одержима страстью к театру.
В декабре 1918 года Гениа Шварцвальд приглашает директора театра «Фольксбюне» Артура Рундта прослушать Хелли Вайгель.
Доктор Рундт подвижен, быстр и сметлив; за годы директорства
он привлек в «Фольксбюне» свою публику — рабочих и интеллигентов; совсем
недавно он сменил помещение на большее, расширил труппу, у него играют Лия
Розен, Агнес Штрауб, Фриц Кортнер, Макс Паленберг, Карл Этлингер. Кроме того, директор Рундт славится
безошибочным чутьем в распознавании талантов.
В этот вечер, 25 декабря, в доме Шварцвальд находилась Карин Михаэлис, датская писательница. Немного позже она рассказала в одной из берлинских газет об этой встрече.
6
Несколько человек сидят в уютной гостиной. Все они уже знают эту девочку с ее постоянным : «Я хочу играть на сцене». Каждый из них уже старался отговорить ее: выбрось это из головы, детка, для театра нужны и талант, и яркая внешность! Сейчас она поклялась: если господин Рундт скажет, что ей не стоит идти в театр, она навсегда забудет о сцене.
И вот приходит господин директор. Он настроен очень доброжелательно. Улыбается. Произносит небольшое вступительное слово: путь актера усыпан терниями. Но ведь вы еще не приняли решения? Может быть, ваши родители правы? Еще не поздно передумать, не так ли? Впрочем, давайте послушаем вас. Только встаньте вон там, у камина, чтобы я видел ваше лицо.
Ее лицо. Еще до того, как прозвучали первые слова, оно поражает слушателей, ее лицо. Губы напряглись, расширились и лучатся зрачки, нервная дрожь пробежала по лбу. Она начинает почти шепотом:
Твой меч, от крови красен он!
Эдвард, Эдвард!
Она читает балладу Гердера «Эдвард». Мать и сын, убивший отца; мать знает об убийстве, ибо сама хотела того, но долго выспрашивает у сына, чьей же кровью окрашен меч; сын отправляется далеко, за море, а мать — о, проклятие, адский огонь оставляет он ей, желавшей этого убийства. Семь строф, мрачных, напряженных; семь диалогов, и каждый из них — целая сцена.
Слушатели потрясены. Как разросся, захватил, затопил их этот голос, начавшийся с шепота. «Голос Сары Бернар подточило время, голос Элеоноры Дузе сломили страдания. Но в горле этой некрасивой неловкой девушки волшебство познания добра и зла, всхлипы и жалобы всех птиц, журчание всех ручьев, краски всех радуг, зсуки органа, смертные хрипы, крики рожающих женщин, восторги любви — в нем все это и не только это. Такой
7
голос превращает диких зверей в
ягнят, заставляет травы цвети, а камни — содрогаться…»[4]
Директор Рундт закрыл рукой глаза, как от яркого света. Где-то в середине баллады он делает знак: достаточно! Но Хелли не видит этого.
Она замолкает, комкая в руках носовой платок. «Я не стану вас отговаривать, неожиданно хриплым голосом говорит Рундт, — идите в театр. никакого обучения вам не нужно!» Днем позже он скажет: «Эта девушка — одна из величайших драматических гениев, когда-либо рождавшихся на свет!».
Свой взволнованный рассказ Карин Михаэлис так и назвала: «Рождение гения». Более чем полвека спустя мы читаем его как первую рецензию на первое выступление той, кого позже назвали одной из величайших актрис века.
«Никакого обучения вам не нужно», — но Хелли все же брала уроки. Занимался с ней Артур Хольц — режиссер «Бургтеатра», плохой актер, но хороший учитель. С января по март 1918 года Хелли обучалась у Холца сценической речи, тренировала дыхание, ставила голос. Все обучение длилось три месяца. Позже, вспоминая об этом, Вайгель говорила: «Может быть, я еретичка, но по-моему, наши студенты драматических школ учатся слишком уж долго. Сократить их учебу до двух-трех лет — от этого только выиграют и они, и театры!»[5]
Госпоже Шварцвальд и ее друзьям удалось воздействовать на родителей, которые наконец дали дочери долгожданное разрешение. Правда, отец отказал ей в денежной поддержке, но это уже не имело значения. Теперь она была навсегда связана с театром — причем с немецким, а не австрийским, потому что вскоре Вайгель переехала в Германию.
8
Елена Вайгель пришла на сцену в 1918 революционном году. Страна была измучена войной и голодом, на Востоке, в России, рождалось новое государство, немецкий пролетариат смотрел на него с надеждой — и сам начинал действовать[6]. Появились Советы, начались восстания рабочих и солдат, требовавших мира, хлеба, передачи власти народу. Карл Либкнехт провозгласил Германию Советской республикой. Против революционеров поднялась буржуазия и военщина: сперва — провокации, затем вступление войск в Берлин, истребление рабочих[7], убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Революция была разгромлена. В феврале 1919 года учредительное собрание объявило о создании Веймарской республики.
Искусство чутко реагировало на все события бурного и тяжелого времени. Особенно театр. давнее традиционное стремление немецких драматургов и деятелей сцены сделать театр нравственным учреждением продолжало жить. В начале XX века Гордон Крэг писал: если вы спросите, где театр более деятелен, я вам отвечу — в Германии. Германская деятельность совершается не только толчками, но и систематически, и эта особенность поставит германский театр через двадцать лет на первое место в Европе»[8]. Эта активность в соединении с традицией как бы повернула театр лицом к политике, к тому, что теперь не только затрагивало, но и определяло жизнь и судьбу страны. Обращение к политике, в свою очередь, сделало драматургию и театр необычайно важными явлениями в общественной жизни послевоенной Германии.
Драматург Фридрих Вольф в одной из своих статей непосредственно связывал повышение роли театра с перипетиями политической борьбы, говоря о театральном искусстве как заменителе этой борьбы, выводя его трагическую двойственную роль: «Немецкий театра — это одновременно место, где раздувают пламя политической
9
борьбы и … где дают ему выплеснуться; это и сирена тревоги, и предохранительный клапан, и место сбора по тревоге, и санаторий»[9]. [10] Такая двойственная общественная функция определила, по мысли Вольфа, необыкновенное многообразие, маневренность немецкой сцены 20-х годов, ее активизацию, насыщение политической тематикой: «…в этой Германии с 1918 по 1931 год у нас был политический театр и в том смысле, что он очень точно отражал политическое положение в данный момент: у нас был и театр бунтарей-нигилистов, театр реформистских ”просветителей“, театр спускающих на тормозах и фразеров… были многочисленные националистические и фашистские союзы, културбунды и были такие боевые пролетарские театры, как Юнге Фольксбюне, театр Пискатора…»[11]
Ф. Вольф подметил главное — новое качество театра послевоенной Германии, его участие в политической борьбе, возникновение ряда новых коллективов открытой революционной ориентации, где каждый актер — боец, каждое слово — призыв.
Елена Вайгель еще встретится с этим искусством. Пока что она впервые выходит на сцену.
На сезоны 1918/19 и 1919/20 годов начинающая актриса
получила ангажемент в «Новый театр» Франкфурта-на-Майне, возникший совсем
недавно — в 1911 году. Им руководил один из его основателей, Артур Хельмер. До
этого Вайгель приглашали в труппу города Боденбаха, обещая только небольшие,
«выходные» роли. здесь же, во Франкфурте, ей дали сразу несколько значительных
ролей. Первая —
Пьеса Бюхнера рассказывает о судьбе военного парикмахера, маленького человека, униженного до край-
10
ности. Швею Марию он не может назвать женою, хотя любит ее, отдает ей свое скудное жалованье. У них растет сын. Марию за связь с Войцеком прозвали шлюхой. Войцек поко́рен, даже добродушен, но ему суждено сойти с ума от чувства безысходного унижения. Бравый тамбурмажор соблазняет Марию. И не будучи в состоянии как-либо отомстить обществу, обезумевший военный парикмахер убивает свою возлюбленную.
Протест Войцека вызревает постепенно.
Вайгель в этой роли сразу же обратила на себя внимание. Критики писали о «великолепном старте молодого таланта», об «истинном темпераменте, которому веришь, отличной мимике, голосе, о «явном своеобразии манеры»[13]. Правда, порой актриса, по их мнению, излишне натуралистична, она как бы «выламывается» из этой пьесы Бюхнера, оставшейся от автора в виде динамиче-
11
ских, но чрезвычайно лаконичных и спутанных фрагментов.
«Войцек» недаром попал на сцену в эти годы. Как раз фрагментарность, лаконизм и та стремительность, с которой интонация безысходности углубляется до отчаянного крика Марии и Войцека, — всем этим драматург близок экспрессионистам, провозгласившим своими предшественниками Рембо и Блейка, Гойю, Бюхнера и «ужасного» Шекспира.
Возникнув в начале 1900-х годов и оформившись перед первой мировой войной, экспрессионизм захватил вскоре в Германии все области художественной (а может быть, нужно сказать — и обыденной, и политической) жизни. для такого властного и широкого захвата у нового направления имелись глубокие основания в действительности и искусстве тех лет.
Композитор Малер, один из предвестников Музыкального экспрессионизма, написал над Скерцо[14] из своей неоконченной Десятой симфонии: «Der Teufel tanzt es mit mir» («Это дьявол танцует со мной»). Дьявол здесь — демон времени; с известной скидкой на метафоричность художественного мышления, можно увидеть в нем образ того ада социальных катастроф, который раскрылся, разверзся и сделался очевидным в первой мировой войне. Это образ уже не средневековый и не романтический, хотя имеет с ними преемственную связь. Это — образ современный, это социальная преисподняя, это мир, вывернутый наизнанку.
Экспрессионизм был страстной эмоциональной реакцией на этот мир. Пересоздание действительности, защита человека, поруганного капиталистической цивилизацией, составляли его пафос.
Диссонансы эпохи — социальные и нравственные — экспрессионисты передавали в беспокойных, тревожных образах, в неуравновешенных, гротескных формах, контрастах света и тени, изломанности, причудливости ли-
12
ний, в экстатической напряженности слова и речи. При этом экспрессионисты стремились не только запечатлеть свое видение мира. Они чувствовали себя призванными выразить свое отношение к нему, растревожить ум и совесть человека, пробудить в нем мысль и действие. В литературе, драматургии они выдвинули на первый план идею. Идея могла быть и пацифистской, и религиозной и философской, и социологической, но всегда это — страстная мысль о неблагополучии мира. Можно бы назвать эту экспрессионистскую драматургию попросту тенденциозной. Но это устаревшее и неполное определение. При всей своей конструктивности, аллегоричности, при всей обобщенности образов. Драматургия экспрессионизма предполагала прежде всего сложно построенную пьесу. Пьесу, передающую сложность современной жизни, в том числе психологическую. Отсюда резкие скачки действия, парадоксальность сюжетных, смысловых и композиционных ходов. Но через все четко и последовательно проводилась идея, мысль.
Экспрессионизм был направлением пестрым, противоречивым — и по составу объединившихся под его знаменем художников, исповедовавших несхожие, подчас кардинально противоположные взгляды, и по своей эстетической программе, и по общественно-политическим тенденциям, которые в ходе развития экспрессионизма обретали разные окраски. Призыв к решительному переустройству мира — и отвлеченность идеалов, активное вторжение в жизнь — и уход в субъективные переживания, яростное неприятие уродств окружающей действительности — и эстетизация этих уродств, тревожность, беспокойство, эмоциональная взрывчатость — и жесткий рационализм.
Экспрессионизм — явление, порожденное конкретными историческими условиями. Но это и лаборатория выразительных форм и тенденций современного искусства, театра в том числе. В шумных, порой скандальных
13
постановках экспрессионистов рождался новый театральный стиль — конструктивный, динамичный, островыразительный. Открывались и отрабатывались сценические приемы, имеющие целью активное воздействие на эмоции и сознание зрителя.
В предельной обобщенности декораций, в контрастах света и звука, в динамике движения, гротескности образов перепадах ритма обретались новые средства театральной выразительности. Впервые примененный луч прожектора выхватывал их темноты участок сцены, фигуру, маску, лицо — выделял и укрупнял человека. Впервые этот мечущийся в сценическом пространстве и кричащий человек обратился прямо к зрителю, разбив «четвертую стену». «Никогда еще актер не искал такого тесного контакта с публикой, становясь адептом нового актерского искусства; публика не могла больше лишь изображать интерес, оставаясь, по сути, равнодушной, она была глубоко затронута, ибо рочь шла о ее собственных переживаниях, чувствах и мыслях»[15].
Экспрессионизм безусловно активизировал общественную функцию театра, подготовил почву для создания политического театра, для эстетической программы Брехта, для завоеваний послевоенного «театра». Он первым поставил вопрос о новом актере — сознательном проводнике общественно значимых идей. С одной стороны, актер должен быть на сцене личностью, самим собою, человеком, который слышит и откликается на все зовы, стоны и мольбы времени. Он — голос времени. С другой стороны, он — инструмент в собственных руках и руках режиссера. О главном актер должен сказать так, чтобы его услышали, чтобы в нюансах не потерялась цель, чтобы крик не растворился в криках.
Выполнение этих требований стало отличной школой
14
для многих актеров того времени. Для Елены Вайгель — в том числе.
Франкфурт-на-Майне, где она начинала сценический путь, слыл
в те годы не только одним из первых театральных городов Германии,но и одним из
центров экспрессионизма. Драматурги-новаторы пользовались здесь любовью
режиссеров, вниманием публики, интересом рецензентов. Первым
«экспрессионистским» сезоном был, пожалуй, сезон 1916/17 года, когда режиссер
Густав Хартунг поставил пьесу Корнфельда «Обольщение». Хартунг перебрался во
Франкфурт из Дармштадта; из Мангейма сюда приехал Рихард Вайхерт; вместе с
Хельмером они образовали ядро «франкфуртского экспрессионизма» — такое название
получил этот круг режиссеров, увлеченных новой драматургией. Интендант
франкфуртских театров Карл Цайс — их единомышленник; после 1918 года
франкфуртская сцена стала, по выражению Г. Йеринга, «агрессивно-современной»[16].
Работая во Франкфурте, Вайгель успела увидеть такие подлинно экспрессионистские спектакли, как «Род» и «Площадь» Унру в постановке Хартунга, «Антигону» Хазенклевера, «Пентесилею» Клейста и «Макбета» в постановке Вайхерта.
Сама же вслед за ролью бюхнеровской Марии сыграла жену в пьесе Карла Шётхерра «Чертовка». Это заглавная роль. в «Чертовке» всего три действующих лица: муж — хилый человечек, контрабандист, жена — пышущая здоровьем молодая крестьянка и егерь-пограничник, старающийся поймать с поличным мужа. Муж пытается использовать чары жены, чтобы отвлечь егеря от слежки за их домом; жена соглашается не сразу, а когда начинает игру, то не сразу понимает, как скоро и глубоко эта игра затягивает ее. Жена только теперь по-настоящему
15
ощущает себя женщиной, она натравливает мужчин друг на друга, хитро использует их в своих интересах — и тем больше ненавидит обоих; наконец,принуждает мужа составить завещание в ее пользу. В споре егерь убивает мужа, а раскрыв подлую игру женщины — и ее[17].
Карл Шёнхерр, популярный австрийский драматург начала века, не был экспрессионистом; ближе всего ему были заветы натурализма. «Чертовка» привлекла внимание франкфуртского театра динамикой действия и яркостью характеров. Поручая роль крестьянки, давшей волю своим инстинктам, Елене Вайгель, режиссура делала ставку на ее темперамент.
Но Вайгель обнаружила в этой роли гораздо больше, чем от нее ожидали. В пьесе крестьянка жизнерадостнее, здоровее — и глупее. Кокетство, порывистость, импульсивная женственность — так Вайгель играла первые сцены. Вскоре становилось ясно, что в ее героине не столько жизни и силы, сколько энергии и ума; это натура не только импульсивная — она хитрила, прикидывала, провоцировала. В пьесе крестьянка показывала егерю контрабандный шелк, подаренный ей мужем, очень непосредственно и хвастлива; героиня Вайгель делала это обдуманно. Когда Вайгель—крестьянка приходила в ярость, не разыгравшиеся инстинкты несли, мчали эту женщину, а ее злая воля и хитрость влекли к гибели и мужа, и любовника[18].
Хелли Вайгель эта роль дала немало: она «разыгралась», ощутила свои возможности. В рецензиях повторялись слова «темперамент», «страсть», «многообещающее дарование».
Вскоре она непосредственно столкнулась с экспрессионистской драматургией. Ставя «Газ II» Георга Кайзера, Артур Хельмер, руководитель Нового театра, поручил Вайгель маленькую роль старухи: в списке действующих лиц она была названа последней по счету — двадцать второй. Дюжина слов — не больше.
16
Неистовая эмоциональность актрисы, необузданность темперамента, острая выразительность игры были явно близки этому искусству, название которого и происходит от «expressio» — выражение, выявление. Но выражать только чувства, состояния, как того требовала экспрессионистская драматургия, ей мало. Она хочет быть на сцене живым человеком.
Спектакль не удался. Это вынужден был признать даже Бернхард Дибольд, один из виднейших критиков, ярый сторонник и защитник экспрессионизма, особенно — Унру и Кайзера. Дибольд писал: спектакль лишен жизни, он подобен скелету. Но остановился на маленькой роли старухи. Подлинный талант, — заявлял он, — потрясающий голос актрисы Вайгель, единственное человеческое в этом спектакле-скелете[19].
Другие критики утверждали даже, что спектакль мог бы произвести другое впечатление, если бы роли исполнялись более сильными актерами — такими, как фройляйн Вайгель, которая несла в себе подлинную жизнь и была единственной среди остальных, просто произносившую вслух текст пьесы[20].
«Подлинная жизнь» — вряд ли именно это входило в замыслы драматурга и постановщика[21], но Хелли Вайгель одержала свою маленькую победу.
В театре к Хелли относились очень тепло: ее любознательность, живость, быстрота реакции, несомненная талантливость и дружелюбие привлекали многих. Она с удовольствием училась, все любопытное и полезное она как бы примеряла, пробовала, чтобы взять себе — или отвергнуть; она благодарно откликалась на любой совет.
Во время репетиций «Войцека» Альберт Штайнрюк, игравший заглавную роль, был трогательно терпелив и заботлив, поддерживая молодую актрису. Когда Хелли
17
впервые загримировалась сама, оказалось, что она наложила слишком резкие краски, придав своему и без того выразительному лицу ненужную яркость. Штайнрюк собственноручно стер почти весь грим, оставив совсем немного. «Это он научил меня гримироваться бережливо», — вспоминала потом Вайгель.
Он научил ее и многому другому. До прихода в Новый театр
Альберт Штайнрюк двенадцать лет играл и ставил спектакли в Мюнхенском театре,
сыграл там Войцека в самом первом сценическом воплощении пьесы Бюхнера, стал
любимым актером и учеником драматурга Ведекинда, который и сам был актером.
Необычный характер игры Ведекинда современники определяли как «яростный»,
«неистовый», «свирепый»[22]; писали
о том, что он играет, пронизывая все «казнящим разумом»[23]/
В сочетании с деловитой жесткостью речи и острой выразительностью жеста эта манера игры не только впечатляла зрителя, но и влияла на актеров — современников Ведекинда. Внимание к «языку тела» — то, что Ведекинд так ценил в Штайнрюке, — стало характерным для актеров экспрессионистского театра. В Альберте Штайнрюке, — стало характерным для актеров экспрессионистского театра. В Альберте Штайнрюке это соединялось с поразительной способностью к концентрации воли, мысли и чувства.
Этим Хелли Вайгель предстояло еще овладеть. Пока что она почти задыхалась от нерастраченных, но уже осознанных сил и возможностей. Ддва года назад, когда она читала директору Рундту балладу «Эдвард», она знала лишь одно — хочу играть в театре. Но уже тогда ее внезапно поразило ослепило безумное ощущение — все они во мне! Эдвард, мать его, убитый отец, скальд, поющий эту балладу, — за всех должна сказать я, одна…
18
Вайгель еще не научилась владеть своим богатством, она щедро разбрасывала, расплескивала его — взлетом голоса, стремительностью пластики, страстностью игры. Ничего не отбирая, не отделяя второстепенное от главного, она переполняла роль собой, перехлестывала через край. Каждая новая роль оказывалась ей просто мала, как тесная обувь или одежда не по росту.
После небольшой роли пастушки в «Зимней сказке» Шекспира Хелли сыграла Паулину Пиперкарку, горничную из пьесы Гауптмана «Крысы», девушку, которая родила внебрачного ребенка, добровольно отдала его в чужие руки, раскаялась в этом, вдруг ощутив себя матерью, потребовала вернуть ребенка — и была убита.
В этой «берлинской трагикомедии», как назвал Гауптман свою пьесу, молоденькая, глуповатая и истеричная служанка-полька Пиперкарка — персонаж трагический. В самой пьесе происходит столкновение двух взглядов на театр: старый театральный директор стоит за высокий стиль, пафос и подлинно трагедийных героев, а его ученик полагает, что простые люди могут быть такими же героями трагедии, как Макбет и король Лир. Тезис ученика доказывается тут же, по ходу пьесы примером фрау Ион и Пиперкарки, двух женщин, тщетно заявляющих свои материнские права и гибнущих нелепо и трагично.
В этой роли Елена Вайгель делала нечто обратное тому, что было в «Чертовке» Шёнхерра. Там она наделяла умом, энергией и хитростью первобытно стихийное существо. У гауптмановской Паулины Пиперкарки — безволие, слабость, истеричность пополам с притворством, а после — внезапное перерождение в любящую мать. Оправдывая столь неистовое пробуждение материнских чувств, Вайгель сделала свою Паулину полнокровным непосредственным и жизнелюбивым существом. Тем трагичнее был нелепый конец Пиперкарки.
Рецензенты сочли исполнение Вайгель сюрпризом
19
вечера: отчаяние, тоска, слепая ярость борьбы этой матери-фории поражали своей первобытной силой. Ее игру сравнивали с извержением вулкана. «Неукротимая страсть». «бурное жизнелюбие» были так сильны, что критики приписывали их уже не Пиперкарке, а самой Вайгель; это же позволило им, однако, говорить и о «жестоком натурализме».
Все, кто писал о молодой актрисе, сходились на одном: ее талант потрясает. Правда, слова, целые фразы зачастую выбрасываются ею с такой силой, что лишаются смысла[24]; правда, многое теряется и в рыданиях; но все это — признаки юношеского богатства, издержки становления удивительно одаренной актрисы…[25]
В двадцатилетней Вайгель бился пульс времени. Открытая, порой взвинченная эмоциональность роднила ее с экспрессионистами. Вместе с ними она стремилась «запечатлеть, выкричать и выпеть страдания, гнев, тоску, надежду, страх, возмущение, все, что ощущают в пестрых и разноголосых буднях Германии»[26].
Она всей душой с франкфуртскими экспериментаторами. Еще совсем недавно владельцы театров в Германии, чтобы не отстать от века (но и не слишком вырваться вперед), выискивали для сезона одну-две пьесы «экспериментального толка», будучи заранее уверены в провале этих спектаклей. Теперь эксперимент набирал силу, множился по всей стране.
Само время совершенно иного, чем прежде, качества драматургия требовали актера, остро ощущающего свою связь с эпохой и способного осмыслить и выразить эту связь. Вайгель чутко улавливала зов времени. И искала свой путь. Игра по законам психологического театра казалась ей вялой, расслабляющей: молодая актриса была
20
полна энергии, она обладала тем, то Мейерхольд называл «нервом комедианта». Ее тянуло к остроте, даже заостренности сценических форм и исполнительской манеры. Но ее привлекало и воплощение на сцене реального, конкретного человека, она жаждала правды и, шарахаясь от патетики, декламационности, то и дело впадала в натурализм. Через много лет, вспоминая о начале пути, она писала: «Это было сорее избытком силы и дарования: не напыщенность, не пафос, а какая-то грубая правдивость без оглядки, без раздумий»[27].
В начале сезона 1921/22 года Елену Вайгель пригласил франкфуртский «Шаушпильхаус». Это более крупный театр, чем «Новый». Здесь сложился сильный коллектив — его называют «Expressionisten-Ensemble» — Герда Мюллер, Карл Эберт, Фритта Брод, Фриц Одемар. Хелли с особенным интересом присматривалась к умной и нервной Герде Мюллер. Ученица Макса Рейнхардта, она поражала широтой актерского диапазона, тщательным вниманием к речи. У нее было чему поучиться: Герда Мюллер играла экспрессивно, страстно, талантливо, но что-то особенное выделяло ее из числа других не менее талантливых: точность движений? пластика речи? строгий отбор? Или все это вместе?
Вскоре Хелли сыграла с Гердой Мюллер в «Пентесилее» Генриха фон Клейста (Мюллер — Пентесилея, Вайгель — Мероя). В роли Ахила выступил Карл Эберт. Рецензенты писали, что исполнение Вайгель сделало Мерою третьей главной героиней — после Пентсилеи и Ахилла[28].
«Пентесилея» — одна из тех пьес, перед которыми останавливаешься в изумлении: настолько виртуозно внутренний мир, мир души спроецирован драматургом в
21
пространство объективной действительности — на поле битвы. Два центра ужасной схватки — Ахилл и Пентесилея, а вокруг них греки и амазонки — как спутники планет, как двойники царственной пары, их зеркала, свидетели. Из трех подруг Пентесилеи Мероя как бы средняя; ей близки сердечные муки Пентесилеи, но она послушна и закону амазонок, повелевающему отречься от любви.
Поэтому-то «бледная как смерть», потрясенная до глубины души и в то же время — точнейший повествователь виденного рассказывала Мероя—Вайгель в 23-м явлении о кощунственном последнем поединке безоружного Ахилла и Пентесилеи[29]. Ее персказ делал зрителя как бы очевидцем того, что произошло за сценой; в то же время на этом монологе держалась пьеса, от него во многом зависело, убедительно ли будет последнее появление Пентесилеи, утомленной, надломленной, — появление и смерть. Вайгель ярко живописала ужасный поединок. Ее низкий голос, богатый модуляциями, придавал словам пластическую выразительность. Она потрясала, была потрясена и страдала сама, у нее на глазах выступали слезы, поток скорби захватывал зрителя…
Успех первых ролей, похвала прессы, радость ежедневных репетиций и вечерних выходов на сцену — и необходимость считать каждый грош: ведь отец отказался помогать непокорной дочери. В одной семье, дружески расположенной к Хелли, ее дважды в неделю приглашают к обеду, это большое подспорье…
В Франкфурте уже многие знали эту молодую актрису — худенькую, ловкую, подвижную, как ящерка, с большими горящими глазами, честолюбивую и любознательную. Хелли интересовали не только секреты профессионального мастерства и присматривалась она не только к товарищам-актерам. Франкфурт-на-Майне — крупный промышленный город, а начало 20-х годов в Германии — это время разрухи и голода, время рабочих забастовок и назрева-
22
ния революционной ситуации[30]. Проблемы социализма, идеи рабочего движения проникали и в среду артистической молодежи. Хелли много читала и думала, спорила с товарищами — такими же, как она, молодыми актерами франкфуртских театров. То, о чем они спорили, им хотелось бы воплотить в своем искусстве. Возник проект — поставить спектакль для рабочих. Нужна была пьеса. И пьесу нашли. Автор ее — Эрих Мюзам.
Есной 1919 года в Баварии началось рабочее восстание. Образовалась Советская республика. Она просуществовала очень недолго. Активными деятелями ее были драматург Эрнст Толлер, шекспировед Густав Ландауэр, поэт и драматург Эрих Мюзам и другие немецкие интеллигенты. Капитулянтская позиция анархистов и левых социал-демократов, которую разделил и Толлер, во многом способствовала разгрому Баварской Советской республики. Белая гвардия Носке заняла Мюнхен, председател исполкома республики коммунист Евгений Левине был расстрелян, а Толлер, Ландауэр и Мюзам были брошены в тюрьму. Эриха Мюзама военный суд приговорил к пятнадцати годам тюремного заключения за преступления против Германской империи (к тому времени уже не существовавшей).
С 1919 до 1924 года поэт находился в тюрьме Нидершёненфельд. Ему неоднократно отказывали в амнистии. (Позже, в ночь поджога рейхстага, его снова арестовали — теперь уже фашисты. В 1934 году они повесили его в тюремной камере, инсценировав «самоубийство».)
Пьеса «Иуда» была задумана и написана Мюзамом в тюрьме — в 1919—1920-х годах; действие ее происходит в конце января 1918 года. Молодежь, взявшуюся за постановку «Иуды», особенно привлекала современность темы, а современность здесь была не только в конкретности, узнаваемости обстановки и действующих лиц, но прежде всего — и более всего — в проблематике. Рево-
23
люция — вот главный герой пьесы, где решается вопрос о средствах революционной борьбы.
Для молодых франкфуртских актеров этот спектакль был актом
солидарности с теми, кто не сложил оружия. Кроме того, сбор со
спектаклей должен был пойти в помощь томящемуся в тюрьме Мюзаму.
Действие согласно ремарке происходит в «большом немецком городе» — это явно Мюнхен, столица Баварии. Каждый из персонажей пьесы находится в конкретном и прямом — лицом к лицу — столкновении с войной и революцией[31] Рабочий, потерявший на войне зрение; рабочий, получивший повестку о мобилизации; наборщик-революционер; студентка; знаменитый ученый-философ; профессиональный революционер. В городе — стачка; революционеры готовятся провести демонстрацию,но цели и задачи этой демонстрации видятся ими по-разному. Филосф-непротивленец Зеебальд представляет ее себе как мирную манифестацию, ибо полагает, что люди по сути своей добры. В конце пьесы его избивают и арестовывают. Студентка Флора стоит за то, чтобы рабочие захватили оружие. Русский революционер Федор Лекарев говорит о высокой непримиримости революционной борьбы в России, он убежден, что немецкий пролетариат должен идти этим же путем. Наборщик Рафаэль Шенк хочет спровоцировать столкновение пролетариата с войсками правительства, ибо не верит в инициативу масс.
Эрих Мюзам утвердительно отвечает на вопрос, который каждый из персонажей решает по-своему, — вопрос о необходимости революционного насилия. Но, анархист по своим убеждениям, он ратует и за использование любых средств для достижения революционной цели. Для того, чтобы пробудить массы, внезапным толчком направить их на путь борьбы, Рафаэль Шенк сознательно становится предателем — Иудой, сообщая полиции о времени, на которое назначена демонстрация, и драматург оправдывает его поступок[32].
24
Елена Вайгель играла студентку Флору. Не сохранилось никаких сведений о том, как ей удалась эта роль; сама Вайгель, вспоминая об этом, говорила лишь о политической актуальности пьесы. Для нее, как и дляее товарищей, этот спектакль и был, конечно,прежде всего гражданской акцией, результатом интуитивного тяготения к политике. Однако это первое обращение к политическому театру важно для участников не только в гражданском смысле, но и в чисто профессиональном, актерском. Они играли своих современников, а многие — и сверстников, революционеров, захваченных борьбой и страстно убежденных в необходимости этой борьбы. Сплотившись вокруг постановки «Иуды», они создали коллектив молодых единомышленников, задачи и стиль работы которого были созвучны деятельности агитпроп-коллективов, рождавшихся в это время в Германии.
Так Елена Вайгель сделала первый шаг к политическому театру, актрисой которого ей суждено было стать в будущем.
Франкфуртский период заканчивался. Вскоре она получила приглашение в Берлин.
Ее учитель Альберт Штайнрюк к этому времени стал актером Берлинского Государственного театра, где главным режиссером был Леопольд Йеснер. Как-то Штайнрюк рассказал Йеснеру о способной молодой актрисе во Франкфурте, о ее своеобразном «необщем» даровании. Йеснер давно уже следил за франкфуртскими актерами; ему казалось, что они, так много игравшие в экспрессионистских драмах, очень подошли бы его театру. Герда Мюллер, Карл Эберт, Роберт Таубе давно привлекали его внимание. Об этой девушки, Елене Вайгель, он тоже слышал; она сыграла недавно в драме «Отцеубийство» А. Броннена — сыграла небольшую роль, но, по отзывам А. Броннена — сыграла небольшую роль, но, по отзывам критики, очень интересно. Леопольд Йеснер пригласил Мюллер, Эберта, Таубе и Вайгель к себе с театр.
В августе 1922 года Вайгель приехала в Берлин.
Приглашение Елены Вайгель в Берлин было своего рода нарушением давней театральной традиции, согласно которой провинциальный актер должен был попадать в столицу не сразу, а как бы по ступенькам. Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Дрезден, Кёльн — из Франкфурта Вайгель следовало бы пригласить в один из этих городов, несколько лет она играла бы там, а оттуда — в Берлин…
Берлин этих лет — один из центров мировой культуры. Этот город «открыт для нового, многообещающего искусстваи литературы всего мира. Берлин все впитывает в себя и полной мерой отдает обратно. Мозг и нервы города насыщены электричеством. Сама жизнь насыщена электричеством» (Леонгард Франк).
Берлин 20-х годов — легенда не меньшая, чем Париж. Художники, писатели, артисты всей Европы съезжаются в Берлин, посторгаются этим городом, пишут о нем, рисуют его, не хотят его покидать[33].
Театр в Берлине — неотъемлемая часть города. В Ганновере, например, театр — своего рода школа, некий просветительский центр, в Мюнхене — предмет гордости местных патриотов, в Вене и Гамбурге — предмет влюбленности.
26
Здесь, в Берлине он — орган дыхания,
он сливается с жизнью берлинца, как Шпрее, улицы, метро, трамвай, фабрики,
квартиры. Театр в Берлине — нечто само собой разумеющееся, не праздник, а
будни, но будни «напряженные, нагруженные, бодрые, ясные, живительные»[34]/
В эти годы в Берлине постоянно работает тридцать пять —
сорок театров; на их сценах встречается вся мировая драматургия. Каждую неделю
— до трех-четырех премьер, о них говорят и спорят, имена актеров у всех на
устах. Но привлекают берлинца уже не только звезды — «Pr
После выступлений или репетиций, часто длившихся за полночь,
в театрах устраиваются для коллег— актеров специальные ночные спектакли. Актер
Эрнст Гинзберг вспоминает: «Не бывало публики более критической — и более
восторженной. Если тебя здесь запоминали хотя бы в маленькой роли, то наутро
твое имя повторял весь город»[35].
«Золотые двадцатые годы» — то всерьез, то иронически называют период Веймарской республики, эти полтора десятилетия. Если иметь в виду театр Веймарской республики, то это были действительно золотые годы, один из самых интересных периодов всего западноевропейского театра.
Начало 20-х годов — новый этап в развитии театрального экспрессионизма, берлинский, который можно назвать этапом пост экспрессионизма: появление аналити-
27
ческой режиссуры, проникновение на сцену социальных идей, усиление политического пафоса.
Имя Леопольда Йеснера было одним из самых известных в Берлине. Государственный театр («Штаатстеатр») был создан им из прежнего прусского Придворного театра («Хофтеатр»), почти мертвого в художественном отношении организма, на которые не повлияли в свое время ни искания мейнингенцев, ни натурализм, ни режиссура Рейнхардта. Сейчас только в двух театрах — Государственном и у Рейнхардта играет постоянная труппа. Новый дух вселился в прежний Придворный театр. Стремясь к актуальности, Йеснер занимался переделкой классической драматургии, думал о новой манере актерского исполнения, избегающей «прямого участия в представляемом»[36]. В рецензиях мелькали слова «эра Йеснера». «В период 1920—1924 годов Йеснер затмил славу самого Рейнхардта и стал задавать тон на театре… Суровые, строгие, умные спектакли Йеснера, живо напоминающие о только что пережитой катастрофе… казались зрителю более современными»[37].
Еще в 1916/17 году, руководя Кенигсбергским театром, Йеснер поставил себе целью освободить сцену от всего рейнхардтовского. Неспровершение великого авторитета могло бы показаться кощунством, если бы у Леопольда Йеснера за отрицанием не было бы своей, глубоко продуманной позитивной программы.
Политико-воспитательная миссия театра — этим определялось для Йеснера главное; еще конкретнее — активизация политического сознания зрителя. рейнхардтовский иллюзии противопоставлялась идея. Действенность идеи была для режиссера самым важным фактором, поэтому
28
не исключалась возможность «сужения идеи в целях ее интенсификации»[38].
Йеснера не привлекали и воссоздание на сцене быта или кропотливая реставрация истории; в шиллеровском «Вильгельме Телле» он призывал к революционному героизму, а в шекспировском «Ричарде III» казнил карлика-тирана и в его лице — тиранию вообще. Три первых акта трагедии Шекспира он слил в одно действие, чтобы сделать упор на том, как Ричард взбегает на трон и вскоре —падает с трона. Зрителю становилось понятно, что эти истории могли бы произойти не только в Англии или Швейцарии, что они не вневременны, внепространственны, а — всевременны и всепространственны. Позже, в 1941 году, Бертольт Брехт напишет в начале своей пьесы «Добрый человек из Сычуани», что провинция Сычуань представляет собой обобщение всех мест на земном шаре, где человек эксплуатирует человека.
У Йеснера во всем царил эксперимент — в работе с пьесой. С художником, с актерами. Исчезло оформление, уподоблявшее сценический мир реальному, появились скупые четкие абстрактные конструкции. Их геометрическая строгость не была похожа на изломанную напряженность декораций, еще недавно царивших на экспрессионистской сцене, они не кричали, не взывали, они — работали. Знаменитые «Jeßner-Treppen» («лестницы Йеснера») — расположение персонажей на них строго функционально: победитель или правый в споре всегда выше (хотя бы ступенькой) побежденного или неправого.
Носителе идеи в театре Йеснера был актер. Поскольку идея выражена словами текста пьесы, а слова вложены в уста персонажей, то долг актера четко передать мысль, выразив одновременно функцию изображае-
29
моего лица. Это означало, что на сцене не должен был существовать жизненный, достоверный персонаж.
Всевременное решение ситуации, ясность мысли, дидактичность — все это в немалой степени напоминало притчу.
Репетировал Йеснер тоже по-своему. Те, кто работал с Рейнхардтом, рассказывали: режиссер приходил на первую же репетицию, заранее все продумав, придумав и расписав. Йеснер до начала репетиции советовался с исполнителями главных ролей о купюрах, о мизансценах; принимали решение вместе, потом не было ни обид, ни лишних споров.
Йеснеру важна была актерская индивидуальность; в построении ансамбля он хотел опираться на нее, а не на амплуа. Его репетиции для актеров — школа концентрации, внутренней органической связи слова и жеста. Театр Йеснера, по выражению Герберта Йеринга, «акустический», определяемый словом и его ритмом. (Йеринг называл так театр Йеснера в отличие от «оптического» театра Рейнахрдта.) На репетициях прежде всего — работа над речью. Режиссер выявлял, «вылавливал» любую ошибку, неточность, неясность, сокрытие, искажение; него был абсолютный слух, абсолютное чутье и неприятие фальши, пафоса, сентиментальности.
Любимое словечко Йеснера — «ариозно» («Тут нужно говорить ариозно»). Оно происходит от слова «ария», но вовсе не озанчает кантилены. Это словесная пластика[39]. Йеснеру был важен темп речи, но это не обязательно означает скорость; важна направленность речи, но не громкость; важен ритм, но не механическоий, а живой. Ему нужны были актеры, у которых в крови выразительность, вариационность, динамичность.
30
В спектаклях Йеснера многое шло от экспрессионизма: стремительная, ритмичная речь, броские реплики и жестикуляция «на публику», «актеры, выряженные в дикие маски, выходящие под барабанную дробь…» Он строил напряженные, динамичные мизансцены, пользовался направленным освещением.
Однако вряд ли можно безоговорочно зазывать Йеснера режиссером-экспрессионистом, как это часто делается. Он — постэкспрессионист, в творчестве которого проглядывают элементы эпического театра.
Впитав самое ценное от экспрессионизма — выразительность, напряженность, динамику, он пошел дальше, отказавшись от плакатной обнаженности сценического языка, символов. Он не демонстрировал, а объяснял, спектакли его были дидактичны. Йеснер превыше всего ценил разум, в него и верил, стремился убедить других в превосходстве разума, а если порой делал это слишком страстно, то вовсе не из склонности к экзальтации.
Спектакли Йеснера отличались пластичностью, динамикой, завершенностью мысли. Это привлекало актеров, в особенности молодых, ищущих. Даже через много лет у Елены Вайгель «глаза… загорались, когда о нем (Йеснере. — Е. В.) заходила речь»[40].
Когда в 1957 году Вайгель приехала с руководимым ею театром на гастроли в Ленинград, то первыми ее словами на встрече с театроведами и критиками была просьба не забывать при изучении истории немецкого театра о «великом человеке — Леопольде Йеснере».
Итак, через три года после своего дебюта Елена Вайгель стала ученицей. Школа — Берлинский театр, класс Леопольда Йеснера. Кто же ее школьные товарищи и однокашники? Наиболее известные актеры этих лет — Лина Лоссен, Агнес Штрауб, Фриц Кортнер и Вернер Краус. Вайгель учится вместе с ними и у них.
31
Лина Лоссен — чрезвычайно женственна, нежна; она не играет, а — излучает. Тончайшие нюансы, пастельные, нежные краски. Но это было хорошо прежде, сейчас — иные пьесы, иные ритмы. Покой Лины Лоссен многими воспринимался уже как скудость средств. В пьесах Ибсена она могла, к примеру, оживить психологический диалог сумрачным блеском глаз — это получалось. Но когда ей нужно расчленить драматический рассказ (тоже в пьесах Ибсена), расставить акценты, то судорожность, с которой она это делает, выдает нарочитость. Нет вариационности — есть монотонность. Для Лины Лоссен роль — повод уйти в свой тип, в свою женственность. Ее упрекают в том, что она невыразительна, ибо не выходит из себя. Этот упрек — «не выходит из себя» — часто встречается в рецензиях и статьях тех лет; в этом обвиняют не одну только Лину Лоссен — Фридриха Кайслера, некоторых других актеров. еще совсем недавно актер, «не выходивший из себя», ценился очень высоко и противопоставлялся актеру «натуралисту», перевоплощавшемуся в изображаемый персонаж. Но экспрессионизм требовал совсем другого актера, не остающегося самим собой. Будучи инструментом и времени, и режиссера, и самого себя, он очень многое должен был уметь.
Агнесс Штрауб. Она темпераментна, наблюдательна, создает сложный образ, не только проникая внутрь, но и выстраивая здание роли, тонко чувствуя форму. Темп, динамика, ритмическая акцентировка — прозаический текст роли по наполненности и четкости становится у нее похожим на стихи, благодаря ритму и архитектонике. Если раньше, в эпоху Рейнхардта, в статьях и рецензиях часто встречались музыкальные термины и сравнения, то теперь критики и режиссеры говорят о «здании роли», об архитектонике спектакля. Так, например, в своей статье «Сценическое искусство 1920» режиссер Эрих Энгель пишет: «Настроение — это расслабляющее плавание по музыкальному потоку. Театр должен идти от этой музыки
32
а архитектонике — декорация, человек, жест (не забывая, конечно, тончайшей режиссуры речи)»[41].
Фриц Кортнер и Вернер Краус. Оба они идут от отрицания нюансов в игре к прочерчиванию главной линии образа, к ритмизации. Оба дают пример совершенно нового взаимодействия речи и движения.
Фриц Кортнер, так же как и Вайгель, родился в еврейской венской семье; играл в «Бургтеатре», на немецкой провинциальной сцене, затем у Рейнхардта, а в 1919 году, когда ему было двадцать шесть, прославился в берлинских постановках экспрессионистских пьес. С годами Кортнер постепенно побеждает заданную драматургией изломанность и расчлененность, нахдя стержневую идею пьесы и образа. Леопольд Йеснер любит привлекать к сотрудничеству талантливых и умных людей; сотрудничество с Кортнером дает ему очень много: Кортнер становится для Йеснера совершеннейшим инструментом.
Рейнхардт, у которого Кортнер играл в начале пути, учил своих актеров искусной и интенсивной передаче душевных переживаний. У Йеснера актеры сильны необычайной интенсивностью в выражении идеи. Кортнер — актер-аналитик в подходе к роли и овладении ею; в конце 20-х годов его исполнение — великолепный образец демонстрирующего, показывающего, анализирующего искусства.
Такие актеры. Как Краус, Кортнер, Штрауб, несмотря на различия, сходятся в главном: «Они видят и слышат образ психологически, а играют — экспрессионистически»[42].
Новое искусство заглядывало вперед, не порывая с традицией, развивая ее.
Если попытаться выстроить ряд, в конце которого новый тип актера на немецкой сцене 20-х годов, то в на-
33
чале этого ряда непременно окажется Йозеф Кайнц, прославившийся на рубеже веков, затем Александр Моисси, ученик, шагнувший дальше учителя — Рейнхардта. Ослепительная Тилла Дюрье — богатый темперамент и продуманное, точнейшее построение роли; Гертруд Эйзольдт — смятенная, нервная умная актриса, сочетающая лиризм с гротеском. Альберт Штайнрюк с его трезвым и ясным умом, юмором; Пауль Вегенер — сильный, сдержанный, высококультурный. Эмиль Яннингс, создающий монументальные значительные образы, мастерски владеющий актерским перевоплощением.
Элизабет Бергнер — кажется, что она рентгеновскими лучами «просвечивает» роли; Александр Гранах — бурная, взрывная сила, актер, который, по словам А. Броннена, напоминает о русском театре. Все они наполняли, обогащали и порой преобразовывали друматургию, служили материалом новой режиссуре и сами способствовали развитию этой режиссуры.
Вайгель смотрела спектакль за спектаклем, стараясь отобрать самое интересное среди этого множества.
Следом за двумя постановками молодого коллектива «Юнге бюне» — «Отцеубийство» А. Броннена и «Коронование Ричарда III» Г.-Х. Янна — она встречается с иной драматургией, с совсем другими актерами. В сентябре приезжает на гастроли Художественный театр из Москвы. В зале «Лессинг-театра» Вайгель смотрит «Вишневый сад» Чехова; ей кажется это великолепным, если говорить о цельности, завершенности, глубине, но, может быть, именно эта завершенность и заставляет думать об отсутствии движения вперед, развития? Однако актер Москвин — вот кто нравится ей совершенно особо. Его Епиходов — какая точность ритма, выразительность, владение пространством и собою в нем!
Этим же актером она восхищалась через несколько месяцев, когда в Германии показали первый фильм из
34
страны Советов — «Поликушка», «подлинно народный фильм» в оценке Г. Йеринга.
Вайгель торопится: нужно успеть увидеть, услышать, обдумать. Днем — репетиции, вечером — она на сцене или в зале, а ведь есть еще ночные спектакли, есть литературные кабаре с их новой манерой актерской игры: скупой, открыто обращенной к публике, резкой.
Но молодая актриса не только впитывает. Она ищет свою актерскую правду.
С момента прихода в Государственный театр она сразу начала играть. Роли небольшие по объему — трактирщица, служанка, одна из ведьм в «Макбете», где Фриц Кортнер играл заглавную роль, а Герда Мюллер — леди Макбет. Появились упоминания о ней в театральной критике; Герберт Йеринг откликнулся первым. Ему, конечно, бросилась в глаза и яркий темперамент, и актерская одержимость молодой Вайгель. Но об этом писали еще во Франкфурте, много раз отметят это в своих рецензиях и берлинские критики (повторится даже сравнение с бурлящим вулканом). Йеринг почувствовал нечто иное, индивидуальное — в интонациях, ритмах, пластике; за темпераментом и актерской одержимостью он уловил спокойный, «полный достоинства взгляд самой актрисы…»[43]
Но ролей у Вайгель все-таки мало. И режиссеры, и театральные директора удивительно невнимательны к ней. А ей хочется как можно больше работать, играть, искать, пробовать. Страшнее всего для нее перспектива ограничиться каким-либо амплуа. Правда, в театре у Йеснера амплуа вообще не в почете, а у Вайгель его пока что и нет. Когда она играет старух, кажется, что она рождена для этих ролей. Но вот режиссер Фелинг ставит на рождество 1922 года гауптмановскую драму «Возне-
35
сение Ганнеле»[44] и дает Вайгель роль молодой озлобленной женщины, проститутки-нищенки Гедвиги. В этой драме-сказке, драме-сновидении Гедвига — самый реалистический персонаж. Вайгель играет правдиво и проникновенно, со множеством точных деталей, ухваток; она не оправдывает свою героиню, самую бесчеловечную из всех обитателей приюта, — ей хочется объяснить ее падение жестокостью жизни. и ей это удается.
После роли Гедвиги наступило затишье: играть нечего. Не вынеся безделья в Государственном театре, она согласилась на «гастроли» в «Шаушпилертеатре» и покорила всех в роли рыжеволосой девчонки-птичницы Саломен Покерль. Комедию Нестроя «Титус и талисман» ставил Карл Этлингер. Вайгель видела его еще в юности в Вене, где Этлингер славился как комический актер, блестяще владевший техникой шванка — веселой пьесы, построенной на комизме ситуаций и типов. (Позже Вайгель часто рассказывала анекдот, который услышала от Этлингера во время репетиций. Как-то директор венской «Фольксбюне» Артур Рундт и критик Герберт Йеринг, бывший тогда литературным сотрудником у Рундта, долго спорили на репетиции, как лучше пройти актеру из одной комнаты на сцене в другую. Рисовали схемы, сами вскакивали на помост, показывали, пробовали даже переставлять декорации — и только вконец запутали исполнителя… Бывший тут же Этлингер не вытерпел и, произнеся: «Видите ли, господа, это делается вот так!» — вскочил на сцену, толкнул дверь ногой, распахнул ее, переступил порог и, оказавшись в другой комнате, закрыл за собой дверь — снова пинком ноги.) В Этлингере жил старинный комедиантский дух, он был прекрасным импровизатором, знатоком традиций австрийского и немецкого народного театра.
«Фарс с пением» Иоганна Непомука Нестроя «Титус и талисман» он ставил в один вечер с комедией «Сонькин и главный выигрыш» (такое название получила пьеса
36
Семена Юшкевича «Повесть о господине Сонькине»), где сам Этлингер играл заглавную роль.
Рыжая Саломея-птичница — единственная, кто понимает и поддерживает рыжего Титуса, который, попав в имение госпожи фон Циперессенбург, пускается в различные авантюры, всякий раз прибегая к помощи париков, ибо главная беда его и Саломеи — цвет волос. Рыжих не любят, клянут, презирают и гонят отовсюду, а становясь блондином или брюнетом, Титус всякий раз поднимается все выше по лестнице судьбы. Но, достигнув, наконец, благоволения самой госпожи фон Ципрессенбург, он терпит крах: его разоблачили и жестоко смеются над ним. Верная Саломея, которая с участием и трепетом следила за его возвышением, не меняя цвета собственных волос и не помышляя об иной участи, и тут остается ему верна. В самом конце пьесы судьба все-таки снова улыбается Титусу, а он, узнав цену истинной дружбе, предлагает Саломее руку и сердце.
В этом спектакле было много забавных словечек венского диалекта, песен, танцев, переодеваний, проделок Титуса, смеха. А смешнее всех была Саломея—Вайгель. В пьесе эта бедная добродетельная девица порой кажется скучноватой — кроткая, униженная, прощающая всем обиды, слегка резонерствующая: «Когда беден, не до гордости». Вайгель же носилась по сцене как смерч, когда надо говорить — кричала, когда надо плакать — выла; совершенно отчаянное, дерзкое рыжее существо, внешне похожее на сорванца-мальчишку, обладающее почему-то «кучерским басом». Она вылавливала из роли не «голубые» эпизоды своей героини, а те, где можно было поозорничать, — например, конец первого акта. «Эх, будь я мужчиной, я бы уж знала, что делать! Им-то лучше, чем нам!» — и пела, приплясывая, озорную песенку «Да, уж им-то хорошо!»
Когда Титус пробрался в замок, Саломея является туда и, обнаружив, что теперь он уже брюнет, падает в
37
обморок, потом же, очнувшись, отрекается от знакомства с ним, чтобы не подвести Титуса. В этой сцене обморока, слез и самопожертвования Вайгель делала главным сметливость, хитрость, быстроту реакции своей героини. Ее Саломея, пожалуй, и обморок-то разыграла для того, чтобы выиграть время. уже отрекшись от Титуса, она гордо произносила (басом!): «Стыд какой, нервы-то, словно у городской барышни!» — и удалялась.
Такая актриса «могла бы способствовать утверждению настоящего юмора на берлинской сцене», — полагал критик Монти Якобс[45]. Где же границы ее возможностей, как очертить ее круг, пусть не упоминая слова «амплуа»? Худенькая, гибкая, пропорционально сложена, небольшого роста; довольно крупная, хорошей лепки голова, узкое, резко очерченное лицо, большие глаза, нервная, очень подвижная. Сначала казалось — она просто чрезвычайно «натуральна» в игре, обладает «здоровым природным талантом», по выражению критика Юлиуса Баба[46]. Только постепенно поняли своеобразие и широту ее возможностей: с равным успехом давались ей роли трагические и гротесковые, старух и девчонок.
Сама она уже достаточно знала свои силы, и нужно ей было другое. Просто жить в роли — слишком мало; ей хотелось объяснить, показать, как она понимает свою героиню и даже — как к ней относится. Она чувствовала, что могла бы делать много — и по-новому, если бы только дали ей эту возможность[47].
В один вечер с Саломеей Покерль Вайгель играла Латкину — жадную истеричную просительницу, любыми средствами добивающуюся своего. Но здесь актриса шла уже не вширь, а вглубь. В первый раз так ярко прояви-
38
лось то, к чему она уже давно стремилась: отбор, концентрация. Ее Латкина оказалась самым интересным персонажем пьесы — игра актерской фантазии, гротеск, легкость и наполненность одновременно. Критики называли Вайгель «главным выигрышем» спектакля (обыгрывая название пьесы). В начале 1924 года эту постановку перенесли на сцену Немецкого театра; единодушное мнение — необычайно одаренная актриса. Все, кто ее заметил и полюбил, ждали новых ролей. Но ролей не было.
Осенью 1923 года, в самом начале театрального сезона, Арнольт Броннен познакомил ее с Бертольтом (Бертом, как все его называли) Брехтом, представив его как драматурга, увлекающегося режиссурой.
Впервые имя Брехта Вайгель услышала еще во ФранкфУРТЕ: ТАМ, КАК И В Берлине, больше всего говорили и спорили тогда о трех драматургах — Бертольте Брехте, Арнольте Броннене и Гансе-Хенни Янне. Брехт и Броннен были дружны, оба писали пьесы и увлекались режиссурой. Брехт был противником драматургии экспрессионизма, но не всей и не вообще. Ему чужды были патетичность, риторика, абстрактность идеалов, туманность идеологии. Но это не мешало ему любить как своих учителей Штернхайма и Кайзера, дружить с экспрессионистом Бронненом.
Еще во Франкфурте, весной 1922 года Вайгель сыграла в спектакле «Отцеубийство» — это первая постановка пьесы Броннена, не очень удавшаяся, вызвала яростные споры молодежи. Пьеса и обращена была к молодежи, защищала ее право не только отвергать отцовские пути, но и бороться за собственный путь. На франкфуртский спектакль вместе с автором приезжал и Бертольт Брехт. Он обратил внимание на реалистическую игру Елены Вайгель в этой типично экспрессионистской пьесе[48]. Вот если бы собрать труппу из актеров, подобных этой Вайгель, — подумал тогда Брехт. Дело в том, что именно
39
«Отцеубийство» он только что пытался поставить сам в Берлине. Мориц Зеелер основал там «Юнге бюне», чтобы ставить пьесы преимущественно молодых авторов, собирая для этого лучших актеров столицы. Поручив Брехту постановку «Отцеубийства», он собрал действительно лучшие силы: Генрих Георге, Агнес Штрауб, Ганс Твардовски. Это был первый режиссерский опыт Брехта — и неудачный. Актеры не поняли, чего он от них хотел. А хотел он, чтобы они поменьше декламировали, кричали, вещали, чтоб больше смысла, чем экспрессии, было в каждом слове. Брехт был отстранен от режиссуры, спектакль выпусти Бертольд Фиртель, открыв тем самым «Юнге бюне».
В 1922—1923 годах Брехт бывал в Берлине наездами; в конце 1922 года режиссер Отто Фалькенберг поставил его пьесу «Барабаны в ночи», сперва в Мюнхене, а потом в Берлине, на сцене Немецкого театра. Это первая премьера Брехта и начало его славы: спектакли в Мюнхене и Берлине прошли с большим успехом. Герберт Йеринг видел в молодом драматурге будущее современного театра, по инициативе Йеринга за пьесу «Барабаны в ночи» Брехту была присуждена премия Клейста за 1922 год. В Берлине он много работал, посещал вместе с Бронненом репетиции и спектакли, искал споров, дискуссий, встреч с новыми людьми, приобретал друзей, единомышленников и сотрудников.
На репетициях «Барабанов в ночи» в Мюнхене и в Берлине, где Брехт активно вмешивался в работу постановщика, на репетициях других режиссеров, где он был лишь молчаливым гостем, во время совместной работы с Лионом Фейхтвангером над драмой «Жизнь Эдуарда II Английского» и позже, когда Брехт сам ставил эту пьесу в Мюнхенском Камерном театре, — он уже думал о своем театре. А для этого были нужны свои актеры. В один из приездов в Берлин Брехт поделился замыслами с Бронненом. Тогда-то Броннен и напомнил ему о Елене Вай-
40
гель, «той самой, из Франфурта, что теперь играет у Йеснера»[49].
Сейчас, в Берлине, она увидела перед собой человека, мало похожего на драматурга или режиссера: в его облике не было ничего «художественного», «экспрессивного». Худой, невзрачный. Глубоко сидящие маленькие глаза. Круглые очки в дешевой металлической оправе — таких никто не носит. Коротко остриженные волосы зачесаны на лоб. По манере одеваться он похож на шофера или автомеханика: спортивная рубашка, кожаная куртка, кожаная кепка, узкий кожаный галстук. Разговаривает тихо, вежливо, сдержанно.
То была встреча, знаменательная для судьбы каждого — и Брехта, и Вайгель.
Идеи Брехта заинтересовали Вайгель. Драматурги-экспрессионисты видели в человеке лишь вместилище всеобщих — вселенских — страданий, вечных идей; они уповали на душу и обращались к душе, но имелась в виду не конкретная, а некая мировая Душа. А Брехт настаивал на индивидуальности характеров, конкретности поступков. Он требовал точных и подробных физических действий и речи, выражающей не чувства и рефлексы, а образ действия персонажей. «…Язык, который обнажает стремления действующих лиц, язык, сопровождаемый к тому же содержательным жестом, Брехт называл «гестическим». Он предлагал, чтобы актер,произнося текст,находился в движении. И чтобы эти его физические движения непременно что-либо обозначали: вежливость или гнев или стремление убедить кого-то или затвердить что-либо наизусть или захватить врасплох или предостеречь или высмеять или напугать или испугаться»[50].
41
Брехт советовал играть фабулу, то есть то, что происходит, а не то, что по этому поводу чувствуют. (Площадной театр, балаган как рази привлекал его конкретностью мотивировок и ясностью фабулы.) Показывать надо важное и важное — надо показывать.
Летом 1924 года Брехт окончательно перебрался в Берлин, соединив свою судьбу с Вайгель. Этот союз оказался счастливым для обоих и в высшей степени плодотворным для истории театра XX века.
Брехт нашел в Вайгель свою актрису, преданную спутницу, единомышленника, способного чутко воспринять и воплотить в жизнь его идеи. И Хелли обрела в нем человека, в котором соединилось для нее личное, творческое, общественное.
Переехав в Берлин, Брехт устроился на должность штатного драматурга (литературного консультанта) в театр Рейнхардта; вместе со вторым драматургом Карлом Цукмайером он сперва пытался как-то повлиять на репертуар театра, но из этого ничего не вышло, и вскоре Брехт стал показываться в театре лишь в дни выплаты жалованья.
В первые годы они с Вайгель жили отдельно: оба снимали бывшие мастерские художников, он — на Шпихернштрассе, она — на Бабельсбергерштрассе. Чердачные помещения обходились недорого, а для работы были удобны. Гостей, как правило, принимали у Брехта. Друзья, собирающиеся здесь по вечерам, освоили сложный ритуал «попадания» в квартиру — «преодолеть четыре трудных этажа, затем пробалансировать по жердочке, пройти на ощупь черрез темное помещение и распахнуть тяжелую дверь»[51].
Вечером здесь шли непременные разговоры об искусстве, споры о будущем театра; Вайгель и Оскар Гомолка — актер, тоже из Вены, игравший Мотимера в
42
мюнхенской постановке «Эдуарда II», наперебой рассказывали анекдоты, а потом Берт Брехт пел под гитару свои баллады — резкие, грубые, полные динамики, пел очень сдержанно и спокойно. Иногда его голос как бы замедлял свое движение, отставая от аккомпанемента, и зто несовпадение — единственное, что позволял себе Брехт, — усиливало выразительность и музыки, и текста; так небольшим смещением, отходом от привычного достигалось гораздо больше, чем обычными средствами.
Вайгель хотелось не только спорить и размышлять о том, каким должен быть театр, — ей хотелось играть по-новому. Хотелось больше думать над ролью, показывать не только то, что делает, как живет и какова ее героиня, но и обстоятельства вокруг нее, законы и процессы определяющие ее жизнь. Хотелось еще, кроме этого, и убедить зрителя в чем-то, к чему неумолимо приходишь, благодаря раздумьям и опыту.
Но раздумий гораздо больше, чем опыта. В Немецком театре у Рейнхардта, куда Вайгель перешла в сезон 1924/25 года, работы у нее по-прежнему мало. И когда достается интересная роль, Вайгель набрасывается на нее, как изголодавшаяся.
В Немецком театре ставят «Столпы общества» Ибсена. Вайгель играет Марту Берник, бедную, одинокую старую деву. На репетициях она встречается с Альбертом Бассерманом, одним из крупнейших реалистических актеров Германии. Он играет консула Берника — сейчас ему пятьдесят восемь лет, а эта роль прошла через всю его жизнь. Вайгель видела его Берника еще в Вене, сейчас ей многое дали эти репетиции. Метод разучивания роли и ее исполнения у Бассермана очень своеобразен.
Известный немецкий актер Эдуард фон Винтерштейн, современник и соратник Биссермана, писал в своих мемуарах: «Роль прорабатывалась им до мельчайших подробностей. Дома во время ее изучения он переживал все чувства героев, и они прочно в нем закреплялись. Вече-
43
ром на сцене он делился всем этим с публикой и делал это в поразительно совершенной форме. Зритель был твердо убежден, что любое чувство охватывает актера как раз в ту минуту, когда он говорит об этом со сцены. Но это было совсем не так. Играя, Бассерман внутренне оставался безучастен. Но этого никто не замечал»[52].
Вайгель сначала «попалась», как и все: Бассерман так потряс ее на первых же репетициях, что сама она как во времена франкфуртского дебюта, начала играть самозабвенно, абсолютно слившись со своей героиней. И как же ей за это досталось от Брехта! Но пересториться было трудно. Помог сам Бассерман. Спустя годы Вайгель весело и почтительно рассказывала об одной из этих репетиций, где она играла с полной отдачей, заливаясь настоящими слезами в сцене разговора с человеком, которого давно и тайно любит. Бассерман, посмотрев на распухшее, заплаканное лицо Вайгель, которая от слез даже голос потеряла, сочувственно сказал ей: «Детка, если вы и дальше будете так выкладываться, скоро от вас ничего не останется. Я дам вам хороши совет: если в какой-то роли нужно заплакать, вы сделайте так — посмотрите-ка! — повернитесь спиной к залу и несколько раз подымите и опустите плечи. Вот и все. Публика получит то, что нужно: иллюзию, что ваша героиня плачет». Она послушалась.
После премьеры многие считали, что пальма первенства не за Бассерманом, а за Вайгель.
Она была очень точна психологически, удивительно человечна. Все, кто знал ее, вдруг обнаружили, что она может быть такой сдержанной — и такой убедительной! Все, кто смотрел спектакль, запомнили самый сильный его момент — будто чья-то рука приподняла занавес и открылась глубокая человеческая трагедия. А ведь это та самая сцена Марты Берник, в которой Вайгель после-
44
довала совету Бассермана.
«Мгновение, когда она смотрит вслед любимому, которому только что помогла
уехать с молодой девушкой, — она стоит у занавеса, и поднятая ее рука вдруг
медленно опускается, видна только ее спина и тихое содрогание проходит по ней —
это мгновение осталось самым потрясающим, самым незабываемым из всего
спектакля… Одно такое мгновение — залог того, что перед нами исполнительское
дарование высшего ранга…»[53]
Успех Вайгель растет. Летом 1925 года ее пригласили
исполнить в Мюнхене Марию в «Войцеке». Интересно было поработать над своей
первой ролью, углубить, изменить ее в чем-то. Вайгель играла ту же Марию и ту
же судьбу, но с недавно обретенной сдержанностью, даже — скупостью в отборе
красок. Для мюнхенцев ее
«Гастроли» продолжались и в самом Берлине. В театре
«Ренессанс» она сыграла старую няньку в пьесе Пиранделло «Жизнь, которую я тебе
даю» и главную роль в спектакле «
«С сомнамбулической отдачей Вайгель вырывает эту драму из оков глубокомыслия и сжатости, растапливает геббелевскую окоченелость, делая из нее горячее, чистое и глубокое переживание, сообщает стершимся словам тепло, движение, человечность. Вся риторика пьесы, набитой позавчерашней проблематикой, отступает перед этой актрисой…»[54]
Рецензент явно был чересчур запальчив: образ Клары и в пьесе очень живой и поэтичный. Но, очевидно, актриса играла так убедительно, органично и своеобразно, что невольно заставила все впечатление отнести только на свой счет. В Кларе, сыгранной Вайгель, звучала боль юного поколения, разбивающегося в своем порыве
45
о несокрушимую косность старших; это роднило, сближало пьесу с современной молодой драматургией.
Следующая роль — горничная Стаси в спектакле «Чужой» по Дж. К. Джерому — снова была «гастрольной», на сцене «Центральтеатра», и снова критики писали, что только она, Вайгель, своей игрой приносит на сцену подлинную жизнь. Один из ведущих критиков, Юлиус Баб восклицал: «…простейшими средствами достигается столь сильное впечатление — это просто великая актриса!»[55] Все, кто интересовался Вайгель до сих пор, ликовали. Наконец-то «прорыв» на сцену, наконец-то — открытие замечательной актрисы! Ведь она в Берлине уже три с половиной года, давно не дебютантка, не ученица. Но у великой, замечательной актрисы снова нет ролей…
С горечью отмечал один из критиков, что этот случай необыкновенно типичен для берлинской театральной жизни: Вайгель числится в труппе Немецкого театра, но театр этот со своими тремя зданиями, дюжиной режиссеров и десятком литературных консультантов не нашел до сих пор роли, достойной ее таланта![56]
Когда в марте 1926 года ее снова пригласили к Йеснеру в Государственный театр, она с радостью согласилась: предстояло сыграть роль Саломеи в пьесе Геббеля «Ирод и Мариамна». Ставил спектакль сам Йеснер, Ирода играл Фриц Кортнер, Мариамну — Лина Лоссен.
Пьесой Геббеля Йеснер открыл дорогу широко и страстно дебатировавшейся проблеме постановки классики — и сам явился зачинщиком этих дебатов. Йеснер писал: «Ставить Геббеля — это значит, с одной стороны, выявить господствующую идею во всей ее насильственной власти, а с другой, показать душевные движения в их тончайшей нюансировке»[57].
46
Выявление господствующей идеи — это прежний йеснеровский принцип; тончайшая нюансировка — новое; в драматургии Геббеля режиссер видел искусный сплав того и другого.
На сцене Государственного театра «Ирод и Мариамна» — почти камерный, психологический спектакль. Каждый из героев несет в себе драму.
Пластика Вайгель все чаще рождает сравнения с изобразительным искусством современности. Так, Клара в «Марии Магдалине» напоминает многие скульптуры Барлаха[58], где пластика выражает одновременно и гнет снаружи и боль внутри. Роль Саломеи к тому же и текстом не очень богата, поэтому еще ярче запечатлевается весь пластический рисунок, подчеркиваемый гибкой фигуркой Вайгель — «как из каучука», по выражению Альфреда Керра[59]
Постановка «Ирода и Мариамны» была выдающейся победой Йеснера. Он открыл ею дорогу ряду классических спекраклей, отмеченных актуализацией (порой модернизацией) содержания и вызывавших в те годы бурные дебаты.
Исторические темы все чаще трактовались политически; общий процесс политизации театра шел, расширяясь, по сценам Германии. Этот процесс во многом определяли Брехт, Энгель, Пискатор и Йеснер. Они не только постановщики актуальной или модернизированной драматургии, они и воспитатели нового актера. Герхард Бинерт, игравший сначала у Макса Рейнхардта, потому у Пискатора и Брехта, вспоминал, что у Пискатора он впервые не только услышал, о и по-настоящему понял слова «социально-критический», «мировоззрение»; «благодаря Пискатору я начал мыслить политически»[60].
47
Новый актер стоял в гуще жизни, вопросы профессии интересовали его наравне с политикой, с новыми областями науки. Этот «выход» в жизнь означал и профессиональный рост, укреплялось чувство ансамбля. Сопричастность, участие определяли и социальное лицо актера; свои порывы, чувства, мысли он учился организовывать как общественную силу.
Лучшие актеры Берлина считают за честь получить приглашение в такой коллектив, как «Юнге бюне» — сплоченный общностью идей и устремлений. Они готовы играть здесь бесплатно, в дни, свободные от работы в своих театрах. Елена Вайгель играла и в «Ваале», и в следующей постановке ««Юнге бюне», пьесе Марии-Луизы Фляйсер «Чистилище в Ингольштадте».
Еще в Мюнхене Брехт и Фейхтвангер открыли своеобразный
талант молодой писательницы Фляйсер, привлекли ее к работе над «Жизнью Эдуарда II Английского» и стали в
буквальном смысле слова крестными отцами ее первой пьесы «Омовение ног»,
посоветовав переменить на звание на«Чистилище в Ингольштадте» (Ингольштадт —
городок в Баварии, где родилась и выросла
48
Его постоянный оппонент Г. Йеринг называл этот спектакль чудом, говоря о простоте и образности языка, о великолепной постановке «Юнге бюне»[64].
Пьеса Фляйсер — о молодых людях рождения 1902 года, выросших в душном мире мелкобуржуазного городка. Они неврастеничны, инфантильны, замкнуты в себе, недоверчивы друг к другу, враждебны по отношению к старшим, болезненно религиозны. Даже те из них, кто вышвырнут обществом, сближаясь между собой, вдруг обнаруживают, что им необходимы догмы, каноны, законы того же общества; без этих законов они не могут существовать, они подчиняются им, а неподчинившегося клеймят и выбрасывают — теперь уже из своей среды.
Елена Вайгель играла Клементину, младшую сестру Ольги, героини пьесы. Полуоперившийся подросток, Клементина ревниво следит за сложными отношениями Ольги и Рёллу, выгнанного из школы; она то ходит за ним по пятам, неумело предлагая ему свою любовь и заботу, то примыкает к его преследователям. Клементина выполняет в семье роль экономки, на ней все хозяйство, она то гордится своим положением, то уязвлена тем, что отстала от «образованной» сестры. Так же, как у всех вокруг, у нее нет собственной морали — тем ожесточеннее требует она ее от других.
Вайгель очень увлечена этой ролью: в пьесе ее Клементина ревнива и порывиста, нервна и вызывающа, а ей хочется показать больше. У Клементины—Вайгель нет опоры, нет ни одного твердого убеждения, ни одного верного друга. Ее буквально швыряет из одного состояния в другое: вот она плачет совсем как дитя, и жалуется совсем как дитя на то, что ее ненавидят, что Ольга у нее отнимает Рёлле, все это потому, что руки у нее загрубели от работы по дому. И вдруг вспоминает: работа
49
по дому, это ведь что-то реальное, устойчивое, за что можно уважать человека, и сразу у нее появляется какая-то старушечья цепкость и рассудительность… А потом — как быстро она переходит к предательству, к издевательству над Рёлле!
Клементина в исполнении Вайгель девочка — и старуха, мученица — и мучительница. Актриса играет проникновенно, ярко, но иногда чересчер убеждает, излишне демонстрирует. Она порой как бы цитирует: вот так надо показать порыв ревности.
На это стоит обратить внимание. Рассказ, показ, демонстрация — это потребность. Потребность, рождающаяся из диалектики времени[65] и ощущаемая лучшими, наиболее чуткими ко времени драматургами, режиссерами, актерами. Потребность не «заразить» зрителя чувством, но, показав,пригласить его к размышлению. С этим связаны и техника объективно-демонстрирующего показа, используемая Марией-Луизой Фляйсер, и эпизация театра, которая так занимает Бертольта Брехта.
Идея показа, демонстрации захватила и Елену Вайгель, которая непрестанно ищет новых задач. Однако это только отдельные моменты в ее исполнении: показ, хотя и увлек ее новизной задачи, но еще не настолько, чтобы совсем отказаться от непосредственно играемых, «заразительных» сцен. Вот эта смесь и производила впечатление «слишком», «чересчур» убедительного исполнения, нажима, переигрывания. Она сама чувствовала это.
Елена Вайгель явственно ощущала изменения в себе самой, в работе над ролью, в игре. Был взят какой-то рубеж, она и не заметила, как перешла его; оставалось ощущение грусти — уже не было той беззаветности, с которой раньше она отдавалась стихии игры, того «вулкана», который прежде клокотал в ней. Она перебирала мысленно свои роли: что-то отбрасывала, что-то оставляла — подумать. Вот рыжая смешная Саломея — отвер-
50
женная, презираемая и отталкиваемая миром «нерыжих» при каждой попытке приблизиться к нему; Саломея у Геббеля — орудие зла и уничтожения; Кленментина — сама отверженная, но объединяется с теми, кто ее отвергает, сходится с ними в главном — в ненависти к необычному, неординарному…
Как ведет себя человек в обществе и что делает общество с человеком — об этом больше всего размышляли и говорили они с Брехтом в то время, об этом думала она, вспоминая сыгранные роли. Об этом шла речь в новой пьесе Брехта «Что тот солдат, что этот», в которой грузчик Гэлли Гэй не умел говорить «нет, позволил себя обмануть, потом — «перемонтировать», и вот уже вместо добряка грузчика — солдат, чудовище в мундире, машина для завоеваний.
Эту пьесу, написанную несколько раньше, Брехт основательно переработал в те дни, усилив в ней социальную проблематику. Роль вдовы Леокадии Бегбик, маркитантки, владелицы армейской пивной, стала первой совместной работой Вайгель и Брехта.
Следующий, 1927 год начался и закончился для нее этой ролью: пьеса «Что тот солдат, что этот» была поставлена в начале года на радио режиссером Брауном, а в конце — на сцене «Фольксбюне» Эрихом Энгелем, принеся первый широкий успех Брехту-драматургу. В Энгеле Брехт нашел великолепного режиссера и — самое главное — единомышленника, одного из тех, для кого театр был общественным учреждением (характерны названия статей, опубликованных Эрихом Энгелем в те годы: «Театр как формообразующий элемент общественной жизни», «Цель режиссуры — разработка смысла»[66]). Поиск новой театральной эстетики для Эриха Энгеля, как и для Брехта, был прежде всего поиском средств для изменения действительности.
Спектакль «Что тот солдат, что этот» опроверг сложившуюся уже легенду о якобы циничном и непонятном
51
Брехте. Это было заслугой Эриха Энгеля, художника Каспара Неера, актеров Генриха Георге (Гэли Гэй) и Елены Вайгель. Они ясным, четким пластическим языком рассказали поучительную историю о «перемонтировке» человека.
Еще до премьеры спектакля в радиопостановке — не очень удавшейся попытке решить пьесу только акустически — Вайгель резко выделялась среди других участников. Для нее тогда это был лишь эскиз, набросок. Голосом она попыталась передать все, что хотела сказать в этой роли. но Леокадии Бегбик — так казалось Вайгель — нужны пластика, движение; она должна подойти к самому краю сцены, чтобы взглянуть в глаза зрителям и тихо сказать о человеке, не сумевшем в нужную минуту произнести: нет.
Ведь тот, кого так переделать сумели
Будет средством, пригодным для всякой цели.
Упустим сегодня, забудем о нем,
А завтра он к нам же придет палачом.
Бертольт Брехт очень хочет, чтоб каждый здесь мог
Почуять, как почва ползет из-под ног…
Специально для Вайгель Брехт написан новые реплики, новые зонги и текст авторского комментария к пьесе. Так в спектакле, поставленном Эргелем, возникло два плана роли: маркитантка, живущая своей хлопотливой торгашеской жизнью, и она же подобно античному хору много понимающая, предвидящая и комментирующая, обращающаяся непосредственно к зрителям. Вайгель отлично удавались оба плана. В мужском костюме, тоненькая, стройная — ее сравнивали со стрелой, а голос — с фанфарным звуком; она прекрасно пела зонги. В роли Бегбик для актрисы соединились недавно освоенная техника показа и прежняя органика, составив одно целое — и по мнению большинства именно Вайгель определяла новизну спектакля.
52
Она продолжала играть и роли иного, «традиционного» плана, изумляя неожиданными поворотами своего дарования. Много писали о ее Клодин в мольеровском «Жорже Дандене» в театре на Шиффбауэрдамм. Клодин танцует, прыгает по сцене, проказничает, язвит, интригует. Лукавая крестьянская девчонка, сыгранная с заразительным комизмом, настоящий мольеровский персонаж. По пьесе она хороша собой — Клодин—Вайгель похожа скорей на бесенка. Неуемное озорство, притворное непонимание, неожиданная серьезность — все это только формы, в которые выливается радость игры, переполняющая и Клодин — и саму Вайгель.
Но радость игры — этого слишком мало; такие роли, как Клодин, уже как бы на периферии главного направления, которое определилось, главного пути, на котором сделаны первые шаги. Нет, союз с Брехтом, сам Брехт не трансформировали актрису: они проявили, развили, оформили то, к чему она внутренне тяготела уже давно. Рациональное начало в Хелли от природы не уступало эмоциональному, и на сцене ей хотелось не только жить, чувствовать, действовать, но и выражать мысли. Брехт направил это стремление в ясное, четкое русло. К тому же в Вайгель всегда жила потребность служения некоей идее: к этому располагали цельность личности, одержимость натуры, сильная воля. Брехт дал ей эту идею: свой театр. Театр, решительно воздействующий на человеческое сознание.
Таким — своим театром мог бы стать для нее «Юнге бюне». Но там играют всего раз-два в неделю, бесплатно. Нужно что-то другое, постоянное, чему можно отдать все силы.
Теперь к каждой новой роли Вайгель сначала присматривается: пригодится ли ей это в том, будущем ее театре. Так было, когда ее пригласили сыграть Грету в трагедии Эрнста Толлера «Хинкеманн» (русское название — «Эуген Несчастный»). Автор вместе с режиссером
53
Лённером сам ставил эту пьесу в «Фольксбюне», Генрих Георге играл мужа Греты, искалеченного войной солдата Хинкеманна.
Толлер написал эту пьесу пять лет тому назад в каторжной тюрьме Нидершёненфельд. Он сам признавался: «Все драмы,написанные мною в тюрьме страдают излишествами». Слишком много риторики, слишком схематичен сюжет, слишком условны персонажи. Но Вайгель с энтузиазмом взялась за работу. В своей Грете она видела не женщину вообще, а жену солдата, пролетарку, трагедия которой соыиально обусловлена. Здесь ей пригодилось все, что она наблюдала день за днем на улицах, в лавочке, в транспорте. Ее Грета возилась у плиты, веселилась на ярмарочном гулянье, хотела любви и немного счастья, страдала, обманув мужа и гибла в конце пьесы. «Прекрасный подарок для того, кто уже давно с участием[67] наблюдает за огромным талантом Елены Вайгель. Как верно сыграна эта женщина-пролетарка…»[68] — писал критик В. Штерн.
Весной 1928 года Брехт закончил «Трехгрошовую оперу». Музыку к ней написал Курт Вайль. За постановку взялся Эрих Энгель. Вайгель должна была играть жену «короля нищих», госпожу Пичем. Все лето шли репетиции, даже во время двухнедельного отдыха на Ривьере Брехт, Вайгель, актриса Лотта Ленья — будущая Дженни — и ее муж, композитор Вайль, работали над спектаклем. Премьера должна была состояться в конце августа. Неожиданно выяснилось, что никого не устраивает роль владелицы публичного дома; к тому же приглашенные берлинские «звезды» капризничали. Елена Вайгель уступила свою роль Розе Валетти и взялась сыграть владелицу «заведения».
Но за неделю до премьеры она тяжело заболела; эту роль Брехт из пьесы вычеркнул. На сцену Елена Вайгель
54
вернулась только к концу 1928 года. А в начале 1929-го сыграла служанку в Эдипе» Софокла, поставленном Йеснером в Государственном театре с Фрицем Кортнером в заглавной роли.
Исполнение Вайгель стало образцом новой манеры игры.
Восемь лет назад Мероя—Вайгель рассказывала о смерти, очевидцем которой она была. Скорбь, горе, слезы — она была вся там, на поле битвы, где Пентисилея убивала безоружного Ахилла, она уводила зрителей туда и потрясала своей потрясенностью захватывала своей скорбью. В «Эдипе» Вайгель тоже сообщала зрителям о страшном событии, случившемся за сценой, — о смерти Иокасты. Но делала это совершенно по-иному, как бы отгораживала, уберегала зрителя от переживания собственной отгороженностью. Зритель не там, в покоях Иокасты, потому что рассказчица не там. он — здесь, в театральном зале, для того чтобы выслушать — понять — оценить. Так театральное воздействие на зрителя осуществлялось посредством рассказа.
«Сообщая о смерти своей госпожи, она произносила ”мертва, мертва“ совершенно бесстрастным, пронзительным голосом; ее слова ”Иокаста умерла“ звучали не жалобой, но так категорически и неудержимо, что сам факт смерти в это мгновение воздействовал сильнее, чем какая-либо личная боль. Она допускала выражение ужаса, но не в голосе, а на лице, белый грим изображал то действие, которое смерть производит на очевидца. В сообщении о том, что самоубийца рухнула, как загнанная дичь, звучало не столько сострадание к этой дичи, сколько триумф загонщика. Поэтому даже самый сентиментальный зритель должен быть понять, что здесь требуется его решение и согласие. Удивляясь, она давала четкое описание неистовства и кажущегося безрассудства умирающей, а недвусмысленное звучание слов «Каков же был ее конец — не знаем» — было скупой, но независи-
55
мой данью почести — и отказом от дальнейших сообщений об этой смерти. Сходя вниз по нескольким ступеням, она шагала так широко, что ее маленькая фигурка, казалось, преодолевала громадное расстояние от пустоты этого места ужаса до людей на авансцене. Подняв вверх руки механическим жестом жалобы, она просила сострадания к самой себе, которая видела горе, и ее восклицание ”Теперь рыдайте!“ как бы оспаривало право на всякую преждевременную и необоснованную скорбь»[69].
Так писал Брехт о Вайгель, не называя ее имени, но приводя ее игру как конкретный пример нового стиля исполнения
Брехт любил беседы, споры, дискуссии: если они содержательны, то столкновение любых мнений всегда даст нужный итмпельс мысли. Свои статьи он часто строил в форме диалога. Пусть сам он в начале статьи твердо знал, какую мывсль хочет провозгласить, — лучше построить ее как беседу с человеком, защищающим противоположный импульс мысли. Свои статьи он часто строил в форме диалога. Пусть сам он в начале статьи твердо знал, какую мысль хочет провозгласить, — лучше построить ее как беседу с человеком, защищающим противоположный тезис или сомневающимся в тезисе Брехта, чем утверждать голословно. Двоих собеседников он то обозначал буквами, легко расшифровывающимися, то делал их безымянными; один из собеседников — он сам.
Вайгель — несомненный соавтор, сотворец многих из этих диалогов, поскольку она постоянный собеседник и партнер по спорам в ежедневной жизни; она мысли четко, диалектично, ставит конкретные вопросы, не уступает, прежде чем исчерпать все свои доводы, а если уверена в своей правоте, старается постепенно, логично убедить в этом другого.
«Диалог об актерском искусстве», написанный Бертольтом Брехт и напечатанный в газете «Берлинер бёрзен-курир» 17 февраля 1929, вели два безымян-
56
ны собеседника. Один из них — человек, явно близкий к театру (быть может, актер, быть может, актриса), спрашивал у Брехта, доволен ли тот исполнителями, которые всегда так успешно выступают в его пьесах. Нет, не доволен, отвечал Брехт, ибо они играют неверно. Им следует играть для публики века науки, им следует показывать этой публике свое знание. И на вопрос: «Знание чего?» — следовал ответ: «Человеческих отношений. Человеческих действий. Человеческих сил». Сейчас, утверждал Брехт, они пользуются внушением, ввергая в транс самих себя и публику; следует же это делать сознательно, описательно. Вот так, как «одна актриса этого нового направления» игравшая служанку в «Эдипе». Но как именно должен играть актер, спрашивал собеседник Брехта.
«— Идеально. Церемониально. Ритуально. Зритель и актер должны не сближаться, а отдаляться друг от друга. Каждый должен отдалиться от самого себя. Иначе отпадет испуг, необходимый для познания.
— Ты употребил в начале слово ”наука“. Ведь, наблюдая амебу, человек не может проникнуть, ”вчувствоваться“ в нее. Но человек науки попытается понять ее. Как ты полагаешь, поймет он ее в конце концов?
— Не знаю. Он сопоставит ее с другими вещами, которые он видел.
А разве актеру не следует попытаться сделать понятным изображаемого им человека?
— Не столько человека, сколько события. Я имею в виду вот что: если я хочу увидеть Ричарда Третьего, то я вовсе не хочу чувствовать себя как Ричард Третий. Я хочу увидеть этот феномен во все его отчужденности и непонятности.
— Значит, нужно видеть в театре — науку?
57
Искусство сближалось с наукой. Четко определялись его задачи, а отсюда — задачи театра.
Блестки того самого «эпического», повествовательного стиля, разработкой которого занимался Брехт, сверкнули в игре Вайгель-служанки. Здесь уже не было никакой попытки объединить себя-актрису, свою героиню и зрителя единым потоком эмоций. Рассказывая, повествуя о происшедшем, Вайгель одновременно демонстрировала, какое действие это произвело на изображаемое ею лицо. Тем самым достигалось обращение не к чувствам, а к рассудку зрителя. а это — утверждал в те годы Брехт — существенное в эпическом театре. «Зритель должен не сопереживать, а спорить. При этом было бы совершенно неверно отторгать от этого театра чувство. Это означало бы то же, что отторгать сегодня чувство, например, от науки» («Размышления о трудностях эпического театра»)[72].
«Эдипа» Брехт считал последним этапом, итогом продвижения театра Германии по линии большой формы. Эта большая форма должна быть эпической. Должна повествовать. «Она не должна верить, что можно вжиться в наш мир, она этого и не должна желать» (Последний этап — ”Эдип“»). Она должна рассказать об этом мире, возбудив у публики критическое отношение к нему.
Для Брехта становится главной задачей революционное воспитание зрителя, приобщение его к активному социальному действию. Для того чтобы зритель мог, занимая положение наблюдателя, делать выводы, необходимо
58
создать между зрителем и сценой дистанцию. Посредником между зрителем и событием является актер — не только воплотитель данного образа, но и его судья[73].
Брехтом написано уже достаточно «непонятных» пьес («Ваал», «Барабаны в ночи», «В чаще городов» — список этот можно, пожалуй, продолжить вплоть до «Мероприятия») — теперь же он хочет быть еще и предельно понятным, предельно ясным. Он видит, что нельзя достигнуть этой ясности только с помощью щитов, надписей, масок и котурнов, постановочной аналитической жесткости. Пьеса должна быть оценена зрителем в каждой своей точке. А в каждой ее точке — актер.
Так формировалась теория эпического театра, разрабатывались ее основы. Со временем теория эта менялась. «Большая форма», «эпический театр», «театр века науки», «диалектический театр». Определений много, и это определения достаточно отличных друг от друга вещей. Но главным, исходным всегда оставался принцип «очуждения» — персонажа, событий, демонстрируемых на сцене. Очуждение — это способ объективизации изображаемого, для того чтобы сделать очевидными законы, причины, следствия, сущность явлений. Оно дает возможность — драматургу, режиссеру, актеру — показать обыденное, знакомое, примелькавшееся с какой-либо новой, неожиданной стороны, тем самым обострив внимание зрителя, стимулировав его мыслительную активность. Показ явления с новых — и разных — сторон требовал от актера умения соединять противоположности: вживание в образ и отстранение от него, конкретизацию и обобщение, трагизм и комизм, лирику и эксцентрику[74].
При этом Брех хотел, чтобы «лед и пламень», слившись вместе, воспринимались и как существующие по отдельности, чтобы «лед» еще как бы и указывал на «пламень» («вот пламень») — и наоборот[75].
Разрабатывая основы своей теории, Брехт использовал наблюдения над новым типом актера, который ро-
59
дился на экспрессионистской и постэкспрессионистской сцене, в частности — над Еленой Вайгель.
Вайгель умела быть действенной и без движения, комичной — с абсолютно серьезным видом. Ее особенность сочетать противоречия, ее фарсовость с обязательными контрастами, с обязательность теперь уже дистанцией между выражаемым и воспринимаемым — это диалектика народного искусства. Вайгель многому научилась, работая над ролями Саломеи в «Титусе» и Латкиной, играя вместе с Этлингером. Это было для нее соприкосновением с живыми традициями народного искусства, с приемами фарсовых представлений, с и грубоватой прямотой, хлестким юмором, вызывающим гротеском. В Берлин в те годы изредка приезжал мюнхенский комик — грустный клоун Карл Валентин; Вайгель бывала на его представлениях. Валентин разыгрывал вместе с партнершей, артисткой Лизль Карлштадт, пьески, сцены, диалоги, фарсы, пантомимы собственного сочинения, произносил монологи и пел песенки. Его шутки порой наводили грусть, его серьезность доводила до колик. Высокий юмор Валентина, как и у Чаплина, был рожден слиянием комического и трагического, только у Валентина было гораздо больше гротеска — и абсурда[76]. Позже о Валентине будут писать как о предшественнике Ионеско и Беккета, установят его близость с Кафкой, Джойсом и Льюисом Кэрролом. Сам же он называл себя народным комиком и певцом. Подобно безымянным бродячим актерам средних веков, Карл Валентин был блестящим импровизатором, он живо и очень точно ощущал публику, умел мгновенно выделить из многого главное и предельно заострить это главное в показе, не утрачивая правды поведения. Брехт высоко ценил Валентина, в котором видел актера-аналитика, диалектика, которого позже назвал «первым актером века атомной физики».
Брехт понимал, что именно трагический комизм Валентина и лирическая эксцентрика Вайгель содержат в
60
себе те полюсы, те перепады, в
которых непонятное становится понятым. Каким
образом? Необычное они играли обыкновенно, обыкновенное — необычно. Это и есть
остранение — сопоставление несопоставимого. Так, Леокадия Бегбик в исполнении
Вайгель: юное гибкое существо, она же — циничная, грубая войсковая
акула-маркитантка, почти что акула Капитализма, она же — с публицистическим
нажимом произносит зонг от лица автора пьесы, призывающий к социальной
бдительности, она же — поет самые лирические зонги в спектакле.
Органическое сочетание трагизма и комизма, лирики и эксцентрики Брехт стремился как бы разделить, раздвинуть, оставляя видимыми связующие нервы художественного целого. Чередование и раздельность формы, которые Р. Гримм определяет как основную тенденцию эпического театра Брехта[77] (и которые в другой плоскости мы называем сочетанием усложненности и огрубления), — вот что любит Брехт в актере, что требовал в своих театральных манифестах.
Актриса Елена Вайгель была и материалом для наблюдений Брехта и его инструментом, реализатором его теории, талантливым и ревностным исполнителем его замыслов. Но не только. Она была и соавтором раздумий размышлений, споров, была партнером в бесконечных диалогах. Его теория — результат их сотворчества.
Найдя наконец свою идею, свою актерскую веру, Вайгель была готова отныне служить ей со всей природной страстнгостью, не сомневаясь, не отступая. Выходя теперь на сцену, она ощущала, что обрела себя, свою цель, свое назначение.
Но оценить это могли немногие. В конце «Диалога об актерском искусстве» собеседник спрашивает Брехта об актрисе, игравшей служанку в «Эдипе»:
61
«—Имела ли она успех?
— Скромный; разве что у знатоков. Погрузившись во вчувствование, в сопереживание с персонажами, почти никто не принимал участия в осмыслении действия, и чудовищное осмысление, принесенное на сцену ею, почти не воздействовало на тех, кто видел в этом лишь повод к новым переживаниям»[78].
Из критиков, пожалуй, только Герберт Йеринг, всегда горячо поддерживавший все новое — и самого Брехта, разделил его точку зрения. И тот, и другой считали, что новизна постановочного стиля Йеснера характерна не для всего спектакля; здесь есть и старое, и новое. «Ужасны», по мнению Йеринга, таинственный шепот хора, его сопереживание героям трагедии; помпезная сцена битвы во второй части спектакля, драматическая заостренность ролей Тиресия и Креона. Все это устарело, напоминает рейнхардтовского «Эдипа», тот «театр настроения», время которого прошло.
Все же, полагал Йеринг, йеснеровский «Эдип» противостоял великому в свое время спектаклю. Рейнхардта. В нем были моменты, которые следовало развить, необычайно сильные эпически спокойные, драматичные, волнующие простой, потрясающие — тишиной[79]. Их вместе с Йеснером создавали Фриц Кортнер и Елена Вайгель.
Бо́льших результатов в рамках традиционного театра и нельзя было достичь. Новая манера игры требовала и своего зрителя, которому это содержание было бы особенно близко. Только они могли обеспечить успех тому, что искали Брехт и Вайгель. Понятие «своего» театра приобретало конкретность: нужен «свой» драматург, «свой» актер и «свой» зритель[80].
Наступали мрачные времена.
Мировой экономический кризис, разразившийся в 1929 году, к концу 1930-го сказался и в Германии — безработицей, нуждой, политикой преследований, запретов, террора. Партия национал-социалистов умело использовала сложившуюся экономическую и политическую ситуацию. Число ее мандатов при выборах в рейхстаг в 1930 году выросло с двенадцати до ста семи.
Нацисты начали решительно захватывать позиции в кульутре, искусстве, театре, подвергая гонениям все то, что несло идеи демократии и гуманизма[81]. Усилилась травля евреев — режиссеров и актеров, участились отвратительные нападки на Рейнхардта, Йеснера, Фрица Кортнера.
В 1927 году Йеснер поставил «Флориана Гейера» Гауптмана. Альфред Мюр, критик берлинской «Дойче цайтунг», обрушился на Йеснера с обвинениями: в подлинно немецкой драме из немецкой истории исполнение главной роли поручено Вальтеру Франку, актеру еврейского происхождения! Границы крови должны быть соблюдены, — требовал Мюр, — бестактность Йеснера оскорбляет каждого ревнителя немецкой культуры, поэтому — на
63
защиту ее! Мобилизация наших сил уже началась! Сломить власть Йеснера! — истерично кричали строчки газеты[82].
В Мюнхене в это же время была поставлена «Германова битва» Генриха фон Клейста в честь 150-летия со дня рождения драматурга. Альфред Розенберг[83], тогда главный редактор национал-социалистской газеты «Фёлькишер беобахтер», поместил в газете рецензию на спектакль, в которой упрекал театр, недостаточно, по его мнению, использовавший пьесу для пропаганды истинно немецкого духа, для поддержки борьбы с евреями, поляками и французами.
Но Альфреда Розенберга занимало не только содержание спектакля; будущего «идеолога нации» волновали также вопросы формы: «буря и натиск» — и романтика — вот ритм сегодняшней жизни, нашей борьбы, нашей воли[84].
Йеснеру («врагу народа» и «антипатриоту») пришлось уйти с поста руководителя Государственного театра[85]. За несколько месяцев до этого он поставил «Короля Джона» Шекспира, спектакль, в котором играла и Вайгель. Король Джон — узурпатор, жестокий, хитрый, низкий и малодушный человек. В его руках власть, но не право на нее: он морально не достоин нести ответственность за страну[86]. Этот слабый и трусливый властолюбец стремится убрать с пути все, что ему мешает, по возможности — чужими руками. Убийца юного принца Артура, король Джон в любую минуту может предать и интересы всей страны.

Юдифь Кейт. «Страх и отчаяние в Третьей империи. 1938

Е. Вайгель и Б. Брехт в эмиграции

Антигона. «Антигона», 1948

Тереса Каррар. «Винтовки Тересы Каррар. 1952.

Б. Брехт

Э. Буш

Е. Вайгель





Кураж. «Мамаша Кураж и ее дети. 1957

Кураж — Е. Вайгель, повар — Э. Буш. «Мамаша Кураж и ее дети». 1957

Караж — Е. Вайгель. повар — Э. Буш. «Мамаша кураж и ее дети. 1957

Молодой солдат — Г. Шефер. Кураж — Е. Вайгель. «Мамаша кураж и ее дети. 1957

Здание театра «Берлинер ансамбль»

Афиши к спектаклям «Мать» и «Мамаша Кураж и ее дети»
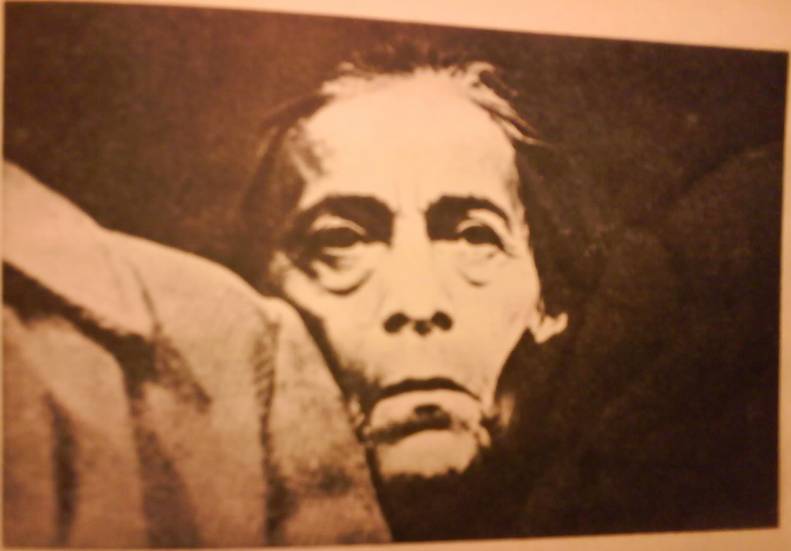
Пелагея Власова. «Мать». 1968

«Мать». 1968

Пелагея Власова — Е. Вайгель. Павел Власов — Х. Татэ. «Мать». 1968

«Мать». 1968
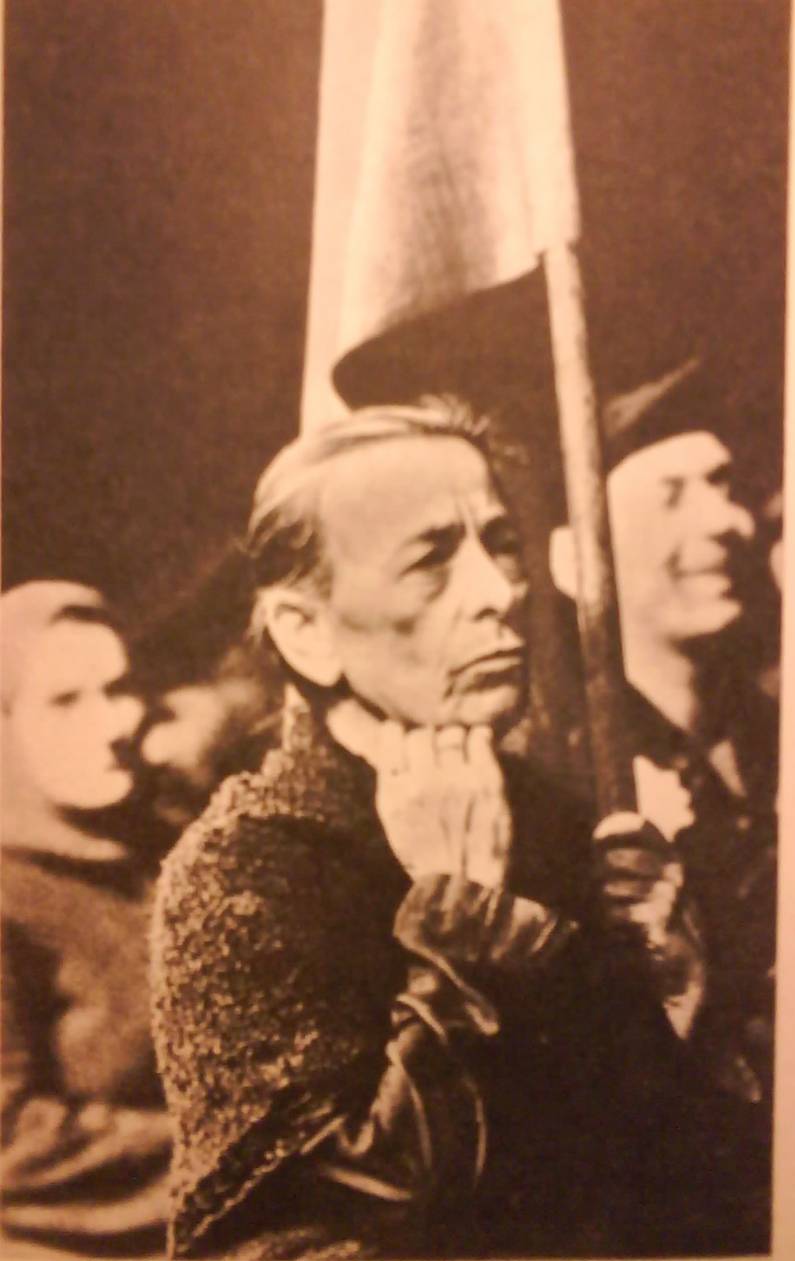
«Мать». 1968

Фрау Гроссман. «Кацграбен». 1953


Нателла Абашвили. «Кавказский меловой круг». 1957


Марта Флинц. «Фрау Флинц». 1961

Василиса. «Воспитанница». 1955

Волумния — Е. Вайгель. Кориолан — Э. Шаль[87]. «Кориолан». 1965


Волумния — Е. Вайгель. Кориолан — Э. Шаль. «Кориолан». 1965

Волумния. «Кориолан». 1965

Е. Вайгель. 1969
Рудольф Фостер, которому Йеснер поручил эту роль, играл ничтожное существо — тупоумное, озлобленное и агрессивное. Его король Джон явно предвосхищал будущего брехтовского Артуро Уи с его прототипом Адольфом Гитлером, который всего через два с половиной года придет к власти в Германии, а пока что вербует себе сторонников и убирает с дороги противников.
Политическая направленность спектакля, его идейное звучание ясно ощущались в рецензиях тех лет, но нигде не были выражены впрямую. Разговор велся не о содержании, а о форме. Форма действительно была интересной.
Этим спектаклем Йеснер продолжал то, что было найдено в «Эдипе», — «овеществление» сцены. Он ввел чтеца-комментатора, который дополнял действие показом географических карт и генеалогических таблиц, рассказывал семейную хронику королевского дома; надписи разъясняли происходящее. Прежний, стремительно-экспрессивный стиль Йеснера начала 20-х годов окончательно сменился стилем изложения, комментария. Многи называли это эпическим театром. Здесь было действительно совпадение с теоретическими положениями Брехта, который обвинял Рейнхардта и раннего Йеснера в том, что у них собственно театр главенствовал над словом и требовал выдвижения на первый план текста как главного носителя мысли. Этому, по идее Брехта, должны были служить и проекции заголовков, титры, все то, что помогло бы актеру прийти к эпическому стилю, к «показу показа».
Введение элементов эпизации было для Йеснера, безусловно, связано со стремлением к политической и идеологической действенности спектакля. Это стремление поддержала вместе с актерами Рудольфом Форстером, Вальтером Франком, Эрихом Риве, Вольфгангом Хайнцем и Елена Вайгель, игравшая вдовствующую королеву Констанцию. Это было острогротесковое воплощение же-
65
стокости и насилия, «злой тролль,
безумные призрак», по словам А. Керра[88].
Леопольд Йеснер шел своим путем, отличавшимся от пути Пискатора или Брехта, но для зрителей его театра, для актеров, игравших у него, для Елены Вайгель режиссура Леопольда Йеснера была школой публицистического искусства, выходом к политическому театру[89].
Необходимость превращения искусства в активное средство борьбы становилась все более настоятельной. Она формировала театральную систему Брехта, впрямую связанную с политическими задачами. «Мы определяем нашу эстетику, равно как и нашу этику, потребностями борьбы.
В 1929 году Вайгель и Брехт жили уже не на чердаке — хотя и
на последнем этаже. Бернгард Райх, побывавший у них летом того года,
рассказывал о пяти просторных комнатах на Гарденбергштрассе: зимний сад, мебели
мало, она низкая, удобная — стиль «новой вещественности»; качалка в углу, на
столике — кофе в крохотных чашках.
Благосостояние — результат триумфа «Трехгрошовой оперы». У Брехта новый
автомобиль; после беседы они отправились в нем в кино — там премьера фильмов
Чарли Чаплина. Один из фильмов — «Эмигрант»; после просмотра Райх,
66
приехавшие из Советской России, рассказывали о жизни там, о спектаклях Мейерхольда и Таирова, о Маяковском, Третьякове, о марксистской критике и теории искусства.
В августе 1930 года в театре на Шиффбауэрдамм начались репетиции музыкального спектакля «Хеппи энд». Его создавали Брехт, его сотрудница Элизабет Гауптман, композитор Курт Вайль, режиссер Эрих Энгель, художник Каспар Неер — все те, кому была обязана оглушительным успехом «Трехгрошовая опера». О ней откровенно напоминала пьеса, героями которой были гангстеры и проповедники Армии спасения. В конце пьесы они объединялись и учреждали банк: Брехту хотелось показать подоплеку религиозно-филантропической деятельности, кому она выгодна и что может за ней скрываться.
Спектакль ставился на той же сцене, что и трехгрошовая опера, и даже премьера была назначена на тот же день — 31 августа.
Вайгель сыграла Муху — предводительницу бандитской шайки чикагских задворков. Это не просто очередная роль, которая радует хотя бы потому, что ролей мало; участие в этом спектакле стало для Вайгель началом непосредственной — и теперь уже постоянной — работы с Брехтом и его сотрудниками.
Совместное творчество Брехта и Вайгель началось, конечно, раньше, еще до этого спектакля: все свои замыслы, идеи, теории Брехт поверял ей, в беседах и спорах с Хелли уточняя, отбрасывая, развивая их. но «Хеппи энд» — первая совместная работа, когда она — на сцене, а он — в зале, за режиссерским столиком, из-за которого то и дело выходит, чтобы помочь актерам показом.
Они долго и очень напряженно работали на репетициях, днем и вечером; Брехт ведь способен сорок раз подряд останавливать актера и просить сделать все снова; он ни за что, например, не допускал, чтобы в роль «прорывались» актерское обаяние или комизм, если они гро-
67
зили затушевать социальные идеи. В конце концов действительно можно было говорить уже о «едином ансамбле» и «едином стиле» (Йеринг): все актеры играли легко, четко, немного суховато и очень выразительно.
«Единый ансамбль» — это для Вайгель очень важно. Ей до сих пор еще не доводилось участвовать в спектаклях, которые заслуживали бы таких слов. Все же «Хеппи энд» успеха не имел. Повторения редко удаются: пьеса была слишком длинна, отдельные ее части несоразмерны, зонги хороши, но их оказалось слишком много… К тому же спектакль снова обращался к буржуазному зрителю, эпатируя его, но не превращаясь в средство борьбы.
Поворотом к новому пролетарскому зрителю стала постановка «Мероприятия» в ноябре 1930 года. Здесь Врехт и автор музыки Ганс Эйслер обращались к завтрашним бойцам революции. Однако они не считали себя только учителями — они и соратники, и ученики сами. Позже, после постановки «Мероприятия», Брехт получил от рабочих несколько сот писем и записок и внес по ним в пьесу немало исправлений. Спектакль заведомо провоцировал зрителя откликнуться: он был построен как дискуссия как урок политической борьбы как судебное разбирательство[90]
Четыре агитатора-коммуниста, направленные в Китай вести подготовку к революции, представ перед «контрольным хором», сообщают об убийстве товарища, которого им пришлось застрелить и бросить в яму в негашеной известью. Товашищ этот часто действовал правильно порою — неверно, но в конце концов поставил под угрозу дело революции. Агитаторы требуют, чтобы хор вынес им приговор, признавая заранее этот приговор справедливым. Они разыгрывают в лицах все, что произошло, изображая поочередно и в различных политических ситуациях самих себя, убитого товарища, председателя парткома, китайцев-кули, надсмотрщика, рабочих-текстильщиков, полийцейского, богатого купца.
68
Молодой товарищ беззаветно предан революции, но он «впадает в жалось», пытаясь своими руками помощь беднякам-кули или защитить рабочих от полицейского; он «Ставит слишком высоко свою честь», не соглашаясь сесть за один стол с богатым купцом, хотя купец этот мог бы вооружить рабочих против англичан. Сцена за сценой агитаторы показывают хору, как важна партийная дисциплина, как опасно отделять чувство от разума и починяться чувству, ставя под угрозу общее дело. Разум и логика революционной борьбы неумолимы: нельзя построить мир, оберегая чистоту рук, настаивает пьеса.
В грязи утопай. Пируй с палачами.
Только мир измени.
Так нужно.
Страшные слова, жестокая программа. Но агитаторы требуют этого во имя революции — и хор от сцены к сцене слушает их все более сочувственно, уже не как обвинитель, а как ученик. В сцене «Измена» молодой товарищ, потрясенный страданиями бедняков, начинает действовать вопреки советам трех агитаторов, противопоставив тем самым себя — одиночку — партии. Из-за него агитаторов опознали, их преследуют, они не могуть переправить товарища через границу, но и оставить здесь тоже не могут.
Страшно убить.
Но ведь не что других — и себя мы убьем, если нужно:
Ведь только насилием можно
это мертвящий
мир изменить…
В конце хор не только одобрял «мероприятие», но и славил боевые революционные качества агитаторов; последние его слова были снова об изменении мира.
Для Брехта, как и для других создателей спектакля, «Мероприятие было попыткой разрешить волновавшую
69
их тогда проблему отношения личности и коллектива. При этом не обошлось без крайностей в понимании революционной морали. Работа над аскетичной и жестокой «учебной пьесой» стала для актеров уроком художественного самоограничения и самоотречения.
Режиссером спектакля был Златан Дудов. В премьере участвовали три лучших рабочих хора Большого Берлина, а роли агитаторов исполняли Эрнст Буш, Елена Вайгель, Александр Гранах и А. М. Топиц — профессиональные актеры. Вайгель впервые довелось работать вместе с участниками самодеятельности. Рабочие больше месяцы репетировали после работы, по вечерам ведь это их, кровное дело. Брехт и Эйслер, создавая пьесу, надеялись на воздействие музыки нисколько не меньше, чем на прозаический и стихотворный текст; кроме того, «Мероприятие», как и другие учебные пьесы, призвано было обучать не только (да и не столько) зрителей, сколько самих исполнителей («Задача исполнителей — певцов и драматических актеров — поучать, учась самим»[91]). Поэтому работа над спектаклем, в котором участвовали и профессиональные, и самодеятельные актеры, важна была и для тех, и для других.
Премьера состоялась 10 декабря 1930 года в зале Берлинского
Большого драматического театра; позже спектакль играли в зале Берлинской
филармонии. Хор и музыканты занимали центральную часть сцены, четыре агитатора
в одинаковых кожаных куртках — на длинной скамье справа от публики. Вайгель,
так же как и трое других агитаторов, не играла какого-то определенного
человека: их имена, хотя они поначалу и были названы в пьесе («Карл Шмидт из
Берлина,
70
надеть маски и стать неизвестными борцами. Жанр учебной пьесы и не предполагал, по выражению Брехта, «своеобразных, неповторимых характеров»; для исполнителей «Мероприятия» драматург сделал специальное указание: «Каждому из четырех исполнителей следует дать возможность продемонстрировать поведение молодого товарища, поэтому каждый должен сыграть одну из четырех основных сцен молодого товарища»[92].
На репетициях «Мероприятия» родилось содружество единомышленников: композитора Эйслера, поэта Брехта и двух исполнителей их баллад и зонгов — Вайгель и Буша. Эйслер так сказал о тех днях: «Мы включились в политическую каждодневную борьбу»[93].
Эрнст Буш и Ганс Эйслер встретились еще раньше, в 1928 году, когда Буш играл на сцене театра Пискатора, одновременно выступая в «красных кабаре» с исполнением сатирических и революционных песен. Эйслер и Буш создавали песни на стихи Курта Тухольского, Эриха Вайнерта, Давида Вебера; когда в их содружество вошел Бертольт Брехт, родился новый стиль исполнения песен. В нем острая политическая злободневность, открытая тенденциозность соединились с четкостью то повелительно-призывной, то интимно-речевой интонации, с предельной ясностью и проникновенностью мелодии.
Поэто Стефан Хермлин вспоминает об одном из таких концертов 1930 года: «…Это было в одном из пивных залов где-то на севере Берлина. Большая комната, украшенная гирляндами, оставшимися от недавней танцульки. На складных стульях сидят молчаливые люди в кепках, в старых кожаных куртках. Они расположились вокруг столиков и пьют пиво… На маленькую сцену выходят Эйслер и Буш. Эйслер садится за расстроенный рояль, втащенный на подмостки. И вот я впервые слышу
71
песни, которые я, так же как и миллионы других людей никогда не забуду… Эйслер и Буш обращаются к слушателям, они спрашивают, что еще спеть. Отовсюду несутся требования исполнить песни на слова Брехта или Вайнерта…»[94]
Елена Вайгель начала выступать вместе с Бушем и Эйслером в «красных кабаре» и на рабочих собраниях — спетва она читала стихи и баллады, вскоре стала и петь.
В эти годы, когда фашизм из угрозы становился зловещей реальностью, они выступали перед рабочими постоянно. Эйслер вспоминает, что не было, пожалуй, ни одной, самой крохотной, пивной, где бы они не пели, не говоря уже о больших концертных и театральных залах. Песни стали их средством борьбы. Они пели о самом насущном, конкретном, о том, что стояло в газетной полосе, в листовке, в предвыборном плакате. Вся пролетарская германия боролась против пресловутого параграфа 218 Веймарской конституции — буржуазное законодательство воспрещало аборт, ставя под удар судьбу женщины. В ноябре 1931 года Коммунистический союз молодежи показал агитпрограмму-ревю «Мы так довольны, так довольны…»; на примере некоей семьи Фрезе высмеивались и разоблачались обывательские иллюзии. Брехт написал для этого ревю балладу о параграфе 218 — «Ах, доктор…» на музыку Эйслера, и Вайгель исполняла ее.
Как и другие политические баллады Брехта — Эйслера, «Ах, доктор» основана на конкретном драматическом сюжете, это по сути дела театр, небольшая сценка — напряженный диалог между женщиной-пролетаркой и врачом, отказавшимся ей помочь. Женщине в этом диалоге едва удается время от времени вставить два-три слова — напыщенная, самоуверенная тирада-нотация доктора тут же перебивает и заглушает ее жалобы.
72
— Ах, доктор, ведь нынче просто…
— Вздор, вы помогать должны
Естественному приросту
Населенья своей страны.
— Ах, доктор, ведь мы без крыши…
— Вздор, есть же у вас кровать?
Пока вас никто не слышит,
Советую помолчать.
Для армии непобедимой нашей
Придется вам, дружочек, стать мамашей.
И скажу вам притом: рассудите о том,
Что послужите делу своим животом,
А прочее — вздор!
Рожаем — и весь разговор!
После исполнения Еленой Вайгель этой баллады в зале возникала стихийные митинги протеста против издевательского закона.
Не на театральных подмостках, а здесь, в пивных, танцевальных залах, «красных кабаре» рождалась новая тема актрисы Вайгель — тема женщины-пролетарки, матери. Она пела четыре «Колыбельные песни рабочей матери» Брехта — Эйслера. Это не баллады, не зонги: Эйслер создал для каждой из них свою подлинно песенную лирическую мелодию — в то же время все четыре песни мелодически схожи, они как бы переходят одна в другую, продолжая и развивая цикличность стихотворного текста.
— Когда я тебя рожала, у нас нечем было платить за свет, не было денег на доктора. — пела Вайгель. — Когда ты родился, не оставалось даже надежды на хлеб и на труд, но у Маркса и Ленина было твердо сказано, что будущее — за рабочими. Я боялась, что тот, кого я ношу в себе, придет в недобрый мир; я решила — он исправит этот мир, добудет хлеб и уголь, не даст погубить себя на войне, как погубили его отца…
73
И вот я родила тебя — это большая победа, мой сын, это выигранная битва! Мне пришлось бастовать, сражаться с полицейскими — все для того, чтобы ты вырос и встал тоже в ряды бойцов.
Они не оставили для тебя на свете места — разве что мусорная свалка, да и ее отнимают. Но я не для того родила тебя, чтобы ты ночевал под мостом, отмечался на бирже труда и погиб на их войне. Мы должны держаться вместе — чтобы не было в мире больше людей двух сортов…
Вайгель исполняла эти песни в залах, где сидели те, о ком она пела, чувствовала себя частицей этой аудитории — и была счастлива.
В сезоне 1931/32 года закрылись многие государственные и частные театры: правительственная субсидия была сильно урезана или вовсе отменена. Кризис и фашизм расползались по всей Германии. Безработные актеры объединялись в коллективы, ведущие политическую агитацию («Труппа 1931»), давали ночные спектакли в арендованных театральных залах. Росло число самодеятельных пролетарских агитпроптрупп — «Синие блузы», «Красные ракеты», «Труппа Юго-восток», «Левая колонна». Им приходилось не только выступать, но и вести борьбу с фашистскими молодчиками, затевавшими скандалы, драки, провоцировавшими столкновения.
В те дни, в январе 1932 года, в годовщину убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта, на сцене Театра комедии на Шиффбауэрдамм состоялась премьера пьесы Брехта «Мать» по роману М. Горького. Елена Вайгель исполнила в этом спектакле главную роль — Пелагеи Власовой.
Брехт был не первым в Германии, кто инсценировал роман «Мать». До него это делали молодые драматурги Гюнтер Вайзенборн и Гюнтер Штарк. Они боялись отступить от текста и структуры романа, поэтому постарались сцену за сценой переложить его в форме диалогов.
74
Но инсценировка была слишком упрощенной фрагментарной. Так, в конце первой небольшой сцены мать сразу же шла с листовками на фабрику. Не было показано, как шаг за шагом робкая неграмотная женщина становится настоящей революционеркой, терялось главное в романе — процесс роста героини.
Брехт избрал другой путь. Он предложил не инсценировку, а оригинальную пьесу по мотивам романа и «многим Рассказам товарищей пролетариев об их Ежедневной работе» — так он сам позже писал в стихотворном «Письме к Нью-Йоркскому рабочему театру ”Юнион“ касательно пьесы ”Мать“». Ему хотелось представить «повседневные, Тысячекратно разыгрывающиеся события… как исторические события, Ничуть не уступающие по значению прославленным Подвигам хрестоматийных полководцев и государственных мужей». О Пелагее Власовой, вдове рабочего и матери рабочего Брехт хотел рассказать как об исторической героине, сделав ее образцом для подражания.
Гюнтер Вайзенбонрн согласился сотрудничать с Брехтом; они использовали некоторые сцены из прежней инсценировки, перерабатывали их, создавали новые. Им помогали Златан Дудов и Ганс Эйслер.
В своем письме, присланном в 1957 году Музею Горького, Ганс Эйслер рассказывал: они с Брехтом просили Горького разрешить инсценировку и получили согласие. В 1935 году Эйслер, будучи в Москве, посетил Горького и услышал дружеские, ободряющие слова о пьесе Брехта и своей музыке к ней[95]. О том, что пьеса была авторизована Горьким, упоминали позже Брехт и Вайгель.
Вайзенборн вспоминал об этой совместной работе: «Мы писали пьесу, разыгрывая ее. Мы импровизировали целые сцены. Расхаживая по комнате, Брехт как бы
75
играл роль матери, я отвечал ему, как Павел. Потом мы менялись ролями. Каждая реплика подвергалась обсуждению и тут же записывалась. Чтобы правильно понять произведение Горького, мы читали Ленина и Плеханова. Я смело могу утверждать, что Горький сделал меня социалистом. Абсолютно уверен в том, что и Брехту работа над пьесой по мотивам Горького помогла стать марксистом»[96].
Брехт расширил временны́е рамки романа, доведя действие до 1917 года — до торжества революции. В нокце пьесы Пелагея Власова обращалась впрямую к немецкому рабочему, призывая побежденных встать во весь рост, не отказыватсья от борьбы, не терять мужества, ибо
Несокрушимое — сокрушимо…
..................................
Если ты понял все, кто сможет тебя удержать?
Побежденный сегодня — победителем будет завтра.
Из «никогда» рождается «ныне».
Было создано фактически новое произведение. В нем много стихотворных вставок — зонги и хоры. Добавлены эпизоды, которых нет у Горького. И хотя сохранены русские имена, названия городов, верность оригиналу для Брехта не в этом.
Перед нами не «Тверь» и не «Ростов», а Германия начала 30-х годов, времени тяжелого экономического кризиса. Германия, в которой учитель по фамилии Весовщиков, вернувшись вечером из пивной и принимая ножную ванну, говорит о закате цивилизации, о вреде науки и техники и о необходимости сопротивляться знанию. Германия, в которой бастуют и борются со штрейкбрехерами сельскохозяйственные рабочие, а во время
76
первой мировой войны женщины стоят в очереди перед конторой, занимающейся «патриотическим сбором меди».
В пьесе поднимаются проблемы, важные для немецкого рабочего класса на рубеже 20—30-х годов: борьба с реформизмом, с угрозой войны, со штрейкбрехерством, с идеализмом в понимании революции, марксизма. Но не случайно Брехт, стремившийся написать о своем народе и для него, обратился к Горькому — «Учителю народа, учившемуся у народа», как он назвал его в стихотворной эпитафии. Этот период для Брехта — время идейного и художественного созревания, становления. С 1926 года в Берлине решением Коммунистической партии Германии была организована «Марксистская рабочая школа», где по воскресеньям проходили занятия, совместные дискуссии рабочих и деятелей искусств. Брехт усиленно изучал Маркса и Ленина, посещал эту школу, приносил туда на диспуты свои «учебные» пьесы.
Наступило время. когда нужно было отдать рабочему классу то, чему учился, чтобы помочь ему бороться, обрести новые силы, веру в себя, чтобы научить его «…определенному практическому поведению, направленному на изменение мира» («Примечания к пьесе ”Мать“).
Брехт взял у Горького и пересказал основное — судьбу матери, ее эволюцию. Конкретная «Жизнь революционерки Пелагеи Власовой из Твери» — таков был подзаголовок пьесы — обретала расширительный, обобщающий смысл. Первая сцена так и была озаглавлена: «Власовы всех стран». Россия 1905—1917 годов, Германия 20—30-х годов — за ними вырастал весь мир, который — это главная мысль диалектика Брехта — может и должен быть изменен.
Пьеса Брехта, кроме того, служила революции как семинар, как пособие. «Инсценировка… учила нелегальной революционной борьбе, печатанию листовок, неле-
77
гальной работе в тюремных условиях, умению скрытно противоборствовать духу милитаризма», — писал Брехт («О немецкой революционной драматургии»).
Конкретностью политических задач определялась эстетика спектакля.
Сцена, оформленная Каспаром Неером, не изображала какою-либо реальную обстановку, а лишь напоминала о ней. Легкие ширмы из белых холстов, натянутых на металлические трубки, разгораживали сценическое пространство, намечая при перестановке улицу, комнату, фабричный двор, тюрьму. Скупой, самый необходимый реквизит лаконично удостоверял место действия.
Оформление не только обозначало, но и рассказывало: существенным его компонентом был служивший задником большой экран, на который проецировались фотодокументы, титры, цитаты. Они сообщали зрителю о сути показываемых событий, давали к ним политический комментарий. Образуя открытый публицистический ряд, параллельный сценическому действию. Они выводили это действие к широким обобщениям.
Аскетизм оформления имел и чисто практический смысл, отвечавший массовым пропагандистским задачам спектакля. Складные, предельно простые декорации были удобны для транспортировки, годились для любой сценической площадки. Если бы полиция прервала спектакль (что и случалось неоднократно), то все оформление можно было мгновенно «свернуть».
Графическая четкость мизансцен, скупая, строгая пластика актеров, весомость, продуманность каждого произносимого ими слова — все было подчинено ясному концентрированному выражению мысли.
Режиссеры Бертольт Брехт и Эмиль Бурри поставили «Мать» с «Группой молодых актеров». новый коллектив, отделившийся от театра «Юнге Фольксбюне», состоял из любителей и актеров-профессионалов — Елены Вайгель, Эрнста Буша, Тео Лингена, Герхарда Бинерта.
78
Изображая конкретных персонажей, актеры одновременно рассказывали о них и о происходящих событиях, обращаясь непосредствено к залу.
…жесты их были скупы и характерны.
Они четко произносили свои фразы.
Произносили взвешенные слова, слова,
За которые можно поручиться.
…Их поведение было Естественным.
Однако все малозначительное было
Посел длительных раздумий сокращено.
(«Письмо к Нью-Йоркскому рабочему театру «Юнион» касательно пьесы «Мать»)
В суровости и жесткости спектакля и заключалась особая сила его воздействия. Ее увеличивали музыка, песни, зонги. Политическая инструкция обретала художественную убедительность. Это была программа классовой борьбы, ставшая — зрелищем.
В начале спектакля Вайгель произносила свой текст так, словно он написан в третьем лице. «Я, Пелагея Власова, вдова рабочего и мать рабочего…» — актриса представляла зрителю ту героиню, которую ему предстоит видеть в течение нескольких часов. Никоим образом она не жалела, чтобы зритель, вообразив себя незримым свидетелем, начал «сопереживать». Ей было важно, чтобы зритель видел и думал. Раздавая листовки, Власова говорила Смилгину: «Я — неграмотная», и это было ясно: это сказано не только в свою защиту, это и обвинение самой себе. Когда же позже она сообщала, что может сама теперь прочесть документы партийного съезда, в этом были и гордость, и юмор, и напоминание о той сцене, где она не умела читать. Был и характер — конкретный, живой, человечески понятный.
«Из всех возможных черт, вспоминал Брехт, — она неуклонно выбирала те, показ которых содействовал са-
79
мой широкой политической трактовке образа Власовой (следовательно, и вполне индивидуальные, своеобычные и неповторимые!), а также те, которые содействуют работе самих Власовых; иными словами, она играла так, будто перед ней сидят политики, однако это не умаляло ее как артистку, а ее игра не перестала от этого быть искусством» («Примечания к пьесе ”Мать“»).
Худенькая, чуть сгорбленная, с натруженными руками, одетая в простую темную блузу и длинную юбку — в этой Пелагее Власовой с первой минуты узнавалась женщина из пролетарских низов, прожившая нелегкую жизнь. «В ”Матери“ я поймала себя на том, что играю Власову скособочившейся, перегнувшейся в одну сторону. Я поняла вдруг, что накренилась не зря: ведь при тяжелой работе всегда одно плечо становится выше другого. Я решила закрепить это и в платье Власовой подшила валик под левой плечо»[97].
Социальная конкретность характеристики соединялась с индивидуальной. Робкая и дерзкая, простодушная и лукавая одновременно, деловитая и очень остроумная — такой видели зрители эту женщину, хотя актриса и не перевоплощалась целиком, без остатка в свою героиню. Она играла и саму Власову, и свое отношение к ней.
В сцене «Мать с горечью видит сына в обществе революционеров-рабочих», когда Власова после обыска вызывалась идти на фабрику с листовками, Вайгель ясно и с добрым юмором показывала, что ее героиня вовсе еще не сознательный борец, а только мать, движимая страхом за сына и потому выполняющая вместо него «дурное дело».
Как ниточка разматывается — сначала она учится сама, потом начинает учить других. Сначала она мать только своего сына, потом Мать его дела.
80
Настоящим товарищем сына в его нелегальной работе она становится после первомайской демонстрации.
В этой сцене ее маленькая, закутанная в платок фигура, лицо с удивленными и недоверчивыми глазами виднелись сначала на заднем плане, за спинами других. Демонстрация не «игралась», а рассказывалась. Сцена так и называлась «Рассказ о Первом мая 1905 года». Исполнители стояли, будто бы перед судом, сообщая, как проходила демонстрация.
Андрей. Рядом со мной шагала Пелагея Власова, вплотную вслед
за своим сыном. Когда мы утром за ним зашли, она вдруг вышла из кухни уже
одетая и на наш вопрос: куда она? — ответила…
Мать. С вами.
В конце сцены актер, исполнявший роль Смилгина, символизируя поражение, падал на колени.
Иван. «Да», — ответил он и упал ничком, потому что они его
застрелили.
Андрей. Четверо или шестеро их кинулись захватить знамя.
Знамя лежало рядом с ним. И наклонилась тогда Пелагея Власова, наш товарищ,
спокойная, невозмутимая и подняла знамя.
Мать. Дай сюда знамя, Смилгин, — сказала я. — Дай! Я
понесу его. Все это еще переменится.
На этих словах Вайгель выступала вперед, склонялась к упавшему и подхватывала выпавшее из его рук знамя.
Теперь уже не было страха в ее глазах. Движения становились более спокойными, уверенными. Сознательное участие в революционной борьбе давало ей чувство собственного достоинства.
Сцена печатания листовок. Печатный станок для Власовой—Вайгель — оружие пролетариата и в то же время как бы собственное дитя. Бережно, заботливо вытирает
81
она его, начинает работать. Из ссылки вернулся сын, нужно поговорить, расспросить его, но листовки должны быть готовы вовремя и оторваться нельзя. Просияло, осветилось лицо, когда Павсел начал помогать ей, и вот они вместе — мать и сын — делают одно общее, необходимое для революции дело, и только тогда спрашивает она Павла: Трудно жилось? — Ел-то хоть по-человечески? — Ты теперь надолго?
А когда выясняется, что Павел должен уйти немедленно, мать помогает ему надеть пальто и тихо гладит по спине; нежно, как раньше к станку, прикасается она к меху, который греет ее сына.
Елена Вайгель нигде не позволяла себе впасть в открытую патетику, хотя, казалось бы, почти каждая сцена пьесы дает для этого основания. Во всем сдержанность, строгая красота, самоограничение в передаче чувств — при громадной внутренней наполненности. Она застыла, узнав о смерти Павла, онемела, кричит лишь ее молчание. Но в следующей же сцене она — Просветитель — учит других, пытается пробиться к разуму женщин, пришедших ее утешить. Трезво и неуклонно вела Вайгель зрителя по тому пути, которым шла Власова. При этом она играло не только умно, диалектично, но и человечено: это с изумлением констатировали даже противники спектакля. И не скупалась на юмор.
В зрительном зале
Часто слышался смех. Неистребимый юмор
Хитрой старухи Власовой,
Основанный на уверенности
Ее молодого класса, возбуждал
Радостный смех на скамьях рабочих.
(«Примечания к пьесе ”Мать“»)
Власова—Вайгель училась революции, теряла сына-революционера, становилась стойким борцом. И во всем она была Матерью, идущей от боязни за сына к великой
82
радости, великому материнскому счастью — иметь общее с сыном дело.
Вечна жалоба, что быстро
Матери теряют сынов, но я
Сохранила сына. Как сохранила?
Через третье.
Он и я — было нас двое; но нас единило
Третье — общее дело, которое мы
Вместе вели.
Роль Пелагеи Власовой прошла через всю творческую жизнь Елены Вайгель.
Брехт несколько раз переделывал пьесу, добавлял одни эпизоды, сокращал другие, но неизменным оставалось главное — эволюция Пелагеи Власовой, женщины—Матери—революционерки.
В 1951 году «Мать» была поставлена Брехтом в недавно организованном театре «Берлинер ансамбль». Когда Вайгель, умудренная опытом, пережившая долгие годы эмиграции, вышла на сцену и обратилась к зрителям: «Я, Пелагея Власова, вдова рабочего и мать рабочего…» — оказалось, что спектакль не потерял остроты. Освободившись от излишней жесткости, обусловленной временем его рождения, он обрел новое, более широкое дыхание. Отпали конкретные задачи обучения зрителя тактике революционной борьбы, дав простор идее величия и красоты человека, служащего высокому и праведному делу. В трудные годы становления молодо й Германской Демократической Республики эта идея наполнялась насущным современным смыслом.
Не теряла актуальности и проблема классовой борьбы. В одном из писем, полученных Вайгель после премьеры, об этом было сказано так:
«Дорогой товарищ Вайгель! У нас сейчас много более важных дел, чем писать и читать такие письма. Но все же мне хотелось бы тебе сказать вот что:
83
Я из Западного Берлина. Получилось так, что в последнее время я начал уставать от борьбы со злобой наших классовых врагов и с глупостью наших товарищей по классу. Вчера я посмотрел твою ”Мать“, теперь я снова обрел мужество и другие товарищи тоже.
Мне кажется, ты обрадуешься, узнав это.
Приветствую тебя и товарища Бертольта Брехта и благодарю вас.
Товарищ из Западного Берлина»[98].
В 1932 году после премьеры «Матери» в прессе разразилась буря.
«Эпическая пьеса Брехта ”Мать“, премьера которой состоялась в Театре комедии, — это дерзкая большевистская пропаганда, кроме того, она скучна и разрушает всяческие иллюзии, которых обычно ждешь от театра»[99].
Автор статьи «Коммунистическая ”Мать“» в газете «Германия» яростно возражал тем, кто считал, что Брехт якобы открыл новый стиль театрального искусства.
«…За ним стоит вовсе не его индивидуальная воля. Не его художественный замысел. За ним стоит — и это доказал спектакль в Театре комедии! — вся коммунистическая идеология. Она стоит за драматургом Брехтом, который постепенно превратился в одного из литературных истолкователей большевизма в Германии. Поэтому оценивать его надо не в эстетическом, а в политическом плане[100].[101]
— Да! — утверждала рабочая газета «Ротэ пост». «Этот политический театр заставляет нас думать. Никакитх внешних эффектов, чтобы мы сконцентрировались на важном, решающем… Этот отказ от иллюзии —
84
знак громадного уважения к зрителю… взрослому, думающему человеку, который может и хочет решать сам»[102].
«Группа молодых актеров» играет «Мать» на выездных спектаклях, на предвыборных митингах Коммунистической партии Германии.
Через тридцать спектаклей «Мать» на выездных спектаклях, на предвыборных митингах Коммунистической партии Германии.
Через тридцать спектакль «Мать» запрещена. Официальная мотивировка: во-первых, отсутствие интереса общественности (а в это время были раскуплены билеты на тридцать предстоящих спектаклей); во-вторых, плохое состояние сцены и опасность возникновения пожара. Разрешена только читка пьесы — без игры, реквизита, костюмов. Вот какими, оказывается «огнеопасными» были жести и мимика Вайгель—Власовой и Буша—Павла.
Встав полукругом на крохотной сцене Моабитского рабочего клуба, актеры читают текст. Раздается полицейский окрик: «Это не читка, это спектакль: один актер повернулся лицом к другому!» Актеры садятся на стулья, продолжают читать не глядя друг на друга. Снова окрик: «Вы сделали жест, значит, вы играете. Прекратить!»
Спектакль был запрещен в начале 1932 года, а в конце его Елену Вайгель арестовали (правда, на небольшой срок) за исполнение на вечерах и митингах песен из спектакля.
Для Вайгель и Брехта началась полоса репрессий. Следующей подвергся фильм «Куле Вампе, или Кому принадлежит мир», снятый в 1932 году режиссером Златаном Дудовым.
Сценарий был написан Брехтом и Эрнстом Оттвальтом, музыка — Эйслером. В массовых сценах, занимавших значительное место в фильме, снимались непрофессиональные актеры (рабочие-спортсмены), главную роль
85
играл Эрнст Буш, а рассказывал фильм о попытке молодых безработных как-то вырваться из нужды и горя, создать кооперативное хозяйство в одном из предместий Берлина. Участвовала в фильме и Вайгель, но она не показывалась на экране. Звучал только ее удивительный голос, исполняющий балладу «Весна». Это очень точное «попадание»: музыка Эйслера, слова Брехта и голос Вайгель, в котором дышал, жил, негодовал большой город с гудками и шумом машин, с рокотом очередей безработных у биржи труда, с ритмами хоровых декламаций агитпропгрупп, с поступью пролетарских колонн.
В фильме снимались четыре тысячи рабочих-спортсменов; агитпропгруппа «Красные рупоры» выступала под собственным именем с пантомимами и песнями; в этой картине впервые прозвучала «Песня о солидарности», которую вскоре голос Эрнста Буша разнесет по всему свету: «Вперед! Наша сила — в солидарности!» (Лица членов агитпропгруппы «Красные рупоры» в кадрах фильма, на фотографиях тех лет… как удивительно все они похожи на Вайгель: горящие глаза, уверенные энергичные жесты).
Министерство культуры вкупе с министерством внутренних дел запретили демонстрацию фильма с «отчетливо выраженной коммунистической тенденцией, угрожающей жизненно важным интересам государства и общества». Создатели «Куле Вампе» вели борьбу за его выпуск на экраны, в апреле последовал второй запрет;наконец картина была разрешена к показу, но в урезанном виде. Против запретов этого первого социалистического фильма в истории немецкого кино вместе с его авторами выступили единым фронтом коммунисты, социал-демократы, Лига борьбы за права человека, «Юнге Фольксбюне». Эрнст Толлер, председательствовавший на митинге протеста, назвал запрет фильма «духовным террором».
Премьера фильма состоялась в середине мая 1932 года, но не в Берлине, а в Москве; Брехт и Дудов ездили
86
туда, после возвращения «Куле Вампе» был наконец показан и в берлинском кинотеатре «Атриум», где в течение первой недели его посмотрели 14 000 зрителей.
А менее чем через год цензура — теперь уже фашистская — снова запретила фильм…
После поездки в Москву на премьеру «Куле Вампе» Брехт написал стихотворение «Переезжая границу Советского Союза», в котором были горькие слова о своей родине — стране беспорядка и преступлений. Но тогда Вайгель и Брехт еще не подозревали, что вскоре им придется оставить Германию на долгие годы.
Весной 1932 года Вайгель играла госпожу Лаккернидл в пьесе Брехта «Святая Иоанна скотобоен» на радио. С ней вместе — Карола Неер, Эрнст Буш, Петер Лорре, Пауль Бильдт. Роль Маулера исполнял Фриц Кортнер, которому в последнее время трудно стало выступать на сценах берлинских театров. На одном из спектаклей у Рейнхардта разразился скандал, крики, свистки — нацисты требовали убрать из немецкого театра самого Рейнхардта и Кортнера. Дали занавес, а наследующий день изъяли из репертуара пьесу. А через несколько месяцев актер Ганс Альберс избил Кортнера прямо на сцене…
Началась страшная, позорная эпоха в истории Германии.
30 января 1933 года Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером. 27 февраля фашисты подожгли рейхстаг. На следующий день, предупрежденные друзьями об опасности ариста, Вайгель и Брехт с сыном покинули Германию (маленькую дочь Барбару пока не взяли, ее вывезут после).
С родиной, с немецкой сценой Вайгель пришлось расстаться как раз тогда, когда ясно определились ее актерский путь и ее назначение, когда она обрела свой театр и себя в нем.
87
Долгое время многие ценили в ней прежде всего темперамент. Действительно, она поражала им во всех своих ролях, начиная с самых первых. Всем существом она отдавалась игре. Стихии чувств, захлестывая зрителя изобилием красок. На этом пути актрисе угрожала опасность экзальтации. От нее уберегли тонкое чутье, вкус к правде — и обращение к разуму.
К революционному искусству, к «театру социальных понятий и политических страстей» Вайгель пришла естественно, органично. Став адептом брехтовской веры, она себя не утратила, но себя нашла. Отказ от полного слияния с персонажем, отчуждение от него не привели к рассудочности, схематизму, не обеднили. Вайгель многое приобрела.
В откровенно пропагандистских спектаклях политического театра ее темперамент, яркая выразительность оказались притушенными. Но никуда не ушли. Они были поставлены на службу конкретным задачам спектакля, роли. «Да, темперамент нужен, — Брехт, — вернее, нужна полнота жизненных сил, но не для того, чтобы увлечь зрителя, а чтобы достичь яркости, которая необходима сценическим образам, ситуациям, репликам» («Общие тенденции, с которыми нужно бороться актеру»). Именно этой яркости и достигала Вайгель. Самоограничение, которого потребовала от нее суровая, жесткая эстетика нового театра, было плодотворным. Из многообразия средств сценической выразительности актриса училась отбирать, в роли — выделять главное, сохраняя богатство черт. У Брехта есть статья 1939 года «Восприятие искусства и искусство восприятия», в ней идет речь об искусстве скульптора, но процесс создания образа описан Брехтом так, что слова эти могут быть отнесены и к театральному искусство вообще, и к искусству Вайгель[103]. «Сначала смело вырубаются грубые, несколько дикие основные формы: это преувеличение, героизация, если угодно, карикатура. Во всем этом нечто
88
животное неоформленное, грубое. Затем приходят следующие более тонкие черты. Но вот одна из деталей… становится доминирующей».
Новая эстетика повышала значимость каждого движения, каждого слова: предельно скупо надо было сказать о многом, выразить важную и глубокую мысль, убедить. Вайгель училась находить самые необходимые, самые выразительные детали, позы, интонации, насыщать смыслом каждую секунду своего сценического бытия. Жест становился метким и емким, слово — весомым и убеждающим. Мысль наполнялась чувством, чувство — мыслью.
Политический театр обогатил содержание ее искусства и придал ему строгие ясные формы. Он пропитал его воинствующим революционным духом и вывел к широким социальным обобщениям. Жизненная натуральность уступила место высокой сценической правде. Этой правдой актриса служила народу, великой и насущной идее пересоздания действительности.
Новое качество ее игры было оценено по достоинству далеко не сразу. Поклонники таланта Вайгель видели в «Матери» обеднение актрисы, узкую политическую утилитаризацию ее возможностей. Но, потеряв в мнении знатоков, Вайгель выросла в глазах того массового пролетарского зрителя, к которому она обращалась со сцены. Об этом Брехт позже написал статью с парадоксальным названием, в котором последнее слово заманчиво, а первое — неожиданно: «Нисхождение Вайгель к славе».
Овладев своим искусством, — рассказывает Брехт, — актриса вышла к самой большой аудитории — народу, затронув важнейшие для него темы. Первый из созданных ею образов — старая женщина из народа — был началом ее нисхождения, ибо это обеспокоило знатоков — зрителей, не относившихся к рабочей аудитории. Они продолжали признавать ее мастерство, но считали, что
89
оно обратилось теперь на недостойный предмет. Следствие этого — закрывшиеся перед Вайгель двери лучших театров. Рабочие же были от нее в восторге, но в первую очередь их волновало содержание, сама же игра значила для них очень мало. Так возник парадокс в восприятии ее искусства. Трудно было свыкнуться с тем, что интерес переместился: с нее — на объект ее изображения. Но, потеряв свою былую славу, она приобрела нечто другое, более важное. «Многие артисты своим искусством достигают того, что зрители совсем перестают видеть и слышать все, что творится вокруг. Вайгель же достигала того, что ее зритель видел и слышал не только ее, а гораздо больше. Искусство ее при этом было многообразно. Она показывала, например, что доброта и мудрость — суть искусства, которым можно и необходимо учиться».
После каждого ее спектакля зрители ощущали прилив новых сил для дальнейшей борьбы, потому что актриса показывала им собственную их мудрость и собственную их доброту. Главным в ее игре была простота и естественность. Она все время совершенствовала свое искусство, проникая в самые глубины жизни. она пробуждала в людях не только чувства, но и мысли. Пробудившиеся мысли доставляли им наслаждение.
«И вот тогда-то, — говорит Брехт, — когда она полностью упустила и утратила свою прежнюю славу, родилась ее вторая слава, она росла и множилась в глубинах памяти немногих гонимых в годы, когда многие были гонимы».
«Меняя страны чаще, чем башмаки…» — так говорит Брехт об
этом времени. Из Германии в Чехословакию, потом в Вену. С ними только сын
Стефан; маленькая Барбара в Аугсбурге у отца Брехта, сложным путем ее удается
вывезти, почти похитить. Вся семья собралась наконец в Швейцарии. В Цюрихе
очень много эмигрантов — Генрих Манн,
«Там» — страшно. 28 февраля, в тот день, когда Брехт и Вайгель прибыли в Прагу, в Германии был опубликован и тотчас же вступил в силу декрет, подписанный президентом Гинденбургом и рейхсканцлером Гитлером. «В целях противодействия коммунистическим актам насилия, представляющим угрозу для государства, постановляется следующее: …ограничения свободы личности, свободы выражения мнений, включая сюда свободу печати, право союзов и собраний, нарушение тайны почтово-телеграфной корреспонденции и телефонных разговоров, производ-
91
ство обысков и конфискаций, а также ограничения права собственности — допускаются независимо от пределов, обычно установленных законом…»
Введена смертная казнь за «измену родине», за поджоги, повреждение железнодорожных линий; запрещены все печатные органы Коммунистической партии, часть прессы социал-демократической партии.
Культура, искусство, традиции — все это обречено вместе со страной. Фашизм культивирует лишь то, что пригодно для пропаганды его идей. Непригодное или непокорное объявляется «еврейско-марксистским», «большевистским», «вырожденческим», преследуется, уничтожается. Художникам и литераторам, не принятым в имперскую Палату культуры или Палату литературы, запрещается работать по специальности, а чтобы быть принятым туда, нужно предъявить документальное подтверждение того, что ты «чистый ариец».
Берлинский Государственный театр находится теперь под опекой самого Германа Геринга. В день рождения рейхсканцлера Гитлера здесь — премьера. Ганс Йост, драматург, начинавший как экспрессионист, нынешний заведующий литературной частью театра, написал «Шлагетер» — пьесу, насквозь проникнутую национал-социалистской идеологией и фразеологией; в «Шлагетере» прозвучала печально знаменитая фраза: «Когда я слышу слово ”культура“, я спускаю предохранитель браунинга». На титульном листе первого издания пьесы стояла надпись: «Посвящается фюреру». Это первая откровенно фашистская пьеса и постановка; «Шлагетер» вскоре будет идти во всех театрах третьего рейха, а его автор станет президентом имперской Палаты литературы.
Берлинская премьера «Шлагетера» носит очень официальный, помпезный характер; публика в партере совсем иная, не та, что прежде. Реакция зрителей, манера игры актеров, стиль рецензий — все как-то на глазах
92
унифицируется. Те критики, что не эмигрировали, либо молчат, либо приспособились к третьему рейху, служат проводниками идеологии пресловутого «народного единства» (триада гитлеровской Германии: «Одна империя, один народ, один фюрер!»).
Фашистские главари недвусмысленно указывают, чем именно должно руководствоваться искусство вообще и в частности — театральное. «Каждый директор театра должен рассматривать великую речь фюрера на партийном съезде в Нюрнберге как свою настольную книгу и постоянно руководствоваться ею», — провозглашает Герман Геринг[104].
Подлинная немецкая культура — в эмиграции. Ведущие силы театра покинули Германию. Эмигрируют целые коллективы актеров — например, «Труппа 1931» Густава фон Вангенхайма. Цюрихский драматический театр становится в это время сборным пунктом немецких актеров, режиссеров, драматургов. Жизнь в изгнании — тяжелое испытание и вместе с тем проверка. «Одних изгнание может свести на нет, растоптать и унизить; других оно укрепляет и возвеличивает»[105], — писал Лион Фейхтвангер. Одни не верят в возможность вернуться на родину — по крайней мере не верят, что это случится на их веку. Такие впадают в отчаяние, кончают жизнь самоубийством. Другие устраиваются, преодолевают трудности ассимиляции, находят работу, привыкают к новому укладу жизни. они иногда забывают о родине, чаще — страдают ностальгией. Третьи чувствуют себя временными жильцами, изгнанниками, ссыльными — вне зависимости от того, насколько прочно они укоренились в стране, принявшей их. родина остается для них живой и реальной, они активно участвуют в ее судьбе: мыслями, делами, творчеством.
93
Брехт и Вайгель — из таких. Они и не хотят называться эмигрантами. Нет дома вне Германии, куда они непременно вернутся!
Швейцарию вскоре пришлось покинуть — там было слишком дорого жить, не по карману. Летом 1933 года их пригласила к себе в Данию писательница Карин Михаэлис, посвятившая когда-то восторженную статью голосу и таланту юной Хелли Вайгель. Дания — это близко к германской границе, можно тотчас же сложить вещи и вернуться домой, если придут радостные вести. Каждый день — ожидание сообщений «оттуда», вечная тревога за оставшихся.
На острове Туро у Карин Михаэлис большой дом и три маленьких летних домика: в них-то и жили эмигранты. Сюда же приехала Августа Лазар, знавшая Хелли Вайгель еще школьницей. В своей автобиографической книге «Арабески», написанной спустя два десятилетия, Лазар вспоминает, каким теплым и ласковым было это лето 1933 года, как пышно цвети розы, увивавшие стены домиков на участке Михаэлис, как пели птицы ночами напролет.
Мрачные мысли на время оставили беженцев. Казалось, все вокруг вселяло надежду на скорые перемены. Пожалуй лишь один Брехт с неподкупной ясностью и безжалостной логикой понимал положение вещей»[106].
Он много работал. Еще весной, до переезда на остров Туро, он побывал в Париже, вместе с Куртом Вайлем они написали там «Семь смертных грехов мелкого буржуа» — балет с зонгами. Сейчас он пишет пьесу «Круглоголовые и остроголовые», обращенную против фашистов, стихи для нелегальных изданий, для радиопередач. Здесь, в эмиграции, он продолжает творить и сражаться, ибо его оружие — перо. Вайгель труднее: она лишилась
94
сцены: в странах чужого языка утратило силу ее оружие — звучащее слово. Так возникла трагическая пауза в творчестве актрисы. Вайгель всегда хотелось работать — с юности, но сейчас — как никогда. именно сейчас, когда столько накопилось — на душе и за плечами, когда самой себе можно сказать: я — актриса. И ощутить все, что за этим стоит: не только желание, тоску, тягу, страсть, но и мысль, умение, зрелость… Это подлинная трагедия: она нашла свой театр, свою публику, то, к чему стремилась все четырнадцать лет с того момента, когда впервые вышла на подмостки, — и вот нет не только своего театра, нет просто театра и не к кому выходить на сцену. эта пауза затянулась на пятнадцать лет.
Вайгель помогает Брехту, занимается детьми, хозяйством, домом, садом — и только мечтает о сцене. Августа Лазар вспоминает: как-то раз они с Хелли лущили горох, сидя в саду. Хелли начала петь — низким, чудесным голосом — «Воспоминание о Марии А.», песню на слова Брехта:
Тогда, при голубой луне сентябрьской,
Под сливою, под юным деревцом.
Я бледную любовь в руках баюкал,
Я обнимал ее, как милый сон.
А наверху, в прекрасном летнем небе,
Стояло долго облако одно,
И было белым и необычайным,
Но поднял я глаза — и где оно?
Лазар была потрясена чистотой, печалью и гармонией самой песни и исполнения.
После лета на острове Туро семья Брехта поселилась в купленном ими маленьком домике под соломенной крышей — в небольшой деревушке Сковсбостранд, неподалеку от города Свендборга. Старую конюшню приспособили под рабочий кабинет Брехта; побелка, ре-
95
монт, устройство — Вайгель целый день на ногах. Стефану девять лет, Барбаре всего три года — они требуют внимания, заботы, ласки. Денег мало. Брехт регулярно ездит на велосипеде в Свендборг, закупает там продукты оптом: так дешевле. Взяв пример с Карин Михаэлис, славившейся своей хозяйственностью, Вайгель занимается консервированием фруктов и овощей, приготовлением конфитюра. Она и раньше была хорошей хозяйкой, но в годы изгнания стала мастерицей высшего класса: готовила поразительно вкусные и дешовые блюда, умела уютно и удобно обставить жилище мебелью, купленной в лавке старьевщика, шила на всю семью…
А вот глядите, — из времен гоненья
Доска для теста, стоптанный башмак
И медный таз — черничное варенье
Варила детям в нем; продавленный дуршлаг.
Все на виду, чем в радости и в горе
Своем и вашем правила она.
О драгоценная без гордости во взоре!
Актриса, беженка, служанка и жена.
Слово «актриса» стоит в этой строчке Брехта на первом месте. Но до осени 1937 года актрисе Вайгель ни разу не представилась возможность играть на сцене…
Здесь, в Сковсбостранде, они пробыли долго — шесть лет. За это время подросли дети; Брехт написал «Трехгрошовый роман», несколько пьес и много стихов; у них в доме гостили Ганс Эйслер, Вальтер Беньямин, Карин Михаэлис и другие друзья.
В сезоне 1934/35 года сотрудница Брехта Рут Берлау ставила в Революционном театре Копенгагена «Мать в исполнении самодеятельных актеров-рабочих. Для Вайгель открылась счастливая возможность хоть немного поработать в театре. Незнание языка оставалось серьезным барьером — сама выйти на сцену она не могла. Зато вместе с Брехтом они ассистировали Рут.
96
Роль Пелагеи Власовой исполняла Дагмар Андреасен, которая в течение дня мыла полы и лестницы на железнодорожной станции, а вечером репетировала. Вайгель «проигрывала» перед ней и ее товарищами свою Власову, и она оживала перед ними — как кинолента на чужом языке.
Весной 1935 года Брехта и Вайгель пригласили в Москву. Редакция журнала «Интернациональная литература» была тогда центром немецкой литературной эмиграции в СССР: здесь И. Бехер, Ф. Вольф, Э. Вайнерт; в Москве находились в то время и Э. Пискатор, Э. Оттвальт, многие актеры. Эмигранты устроили вечер в честь Брехта: на маленькой сцене клуба имени Тельмана немецкие актеры исполняли его песни и стихи, отрывки из его пьес. В зале были и советские писатели — М. Кольцов, С. Кирсанов. С. Третьяков, который недавно перевел на русский язык пьесы Брехта «Мать», «Мероприятие», «Святая Иоанна скотобоен» — они были изданы годом раньше под общим названием «Эпические драмы».
Московское радио приглашало Вайгель и Брехта выступить — передача со стихами в их исполнении должна была идти на Германию. Но внезапно Вайгель серьезно заболела. Сергей Третьяков и его жена заботливо ухаживали за ней. В радиопередаче выступил только Брехт со своим стихотворением «Примкнувшим», которое он написал специально для этого. Когда Вайгель поправилась, они вернулись в Данию.
Бернгард Райх вспоминает о возникшем в то время у Пискатора
плане создание в СССР антифашистского культурного центра[107]. Предполагалось
создать этотцентр в Поволжье, в городе Энгельсе; ядром этого центра должен был
стать театр. в Советском союзе в то время находились Эрнст Буш, Александр
Гранах, Карола Неер,
97
Дании — Елену Вайгель и Берта
Брехта. «…Мог бы возникнуть «Веймар на Волге» со своим театром и авторами, очаг
немецкого искусства, гонимого и обесчещенного фашистами»[108]/
К сожалению, план этот не был осуществлен: туго с жильем в Энгельсе, затянулись переговоры с зарубежными актерами, а вскоре и Пискатор уехал из Москвы…
Снова — никаких надежд на работу в театре, безмолвие.
Только в 1937 году Вайгель наконец вышла на сцену. Ее героиней стала испанская рыбачка Тереса Каррар.
Одноактную пьесу Брехта «Винтовки Тересы Каррар», призыв к солидарности с испанским народом, поставил в Париже силами немецких актеров-эмигрантов Златан Дудов, Брехт ему помогал.
Пьеса как бы «вырывалась» из ряда последних произведений Брехта: это не «эпический», это скорее обычный, «аристотелевский» театр, где мобилизуются сильные эмоции зрителей. Брехт сознательно пошел на это «нарушение»: события в мире требовали немедленного отклика, спектакль должен был воздействовать прежде всего на чувства. Впоследствии, издавая «Винтовки Тересы Каррар», Брехт снабдит их примечанием: «Эта небольшая пьеса… принадлежит к аристотелевской драматургии (драматургии вживания). Отрицательные стороны этой техники можно до известной степени сгладить, если сопроводить спектакль документальным фильмом об испанских событиях или каким-либо пропагандистским мероприятием».
Совсем не обязательно верить суровому приговору Брехта об «отрицательных» сторонах техники этой пьесы, рассматривая ее только как случайное нарушение: часто драматург писал о своем творчестве слишком
98
категорически и скупо, подчиняя все доказательству тезиса, важного для него в данный момент.
«Винтовки Тересы Каррар», как и «Страх и отчаяние в Третьей империи», занимают некое промежуточное положение между прежней драматургией Брехта — «Мероприятием», «Матерью», «Круглоголовыми и остроголовыми», с которыми «Тересу Каррар» связывают политическая проблематика, острая актуальность[109], и поздними его пьесами — «Жизнь Галилея», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сычуани», где судьбы и характеры обретает жизненную конкретность и индивидуальность.
Тереса Каррар уже не персонифицированная идея, а живой человек, простая испанская женщина из народа. Елене Вайгель предстояло стать это женщиной и в течение одного акта пережить сложнейшую эволюцию — от упорного невмешательства к активному, сознательному действию.
На протяжении всего спектакля Вайгель—Каррар плела рыбачью сеть. Лишь иногда она вставала — чтобы посадить в печь хлеб, посмотреть, не испекся ли он, выглянуть в окно, выходящее на залив, где рыбачит старший сын. И снова садилась с сетья на коленях, тянувшейся через всю сцену в оркестр. Строгая, прямая, с высоким ясным лбом, в длинном черном платье. Тереса потеряла мужа во время восстания горняков в Овьедо в 1934 году. Сейчас республика в опасности, и односельчане уговаривают Тересу отдать ружья, спрятанные ее мужем. Но она не желает больше ничем жертвовать войне — ни оружием, ни сыновьями. Один за другим приходят к ней жители рыбачьей деревеньки, пытаются ее переубедить,
99
она беседует с ними, со своим братом, младшим сыном, священником — и все время безостановочно и спокойно двигаются ее натруженные руки. Разговаривает она, почти не поднимая глаз; упряма и несговорчива; видно, что все, в чем она убеждена, так вот и родилось — за бесконечным плетением сети, так вот и соткано ею в мысля — прочно, надежно.
Но постепенно разговоры с односельчанами расшатывали убежденность Тересы Каррар. В интонациях, жеста появлялось сомнение, неуверенность, прорывалось то, что жило в глубине души. Вот она бранит младшего сына, имея в виду одновременно и старшего: «Мы не мятежники, и мы ничему не противимся. Вот дай вам волю, вы, верно, так бы и поступали. Ты и твой брат; у обоих от рождения ветер в голове».
Она говорит это не глядя на сына, продолжая плести сеть. Помолчала секунду и добавила : «У вас это отцовское, — спокойно, как бы находя объяснение. И вдруг голос дрогнул, — Только я, пожалуй, и не хотела бы, чтобы вы были другими».
Нет, не может она безоговорочно осудить погибшего мужа-повстанца и сыновей, рвущихся в бой, мало того — в глубине души она гордится ими. И то, что священник, проповедующий невмешательство, смирение, считает ее своим союзником, ее не устраивает. Нет, она вовсе не из породы покорных, эта суровая, спокойная женщина, полная достоинства. Просто она мать и, как каждая мать, хочет сохранить сыновей: « Я не за генералов, никто не смеет сказать этого обо мне. Но если я буду держаться в стороне и смирю свое сердце, может быть, они пощадят нас».
Но смирить сердце не удается — вот она почти кричит: «…бедняк не может идти против генералов… не я учила его быть соучастником!» Это Каррар в первый раз
100
повысила голос, проклиная старшего сына, задержавшегося на рыбной ловле в заливе, и вслед за ее словами: «Взявший меч от меча и погибнет», — соседи вносят его труп.
Она еще за секунду до этого услышала бормотание молитв и окаменела от ужаса. Медленно встала с места, взяла шапку убитого, смотрит на нее, словно в первый раз: вот почему они застрелили его, безоружного рыбака, по шапке сразу можно понять, что он бедняк! Вытянув перед собой шапку, обходит Тереса-Вайгель набившихся в комнату людей, чтобы и они поняли то, что открылось ей. Гибнут не только взявшие меч. Те, генералы, убивают людей просто за их принадлежность к неимущим. Значит, неимущие должны сражаться. Она прикрывает мертвого пропитанным кровью парусом, на котором его принесли, достает из печи хлеб, завязывает его в платок, становится рядом с братом и сыном, берет в руки винтовку.
Мальчик. И ты с нами?
Мать Да, за Хуана.
Позже
Елена Вайгель играла в Берлине до прихода Гитлера к власти. Мы тосковали по ее игре, ее голосу, как тоскуют по дорогому человеку, его жестам, его слову. Потому что язык фашистской Германии, то рубленый, то бредово-несвязный, гремящий в помпезных заявлениях или струящийся в витиеватых речах, не был нашим языком, не был настоящим немецким языком.
Однажды в Париже, во время Гражданской войны в Испании, Елена Вайгель дала два спектакля. И снова он был здесь, настоящий немецкий язык, снова был человек, говорящий на этом языке, и были жесты этого человека, простые и ясные, выражающие то, что он говорит. Простота и ясность, поруганная и изуродованная на
101
родине, взывала к нам здесь, на чужбине, языком женщины»[110].
«Все было здесь, ничего не пропало, не потерялось, ее
дарование и ее умение… В этот вечер в Париже мы поняли, что немецкий театр — с
нами»[111]/
«Винтовки Тересы Каррар» были сыграны в Париже и в Праге. В один из вечеров последние известия о событиях в Испании были особенно печальными, и когда на сцене Тересе Каррар принесли тело убитого сына, Вайгель заплакала. Это не было нарушением принципов эпической игры, это были слезы ее, Вайгель, человека[112].
Брехт называл ее игру в этом спектакле классической, «самым лучшим и чистым, что когда-либо можно было увидеть в Эпическом театре»[113].[114] Он послал ей в Прагу подарок-стихотворение
Актриса в изгнании
Посвящается Елене Вайгель
Теперь она гримируется. В каморке с белыми стенами
Сидит, сгорбившись, на плохонькой скамейке
И легкими движениями
Наносит перед зеркалом грим.
Заботливо устраняет она со своего лица
Черты своеобразия: малейшее его ощущение
Может все изменить. Все ниже и ниже
Опускает она свои худые прекрасные плечи,
Все больше сутулясь, как те,
Кто привык только работать. На ней уже грубая блуза
С заплатами на рукавах. Башмаки
Стоят еще на гримировальном столике.
102
Как только она готова,
Она взволнованно спрашивает, били ли барабаны
(Их дробь изображает гром орудийных залпов)
И висит ли большая сеть.
Тогда она встает, маленькая фигурка,
Великая героиня,
Чтобы обуть башмаки и представить
Борьбу андалузских женщин
Против генералов.
Рут Берлау и Брехт поставили пьесу о Тересе Каррар и в Дании, с любительской труппой немцев-эмигрантов, в Копенгагенском Рабочем театре. 14 февраля 1938 года там состоялся особый спектакль: весь сбор пошел на покупку медикаментов для борющейся Испании. Гостем этого спектакля был датский писатель Мартин Андерсен Нексе. Он писал в «Норвежской рабочей газете»: «Елена Вайгель — актриса нового типа, воспитанная пролетарскими сражениями в таких странах, как Германия и Россия… быстрая, решительная, сильная, как все четыре стихии, в высшей степени деловитая, в высшей степени поэтичная»[115]. Датские газеты называют Вайгель «первой пролетарской актрисой Европы».
Но это была единственная ее роль за четыре года эмиграции, сыгранная всего в нескольких спектаклях.
Через полтора года, весной 1938-го, Вайгель снова выступила в Париже перед эмигрантами. Златан Дудов вместе с Брехтом поставили «Страх и отчаяние в Третьей империи». Это ряд сцен, в основу которых Брехт положил свидетельства очевидцев и сообщения газет. Это его оценка происходящего в Германии, оценка — и призыв.
В «Страхе и отчаянии» Брехт, как он говорит в стихотворном прологе пьесы, «созывает парад». Проходят
103
те, на ком держится фашизм, и те, кого он, поработив и растлив, держит; проходят, говоря словами из «Дракона» Евг. Шварца, «прожженные души, дырявые души, мертвые души». Проходят и те, кто не сдался и борется.
Спектакль этот был организован парижской секцией немецких писателей; весь сбор пошел в пользу Немецкого Национального комитета помощи республиканской Испании. «…Этот спектакль, на который собрались представители всех кругов эмиграции, стал антифашистской демонстрацией в духе народного фронта»[116].
Со сцены снова звучал голос Вайгель, голос, ценность и воздействие которого, по словам Анны Зегерс, равны были листовкам, подпольным изданиям, боеприпасам. Из восьми поставленных тогда сцен Вайгель играла в трех: жену рабочего из «Работодателей», которая узнала о гибели брата, бомбившего испанских республиканцев; старуху-мать из «Зимней помощи»: у нее штурмовики уводят дочь, а она все кричит и кричит им вслед, как заклинание, бесовски-бесполезное «Хайль Гитлер!»; Юдифь Кейт («Жена-еврейка»), которая решает расстаться с арийцем-мужем, чтобы не испортить ему карьеру. Женщины при фашизме, жены и матери в нацистском кольце — страшный парад[117].
Вайгель играла с огромным мастерством: ее женщины-пролетарки в первых двух сценах казались словно сошедшими с рисунков Кэтэ Кольвиц: каждая мелочь, деталь, интонация, каждый жест были четки, выверены, действенны.
Юдифь Кейт большую часть сцены разговаривает по телефону: нужно заверить знакомых, что она уедет всего на две недели, извиниться, что лишает их партии в бридж; нужно уговорить приятелей навещать ее мужа, не давая ему грустить, позаботиться о его быте. А поговорив, нужно сжечь записную книжку с номерами теле-
104
фонов. Вот и все сделано, осталось несколько минут до прихода мужа, можно прорепетировать разговор с ним, разговор, в котором нужно лгать, зная, что он отлично все понимает, — и трусливо молчит, лгать, жалея его и скрывая за непринужденным тоном крик, отчаяние, надежду — слабую, но все еще теплящуюся надежду на то, что он сможет, по крайней мере, достойно расстаться.
Двойной план сценической жизни: за каждым словом этого монолога актриса вскрывала другой, реальный смысл. (Муж появляется только в конце, так что почти вся сцена — монолог героини; здесь у Брехта, как в зерне, грядущая в позднейшей драматургии монодрама.)
Одним из ее партнеров по спектаклю был Эрнст Буш. Он покинул Германию в 1933 году, был в Голландии, потом в Москве, теперь он в Испании и только ненадолго приехал в Париж. Там, на фронте под Мадридом, в Каталонии, везде, где сражались, Буш пел песни разных народов о свободе. Мужестве, стойкости. Здесь в Париже, он продолжал сражаться, играя в антифашистском спектакле. Вайгель и Буш рядом на сцене — Брехт был просто счастлив видеть вместе этих двух «своих» актеров. каждое их слово, движение радостно удивляло его: с одной стороны, это именно то, что ему представлялось в этой роли, с другой — гораздо больше, лучше, глубже.
Вернувшись в Сковсбостранд сразу после спектакля в Париже, он пишет статью «Уличная сцена. Прообраз сцены в эпическом театре». Это одна из многих, написанных им в эмиграции статей. Эпический театр, высокохудожественный театр с отчетливо выраженной общественной функцией — мысли о нем не оставляли Брехта и Вайгель. И ни на минуту они не забывали о том, что происходит в Германии, стараясь помочь борьбе с фашизмом любым доступным им способом.
Августа Лазар, вместе с которой Хелли лущила горох летом 1933 года в саду на острове Туро, подружилась в
105
1936 году с дрезденскими художниками — мужем и женой Грундиг[118]. Доктор филологических наук Августа Вигхардт-Лазар писала тогда свою книгу «Салли Блейштифт», обучала Ганса Грундига французскому языку, выглядела, по мнению художников, чрезвычайно «буржуазно», респектабельно и получила от них ласковое прозвище «Мэтр Корбо». Убежденные антифашисты, Ганс и Леа Грундиг боролись по-своему: они гравировали в технике сухой иглы рисунки, обличающие фашизм, а после этого делали как можно больше оттисков. Гравюры эти походили на притчи, эпиграммы, говорили на языке басен Эзопа или рисунков Гойи и обладали огромным политическим воздействием. Ганс и Леа переправляли оттиски гравюр за границу — вот здесь-то и пригодилась помощь Елены Вайгель. Незадолго до ее поездки в Париж Августа Лазар отправилась в Копенгаген, положив на дно своего черного лакированного чемоданчика пачку гравюр и забросав их сверху своими вещичками (беспорядок в вещах был преднамеренным: доктор Лазар решила, что тщательно уложенные вещи вызовут больше подозрений). Это было отнюдь не безопасно, — вспоминает Ганс Грундиг, — только гордым и великосветским видом нашего доктора филологии можно объяснить тот факт, что ее багаж почти не осматривали. В общем, она благополучно прибыла в Копенгаген со своей художественной и идеологической контрабандой… Елена Вайгель собралась в Париж. Наши гравюры ей, должно быть, понравились — она взяла их с собой. Там их увидели многие люди, которые, как и мы, участвовали в борьбе против нацизма»[119].
Некоторые стихи и статьи Брехта тоже по нелегальным каналам были доставлены в фашистскую Германию. Вскоре датские фашисты стали требовать высылки
106
Брехта с семьей. Датское правительство не пошло им навстречу[120]. Но это был первый знак — знак того, что продолжается исход и надо сниматься с места. В 1939 году Гитлер заключил с Данией пакт о ненападении. Решено было переехать в Швецию[121]. Чтобы организовать этот переезд, Шведский Национальный комитет помощи республиканской Испании прислал приглашение от Союза самодеятельных драматических трупп: Брехт должен был читать доклады о театре, а Вайгель сопровождать эти доклады исполнением отрывков из пьес. Намечался также и доклад Брехта в стокгольмском Студенческом театре.
В апреле 1939 года Вайгель и Брехт прибыли в Стокгольм, дети — Стефан и Барбара — чуть позже. Здесь их приняла скульптор Нинан Сантессон.
В ее доме на островке Лидингё, поблизости от Стокгольма, Вайгель снова, как и везде, удобно, уютно устраивается: размещает мебель, книги, выделяет рабочую комнату для Брехта — большую, чтобы можно было поставить много столов, он любит раскладывать все нужные материалы вокруг себя[122]. Вайгель много возится и в саду; откуда бы они ни уезжали, она оставляет после себя любовно выращенные цветы, кусты, деревья…
Нинан Сантессон лепит «Голову актрисы Елены Вайгель». А Брехт в это время пишет новую пьесу — «Мамаша Кураж и ее дети». Наконец у Вайгель появилась реальная возможность заниматься своим делом. Во-первых, у нее есть роль, которую она сможет играть на любой сцене, в любой стране: ведь это специально для нее Брехт придумал в своей «Мамаше Кураж» немую Катрин! А кроме того, ей предлагают обучать будущих актеров. шведская актриса Найма Вифстранд — она должна играть мамашу Кураж — руководит частной актерской школой в Стокгольме. «Вы ведь, наверно, соскучились по театру? — говорит она Вайгель. — Играть не зная языка у нас трудно, а вот если бы вы взялись преподавать ак-
107
терское мастерство у меня в школе…» Вайгель, счастлива. Работать, заниматься любимым делом, учить, показывать, передавать то, чему научилась сама!
Специально для занятий Вайгель с учениками школы Брехт пишет «Сцены для обучения актеров». Это «Параллельные сцены», в которых драматические ситуации из пьес Шекспира и Шиллера перенесены в обыденную обстановку: сцене убийства в «Макбете» дана параллель — «Убийство в доме привратника», а спору королев в «Марии Стюарт» — «Ссора торговок рыбой». Тем самым достигается «эффект очуждения» на классическом материале: у молодых актеров пробуждается интерес к «самим событиям и к форме их отображения, а также к стилю оригинала, к его стихотворному языку, то есть к тому специфическому, что автор добавляет от себя».
Сюда же входят и «Интермедии» к «Гамлету» и «Ромео и Джульетте», которые следует играть на репетициях и которые должны приблизить к учащимся Гамлета, Ромео и Джульетту, сделав их из значительных литературных персонажей живыми людьми, полными противоречий.
Эти сцены ученики Елены Вайгель разучивали и играли с увлечением. Но… занятия с ними ей скоро пришлось прекратить. Не вышло ничего и с постановкой «Мамаши Кураж», уже переведенной на шведский язык. Гитлер вторгся в Данию и Норвегию, а это совсем рядом. Снова — в дорогу.
Паромом — в Хельсинки, сначала они живут в гостинице, потом снимают маленькую пустую квартирку в рабочем квартале. За два часа, разъезжая на грузовике, Вайгель достает с помощью только что приобретенных друзей необходимую мебель, устраивает — в который раз! — каждому уголок поудобнее. Ведь их пятеро: кроме детей с ними еще сотрудница Брехта Маргарита Штеффин[123]: обо всех надо ежедневно заботиться а исподволь — готовиться к новому отъезду.
108
Убегая от моих земляков,
Я добрался теперь до Финляндии. Друзья
Которых я прежде не знал, поставили несколько коек
В чистых комнатках. В приемнике
Гремят победные сводки этих подонков.
(«1941 год»)
В июле 1940 года финская писательница-коммунистка Хелла Воулийки[124] приглашает их в свое имение Мэрлебэк; они ждут американских виз. Победные сводки «этих подонков»[125] все громче…
Лето в Мэрлебэке напоминает их первое эмиграционное лето на острове Туро: оно такое же теплое и ласковое — и так же наполнено ожиданием известий. Сначала их поражает необыкновенная тишина, просто все звуки очень естественны — ветер в листве берез, шелест травы, птицы, вода… «Под березами много лесной земляники, — записывает Брехт в дневнике, — но боюсь, что Хелли будет трудно с приготовлением еды, надо топить печь, и вода не в доме…»
Все хуже с продуктами. Хелла Вуолийоки продает свое имение, и в октябре семья Брехта переезжает в другую квартиру, виз все нет, приходится много хлопотать по этому поводу, вовлекая друзей. Посреди всех этих забот снова мелькнула было надежда на постановку «Мамаши Кураж» в Шведском театре Хельсинки, но из этого опять ничего не вышло. Премьера «Кураж» состоялась без Вайгель, 19 апреля 1941 года, в Цюрихском драматическом театре. Роль Кураж с успехом сыграла Тереза Гизе. Лишь через восемь лет Вайгель будет выступать в этой пьесе…[126]
В мае 1941 года наконец получены визы. Вайгель все это время периодически возобновляла заказ на билеты на корабль, отправляющийся из Петсамо, но пока они дожидались виз, в Петсамо появились фашистские ча-
109
сти. Брехт решает ехать по суше — через Советский Союз.
Там, за океаном друзья и земляки, среди них и актеры, товарищи Вайгель: Александр Гранах, Фриц Кортнер, Петер Лорре, Оскар Гомолка; все ждут, зовут, настаивают на немедленном приезде.
Из Хельсинки — в Ленинград, затем в Москву. Здесь пришлось оставить тяжело больную Грету Штеффин; в транссибирском экспрессе на пути к Владивостоку им вручили телеграмму из Москвы о смерти Греты[127].
Целый месяц едут они поездом через весь Советский Союз[128]. Наконец — Владивосток, еще месяц — в Тихом океане и — США. в лос-анджелесском[129] порту их встречают Александр Гранах и Марта Фейхтвангер; друзья уже сняли для них дом в Санта-Монике (Голливуд) — тут жизнь дешевле, чем в Нью-Йорке.
Здесь Эрвин Пискатор, Ганс Эйслер, Фриц Кортнер, Элизабет Бергнер, Оскар Гомолка, Пауль, Дессау, Лион Фейхтвангер, Томас и Генрих Манны, Леонгард Франк. Брехт и Вайгель сблизились с Чарли Чаплином, знаменитым английским актером Чарльзом Лоутоном (позже он первый сыграл Галилея в пьесе Брехта)[130]. Общение с друзьями, дети, домашние заботы, помощь Брехту — вот что заполняло дни Елены Вайгель в течение шести «американских» лет. Она старалась поддерживать связь между эмигрантами-немцами, оказавшимися в этой богатой чужой стране и образовавшими два центра — в Калифорнии и в Нью-Йорке. Когда, например, исполнилось шестьдесят пять лет Альфреду Дёблину, Хелли организовала в его честь праздник: Генрих Манн держал приветственную речь, Фриц Кортнер, Петер Лорре и Александр Гранах читали произведения Дёблина, а Бландина Эбингер пела берлинские песенки…
Все шесть лет не прекращались попытки найти себе применение на сцене или на экране. И почти все эти попытки кончались неудачей.
110
Америка не заинтересовалась ни Брехтом, ни Вайгель. На сцену
невозможно проникнуть, издателей Брехт себе не нашел, единственной надежной
оставалось кино, Голливуд. Вместе с французским писателем-коммунистом
Владимиром Познером и его приятельницей[131]
они написали сценарий о французском Сопротивлении «Безмолвный свидетель». Там
должна была непременно играть Вайгель. Но «союз» с Голливудом не состоялся.
Познер вспоминал: «Это было двойное заблуждение в городе, который предоставлял
отличные шансы любой победительнице в конкурсе на самый красивый бюст и
одновременно обрекал на безработицу Людмилу Питоеву или Елену Вайгель[132]/
В 1942 году Брехт написал сценарий для режиссера Фрица Ланга «И палачи умирают». В сценарии было небольшая роль для Вайгель. Она много готовилась, ждала. Ланг вызвал ее на бесконечные пробы, требовал, чтобы в речи Вайгель не было совершенно никакого акцента. Брехт специально писал почти бессловесную роль — Ланг добавил слов, стало еще труднее избежать акцента. В конце концов оказалось, что сцену просто взяли и сняли без Вайгель…
Все, что удалось ей сыграть за это время, — крохотная безмолвная роль женщины из народа в фильме режиссера Фреда Циннемана по роману Анны Зегерс «Седьмой крест». За шесть лет в Америке не нашлось никакой другой работы для артистки, которую многие уже тогда считали одной из величайших актрис века.
Вскоре после приезда в США Вайгель, правда, удалось заняться преподаванием актерского мастерства, но совсем недолго.
После окончания второй мировой войны они стали готовиться к возвращению в Германию. Ждали докумен-
111
тов, разрешающих выезд из США в Европу; Брехт заканчивал с Лоутоном работу над «Галилеем», премьера которого состоялась в конце июля 1947 года. Осенью они выехали в Швейцарию: Брехт через Париж, а Вайгель с дочерью — через Вену. Их сын Стефан, учившийся в университете и получивший американское подданство, остался в Соединенных Штатах.
В эмиграции, представляя себе возвращение в Германию, Брехт писал:
Родной мой город, каким я его найду?
Вслед за стаями бомбардировщиков
Я возвращаюсь домой.
Где же он? Там, где вздымаются
Исполинские горные хребты дыма.
Там, в этом море огня,
Город мой.
(«Возвращение»)
В 1948 году возвращение стало реальностью. США — Франция — Австрия — так сокращалось пространство, отделявшее Брехта и Вайгель от границ уже освобожденной родины. Около года они провели в Швейцарии, готовясь к возвращению в Берлин и ожидая пропуска туда. Здесь Брехт написал «Антигону» — «обработку» трагедии Софокла. В основу обработки лег перевод Фридриха Гёльдерлина; Брехт находил, что этот перевод «проникнут удивительной радикальностью», глубок и поможет им с Вайгель «вернуться в сферу немецкого языка». Брехт модернизировал мотивы действия трагедии и добавил пролог — Берлин весной 1945 года.
В Цюрихе Брехт встретился со своим старым другом — театральным художником Каспером Неером. Кас, как они его называли, обсуждал с Брехтом и Вайгель самое насущное — что́ можно поставить в театре Цюриха или другого швейцарского города. Неер уже оформлял постановку «Антигоны» в Гамбурге и с радостью поработал бы над ней снова вместе с Брехтом.
112
Переговоры с Цюрихским драматическим театром затягивались, особенно трудно было договориться о ролях для Вайгель. Случайно на улице Брехт встретил Ганса Курьеля, которого знал еще по Берлину, интенданта городского театра в Хуре — возник проект постановки там какого-либо спектакля: «Антигоны», «Федры», «Макбеда», «Мамаши Кураж» или «Святой Иоанны скотобоен». Через несколько дней после этой встречи Брехт показал Курьелю и Нееру уже обработанные им первые сцены «Антигоны».
Драма об Антигоне могла, на взгляд Брехта, стать актуальной и решить, кроме того, интересные формальные задачи. Брехт и Вайгель проповедовали новую манеру игры: стилизацию, ярко выраженный показ. На основе фабулы нужно было показать публике как части общества именно то, что для этого общества сейчас важно.
Для Вайгель роль Антигоны — первая возможность выйти на сцену после десятилетнего перерыва; если бы спектакль удался, то это стало бы одновременно и подготовкой к возвращению в Берлин, к тому, чтобы сыграть там Кураж[133].
В начале 1948 года Брехт закончил обработку «Антигоны»; вместе с Вайгель, Курьелем и Неером ни отобрали актеров для будущей постановки. В середине января «штаб» «Антигоны» — Брехт, Вайгель и Неер — приехали в Хур и остановились в отеле «Штернен». Репетиционное время — пять недель, они работали напряженно, расставаясь в течение дня ненадолго. Вскоре стали репетировать и в свободные вечера. Метод работы Брехта был известен — и привычен — только Елене Вайгель. Поэтому она не только вела свою роль, но и помогала Брехту, служила ему как бы экспонатом, образцом для показа.
Актеры Хурского театра, большей частью молодые люди, работали очень добросовестно, но не могли побороть изумления (а на первых порах — и недоверия), на-
113
блюдая, например, как репетируется сцена ухода Антигоны на смерть.
Хор старцев провожает Антигону к пещере, которая станет ей могилой. Поднося ей кувшин с вином, старцы утешают жертву насилия: она погибает, но с честью. Антигона отвечает: лучше бы вам, скопив недовольство несправедливостью, обратить его на пользу! — От судьбы не спасет ни бог, ни богатство, возражают старцы. И тогда Антигона произносит последние слова:
Не говорите мне о судьбе.
Это я знаю. Говорите о том,
Кто меня ни за что убивает; с ним
Связана и судьба! Не думайте,
Что вас пощадят, несчастные…
И, повернувшись, она уходит легким и твердым шагом: кажется, будто не страж ведет ее, а она — его.
Вайгель играет совсем не так, как сыграли бы в этом случае другие актеры, в частности те, кто репетирует вместе с ней. Она будто бы и не пытается раскрыть «бездны человеческой души», смятение своей героини, ее исступленный гнев. А ведь Антигона уходит на смерть. Уходит не только с сознанием несправедливости, совершенной над ней, — с сознанием несправедливости вообще; уходит, прорицая гибель родного города и скорбя об этом. Где же подлинная скорбь, подлинный гнев и исступление?! Актриса как бы смотрит со стороны на свою героиню, не превращаясь в нее целиком.
Но чем дальше идут репетиции, чем дольше актеры следят за игрой Вайгель, тем понятнее становится им эта новая манера игры. Оказывается, и смятение Антигоны, и гнев ее, и скорбь — все это передается актрисой. Она убедила их, захватила, заставив размышлять над собой, хотя Вайгель скорбящую или гневающуюся так непосредственно, как им это представлялось вначале, они так и не увидели.
114
Позже, в книге «Модель Антигоны 1948» Брехт напишет: «Вопрос. Как обстоит дело с непосредственностью игры?
Ответ. Как и все прочее, уход Антигоны на смерть Вайгель играла так, словно это и знаменитое историческое событие, и знаменитая театральная сцена, больше того, она играла почти так, словно знаменита ее собственная игра в этой сцене.
Вопрос. Зачем она так играла?
Ответ. Чтобы добиться величайшего внимания к этому событию и его изображению, она выставляла свою работу как образец, напоказ».
Незадолго до премьеры Брехт объявил открытую репетицию, чтобы проверить реакцию зрителей. Аплодисменты показали, что публика одобрила спектакль.
И вот — премьера. Пролог. Берлин, апрель 1945 года, рассвет. Две сестры возвращаются из бомбоубежища к себе домой. Они появляются из оркестра почти в безликих вневременных одеяниях; скудное убранство их берлинской комнаты едва намечено.
Первая. Когда же мы вернулись из подвала
И дом был цел, а рядом полыхало
И ярче был пожар, чем свет зари,
Моя сестра сказала мне: «Смотри!»
Вторая. Смотри, сестра, дверь настежь. Что здесь было?
Их брат дезертировал из гитлеровской армии, его казнят у дверей дома, одна из сестер хочет вынуть из петли его труп, другая уговаривает ее не делать этого, появляется эсэсовец… А вслед за прологом начинается собственно «Антигона», и снова рассвет, одна из сестер собирает землю в чашу, чтобы свершить обряд погребения, и, схваченная стражниками, предстает перед судом.
115
Берлинскую женщину 1945 года, ту из сестер, которая хочет похоронить брата, играла Вайгель. Почти в том же костюме, что и в прологе, с металлической чашей в руках появлялась перед зрителем ее Антигона. Возраст Вайгель — ей сорок восемь лет! — никоим образом не скрывавшийся в постановке, вызвал недоуменные вопросы некоторых: неужели нельзя было загримировать актрису так, чтобы она выглядела моложе? Но преображение Вайгель в юную Антигону и не устроило бы постановщика. Изначальным условием игры было: «Я, Вайгель, показываю Антигону». Над Антигоной возвышалась личность актрисы. За древнегреческой историей вставала судьба Вайгель. Поступки Антигоны она пропускала сквозь свой жизненный опыт: ее героиней руководил не порыв, а мудрость, не данное богами предвидение, а собственная убежденность. Тут было не детское неведение смерти, а страх смерти и преодоление этого страха.
Только человек, много видевший и думавший над виденным, только такая Антигона могла сказать Креонту в ответ на его упрек, что она поносит родину:
Ложь. Земля — это мука. А родина — это не только
Дм, не только земля. И не землю, где пот проливали,
И не дом, который беспомощно ждет пожара,
И не город, где спины гнули, называют родиной люди.
Сейчас, в 1948 году Вайгель и Брехт ощущают это особенно остро. Война закончилась, а они еще не добрались до Германии — несчастной, опозорившей себя, долгожданной. Они не были там пятнадцать лет[134], страшатся встречи — и жаждут поскорее вернуться и работать для нее. «Антигона» — последний спектакль на чужой земле. В мирной Швейцарии изгнанникам видится разрушенный Берлин. Что там, каких людей, какие души оставил после себя фашизм, найдутся ли друзья, единомышленники, сбудутся ли надежды, мечты?!
116
Отсюда — брехтовский пролог, отсюда — такие тоскующие глаза из-под платка у Берлинской женщины и у Антигоны перед судом. И спектакль, и исполнение Вайгель глубоко актуальны.
Есть пластинка с записью монолога Антигоны в исполнении Елены Вайгель. Один только голос, всего один монолог, но в нем — тончайшие переходы, богатство тем и оттенков: достоинство и мужество; прорвавшийся страх не увидеть больше никогда земной жизни, скорбь о родителях, о брате; горькое предвидение грядущей судьбы Фив, накликавших на себя беду, безропотно подчинялись тирану; страстное заклинание — призыв к живущим жить в мире.
«Антигону» сыграли в Швейцарии пять раз, один из них — в Цюрихском драматическом театре. Спектакли показали, что Вайгель не утратила мастерства, что талант, насильственно лишенный почвы,не потерял способности к развитию. Если вспомнить весь предыдущий путь Вайгель-актрисы, можно представить себе спираль: виток, еще виток, неуклонный подъем вверх, и каждый поворот вбирает в себя все накопленное ранее, повторяя, но — совершенствую. Уже сыграны Пелагея Власова и Тереса Каррар. Позади годы тягостных переживаний, раздумий, горького опыта. И вот — Антигона, которая очень интересна и важна, но… снова почему-то представляется спираль, только движение направлено вниз, виток, еще виток…
Четкая строгость формы, тезисность, мысль, пронизывающая все, не знающая перепадов, интервалов. Строгая стилизация, владычествующая без ослаблений. Эпический стиль исполнения, как бы зафиксированный, как бы экспонат.
Это не случайно. Кончился какой-то этап, очень важный и для Брехта, и для Вайгель. Впереди — богатая театральная практика, которой они так долго были лишены. Брехт давно уже работает над теорией «театра
117
века науки», разъясняя, расширяя, а часто — изменяя сформулированное им ранее.
«Антигона» — это необходимая остановка в пути. Взгляд назад. Подведение итогов. Прощание.
Вскоре после премьеры «Антигоны Брехт приступил к работе над «”Малым органоном“ для театра». Это тоже подведение итогов, но, в отличие от «Антигоны», это — и взгляд вперед.
В этой работе Брехт пытался «наметить очертания эстетической теории» театра эпохи науки, который обладает уже некоторыми достижениями. Но накопление новшеств происходило в годы нацизма, во время войны. И теперь, когда есть возможность показать эти новшества, необходимо проверить, какое место занимают они в новых условиях.
Брехт провозглашал: театр эпохи науки никоим образом не отказывается от основной функции театра — доставлять удовольствие[135]. «Будем же рассматривать театр как место для развлечения, то есть так, как это положено в эстетике, но исследуем, какие именно развлечения нам по душе!»
Говоря об «эффекте очуждения», Брехт писал: «…если бы актриса играла так, будто эта женщина уже прожила определенную эпоху до конца и говорит, вспоминая, зная дальнейшее[136], говорит самое важное из того, что нужно было сказать об этой эпохе в данный изображаемый момент, потому что важно в этой эпохе лишь то, что оказалось важно в последствии».
Эту рекомендацию «”Малого органона“ для театра» Вайгель выполнила во всех отношениях; сама рекомендация, можно сказать, явилась, отчасти, результатом и следствием не только ее сценической практики, но и ее вынужденного отторжения от сцены.
Актер, не игравший всего год, и тот ощущает на театральных подмостках робость новичка. У сорокавосьмилетней актрисы про которую следовало бы сказать не
118
«она вышла в роли Антигоны», а — она прошла вместо Антигоны, энергично, уверенно показывая эту роль, — у Вайгель за плечами действительно была эпоха, о которой она хотела сказать самое важное. Кроме исторической эпохи, отрицавшей ее как личность и изгнавшей за пределы Германии, это была и эпоха театра, который нужно было как бы подвести итоги, извлечь самое главное.
Искусство «повествовательного реализма» (по выражению американского критика и режиссера Э. Бентли), «эпический театр», «театр века науки» получали, таки образом, глубоко личное и личностное оправдание в судьбе актрисы. В активном участии личности и проявлялась «новая техника актерской игры». Уже не просто отношение к данному конкретному персонажу, к его чувствам и поступкам, а наслоение себя, своего опыта — человеческого и актерского — на этот персонаж. Не очуждение героини, а очуждение жизненной среды и театральной эпохи, из которых Вайгель была изгнана, очуждение вопиющей несправедливости самого изгнания — вот что придавало особый, как говорил Брехт, «исторический» смысл новой Антигоне европейского театра.
Так в личностном плане сошлись два существенных требования новой актерской игры: показывать исторически важное, как свое собственное, то есть пережитое, и «показывать сам показ», чтобы не оставалось тайной, каким образом получено это новое знание.
Все становилось как бы документом: и сама она, и то, что она «рассматривала» и произносила на сцене.
Так Вайгель простилась с прошлым. Через пятнадцать лет она возвращалась в город, где началась ее актерская слава.
В сентябре 1948 года получены необходимые документы, 22 октября Вайгель и Брехт наконец в Берлине.
119
Они возвращались в Берлин, мечтая приступить к работе сразу же, с первого дня. Еще в Швейцарии они знали, с чего начнут: Брехт был приглашен ставить в Немецком театре свою пьесу «Мамаша Кураж и ее дети». Он вез с собой готовую режиссерскую экспозицию спектакля. Вайгель уже приступила к работе над ролью мамаши Кураж, Анны Фирлинг, полковой маркитантки.
Через несколько дней после приезда Брехт начал прослушивать молодых актеров, отбирая исполнителей для будущего спектакля. Из Мюнхена, по приглашению Брехта и Вайгель, приехал Эрих Энгель; вскоре начались репетиции. Коллективу, сплотившемуся вокруг этой постановки, предстояло стать ядром будущего театра.
Еще в Цюрихе, в декабре 1947 года Брехт и Вайгель встречали прибывшего туда из Америки Фрица Кортнера, смотрели вместе с ним «Вассу Железнову» М. Горького в Драматическом театре с Терезой Гизе в заглавной роли и долго беседовали о судьбе послевоенного немецкого театра. Тогда им казалось, что они смогут сразу же создать новый театр. но двенадцать лет фашистского режима не могли пройти бесслед-
120
но для искусства. «Нам представлялось, — вспоминает Кортнер, — что актеры умеют все то, что умели раньше, когда нам пришлось эмигрировать, — стоит лишь немного «поскрести». Но позже мы увидели, как бесследно исчезло слово, исчез жест. Стихи читались, словно по стойке «смирно», словно ответ — «слушаюсь!»… Актеры не играли, а с помощью слов и движений ежеминутно как бы заверяли нас в том, что они играют…»[137][138]
Построение и звучание речей фюрера (а у него были сотни подражателей — помельче рангом) во многом определили стиль, господствовавший в нацистском театре. Ораторы стремились перекричать слушателя там, где надо было — убедить; без всяких полутонов и переходов оглушительная взвинченность вдруг сменялась почти шепотом, интимностью, столь же беспредметной и бесплотной, как и предшествовавшей ей крик.
Холодный, окоченелый пафос, мелодраматический экстаз и
фальшивая интимность в игре актеров, напыщенная пестрота и декоративность в
оформлении спектаклей определяли стиль, который можно вслед за режиссером
Бертольдом Фиртелем назвать «стилем рейхсканцелярии»[139]
Брехт с горечью писал в дневнике об одной из репетиций, на которой он побывал вскоре по возвращении в Берлин, об отсутствии в игре актеров подлинно театральной мысли, умения наблюдать, о том, что их игра — только иллюзия, суррогат человечности, заразительности, актерской техники…
«Когда мы по окончании войны, развязанной Гитлером, вернулись к театральному творчеству, стремясь возродить его в духе прогресса, в духе исканий, направленных на столь необходимое преобразование общества,
121
в это время изобразительные средства театра […] были по сути дела уничтожены, разъедены духом регресса и авантюризма. Театр выродился, поэзия превратилась в декламацию, искусство — в искусственность, внешние эффекты и фальшивая чувствительность стали главным козырем актера. Образцы, достойные подражания, сменились подчеркнутой пышностью, а подлинная страсть — наигранным темпераментом. Целое поколение актеров состояло из людей, подобранных неправильно и воспитанных в духе ложных доктрин…» (Б. Брехт. «Из речи на общегерманском конгрессе деятелей культуры в Лейпциге»).
Среди руин «Третьей империи» нужно было строить новую жизнь и создавать новое искусство. Театры предстояло, прежде всего, физически возродить: к концу войны все они были закрыты гитлеровскими властями, в первые послевоенные годы большинство театральных зданий представляло собой груду развалин. Но главной и самой трудной задачей было моральное возрождение, восстановление лучших традиций буржуазного и пролетарского театра 20-х годов; налаживание связей с зарубежным искусством; наконец, строительство нового социалистического театра.
«У театра, который в тот момент едва ли был способен развлечь даже самого непритязательного зрителя, оставался один-единственный шанс на спасение — взяться за решение таких задач, которые никогда еще перед ним не стояли… Отныне он мог отображать мир, лишь участвуя в создании мира». Решение именно этой задачи взяли на себя Брехт и Вайгель.
Через два с половиной месяца после их возвращения в Берлин, 11 января 1949 года в Немецком театре состоялась премьера «Мамаши Кураж».
Театр нового века
Был открыт, когда на сцене
122
Разрушенного берлина
Появился фургон мамаши Кураж.
(Б.
Брехт)
Никаких декораций, огромная сцена с круглым горизонтом безжалостно высвечена. Над ней надпись: «Швеция. Весна 1624 года». Тишина. Но вот скрипя двинулся поворотный круг, в тон скрипу откликнулись какие-то военные дудки, громче, громче, вступила губная гармоника, на сцену по вращающемуся в противоположном направлении кругу выкатился фургон, он полон товаров, сбоку болтается барабан, звучит песня:
Без колбасы, вина и пива
Бойцы не больно хороши,
А накорми — забудут живо
Невзгоды тела и души…
Это походный дом полковой маркитантки Анны Фирлинг. Ее прозвище — «Мамаша Кураж» — крупными буквами написано на боку фургона. Тут и вся ее семья: сыновья Эйлиф[140] (Э. Калер) и Швейцарец[141] (Г. Шуберт),, впрягшись в оглобли, тянут фургон, немая дочь Катрин (А. Хурвиц) на козлах — играет на губной гармонике[142]. Вайгель—Кураж в длинной сборчатой юбке, ватной стеганой куртке, косынка завязана концами на затылке. Она свободно откинулась назад, сидя рядом с Катрин, уцепилась рукой за верх фургона, чересчур длинные рукава куртки удобно закатаны, на груди, в специальной петличке — оловянная ложка.
Ложка на груди у Вайгель — как орден в петлице, как знамя над колонной. Ложка — это постоянная готовность, это сверхактивная приспособляемость: не здесь — так там, не мытьем — так катаньем, не протестантам — так католикам. Знамя над фургоном можно сменить гордость можно спрятать, колбасу, вино и сапоги можно продать любому. Лишь бы не потерять местечка у котла,
123
ухватить, вычерпать свою долю. Ее знамя — ложка, ее котел — Война.
Вот такой она и пройдет до конца спектакля, будто одно целое со своим фургоном, дряхлея, как и он, от картины к картине. Потеря — дети и товары. А прибыль слилась с потерями, барыш оборачивается бедой.
«Хочешь от войны хлеба — давай ей мяса». Кураж кормится войной — и платит ей детьми, неумолимо теряя одного за другим. Маркитантка и мать — побеждает то одна, то другая. Диалектика этого непримиримого противоречия — постоянный источник основного конфликта пьесы. Война обнажает свою социальную сущность, участие в войне, отношение к ней как к бизнесу — гибельно для человека, античеловечно.
Испанская рыбачка Тереса Каррар пыталась остаться за краем войны, уберечь детей, не пуская их в этот гибельный круг; она говорила: «…если я буду держаться в стороне и смирю свое сердце, может быть, они пощадят нас».
Мамаша Кураж впрягает всю свою семью в оглобли маркитантского фургона, направляя его внутрь, в самый центр круга, очерченного войной, умело регулируя движение, если центр вдруг перемещается, кусок уходит из рук…
Уже в первой сцене Кураж—Вайгель появлялась перед нами сразу и в том, и в другом обличье: маркитантка и мать. Вот она, как девчонка, легко соскочила с фургона, завидев вербовщиков: тут опасность для сыновей, их могут увести, забрать в армию.
— Вы что за народ? — спрашивает фельдфебель.
— Народ торговый, — лихо отвечает Вайгель.
И, как на ярмарке, начинает балагурить, заговаривать зубы вербовщикам, ерничать, представляя им свое семейство, где все дети — от разных отцов. Но вот вербовщик пытается увести Эйлифа, «смелого» сына. Мгновенно преобразилась Кураж—Вайгель, одним прыжком
124
подскочила к фургону, заслонив собой сыновей, выхватила складной нож: «Попробуйте троньте его — кишки вам выпущу, окаянные!»
Отбила, отстояла детей — и снова влезает на сиденье фургона, Эйлиф и Швейцарец впряглись в оглобли: «Поехали!» Но фельдфебель — профессионал войны — не желает упустить добычу и делает вид, что ему приглянулась пряжка из товаров мамаши Кураж. Мгновенно в Кураж—Вайгель пробуждается профессиональная торговка. Она слезает с фургона, начинает торговаться, пробует монету на зуб. И тем временем ее «смелого» сына все-таки уводят.
Эту потерю Вайгель обнаруживает, лишь захлопнув висящую через плечо сумку. (Похожие сумки носили кондуктора общественного транспорта в добезкондукторные времена.) Она захлопывается, как сундук, с лязгом; кажется, будто однажды проглотив добычу, сумка ни за что не отдаст монеты обратно. Поняв, что она упустила сына, увлекшись торговлей, Вайгель—Кураж яростно швыряет узел с пряжками и поясами в фургон. Не потеря ее не останавливает. Она велит Катрин впрячься в оглобли вместо уведенного Эйлифа. «Скорей, поехали!» — упирается руками в стенку фургона, изо всех сил подталкивает его вперед, следом за войсками, за войной, своей кормилицей.
Актриса еще не один раз особым жестом будет захлопывать свою сумку: благодаря чествованию ее храброго Эйлифа в палатке главнокомандующего ей удастся нажиться, продав повару каплуна, а в следующей картине они попадут в плен к католикам, она слишком долго будет торговаться, чтобы спасти жизнь второму сыну — и снова опоздает. Швейцарца губит честность, которой и учила его Кураж: он не хочет выдать врагам полковую казну. Начинается торг: выкуп за Швейцарца Кураж может внести только продав фургон. Но расстаться с фургоном отчаянно трудно. Снова вопрос — товары или
125
сын — решается в ползу товаров, хотя нужны-то товары для детей. Только для них…
Опять победила маркитантка — и проиграла мать. За сценой звучат выстрелы — это Швейцарца казнили. Она осталась одна, не двинулась с места, только чуть дрогнули руки, нарочито спокойно лежавшие на коленях, напряглись, будто хотели отчаянно вскинуться вверх, но и этого она не может себе позволить, чтобы спасти оставшуюся семью. Руки крепко уперлись в бока, голова откинулась назад, глаза мучительно зажмурены, рот широко раскрылся — маска беззвучного крика.
Потери сгибают ее все круче. Потухли глаза — с той минуты как Вайгель—Кураж не выдала себя взглядом, увидев мертвого сына. Ей принесли труп Швейцарца, надеясь, что горе матери, опознавшей сына, поможет отыскать полковую казну. Но Вайгель—Кураж не выдала себя и голосом, только исказилось и застыло лицо — выпяченная нижняя губа, опущенные глаза, а когда она подошла к трупу Швейцарца, напряженная улыбка растянула углы рта; так, улыбаясь и отрицательно покачивая головой — нет, я его не знаю, — она вернулась на место, а солдаты унесли труп на свалку.
Теперь у Кураж осталась только немая дочь Катрин — и по-прежнему ее фургон, ее торговля. Но она не отступается от своего страшного неуклонного пути — по пятам войны. Над сценой меняются надписи — война уносит годы и жизни, опустошает все новые земли. Яростные проклятья, которые Кураж бросает войне, изувечившей ее дочь, сменяются хвалой войне — кормилице, несущей прибыль. Но прибыль ничтожна, а потери растут. Полковой повар, скитающийся вместе с Кураж и Катрин, признается, что получил в наследство трактир, и приглашает Кураж отправиться с ним. Времена настолько плохи, что приходится побираться; разговор о наследстве повар и затеял как раз тогда, когда он и Кураж, одетые в лохмотья, собираются петь около пасторского
126
дома в надежде хотя бы на миску похлебки. Трактир в Утрехте — большой соблазн, да ведь и повар давно по душе Кураж; еще раньше, когда дела шли хорошо, она вовсю кокетничала с ним. В разговоре со священником, вспоминая повара, она тепло и задумчиво произносила:
«а по мне — славный был человек»; когда же пропавший было повар снова появился, Кураж охотно взяла его в помощники.
В спектакле 1949 года роль повара исполнял Пауль Бильдт. В 1951 году эта роль перешла к Эрнсту Бушу. Тогда особенно «заиграли» сцены повара и Кураж. Вайгель продавала ему каплуна, обменивалась трезвыми деловыми фразами, отбривала его шуточки, сама отпускала остроты, а за всем этим шла, говоря словами Брехта, «тема любовной беседы». Чуть потеплевший голос, брошенный исподтишка взгляд, грубоватая заботливость — актриса выдавала затаенную женскую сущность, скрывавшуюся в этой разбитной компанейской бой-бабе. Когда она начинала кокетничать с поваром, какой неожиданно уморительной и трогательной была эта парочка оборванных, голодных, беззащитных.
В Утрехте можно было бы начать новую жизнь — «нельзя же век бродяжничать… каждый день обед варили бы». Но Катрин взять с собой нельзя, говорит повар. Вайгель на протяжении нескольких минут проживает целую жизнь. Она обрадовалась, очень обрадовалась сначала; из жутких лохмотьев сверкнули чуть ли не прежним огнем глаза, пока они пели песню перед домом пастора, она даже один из прежних своих трюков вспомнила: втянула голову в плечи так, что кажется — вовсе нет головы на плечах. Это и страшно, и жалко, но что-то прежнее, молодое вдруг забрезжило в ней. И тут же взгляд на фургон, где спряталась Катрин — где же она? что будет с ней? Нет сил сразу отказать повару, и Вайгель—Кураж в отчаянии думает, думает, тешится этой последней надежной, чтоб тут же ее отбросить, подобрать,
127
снова отбросить. Они с поваром поют под окошком пасторского дома о том, что мудрость, смелость, доброта и честность — все это добродетели, совершенно не нужные маленькому человеку, они ему даже вредны, а нужны ему еда и тепло…
— Думай о себе! — призывают слова зонга.
На этот раз мать побеждает. Кураж остается с дочерью, отвергая соблазн еды и тепла. Сколько вдруг грубоватой нежности, материнской заботы и чуткости: Вайгель—Кураж кормит Катрин, уверяя ее, что у нее, Кураж, и в мыслях не было оставить фургон, как же без фургона, ты тут ни при чем, и не думай, что я из-за тебя ему дала отставку…
Теперь уже только вдвоем — мать и дочь — впрягаются в оглобли фургона. «Трогаясь в путь, Вайгель в одном из позднейших спектаклей задрала голову и помотала ею, как усталая кляча, когда она трогает с места. Это движение едва ли воспроизводимо», — писал Брехт («Модель ”Кураж“»).
Погибает Катрин. Чтобы разбудить спящий город Галле, на который готовится нападение, она влезает на крышу сарая и бьет в барабан, не поддаваясь на угрозы разрушить фургон. Ее убивают, но город и дети в нем, за которых больше всего боялась Катрин, — спасены.
А Кураж — согнутая дряхлая старуха — будто и не услышала барабана Катрин. Он прозвучал для нее только колыбельной песней над трупом дочери. Вайгель—Кураж бережно положила голову Катрин себе на колени и, сидя на земле, тихо-тихо, почти на одной ноте запела:
Баюшки-баю!
Солома шуршит…
Другие детки плачут,
Моя — крепко спит[143].
Медленно достала Кураж из сумки деньги — нужно уплатить за похороны Катрин. Взяла несколько монет,
128
захлопнула сумку, хотела дать крестьянину все деньги, передумала, отсыпала часть в карман — надо же приобретать новые товары, протянула крестьянину оставшиеся. Медленно подошла к фургону, убрала лишнюю постромку, за которую раньше тянула Катрин, впряглась, двинулась с места. «Даст бог, одна с фургоном управлюсь. Ничего, совсем пустой ведь. Надо опять торговлю налаживать».
Из-за сцены доносится песня:
Война удачей переменной сто лет продержится вполне,
Хоть человек обыкновенный
Не видит радости в войне.
Он жрет дерьмо, одет он худо,
Он палачам своим смешон,
Но он надеется на чудо,
Пока поход не завершен.
Эй, христиане, тает лед!
Спят мертвецы в могильной мгле.
Вставайте, всем пора в поход,
Кто жив и дышит на земле!
Мимо проходит полк. «Эй, и меня прихватите!» — кричит Вайгель. Ожил, пришел в движение поворотный круг, скрипя, сдвинулся с места фургон — Кураж снова отправилась по пятам за войной, так ничего и не осознав.
Елена Вайгель играла женщину, чье прозвище — «Courage» — в переводе означает «храбрость, смелость», женщину, пленявшую нас грубоватым задором, жизнелюбивой хитростью, вольным и цепким умом, лукавым юмором. Ее Кураж и хозяйка своей судьбы — и рабыня обстоятельств, она уверена в себе, хитра, но она же и остается слепой до конца. Вайгель то показывала одновременно обе эти точки зрения, совмещая их в своей игре, то разделяла противоречащие друг другу действия, подчеркивала их непримиримость.
129
Мамаша Кураж — Вайгель была все время в работе, она прилежна, деловита и неугомонна. Брехт такой и задумал свою маркитантку: «Важна неизменная работоспособность Кураж. Она почти всегда занята какой-нибудь работой. Эта-то энергия и делает потрясающей безуспешность ее усилий» («Модель ”Кураж“»).
Вайгель в роли Кураж не суетилась, не мельчила; она неустанно возилась с товарами, утварью, чинила одежду, готовила еду, продавала напитки солдатам, меняла знамя над фургоном, перевязывала изувеченную дочь; в руках у нее были совершенно реальные предметы, и каждое из действий наполнялось благодаря ей конкретным жизненным содержанием. При этом в задачу актрисы и режиссера вовсе не входило создание натуралистической иллюзии[144]. Предметы в ее руках, сами руки, вся ее поза, последовательность движений и действий — все это детали, необходимые в развитии фабулы, в показе процесса. Эти детали выделялись, укрупнялись, приближались к зрителю, подобно крупному плану в кинематографе. Неторопливо отбирая, отрабатывая эти детали на репетициях, она вызывала порой нетерпение актеров, привыкших работать «на темпераменте».
В игре Вайгель поразительно органично соединялось сценически условное и жизненно безусловное. На сцене жила Кураж — во всей своей индивидуальной конкретности — и одновременно — сама Вайгель, страстная, умная, непримиримая, открыто обращающаяся к залу, убеждающая зрителя и правдой созданного характера, и своим ясно выраженным отношением к нему.
Вайгель проживала в спектакле двенадцать лет. Каждая ее сцена по сути дела драматическая коллизия, и часто разрешение коллизии сопровождалось зонгом, когда актриса, как бы «выключившись» из образа,несла зрителю обнаженную мысль. Из тринадцати зонгов пьесы мамаше Кураж отданы семь. Наиболее важный из них — «Песня о великом смирении».
130
Кураж неисправима. Трагичность ее судьбы усугубляется тем, что она, умница — а Вайгель играла очень умную женщину, — не всегда слепо серила в правильность именно того пути, каким шла. Еще в молодости ей довелось узнать цену жизни — и приспособиться к ней, капитулировав, смирившись перед «здравым человеческим смыслом». В своей «Песне о великом смирении» Кураж — Вайгель горько издевается и над своими юношескими мечтами, и над своей теперешней пассивностью. В этой песне — философская сущность образа; вся лексика, образная система песни не органичны в устах маркитантки. Так всегда у Брехта. «Глубокие и зрелые мысли и чувства, заложенные в песнях, значительно превышают интеллектуальный уровень исполняющих их лиц»[145] — для того, чтобы зрители могли в полной мере постигнуть крах жизненной философии, приводящей к такому концу.
Вот Вайгель у палатки ротмистра — это пока что дерзкая и задиристая Кураж, она не даст спуску никому, она будет жаловаться начальству на солдат, попортивших товары в ее фургоне. Появился молодой солдат, он тоже с жалобой, готов изрубить всех на месте, кричит и бранится. А Кураж присела у палатки, занялась штопкой. «…Не могу я несправедливость терпеть!» — вопит солдат. И Елена Вайгель, не только играющая, но и показывающая нам маркитантку Кураж, спокойно и иронично спрашивает у солдата: «…надолго ль тебя хватит? Долго ли ты не можешь несправедливость терпеть? Час или два?»
Солдат все еще на ногах, но скоро он спокойно усядется на скамью по первому же приказанию писаря. «Они знают, как с нашим братом надо! Прикажут: «Садись!» — вот мы уж и сидим. А какой тут бунт, сидя-то?» Кто это говорит? Это Кураж — и Вайгель — и Брехт.
131
«Послушайте лучше, я тебе расскажу про смирение наше великое», — и Вайгель поет: тихо, раздумчиво, спокойно.
Было время — я была невинна,
Я на род Людской глядела сверху вниз…
В этом зонге стихотворные строки перемежаются с прозаическими, в которых словно бы сконцентрировался тот самый «здравый смысл», что велит молчать, «не брыкаться», приспосабливаться.
Прерывая пение, Вайгель произносит эти строки сухо, заученно, будто цитаты — ведь это расхожие истины, можно смеяться над ними, но их повторяют, а главное — им следуют: надо уметь ладить с людьми, рука руку моет, стену лбом не прошибешь, по одежке протягивай ножки. И снова песня:
И, затаив свои мечты,
Со всеми в ряд шагаешь ты.
На этих словах приглушенно вступает барабан, Вайгель взмахивает руками, как бы отбивая такт марша.
Увы, приходится шагать
И ждать, ждать, ждать:
Наступит час, настанет срок!
Ведь человек же ты, не бог —
Лучше промолчать!
И я научилась молчать, поет Вайгель о своей героине и о тысячах таких, как она, —
На коленях я уже стояла
И уже лежала на спине.
Молодого солдата, который собирался было изрубить ротмистра на куски, подчинила логика этого «здравого смысла». Он отступился от своего намерения: что проку
132
в кратковременном приступе злости! Да и сама Кураж говорит: «Передумала я. не буду я жаловаться».
Вайгель быстро, опустив голову, уходит.
На первых репетициях Вайгель в начале этой сцены изображала подавленность. Это было неверно, Брехт, Эрих Энгель и она очень скоро почувствовали это. Ведь Кураж, уча другого, учится сама. Она не только вспоминает уроки прошлого, она заново постигает — сейчас и здесь — закон смирения, капитуляции и капитулирует, уходит, раздумав жаловаться. Поэтому она стала играть ожесточение — в начале картины, а подавленность — в конце.
«Ни в одной другой сцене подлость Кураж не велика так, как в этой, где она учит молодого человека капитулировать перед начальством, чтобы суметь капитулировать самой. И все же лицо Вайгель светится при этом мудростью и даже благородством, и это хорошо. тут дело не столько в ее личной подлости, сколько в подлости ее плана, а она сама немного поднимается над ним хотя бы уж тем, что явно понимает эту слабость и даже злится на нее» («Модель ”Кураж“»).
В следующей сцене та самая Кураж, которая только что горестно издевалась над великой капитуляцией приспособленцев, отказывается дать из своих запасов холстину для перевязки раненых крестьян…
— Смотрите, — как бы говорила Вайгель, — я показываю вам женщину, которая так ничего и не поняла. Вы дистанцию между собой — и нею, между нею — и вами. Моя Кураж не прозревает.
Можно было бы здесь вспомнить страстный призыв Брехта из другой его пьесы — «Карьера Артуро Уи»: «А вы учитесь не смотреть, а видеть!»
Она убеждала зрителя гражданской страстностью и — прежде всего — художественной силой созданного ею образа. «Ее Мамаша Кураж — тип немецкой мелкой
133
жуазки, очерченный с наивозможной социологической точностью; и в то же время — образ злосчастной матери, гонимой всеми злыми ветрами, подставленной всем ударам судьбы. В маркитантке, потерявшей на войне все — всех своих детей, Вайгель безжалостно разоблачала расчетливую торговку, — чтобы тут жена ее судьбе раскрыть всемирную народную трагедию»[146]. Трагедию нищеты, приспособляющейся к обстоятельствам. Трагедию слепоты, которую не излечивают жизненные уроки.
Вскоре после премьеры «Мамашу Кураж» привезли в Лейпциг, на ярмарку. Публика разнокалиберная, настроенная очень противоречиво, частично — снобистская, ждущая сенсаций, может быть, какого-то формалистского эксперимента. И вот во время спектакля буквально на глазах происходит «сшибка»: простота постановки, властная сила образности, точный и четкий ритм покоряют недоверчивых, заражают равнодушных, убеждают колебавшихся. После первого спектакля — овации: по словам знатоков, таких давно не слышал Лейпциг. На втором спектакле овации начинаются после первых же картин и продолжаются до конца.
В Западной Германии — в Брауншвейге, Кёльне — они показывают «Кураж» в залах с плохой акустикой, на маленьких сценах. Но спектакль о Человеке и Войне захватывает зрителей; и в Кёльне, и в Брауншвейге после конца представления зал бушует — тридцать пять — тридцать сем вызовов!
Везде, где шел спектакль, люди узнают Вайгель на улице, показывают ее друг другу: «Вот Кураж!» Но ни у Вайгель, ни у Брехта нет ощущения завершенности, нет спокойствия достигнутой цели. В зале сидят плохо одетые люди, они пришли из руин и вернутся после спектакля в руины. Сцена ярко освещена — такого яркого света нет пока ни в жилищах, ни
134
на улицах городов. Они видели много горя, они знают тяжесть войны; им знакома не только потеря состояния, но и потеря близких. Поэтому они всем сердцем сочувствуют Кураж в ее несчастьях. Но несчастье — плохой учитель.
«Его ученики постигают голод и жажду, но это редко бывает жаждой правды и знания. Страдания не делают больного лекарем. Увиденное — с близкого ли, далекого расстояния — не всегда делает очевидца мудрым»[147].
«Зрители 1949 года могут не увидеть в Кураж — преступницу. Они видят лишь ее страдания — вот чего опасаются Брехт и Вайгель. Они и в войне, развязанной Гитлером, могут увидеть лишь «плохую» войну, принесшую им несчастья. Им кажется, что они усвоили уроки войны. Они в этом уверены. Поэтому они не способны понять, что хитрая и умная Кураж ничему не научилась, даже в конце своего пути. А ведь это самый горький и самый важный урок в пьесе.
И Вайгель играет жестоко и гневно. Это не гнев маркитантки, это гнев актрисы.
Спектакль будет идти несколько лет подряд. Очень скоро выяснится, что многие быстро забыли уроки войны (или никогда и не пытались их усвоить). Фургон мамаши Кураж будет из вечера в вечер катиться по безжалостно освещенной сцене, а Кураж снова и снова, из последних сил — налегать на оглоблю…
Показав — научить! Это задача нового театра, это задача самой Елены Вайгель. Ученик Брехта, режиссер Бенно Бессон вспоминает: «Когда я увидел ее в роли мамаши Кураж, мне стало понятным, что имел в виду Брехт, говоря о своих планах нового театра. До этого мне казалось, что я многое понимаю, но тут выяснилось, что все это было лишь эскизом, перевод которого на язык
135
искусства нуждался в исполнении этой поистине великой актрисы. Все, что делала Кураж, было свежим, живым, большим и очень ясным; она сообщала нам, зрителям, новую свободу взгляда…
Нам — это горстке молодых увлеченных театром людей, которых
Вайгель воспитывала, как собственных детей»[148].
Пьеса «Мамаши Кураж и ее дети» была написана накануне второй мировой войны. Спектакль родился в послевоенные годы как результат горького исторического опыта прожитых лет. Кураж — синтез, итог многолетнего труда Вайгель. «Актриса, начавшая свою карьеру в экспрессионистском театре, Вайгель сохранила его энергию и остроту, придав им широкое дыхание эпического театра. Она соединила в своем творчестве социальную конкретность мотивировок и почти библейское представление о народности…»[149]
В Кураж слились актерская юность Вайгель, поиски вместе с Брехтом новых путей, обретенная в тяжелых испытаниях мудрость. Долгие годы тоски по творчеству не остановили, не прервали движения. Оно шло — пусть внутренне, подспудно. Почти не играя на сцене, Вайгель оставалась актрисой. Актрисой, способной решать грандиозные задачи. Брехт писал о «большой смелости» Вайгель. Та удивительная свобода, с которой она соединяла вчувствование и показ, воплощение и очуждение образа, действительно требовала смелости — смелости гения. Вайгель ею обладала.
Искусство Вайгель — это искусство абсолютной жизненной конкретности — и многозначных обобщений, строгой художественной объективности — и прямого идеологического воздействия, могучих эмоций — и жесткого,
136
трезвого разума. Это искусство непосредственное, личностное — и мастерское, сделанное. Это мужественное искусство и в каком-то смысле — мужское. «При исполнении женской роли мужчиной (или наоборот) резче выступают черты пола, трагическая роль, сыгранная комедийным актером, приобретает новый аспекта» — в расширенном смысле это объяснение «Малого органона» дает актерскую характеристику Вайгель. Женственное, эмоциональное — в строгой мужественной форме. Страсть — подчиненная рассудку, выраженная так агрессивно и лаконично, что похожа на формулу страсти. Тема материнства — обработанная как бы по-мужски, без сантиментов, холодно и жестко. Непосредственность — в рассчитанности каждого жеста, каждой детали. Деталь — опять-таки кричащая, страстная, земная, порой натуралистическая. Трагическое — обнаруженное посредством эксцентрики. Это поразительное сочетание противоположностей характеризует Вайгель как актрису нового типа в европейском театре.
Интеллектуальный актер — вот достижение театра 50-х годов, когда «Берлинер ансамбль» и Вайгель получат всемирное признание.
«Принципы художественной организации могут быть очень различны (не говоря уже о приемах, средствах, языке); структура будет разной, но исходная точка — рационализм художественной обработки — сохранится», — пишет Т. Бачелис, определяя особенность интеллектуального искусства. «К этому типу художников-интеллектуалистов в искусстве и литературе современного Запада принадлежат очень многие. Нетрудно догадаться, что художникам, с наибольшей поэтической мощью реализовавшим такой род интеллектуального творчества, был Брехт»[150]. То же самое можно и нужно сказать о Вай-
137
гель — об огромной поэтической силе в реализации интеллектуального творчества. И еще — об огромной жизненной силе, питавшей это творчество. «В неслыханной простоте ее игры слито так много: своенравие, природный ум, находчивость, уверенность, сознательность, словом — сила, жизненная сила»[151]
Вайгель стала голосом, жестом и символом своей эпохи — как и подобает великой актрисе в общественном учреждении, называемом Театр.
Через месяц после премьеры «Кураж» Вайгель — будущая «Intendantin» будущего театра — уже начала подготовку к созданию крепкого театрального коллектива. Наконец-то свой театр! Присущая Вайгель и не находившая столько лет выхода жажда деятельности обрела конкретную и большую цель. У театра еще нет помещения, но сам он — есть и Вайгель — его душа, его страстный организатор. Она получила несколько комнат в здании артистического клуба «Чайка» на Луизенштрассе. Это ее первое «бюро», здесь она может тщательно разрабатывать проекты, хлопотать о договорах, квартирах, мебели и питании для членов будущей труппы.
Продолжая играть Кураж в переполненном зале Немецкого театра, Вайгель достала средства и весь необходимый инвентарь для открытия репетиционной сцены — «неописуемое достижение в городе развалин», по словам Брехта.
Сам он в это время уехал в Цюрих. («Пожалуйста, следи за собой, — писал он оттуда Вайгель. — Не занимайся делами в дни спектаклей!.. работа слишком напряженная… Следи за собой!»)
В Швейцарии он тоже искал сотрудников. Он заключил договора с Терезой Гизе (первой Кураж, сыгравшей эту роль в Цюрихе в 1941 году) и Леонардом Штекелем,
138
Региной Лютц, молодым актером и режиссером Бенно Бессоном.
Для открытия нового театра Брехт планировал поставить свою пьесу «Господин Пунтила и его слуга Матти» со Штекелем—Пунтилой и «Вассу Железнову» — Бертольт Фиртель — режиссер и Тереза Гизе — Васса. В июне 1949 года был утвержден состав нового театра; ядро его — коллектив «Кураж», которая продолжала идти в Немецком театре с неизменными аншлагами.
7 октября 1949 года Народный совет, избранный Немецким народным конгрессом, провозгласил создание Германской Демократической Республики — первого государства рабочих и крестьян в немецкой истории.
А через месяц — 8 ноября — открылся новый театр нового государства — «Berliner Ensemble», чье искусство стало образцом социалистической культуры. Первым его спектаклем был «Господин Пунтила и его слуга Матти» в постановке Брехта и Энгеля. Оформлял спектакль Каспар Неер, музыка — Пауля Дессау. Кроме Штекля-Пунтилы в спектакле играли Эрвин Гешоннек, Тереза Гизе, Регина Лютц, Фридрих Гнасс.
А вскоре — в декабре — выпустили и «Вассу Железнову» в постановке Фиртеля и в оформлении Тео Отто. В новых спектаклях Байгель не участвовала, но появление их было и ее заслугой. В конце этого года Брехт писал Вайгель: «Милая Хелли, спасибо тебе за добрый год, в котором самым прекрасным была ты».
Театр создан! Но своего здания по-прежнему нет. В театре на Шиффбауэрдамм разместилась труппа Фрица Вистена; когда в 1954 году она переедет в отстроенное помещение «Фольксбюне», «Берлинер ансамбль» получит здание на Шиффбауэрдамм. Когда-то здесь ставил свой знаменитый спектакль «Сон в летнюю ночь» Рейнхардт, позже это был театр оперетты, а еще позже здесь были поставлены и «Трехгрошовая опера» и «Мать». Это здание с башенкой наверху очень скоро станет символом
139
«Берлинер ансамбль», а площадь перед театром назовут после смерти Брехта его именем.
Возникает подлинный коллектив — содружество артистов, режиссеров, декораторов, музыкантов. Работают очень много, гастролируют в ГДР, в Западной Германии, Польше; эти гастроли начинают триумфальное шествие «Мамаши Кураж» по всему миру.
В следующие сезоны Вайгель играла еще двух давно знакомых ей матерей — Пелагею Власову и Тересу Каррар. В спектакле «мать», который был поставлен Брехтом в 1951 году, появилась новая роль — механика Семена Лапкина, созданная на основе роли Ивана Весовщикова и некоторых добавлений из текста роли Павла. Играл Лапкина Эрнст Буш, давний соратник Вайгель.
На репетициях Буш и Вайгель деятельны и неутомимы. Над давно знакомой ролью Ниловны Вайгель работает с наслаждением, радостно откликаясь на новые оттенки, мизансцены, детали. Власова так и шла по жизни вместе с Вайгель: было несколько возобновлений этого спектакля на сцене «Берлинер ансамбля»; в конце 1953 года режиссер Манфред Векверт поставил «Мать» под художественным руководством Брехта в венском театре «Скала» — там тоже играли Вайгель и Буш.
А в 1968 году во время гастролей театра в Ленинграде и Москве[152] Пелагею Власову увидели советские зрители и Вайгель сказала о ней автору этой книги: «С годами моя Власова стала, как мне кажется, веселее и добрее. А может быть, это просто я стала старше и наш с ней возраст наконец совпал: ведь когда я вышла на сцену в роли Ниловны первый раз, мне было всего тридцать два года…»
Хотелось показать на сцене сегодняшнюю стану, ее будни, и театр принял к постановке пьесу Э. Шриттматтера «Кацграбен» — «Кошачий ров». Это название глухой деревушки, где происходит действие. Время действия — 1945—1950 годы. В деревне возникают новые отношения между людьми, идет борьба между богатеями, середняка-
140
ми и бедняками, противниками и сторонниками новой жизни. пьеса написана в стихах, но речь персонажей не перестает от этого быть индивидуально и социально определенной, живой. «Кацграбен» — это, по словам Брехта, «историческая, хроникальная комедия с новы заразительным ощущением жизни». он рассматривает работу над ней как упражнение для себя и для актеров, упражнение в решении новых проблем художественными средствами. Несколько месяцев идет работа с автором, затем несколько месяцев — над постановкой.
У Вайгель небольшая роль — фрау Гроссман, жена кулака, пожилая женщина в старомодном платье, в высоких башмаках, в смешной нелепой шляпке. Во время репетиций она снова помогает режиссеру — и себе — умело найденной деталью: у фрау Гроссман кривое плечо и зоб. «Это показывает, — говорит актриса, — что Гроссман женился на мне из-за денег. Не было бы их, но не позволил бы мне так командовать. Да я и сама бы не смогла: я ведь религиозна и помню: ”жена да убоится своего мужа“[153]»[154]
Крохотная роль наполняется у Вайгель живым содержанием. Ее зобастая героиня с застывшей судорожной гримасой, вечно спрятанными под фартуком руками и семенящей походкой — расчетливая бессердечная скопидомка и ханжа. При каждом стуке в дверь она убирает со стола жирный окорок и поспешно прячет его в фисгармонию; когда батрак начинает сбивать масло, но на этой же фискармонии она играет «Иисос моя опора»: чтобы заглушить звук маслобойки — ведь его могут услышать голодные…
После первого прогона крестьяне, приглашенные на обсуждение спектакля, говорила: «Кулачка была первый сорт».
141
«Берлинер ансамбль» пользовался огромным успехом у зрителя. но судьба театра складывалась отнюдь не легко. «В конце сороковых — начале пятидесятых годов еще были в ходу самые неопределенные и причудливые представления о театральной деятельности Брехта. Зачастую были известны лишь некоторые спорные тезисы Брехта, которые воспринимались либо как провокационные, либо как эзотерические теории некоего одиночки…»[155] Брехту противопоставлялся Станиславский, его система[156].
Как раз в то время, когда шли репетиции «Кацграбена», в Берлине состоялась конференция «Как мы можем усвоить Станиславского?» Во многих выступлениях отчетливо проступала тенденция — обвинить Брехта и его театр в недооценке и просто пренебрежении методом Станиславского.
От театра на конференции выступила Вайгель. Она воздержалась от полемики по существу, указав лишь на некоторые важные точки соприкосновения Станиславского и Брехта. Оба они учат актеров наблюдать жизнь, быть правдивым, естественным; учат тому, что самое главное — люди; воспитывают чувство ответственности по отношению к обществу; в постановках для обоих важна богатая мыслями концепция и тонко разработанные детали; оба — за «ансамбль звезд»; оба — за воплощение сложной и противоречивой действительности. Не нужно только делать культа из систем одного и другого: оба они сходятся еще и на том, что искусство не терпит остановки, закостенения[157].
Работа Брехта «Малый органон» в которой он сформулировал основные положения своей теории «театра века науки», слишком многими понималась узко, догматически и вызывала либо скучное эпигонское заимствова-
142
ние готовых форм — либо нападки. «Как мне кажется, — писал Брехт, — некоторые из моих высказываний неправильно истолковываются потому, что я не сформулировал ряда важнейших положений, предполагая их известными».
Теперь он написал ряд статей и заметок, объединенных одной общей мыслью о диалектике на театре. Мысль эта родилась непосредственно из повседневной работы «Берлинер ансамбля», из репетиций и обсуждений, из анализа ролей, сыгранных Вайгель и другими актерами. Не полное и безоговорочное погружение в душевный мир своего персонажа, вживание — необходимо критическое отношение актера к образу[158].
Но игра актера была бы формалистической и бессодержательной, неглубокой и неживой, если забыть хоть на минуту о том, что «задача театра — создавать образы живых людей».
Героини Елены Вайгель — живые полнокровные люди с их сложными противоречиями, с неповторимыми характерами. Это и есть то, что Брехт назвал «диалектика на театре».
В своих теоретических работах о диалектике на театре Брехт исходил из конкретного творческого опыта — это опыт работы в театре до эмиграции, постановки его пьес в Европе и Америке, работа с английским актером Чарльзом Лоутоном над «Жизнью Галилея», практика «Берлинер ансамбля». И у этой постоянно действующей системы обратной связи между теоретическим обобщением и конкретным творчеством всегда был свой центр — Елена Вайгель. К ее игре, к созданным и создаваемым ею образам Брехт обращался постоянно — и не только в работе о театре. В начале 1952 года он опубликовал «Заметки о выставке Барлаха» в Академии искусств. В творчестве драматурга, скульптора и графика Эрнста Барлаха Брехт нашел все то, что больше всего ценил в театральном искусстве, в творчестве Вайгель. «Темперамент, значитель-
143
ность содержания, блестящее мастерство, красота без украшательства, величие без напыщенности, гармония без приглаженности, жизненная сила без грубой животности — благодаря всему этому скульптуры Барлаха являются шедеврами».
Образы, созданные Еленой Вайгель, вообще часто сравнивали с произведениями изобразительного искусства; имена Домье, Цилле, Кэтэ Кольвиц, Барлаха, Кремера звучали вместе с ее именем и со словами «простота, правда, выразительность, народность». Примечательно, что это как правило имена графиков и скульпторов: Вайгель лепила объемные, «осязаемые» пластические фигуры, очерчивая их в то же время уверенными штрихами хорошего рисовальщика.
Так остро, выразительно была очерчена роль Василисы, сыгранная Вайгель в спектакле «Воспитанница» по пьесе «Островского».
«Воспитанницу» в «Берлинер ансамбле» поставила талантливая актриса и режиссер Ангелика Хурвиц, исполнительница роли Катрин в «Мамаше Кураж». Обращение театра к Островскому не было случайным. Раньше из пьес Островского в странах немецкого языка чаще всего ставили «Лес», «Бешеные деньги» и «Без вины виноватые». В 1951 году в ГДР был издан четырехтомник произведений Островского. Брехт с большим интересом прочитал его пьесы, найдя в них композиционные и выразительные средства, родственные национальному немецкому театру. «Историческая» пьеса, то есть «поэтическое воспроизведение эпохи, ставшей уже классической», — такими видел Брехт пьесы Шекспира и его современников в английском театре и Островского — в русском.
Когда позже, в мае 1955 года, Вайгель и Брехт приехали в Москву за получением присужденной Брехту Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», им был особенно интересен Островский в МХАТе — «Горячее сердце» с Грибовым в ролил Хлынова[159]; спектакль очень им понравился, а Грибовым они просто восхищались. Бернгард Райх, беседовавший тогда с ними, вспоминает о словах Брехта: «Каким блестящим Пунтилой был бы Грибов!»[160]
Так неожиданно встретились Островский и Брехт.
«Воспитанница» привлекла театр серьезной социально-этической проблематикой и комизмом, содержавшимся в пьесе.
Вайгель играла льстивую и хитрую приживалку Василису Перегринову, девицу сорока лет. Как и для всех своих героинь, она тщательно выбирала походку, прическу, грим, наряд; у ее Василисы вздернутые брови, впалые щеки и поджатые губы, волосы разделены прямым прибором, порядка к прядке аккуратно уложены, височки взбиты, высокий ворот платья жеманится и манерничает, злится и подличает, выслеживает и доносит. Василиса—Вайгель могла вести невинный разговор о природе или умильно льстить барыне, но ее пластика — тело, поза, движения, жесты обнаруживали змеиное нутро. Протянув руку, она срывала у изгороди цветок, казалось бы — полюбоваться, понюхать, но рука выдавала злобу, сжигающую приживалку, и пальцы Василисы сминали, уничтожали цветок, и ненависть ко всему на свете прорывалась в словах: «Кажется, кабы моя власть, вот так бы вас всех!»
Барыня говорит о Василисе: «Ты душой не покойна, если чего-нибудь обидного не скажешь». Вайгель и это «не покойное» состояние души своей Василисы блестяще выражала в пластике: в напряженно вытянутой шее, беспрестанных движениях рук.
Вайгель всю жизнь продолжала искать и конкретизировать
каждое слово и каждый жест. Будучи отобранными и использованными, и слово, и
жест должны полностью соответствовать друг другу.
145
Брехт говорил: «Жест был раньше слова». Слову на сцене он верил гораздо меньше; спектакли, в которых ему понятно было каждое слово, считал скучными, утомительными. Напряженное «слушание» текста только вредит зрителю — хотя это вовсе не освобождает ни режиссера, ни актеров от тщательной работы над словом. Сценическое действие должно быть зримым. Актерская игра должна строиться на системе крупных и отчетливых жестов «Сценический жест»). Он любил рассматривать фотографии, на которых запечатлен почти весь ход спектакля.
Как-то он увидел киноленту, на которой была снята Вайгель за гримировальным столиком. Вот она пробует грим, смотрит на себя, оценивает, Меняет что-то, она довольна, недовольна, весела. Брехт разрезал эту киноленту и увидел, что каждый кадр — это свое, особое, завершенное, неповторимое выражение лица, свое душевное состояние. «Сразу видно, какая она актриса, — с восхищением проговорил он. — каждый связан с другим, но в то же время существует сам по себе. Прыжок хорош, но хорош и разбег» («Театр автора»)[161].
Что же должно быть основой сценического жеста? Конечно, жест обыденный, жизненный. Актер же разрабатывает его, чеканит, шлифует, делая сценическим.
Понятие сценического жеста выкристаллизовалось у Брехта тоже из практики — 20—30-е годы, театр Пискатора, Йеснера, агитпропгруппы, немой фильм, Чаплин, Вайгель, собственная режиссерская работа.
Вайгель владела сценическим жестом в совершенстве. Она владела и пространством, окружающим ее, и собою — в нем; ведь это и есть то, что мы имеем в виду, когда говорим о «пластичности» какого-либо человека. В. Э. Мейерхольд писал: «Приятно сказать ”тело“, но ведь в движении тела в пространстве самая великая штука — это координация, так что мы можем тело получить, но можем
146
получить и отдельно туловище, отдельно конечности и отдельно голову. Значит, тут нужно это тело принести составленным и составленным настолько тонко, чтобы все нюансы координации поражали нас именно тем, что они очень ловко и искусно координированы»[162].
Вайгель не только владела собою в пространстве, она это пространство вокруг себя — творила; это и есть артистичность.
Спокойная динамика ее речи и пластики, показывая не события, а процессы, подводила нас к моментам, где она сменялась напряженной статикой, знаменуя результат, кульминацию или переход. Кому-то эта напряженность казалась слишком напряженной, преувеличенной, но большинство понимало это именно так, как хотелось актрисе. Навсегда остались в памяти тех, кто видел Вайгель на сцене, Власова в рядах демонстрантов, скрывающаяся сперва за их спинами, а после — поднимающая знамя; Тереса Каррар, с упрямым спокойствием плетущая рыбачью сеть; Кураж — судорожно застывшая в безмолвном крике, когда казнят ее сына, и в конце — сросшаяся со своим фургоном и с Войной.
В 1955 году к образам матерей, созданных Вайгель, прибавилась еще одна — Нателла Абашвили. Это небольшая роль в пьесе-притче Брехта «Кавказский меловой круг», где на примере двух матерей, одна из которых — родная, но не настоящая, а другая, не родная, но истинная мать, решается вопрос о подлинном хозяине жизни, владельце ее богатств. Вайгель играла жену губернатора, мать, которая родила ребенка, но, думая только о себе, бросила его в минуту опасности.
Нателла Абашвили — мать только по крови — не по праву; для Вайгель — еще одна грань ее большой темы материнства, на этот раз не животворного, как в Пелагее Власовой, не губительного, как в Кураж, но просто мертвого, ибо — бесчеловечного. А мать не может быть бесчеловечной. Поэтому весь сценический путь этой матери ведет ее к поражению…
В «Берлинер ансамбль» всегда очень долгий репетиционный период. Над «Кавказским меловым кругом» Брехта начали работать осенью 1954 года, весной 1955 показали на Парижском фестивале Театра Наций, а премьера на Шиффбауэрдамм состоялась только осенью 1955 года. Придирчиво искали каждую мизансцену, по-
148
зу, каждый проход; даже установив что-то, много раз проверяли, опровергали. Ангелика Хурвиц играла девушку Груше, Эрнст Буш — судью Аздака[163], который разрешает спор двух матерей о том, кому из них принадлежит ребенок.
В этом спектакле Брехт надел на многих персонажей маски. Маски скрывают лица только отрицательных персонажей спектакля, исключая их «достойным и отчетливым образом раз и навсегда… из человеческого общества»[164].
Правда, участница спектакля Ангелика Хурвиц, рассказывая о постановке «Кавказского мелового круга», утверждает, что дело здесь не только в выделении «злых» персонажей[165]. Прежде всего, маски у правителей служили стилизованным дополнением к их пышным костюмам; обычные, простые костюмы людей из народа такого дополнения не требовали, да и не гармонировали бы с масками, но это еще не главное. Применение масок родилось из потребности подчеркнуть основной «Gestus» тех персонажей, сущность и поведение которых на протяжении спектакля не меняется. Так, губернатор и его жена словно законсервированы в скучающей неподвижности.
У Брехта есть маленькое стихотворение о маске злого духа, о том, какое это напряжение — быть злым. На лице княгини-Вайгель — застывшая маска зла и бесчеловечности; в прорезях маски — холодные глаза; на пальцах рук — удлиняющие их наконечники. От этого пальцы похожи на когти; как у пушкинской старухи, «жемчуга огрузили шею», богатые одежды сковывают движения. Механическая поступь, затверженные жесты.
Нателла Абашвили появилась в дверях дворца. Она еще счастлива, богата; резня во дворце и бегство еще впереди. Руки сложены, одна на другую — перед гру-
149
дью, взгляд — поверх голов просителей, упавших на колени, борющихся между собой за это право — просить у своего покоя, уверена именно потому, что он — уверен.
Когда происходит дворцовый переворот, княгиня — Вайгель понимает только одно: необходимость срочно упаковать в дорогу наряды. Служанка, лежащая ничком, служит ей сиденьем; руки, как у марионетки, механически скованно качаются перед грудью — она отдает распоряжения. Рот не закрыт маской; поэтому, когда она встречает кокетливой улыбкой нравящегося ей адъютанта, а глаза при этом по-прежнему неподвижны, эта улыбка мертва, очуждена, выделена крупным планом.
Адъютант никак не может убедить ее уехать сию же минуту — убедил взгляд на горящий город. Жест испуга — открыт рот, руки сомкнулись, прижавшись к туловищу.
Движения рук рта и наклон головы — вот все, что «играет» у Вайгель — Нателлы. Спектакль очень красив, изыскан, глубокомыслен, философичен — и в то же время лаконичен и прост. Появляясь совсем ненадолго в разных сценах, княгиня-Вайгель проходит через весь спектакль. Этот ее «проход», линию ее движения, Вайгель прочерчивала с твердым изяществом, приводя свою героиню к бесславному и закономерному концу. Бесчеловечие мертво и обречено с самого начала. А в кульминационной сцене спектакля оно терпит поражение зримо, пластически: на земле начерчен меловой круг, в центре его ребенок, по приказанию судьи Аздака обе матери должны постараться, одновременно потянув ребенка за руки, перетащить его на свою сторону. Нателла-Вайгель даже присела на корточки, приоготовясь к неимоверному физическому усилию. Но оно не понадобилось: ребенок с неожиданной легкостью оказался на ее стороне. Груше отпустила его ручонку, боясь причинить малышу боль, и победила: мудрый Аздак признал ее истинной матерью.
150
Когда в 1968 году молодые режиссеры Манфред Каргу и Маттиас Лангхоф поставили телевизионный спектакль по пьесе Брехта «Сны Симоны Машар», написанной им в сотрудничестве с Л. Фейхтвангером в 1943 году, роль мадам Супо, сыгранная Вайгель, стала как бы продолжением роли Нателлы Абашвили.
Девочка Симона из маленького французского городка каждую свободную минуту читает о подвиге Жанны д’Арк. По дорогам Франции грохочут танки немецких оккупантов. Симона видит сны, где пережитое и передуманное ею днем фантастически сливается с историей Жанны д’Арк. Мир детской ясности и доверчивости начинает раскалываться: оказывается, совсем не каждый француз думает о спасении Родины. И в снах и наяву постепенно выявляются два мира: добрый — и недобрый, мир патриотов — и мир шкурников. Хозяин отеля, в котором работает Симона, готов сотрудничать с немцами, его мать отдает оккупантам запасы бензина. Но бензин успела взорвать Симона. И вот во сне ее приговаривают к смерти. А наяву отправляют в смирительный дом — это равносильно смертному приговору. Но Симона-Жанна заставила жителей маленького городка Сен-Мартен подумать о Франции — и начать защищать ее.
Мадам Супо — мать хозяина отеля, старая женщина, вся в черном, с медленными, даже не размеренными а — отмеренными движениями; сперва она кажется просто очень старой, надменной, не любящей суету и бестолковость. Но постепенно за отмеренностью движений обнаруживается расчет и коварство, за сдержанностью речи — ледяной холод злой и себялюбивой души.
В
снах Симоны мадам Супо превращается в гордую королеву-мать Изабо. Симону-Жанну
судят. Судят — и это самое ужасное для девочки — не оккупанты, а свои же
французы. Сущность всех персонажей в снах выявляется гораздо резче, выпуклее,
чем наяву: французы приговаривают свою героиню к смертной казни. Но королеве
151
Изабо мало скупых слов приговора, и она вдруг начинает кричать, окончательно разоблачая себя: «Я требую, чтобы эта особа за ересь и непослушание, а также за своеволие была немедленно казнена! Головы должны покатиться! Кровь должна течь! Эту деву надо искоренить, утопить в крови! Пусть эта кровь будет для всех примером!»
Вайгель внезапно обрывала крик, он как бы повисал в воздухе. Тем тяжелее падали холодные слова следующей фразы: «Я тоже веду войну… Мою войну».
Был еще один такой взрыв уже не во сне, а наяву, когда за Симоной приходили сестры-надзирательницы из приюта для умалишенных. Тогда мадам Супо ожесточенно трясла маленькую Симону, крича: «Уж не хочешь ли ты поучить нас, как быть патриотами?.. Мы — Франция, понятно?»
Мадам Супо — Вайгель обличала ту же, что у Нателлы Абашвили, холодную бесчеловечность, тот же дух предательства, реализовавшийся здесь в предательстве родной земли.
В августе 1956 года скончался Брехт. Его друзья в разных концах земли получали скорбные телеграммы, подписанные Вайгель: «Сегодня умер Бертольт Брехт».
У мастера остались ученики. Дома и в театре осталась вдова Брехта, мать его детей и бабушка его внуков, руководитель и ведущая актриса «Берлинер ансамбль» — Елена Вайгель.
Незадолго до кончины Брехт вел переговоры о гастролях театра в Советском Союзе. Гастроли состоялись весной 1957 года[166].
Москва и Ленинград встречали «Берлинер ансамбль» с большим, но несколько опасливым интересом. Короткое знакомство с Брехтом в далекие 30-е годы — тогда в Камерном театре А. Таиров поставил «Трехгрошовую оперу», С. Третьяков перевел несколько пьес — не могло служить залогом счастливой встречи, а то немногое, что
152
было известно о брехтовском искусстве в послевоенное время, вызывало настороженность. Казалось, что пресловутое обращение «не к чувству, а к разуму» неизбежно убьет, засушит, отнимет нечто важное у языка театра[167].
Москвичи и ленинградцы увидели тогда «Мамашу Кураж», «Жизнь Галилея», «Кавказский меловой круг», «Трубы и литавры».
Уходило во тьму лицо Галилея-Буша — не того легендарного Галилея, который, преодолев боль и страх, сказал: «А все-таки она вертится!» — а брехтовского, предавшего себя, науку, человечество; тянула свой фургон через необъятную бесконечную войну мамаша Кураж, так ничему и не научившаяся; била в барабан немая Катрин — Ангелика Хурвиц, отдавая жизнь за город Галле и его детей…
Вопреки ожиданиям спектакли этого театра потрясали. Оказалось, что обращение к мысли рождает и чувства, что говорит «Берлинер ансамбль» на ярком образном, даже изощренном, языке.
Своеобразие этого языка объясняли по-разному, подчас неожиданно и даже наивно. Разнородные художественные стихии — рациональная и эмоциональная, публицистическая и натуралистическая, условная и бытовая, — столь блистательно и сложно сплавленные Брехтом в единое целое, воспринимались многими совершенно раздельно[168]. О спектаклях «Берлинер ансамбль» яростно спорили. Безусловным аргументом в пользу театра были признаны Елена Вайгель и Эрнст Буш.
В лице Вайгель советский зритель «Берлинер ансамбля» открыл для себя поразительную актрису — умную и глубокую, точную и на редкость свободную. Попытки объяснить силу ее воздействия преодолением теории Брехта, якобы слишком рационалистичной, слишком догматичной,
153
быстро обнаружили свою несостоятельность. В ее игре справедливо увидели совершенное воплощение театральных идей Брехта. «Если искать в Берлинском ансамбле точку пересечения различных тенденций его стиля, то она — в искусстве Елены Вайгель. Другие актеры олицетворяют ту или иную сторону этого стиля, Вайгель — его сердцевину, где все противоположности сошлись наиболее естественно. Ее искусство — одновременно напряженное и ясное, экстатическое и спокойное, искусство больших обобщений и резких частностей»[169]. Такое искусство разбивало в прах миф о сухости, бедности, доктринерской рассудочности брехтовского театра.
Гастроли «Берлинер ансамбля» стали событием и проложили Брехту широкую дорогу на советскую сцену. Критики еще спорили о его совместимости с советской театральной практикой и глубже — русской театральной школой, а пьесы Брехта, одна за другой, уже ставились на многочисленных сценах, его принципы все шире использовались в самых разных спектаклях, все увереннее осваивались режиссерами и актерами; наконец в 1964 году брехтовским «Добрым человеком из Сезуана» громко заявил о своем рождении и о своем эстетическом кредо Московский театр драмы и комедии на Таганке, ставший одним из самых ярких театральных коллективов страны. Его первый спектакль начинался с низкого поклона всех актеров портрету Брехта, висевшему справа на портале…[170]
Драматургия Брехта, его эстетика оказались жизненно необходимыми советскому театру конца 50-х — начала 60-х годов с его публицистической устремленностью и активным расширением границ сценической условности.
Признанный гениальным драматургом и крупнейшим реформатором сцены XX века, Брехт продолжал оказывать мощное воздействие на всю мировую театральную
154
культуру. Его идеи служили насущному делу прогресса, мира, революционной борьбы.
В этих условиях на Вайгель, его соратницу и преемницу, руководителя«Берлинер ансамбля», ложилась огромная ответственность нужно было думать о дальнейшей жизни театра, о развитии традиций Брехта, позаботиться о его наследии, архиве. За множеством забот как бы отошло на второй план то, что она актриса…
До 1961 года у нее не было ни одной новой роли. ученики Брехта, молодые режиссеры, поставили в 1957 году «Страх и отчаяние» — Вайгель снова играла Юдифь Кейт, в другой сцене — женщину-работницу; через динамики в зал транслировался ее голос, читавший стихотворный пролог к спектаклю и эпиграфы к отдельным сценам; в это время на экране возникали документальные кинокадры из времен фашизма.
Наконец 8 мая 1961 года, в День Освобождения от фашизма, Вайгель вывела на сцену «Берлинер ансамбля» героиню, которая, по замыслу драматурга, была прямой реминисценцией Анны Фирлинг по прозвищу Кураж.
Пьеса Х. Байерля «Фрау Флинц» — попытка рассказать о трудном периоде — первых послевоенных годах Германии. Марта-Августа-Вильгельмина Флинц, которую играла Вайгель, — беженка, переселенка. С толпой таких же, как она, серых изможденных людей появлялась она в начале спектакля. Фрау Флинц удручена тем, что нет крова для ее пяти сыновей. Да, их у нее пятеро, и всех она старается держать как можно дальше от политики, а значит — от общества, от государства.
История фрау Флинц — это история ее борьбы с обществом, с государством — за своих детей. Этапы этой борьбы — шесть встреч с Фридрихом Вайлером, коммунистом, бывшим слесарем, который получил от партии задание обеспечить кров беженцам. Всякий раз при встрече выясняется, что Вайлер защищает интересы класса бедняков, затем — нового рабоче-крестьянского государства,
155
а Флинц — неизменно — интересы своего маленького «государства» — семьи.
Фрау Флиц неоднократно побеждает. Не только потому, что она хитра и умна, но и потому, что она — реалистка, умеет использовать момент, выбрать оружие, перейти в наступление, добиться своего. Вайлер учится у нее — терпя поражения.
Но за свои победы Марта-Августа-Вильгельмина Флинц дорого
платит. Платит, как платила Кураж, — детьми. Только они не гибнут, а — уходят.
Уходят в «социализм», который она дольше всех в семье не приемлет. Да, она
практична, у нее цепкий острый ум, но ее сознание в конфликте с общественным
бытием. Это главный конфликт пьесы. Каждая из сцен комедии — это изменившаяся
конкретно-социальная ситуация, «потеря» кого-либо из сыновей, реакция Флинц на
эту потерю и ее усилие воспрепятствовать, противодействовать. Но ничего не
помогает. Побеждают завод, машинно-тракторная станция, институт, город — все
то, от чего она так старалась убдеречь сыновей.
Оставшись одна, фрау Флинц совсем было собралась умирать. Новая встреча с Вайлером, его исповедь пробуждают в ней силы. Так, не сразу, постепенно, не позволяя себя обмануть, запугать, подчинить, Флинц-Вайгель приходит к пониманию смысла новой жизни — и к активному участию в ней[171].
Вайгель играла фрау Флинц заразительно, сочно, с огромным комедийным талантом, часто как бы подсмеиваясь над своей героиней, но относясь с глубокой нежностью и уважением к ее материнским чувствам. В самый драматический момент своей судьбы, оставленная всеми сыновьями, она внешне была такой же, как всегда, — резкой, вспыльчивой, упрямой, не выдававшей своих чувств, но в глубине души — это беззаветно любящая самоотверженная мать. Ей нелегко было признаться в своей неправоте, начать жить на новый лад, но когда она решалась
156
на это, актриса вкладывала в свою решимость такую подкупающую искренность, так комичен и трогателен был ее последний триумфальный проход по сцене — сосредоточенный вид, поступь хозяйки — а она и есть Хозяйка новой земли, — что заразительный зал неизменно взрывался аплодисментами. Флинц-Вайгель, умная, хитрая женщина, этакий «Швейк в юбке», по словам самой актрисы. Вайгель наделяла ее глубоким интересом к жизни, творческим темпераментом, юмором и лиризмом, чаще всего глубоко скрытым.
Вот фрау Флинц с сыновьями пришла в Кафе продавать изготовляемую их семейством «продукцию» — деревянных щелкунчиков. Поставила корзину на стол, собрала всех сыновей вокруг себя и распределяет между ними места где им торговать и будущих клиентов. Все это — сообразуясь с темпераментом, говорливостью, умом и обходительностью каждого из сыновей. Она похожа на главнокомандующего, созвавшего военный совет, уморительно серьезна и озабочена; в то же время как всегда не может обойтись без шуточек, насмешек и прямой провокации, но делает это так тонко, что все, кого она обводит вокруг пальца, замечают это гораздо позднее, чем нужно бы.
Их работодатель и квартирохозяин фабрикант Нойман дает Марте Флинц книгу — «Коммунистический манифест» — с заданием читать вслух сыновьям, чтобы они «знали марксизм и умели разговаривать с марксистами». Книга эта — нечто чужое, опасное, и берет ее Марта Флинц, предварительно перекрестившись. Но живым огоньком загораются глаза, когда она читает вслух то, что сама вот-вот применит как оружие. Чаще всего только так, совсем скупо, обнаруживается идущий в ней процесс.
Особенно интересна сцена «исповеди» Вайлера. Потерпевшая поражение, оставшаяся одна , больная фрау Флинц лежит в постели. Приходит Вайлер. Он не пыта-
157
ется победить ее молчание и неподвижность (больная не только, а может быть, и не столько больна, сколько упряма и горда) прямым обращением к ней; Вайлер просто рассказывает ей о своей жизни, о насущных делах и заботах, но целью его рассказа все время остается одно: пробудить Марту-Августу-Вильгельмину Флинц, ввести ее в жизнь, не дать пропасть ее энергии и уму. Исповедь Вайлера довольно длинна, все это время Вайгель не шелохнется, но из-под одеяла видна ее рука, а рядом с рукой лежит пакетик с чулками, которые принес ей Вайлер. И вот рука сперва робко, осторожно, потом понемногу осмелев, ощупывает этот пакетик. Это единственная реакция Флинц-Вайгель на исповедь Вайлера,но укрупненная деталь приковывает к себе внимание зрителя и говорит ему о многом: Флинц не потеряла связи с жизнью, ей важно, что о ней помнят, в ней рождаются новые надежды.
«Как всегда у Елены Вайгель, она действует и тогда, когда говорит, и тогда, когда совершает поступки, и тогда, когда молчит, и тогда, когда как бы бездействует. В ее исполнении бездействие — это действие, молчание — это поступок, неподвижность, это — движение, сдержанность — это темперамент. Патетика сменяется юмором, юмор — лирикой, лирика — драматизмом»[172].
Игра Вайгель переливалась множеством красок, оттенков, притворная наивность, хитрость, гневная сдержанность, безразличие отчаяния — и все время на сцене жил скрывающийся, хитрящий, обороняющийся, затаившийся, но — честный и хороший человек. Вайгель любила свою героиню, верила в нее. Неподражаемый юмор, чисто народная плутовская стихия — особенно хороша была Марта в сцене флирта на картофельном поле. Она кокетничала девически грациозно, легко и невероятно смешно;
158
снова и снова перевязывала беленький платочек на голове, отмахивалась от воображаемых комаров, снимала в конце концов платочек с головы и повязывала его вокруг шеи, послюнявив палец, приглаживала брови; зал взрывался хохотом и — очень любил Марту-Августу-Вильгельмину Флинц.
Актриса наконец получила возможность сыграть свою сверстницу и современницу и создала абсолютно достоверный, жизненный и узнаваемый характер.
Для зрителей спектакль «Берлинер ансамбля» был очень важен. На сцене зримо, пластически представала история становления их республики — процесс «трудный и противоречивый, как сказано в двухтомном труде «Театр на стыке времен» (ГДР)[173]. О фрау Флинц, о Вайлере говорили как о своих знакомых, реально существующих. Случались и курьезы. Так, какие-то профсоюзные деятели возражали против той сцены, где фабрикант Нойман[174] решает сделать сыновей Флинц своими агентами в среде рабочих и «забрасывает» их в разные общественные организации фабрики. Одному из сыновей он говорит: «Ты медлителен — пойдешь в профсоюз!» Деятели просили убрать эту фразу, а когда им отказали, просили хотя бы изменить ее. Театр предложил такой вариант: «Ты быстрый — пойдешь в профсоюз!» Это смутило деятелей почему-то еще больше. Вернулись к прежней фразе.
За этот спектакль автор — Х. Байерль, режиссер — М. Векверт,
главные исполнители и весь коллектив театра были награждены Национальной
премией. Игра Вайгель получила высокую оценку. Но прошло четыре года, прежде
чем она сыграла новую роль. Теперь, после смерти актрисы, мы уже знаем, что это
была ее последняя значительная роль, тогда казалось: начинается новый этап. Это
была роль Волумнии в шекспировском «Кориолане», обработанном Брехтом.
159
После «Мамаши Кураж» критик Э. Бентли писал: «Хотелось бы увидеть эту актрису в пьесах Шекспира. Она могла бы очистить Шекспира для немцев, обновить его, как это сделал Барро для французов»[175]. В «Кориолане» было блистательно начато это обновление шекспира.
«Великая Вайгель… Незабываемое исполнение!» Так писал критик газеты «l’Unità», органа компартии Италии, во время гастролей «Берлинер ансамбля»[176] в 1966 году в Венеции об игре Вайгель в роли Волумнии.
В итальянских театрах пять-восемь вызовов после конца спектакля большой успех; десять-двенадцать — нечто исключительное. После окончания «Кориолана», привезенного «Берлинер ансамблем», каждый вечер было двадцать—тридцать вызывов, не считая оваций по ходу действия[177]. Самые разные по направлениям газеты сходились в оценках, свидетельствуя о триумфе. Джорджо Стрелер писал в связи с этим спектаклем о творческом развитии традиций Брехта.
Обрабатывая трагедию Шекспира, Брехт не модернизировал ее, но выделил столкновение Кориолана с народом, сосредоточив внимание на причинах этого столкновения. Как и в других своих произведениях, действие которых происходит в далеком прошлом, Брехт смотрел на историю сквозь призму событий нашего века, его войн, гитлеризма. Одна из главных тем творчества Брехта, тема «маленьких людей» и «великих мужей», выступала тут в аспекте развенчания, дегероизации «современного цезаризма, фашистского фюрерпринципа и культа личности, романтики деспотической антинародной власти»[178].
Вождь, полководец, герой, Кориолан мыслит себя незаменимым и
нужным народу Рима, этой «черни», хотя обстоятельства изменились и такой как
есть он способен
160
принести теперь только гибель и катастрофы. Он уже никто, отщепенец, но не понимает этого. У Шекспира народ, плебс слишком «низок» для героя. У Брехта герой слишком «дорог» для народа. Трагедия личности превращается в трагедию веры в свою незаменимость. «Это трагедия и для общества — оно, во-первых, теряет личность, а во-вторых, должно потратить много сил, чтобы защититься, — но в первую очередь для личности, которая ошибалась, считая себя незаменимой. Эта кажущаяся незаменимость личности — громадная тема, живущая со времен античности, живая и сейчас… Проблема эта принципиально разрешима […] в Кориолане»: выход для плебса — самозащита»[179]
В спектакле М. Векверта и И. Теншерта образ Волумнии глубоко диалектичен. Именно она, Волумния, уверенная и уверившая Кориолана в том, что больше всего ценится именно доблесть и что он — доблестный полководец — незаменим, во многом предопределила трагедию сына. Но в отличие от сына, который гибнет, так и не поняв причин своего краха, Волумния проходит до конца горький путь прозрения.
Волумния—Вайгель появлялась в нескольких сценах. Всякий раз это какой-либо чрезвычайно важный в жизни ее сына момент: он либо уходит, чтобы прославиться, либо возвращается со славой — должен принять ответственнейшее решение — отправляется в изгнание — снова должен принять решение, уже такое, от которого зависит его жизнь.
Слова Брехта о том, что играть следует «идеально, церемониально, ритуально»[180], более всего подходит к Вайгель—Волумнии. Она — мать, но в критических ситуациях она действительно ставит между собой и сыном ритуал, церемониал и логику.
161
Вот мать собирает сына на битву. Сцена началась мирной песней жены Кориолана и кончилась военной музыкой, — когда Вайгель помогает сыну облачиться в доспехи. Это ее радость, ее гордость и неотъемлемое право подавать ему плащ, шлем, меч. Доспехи для нее — часть столь ужасным образом исказившаяся, обращена к холодной стали, которую она ласково гладит.
Вайгель—Волумния и сама несгибаема, как сталь. Гордо держит голову, торжественно ступает, величественно поворачивается, смотрит так, что за ней видится галерея предков — избранных, аристократов, патрициев. Она не позволит себе резкого движения, непосредственного обращения к тем, кто ниже ее, а ниже — почти все. Одинаково надменно разговаривает она и с женой сына, и с ее подругой; тот же холодный взгляд, неестественно прямая спина — она объясняет женщинам, что незаменимым станет для Рима победитель вольсков.
Тем неожиданнее в следующей сцене ее как бы «переключившаяся», ожившая, совсем иная пластика.
Вот она встречает сына — еще героя, еще победителя — у римских ворот. У Шекспира это небольшой эпизод, здесь — большая и важная сцена. Это триумф матери, вершина и оправдание снедающего ее честолюбия. Совершенно непохожая на традиционный образ римской матроны худенькая легкая фигурка Вайгель в золотистой тунике словно оторвалась от земли в полете ликования, восторга, счастья. Мечты стали явью, явь воплотилась в мече сына. Победителя в кресле несут на высоко поднятых руках, он отдает матери меч, который она ему вручила перед битвой. Торжествующая ослепительная улыбка — Вайгель вся в неудержимой улыбке и в прикосновении к мечу.
И подняв оружие славы на вытянутых руках, она идет впереди триумфального шествия, уверенно, победительно наступая на зрительный зал.
162
Сын не удержался на вершине славы. Для того чтобы прийти к власти, он должен просить народ об избрании, а значит — унизиться перед ним. Это тяжелый удар для Волумнии, она скорбно движется по сцене, закрыв лицо руками, прижав пальцы к вискам. Чтобы уговорить сына пойти на поклон к народному собранию, она должна унизиться сама, должна облокотиться на спинку его кресла, как олна делает это сейчас, и произнести: мой сын, прошу, иди к ним с непокрытой головой. Сын не согласен. И, стоя возле его праздно висящих доспехов, как бы снова соприкасаясь с тем, что дает ей стальную уверенность, Вайгель говорит:
Прося тебя, унизилась я больше,
Чем мог бы ты унизиться пред чернью.
Пускай все гибнет. Матери твоей
Пасть жертвой гордости сыновней легче,
Чем ждать с тоской последствий роковых
Упрямства твоего.
Именно это заставляет Кориолана пойти к народу. Но кротости ему хватает лишь на два-три слова. Его справедливо обвиняют в том, что он пытался стать тираном, «ниспровергнув законы и правопорядок в Риме», и приговаривают к вечному изгнанию из родного города.
Черный плащ, траурный плащ, траурный покров появляется на Волумнии—Вайгель, когда сын изгнан. Но под прозрачным покрывалом ее фигурка держится гордо, уже просто неестественно, закоченело прямо — даже назад выгнулась в стремлении не склонить головы. Ее Волумния продолжает обожествлять сына-героя, его изгнание — страшное горе для нее, но она надеется, что Рим еще признает Кориолана своим вождем, что ее первенец сможет вернуться в родной город.
И он возвращается, но во главе вражеских войск, осадивших Рим. Честолюбие и гордость Кориолана, взращенные матерью, обернулись прямой изменой Риму и его
163
гражданам. Наступает трагическое преображение Волумнии.
В конце спектакля Кориолан в лагере вольсков — врагов Рима — ждет сигнала: столб дыма, поднявшийся над Капитолием, должен сообщить ему о капитуляции римлян. Но вместо этого появляются посланцы родного города — Волумния, жена и маленький сын Кориолана, еще несколько женщин. Они пришли, чтобы упросить его уйти от стен Рима.
Брехт признавался, что, обрабатывая трагедию Шекспира, он понял, что доводы Волумнии несостоятельны, мольбы неубедительны: вряд ли бы они тронули «застывшего» Кориолана. Подействовать на него может только тот, кто покажет ему: Рим не нуждается в нем более. Это делает Волумния: она наносит сыну (зная, что осуждает его тем самым на смерть, ибо вольски не простят Кориолану отступления от стен Рима) последний удар. Ей дано Брехтом (у Шекспира этого нет!) сообщить сыну: долгожданного сигнала не будет, Рим не ждет его, он уже не герой, когда-то обожествлявшийся, но — враг родного города.
В траурном покрывале, величественно, как прежде, входит Волумния—Вайгель в лагерь вольсков. Увидев Кориолана, не сдержалась, бросилась навстречу, он упал перед ней на колени. Овладела собой, закусила губы, тихо начала говорить. Она не может просить небо о победе для сына, ибо это означало бы гибель Рима, города ее предков. А победа Рима — гибель ее первенца… Любой исход катастрофичен для матери, поэтому она просит не небо, а его, сына — и тут Вайгель — Волумния призывает свою свиту опуститься на колени перед Кориоланом и сама опускается, падает ниц, головой касается земли… Она заклинает его уйти от стен Рима, отступиться, не мстить родной земле.
Но Кориолан следит только за тем, не появится ли сигнал — столб дыма; женщин и детей нечего слушать, уве-
164
рен он. Сын глух к голосу матери так же, как к голосу родины — ужасом понимает Волумния—Вайгель. С силой отталкивает она женщин, пытающихся помочь ей подняться с колен. Нет, она встанет сама и, собрав последние силы, скажет ему, что он — бесчестен и губителен для родной земли.
«Только что простертая у ног сына, ”из праха“ встает совсем другая женщина. И белое ее одеяние, и черное прозрачное покрывало на запрокинутом лице становится вдруг одеждой пророчицы, жрицы:
Знай, ты пойдешь на совсем другой Рим, не тот,
который ты покинул. Незаменимым
ты перестал быть, ты лишь смертельная угроза для
всех. Не жди дыма повиновения.
Если дым и встанет — это будет дым кузниц,
где сейчас куют мечи для встречи с тобой»[181].
Еще недавно радостно ликовавшая Волумния—Вайгель вырастает у нас на глазах, преображаясь. Это ее преображение означает гибель сына.
Жестокий мир праматеринства, в который спускался Фауст, приходит на ум при виде этой Волумнии.
Богини высятся в обособленье
От мира и пространства, и времен.
..........................
то — матери.
…Их мир — не знаем,
нехожен, девствен, недосягаем,
Желаньям недоступен[182]
Мотеринство — как основа всего сущего, могучая и величественная. Таков масштаб обобщения в образах ма-
165
терей, созданных Вайгель. Но есть существенное различие. У Вайгель Матери — создания реального мира, они рождены землей, с ней слиты, именно земные силы дают им величие. Это всякий раз жизненные, в каждом слове и жесте узнаваемые женщины, и они как раз доступны желаниям, радостям, мукам, даже эта Волумния, пугающая ритуалом.
Образ матери, тема материнства прошли через всю творческую жизнь актрисы. Паулина Пиперкарка — здоровое первобытно сильное существо, в котором пробудилось материнское начало, почти животное, так и не развившееся, трагически гибнущее. Пелагея Власова, пролетарская Мать, в которой любовь к сыну слилась с любовью к его делу; мать, не только рождающая, но и себя самое как бы создающая заново; материнство не только животворное, но и творческое. Губительное материнство Кураж — сила, которая могла бы сдвинуть горы, не будь она столь слепой. Тереса Каррар — мать, ненавидящая войну, но берущая в руки винтовку, чтобы защитить последнего сына и в свою страну. Мертвая маска бесплодного ложного материнства Нателлы Абашвили — и брызжущая жизнью, энергией, творческим началом фрау Флинц. Наконец Волумния — подлинно трагическая героиня, Мать, вынужденная обречь на гибель своего сына во имя спасения родной земли.
Вайгель наполнила эти образы жизнью. А они — и в этом диалектика соотношения творца и творимого — обогатили актрису.
166
В эти годы Вайгель часто выступала с чтением стихов и прозы Брехта.
Еще с детских лет, со времени пробудившейся любви к театру жила в ней любовь к чтению стихов. Драма и поэзия в гораздо более близком родстве, чем кажется. Их роднит сконцентрированность языка, емкость, насыщенность, значительность каждого слова — и его пластическая завершенность. Все это неотъемлемо и от искусства Вайгель.
Это было совершенно особенное удовольствие — слушать ее. Вайгель всегда читала сидя, устроившись удобно, но целесообразно, надев очки, лишь иногда поднимая глаза на слушателей. Очень тихи, почти не повышающийся голос, ударений, подчеркиваний в общем мало, стихотворение становилось почти сообщением, но именно только — почти.
Ибо в этом тихом, почти — бесстрастном, почти — монотонном рассказе вдруг возникали совсем казалось бы незаметные паузы, звучала вопросительная интонация или горечь. А то и просто само спокойствие, сама объективность тона действовали сильнее всего — по контрасту с содержанием. Так читала она балладу Брехта «Крестовый поход детей».
167
В Польше в тридцать девятом
Кровавая битва прошла,
В руины дома превращая,
Деревни сжигая дотла.
Спокойный эпический тон зачина не изменялся до конца баллады, остраняя и усиливая трагедию обездоленных войною и затерявшихся детей.
Вайгель не повышала голоса и при чтении брехтовского стихотворения «Моим землякам» — этого гневного и страстного призыва не забывать об опасности новой бойни. Ровно и спокойно начинала она:
Вы, уцелевшие в огне пожаров,
Себя бы пожалеть давно пора вам!
Не дайте повести вас к войнам новым,
Как будто бы вам не хватает старых, —
Вы, уцелевшие в огне пожаров!
И в ровных звуках ее голоса звучала такая внутренняя напряженность, такая сила, что голос этот — совсем негромкий! — вдруг казался набатом.
Уже не набатный призыв, а сила горькой логики, философская мудрость, чуть отравленная скепсисом, пронизанная чуть иронической настойчивостью — так, например, читала актриса стихи «О бедном Б. Б.» и «К потомкам».
Право, я живу в мрачные времена.
..........................
Что же это за времена, когда
Разговор о деревьях кажется преступленьем,
Ибо в нем заключено молчанье о зверствах!
..........................
Право, я живу в мрачные времена.
И под конец с почти библейской размеренной торжественностью:
168
О вы, которые выплывете из потока,
Поглотившего нас,
Помните,
Говоря про слабости наши,
О тех мрачных временах,
Которых вы избежали
Только иногда голос Вайгель повышался до ораторского накала, звучал как речь перед тысячной толпой. Рассказ «Солдат из Ла Сьота» — о человеке-статуе, вечном солдате, неистребимом, покорном командам на всех языках и, как всегда, не ведающем — за что и почему. Вечный завоеватель, вечный победитель и пораженец, вечное проклятие!
Вайгель почти кричала: что же это за болезнь вечной воинственности, такая чудовищная, страшная, заразная болезнь? Резкий перепад голоса и тихий вопрос в конце: может быть, ее можно все-таки излечить?!
Когда же Вайгель читала рассказ Брехта «Плащ еретика», это воспринималось как моноспектакль. Она почти не играла, плавный ритм рассказа ничем не нарушался, голос ее лишь слегка намечал характеры. Но как все-таки различны все эти люди, как ярко она их представляла! Вот робкий уклончивый портной, его жена — строптивая старуха, которая дойдет хоть до папы римского, чтобы вытряхнуть деньги из должника — Джордано Бруно, вот и сам Джордано Бруно, добрый, человечный, и «святые» отцы-инквизиторы… Все они оживали в необыкновенном голосе актрисы.
О голосе, о языке Вайгель писали многие. Карин Михаэлис рассказывала о девочке, читавшей балладу Гердера «Эдвард» и еще тогда поразившей всех слушавших.
Писатель и литературовед Александр Абуш в своем поздравлении к семидесятилетию актрисы говорил о богатстве звучания ее голоса — «целого ансамбля звуков,
169
в которых гнев, ненависть и доброта
Пелагеи Власовой, материнская любовь и крутая жестокость Каррар, бесплодная
хитрость Кураж…»[183]
Вайгель отлично владела литературным немецким языком, но ей были близки и знакомы народные диалекты, говоры — они и придают языку живое звучание[184]. (Это чрезвычайно важно для немецкой сцены: ведь театральная немецкая речь, лишенная диалектной окраски, всегда звучит несколько искусственно[185].) Так, в роли Мамаши Кураж к созданному драматургом меткому и образному языку маркитантки Елена Вайгель добавляла задорную жесткость своего родного венского диалекта.
Сценическая речь Вайгель на первый взгляд вовсе не отличалась от разговорной: нет ни театрального темперамента, ни пафоса, ни слишком подчеркнутой артикуляции. И все же это была сценическая речь, спокойная, ясная, сконцентрированная на главном, трезвая, обретающая драматизм благодаря именно этим свойствам.
Еще одно очень важное свойство Вайгель — актрисы и человека,
— свойство тоже глубоко народное — благородство.
170
трудно даже представить себе что-то более благородное»[186].
Благородство, элегантность в игре означали для Брехта «не только целесообразность и точность, но и щедрость»[187]. Брехт полагал, что мы всегда должны видеть: актер использовал не все игровые возможности, что-то осталось у него в запасе.
И в творчестве, и в обыденной жизни Вайгель постоянно была сопричастна стихии юмора — часто мальчишески задорного, проказливого, часто граничащего с клоунадой, напоминающего о племени скоморохов, мимов, фокусников — любимцев толпы.
Один за другим на сцене театра ставились «Вечера Брехта». «Вечер Брехта № 1» — это своеобразный монтаж из его стихов и песен 1914—1956 годов и документальных материалов: выдержки из полицейских протоколов, отрывки из выступлений Брехта. Актеры театра — человек двадцать — сидели на сцене, где-то — даже не в первом ряду — среди них сидела Вайгель. Это камерное концертное исполнение, слово Брехта звучало очень эмоционально, активно. Актеры говорили, пели, читали по одному, группой, но вот зазвучала «Песня единого фронта» Брехта—Эйслера и все встали в строй и среди них — Вайгель.
«Вечер № 2» — подборка из антикапиталистических произведений
Брехта «О больших городах» и опера «Маленький Махагони», а «Вечер № 3»
назывался «Покупка меди» — это ранее не публиковавшиеся теоретические работы
Брехта, написанные в форме сцен, диалогов и стихов. Действующие лица — Философ,
Актер, Актриса и Завлит. Между ними, оставшимися после спектакля на пустой
сцене театра, шла ночная философская бе-
171
седа-диспут с основным вопросом: какой театр необходим зрителю? Они спорили о функции театра, его особенностях, о приемах актерской игры, и каждый тезис тут же делался наглядным — разыгрывались сцены, подтверждавшие, отвергавшие или проверявшие только что сказанное. (Так, например, понятие «диалектика на театре» иллюстрировалось показом сцены из «Матери» с Вайгель—Власовой. А эффект очуждения объяснялся на примере отрывка из кинофильма «Мамаша Кураж», где Вайгель видит Катрин, изуродованную солдатами, но не рыдает над ней, а быстро, по-деловому приводит ее в себя, лишь ненадолго отвлекаясь от своих хозяйственных хлопот.)
Вайгель играла, вернее, читала, и в «Вечере № 5». Вечер этот, поставленный осенью 1969 года, назывался «Манифест». В песнях, стихах, сценах и отрывках прозы говорилось о великом историческом развитии нашей эпохи и о становлении Германской Демократической Республики — первого государства социализма на немецкой земле. «Манифест», «О коммунизме», «О буржуазии», «О пролетариате», «О классовой борьбе», «О революции» — вот основные части программы.
Вайгель, как и остальные чтецы, сидела на сцене; когда шла драматическая сцена, она — зритель, когда читали другие — слушатель. Ее чтение — одна из вершин программы. Это стихотворение Брехта «Московский рабочий класс принимает великий метрополитен». Она рассказывала: восемьдесят тысяч рабочих строили это метро. Они победили все трудности. Когда метро было завершено и явились владельцы, чтобы его осмотреть и принять, то оказалось, что владельцы — это те же строители. Такого еще не видало ни одно сооружение на свете[188].
И тут в спокойном голосе рассказчицы появлялось удивление, она приглашала и нас удивиться, увидеть необычное в обычном, примелькавшемся:
172
Где же это видано на свете, чтобы плоды труда
Достались тем, кто трудился? Где доселе бывало,
Чтобы рабочих не выгоняли из зданий,
Ими сооруженных?
Увидев, как они едут в вагонах,
Созданных их руками, мы поняли:
Вот это и есть великое зрелище, которое некогда
Наши учителя прозревали в дали времен.
19 ноября 1965 года, в один и тот же день, семнадцать театров ГДР, ФРГ и Западного Берлина поставили пьесу-ораторию Петера Вайса «Расследование». Она звучала по радио и со сцены, а ночью ее транслировало лондонское радиовещание в исполнении актеров Шекспировского театра.
В зале заседаний Народной палаты ГДР по инициативе Немецкой Академии искусств состоялось концертное исполнение-читка «Расследования». В парламенте страны читалась пьеса, театр сменил свои подмостки на государственную, всенародную трибуну. Читали пьесу не только актеры, здесь были писатели — Бруно Апиц, Виланд Херцфельде, Стефан Хермлин, заместитель председателя Совета Министров Александр Абуш, скульптор Фриц Кремер. Участвовали и ведущие актеры «Берлинер ансамбля», среди них — Елена Вайгель.
Это не первое обращение театра «Берлинер ансамбль» к новому типу драмы 60-х годов — документальной драме. Характерное для «Берлинер ансамбля» угадывание новаторского устремления театра к документу, проявившееся в те годы в постановке «Дела Опенгеймера» Киппхардта, логически привело членов коллектива к участию в «Расследовании».
П. Вайс инсценировал судебный процесс. Весь принцип построения восходит к брехтовским экспериментам, когда в «Матери» рассказ о прошлом давался как бы сегодня, почти документально и прошлое, благодаря
173
этому, оживало. На фоне задника — плана концлагеря Освенцим — сидели исполнители, над ними — таблички с надписями «Судья», «Защитник», «Обвинитель», «Обвиняемые», «Свидетели».
Елена Вайгель была в числе «Свидетелей», говоря от имени двух женщин — попеременно она была Четвертой свидетельницей и Пятой. Лишь слегка менялся голос и манера держаться: судьба этих двух свидетельниц в лагере сложилась не совсем одинаково, да и людьми они были разными, но они — безымянны, обозначены лишь номерами, важна их функция — свидетельствовать, помогая расследованию, подлинному осознанию трагедии Освенцима и системы, породившей его.
Аналитичность, трезвость оценок, жестокая объективность, пафос дознания истины — все это было близко актрисе, совпадало с ее творческой манерой. «Расследование» Вайса, по существу, развивало опыт учебных и эпических пьес Брехта и при всей документальности сохраняло принцип параболы и очуждения, поскольку сама процедура расследования требовала столкновения прошлого и настоящего, активного сопоставления двух времен.
Необыкновенный голос Вайгель, совсем негромкий, был слышен всему залу — голос пристрастного Свидетеля, пристрастного Обвинителя, голос Гражданина.
За двадцать два года существования «Берлинер ансамбля» Вайгель сыграла двенадцать ролей. Это совсем немного. Но нельзя забывать, что все эти годы она руководила театром.
По-немецки ее должность называется «Intendant». Это не совсем «директор театра». Интендант в театрах Германии — это прежде всего человек искусства, актер, режиссер. Но в то же время это и педагог, политик, организатор, хозяйственник, администратор.
Вайгель стала интендантом с первого дня существования
«Берлинер ансамбля» и оставалась на этом посту до последнего дня жизни. после
смерти Брехта старый друг их семьи Лион Фейхтвангер писал Вайгель: «Я знаю, может
быть, лучше, чем многие другие, как много Вы значили для Брехта. Когда разговор
шел о пьесах, он прежде всего спрашивал, есть ли там роль для Вас. Театр без
Хелли был немыслим для Брехта. Весь его театр опирался на Вас… Мысли о Брехте —
и прежде и сейчас — всегда связаны с Хелли»[189]/
175
Вайгель продолжала бессменно руководить театром — а Брехт продолжал жить в нем. наследие великого драматурга и режиссера требует огромного труда. При жизни им было опубликовано менее половины того, что он успел написать, — нужно было позаботиться о создании и работе «Архива Бертольта Брехта». «Архив» стал научно-исследовательским центром, выпускающим в свет новые публикации и издания трудов Брехта.
Больше всего опасений внушал Вайгель театр, который мог бы превратиться в своеобразный «музей Брехта», закостенеть, застыть в подражании приемам и формам мастера и тем самым предать главную идею творчества — идею движения, развития как диалектического процесса. Опасения были не напрасны, но это стало ощутимым далеко не сразу, во всяком случае — не в первые же годы после смерти Брехта.
Брехт оставил учеников и наследников. Это Вайгель, это весь коллектив «Берлинер ансамбля», это воспитанные им молодые режиссеры. Манфред Векверт в последние годы жизни Брехта работал на Шиффбауэрдамм. Вместе с учителем он ставил «Зимнюю битву» Бехера и «Кавказский меловой круг», был ассистентом режиссера в «Кацграбене», а через несколько лет после его смерти стал главным режиссером «Берлинер ансамбля», поставив за эти годы вместе с Петером Паличем «Карьеру Артуро Уи» Брехта и «Фрау Флинц» Байерля, возобновив «Мать» Брехта.
Литературную часть возглавил молодой критик Иоахим Теншерт. Вскоре он стал и одним из ведущих режиссеров театра. Вместе с Веквертом они выпустили «Дни коммуны», «Кориолана», «Разговоры Беженцев», «Святую Иоанну скотобоен» Брехта, «Дело Оппенгеймера» Киппхардта.
Вайгель и Векверт, продолжая традиции Брехта, постоянно
привлекали к работе молодых режиссеров; ученики Брехта — его «дети» —
выращивали «внуков».
176
Режиссерам-ассистентам доверялись самодеятельные постановки. Так, Гас-Георг Зиммген поставил «Пурпурную пыль» Шона О’Кейси — яркий смешной спектакль, решенный приемами балаганного театра, буффонады. Пьесу Брехта «Что тот солдат, что этот» поставила Ута Бирнбаум, а его же фрагмент «Булочная» перенесли на сцену Манфред Карге и Маттиас Лангхоф.
«Брех и Елена Вайгель научили меня диалектически мыслить», — говорит Векверт. Он не только режиссер. Он — ученый-аналитик, диалектик — и литератор. Две его книги — «Театр изменяется» и «Заметки о работе ”Берлинер ансамбля“ 1956—1966» — это сборники статей, теоретически осмысляющих практику театра.
Нельзя не согласиться с западногерманским театроведом Х.
Ришбитером, когда он в своей статье «Профессионализм, педагогика, эксперимент»
говорит о «Берлинер ансамбле» как о подлинно новаторском, экспериментальном и
единственном в этом роде театре. Многие из уроков «Берлинер ансамбля» усвоены
теперь немецкими театрами; одни воспринимают их формально, догматически, другие
— творчески, но нельзя никогда забывать о том, что постановка новых пьес и
обработка старых, изучение литературы, истории и искусства, великолепная
техника сцены, освещение, диспуты внутри театра и активная работа со зрителем —
все это было совершенно новым и все это применялось и осуществлялось в
«Берлинер ансамбле» на таком уровне — впервые. Ришбитер упрекает немецкие
театры в том, что они — не в пример театрам других стран — и по сей день далеко
не достаточно используют открытия и опыт Брехта, например, подробнейшее
закрепление процесса репетиций с помощью записей, фото- и киносъемки,
магнитофона, хотя сегодня это гораздо проще и доступнее, чем в годы создания
«Берлинер ансамбля»[190].
177
Философский театр, обращенный к широкому зрителю, привлекающий его точностью мысли, необыкновенно высоким уровнем мастерства и открытой театральностью; «боевой форпост революционного искусства, сцена, непрерывно и целеустремленно изучающая правду»[191], — «Берлинер ансамбль» мощно влиял на развитие мирового прогрессивного искусства.
На крыше здания театра — красный неоновый круг, в нем светятся слова — «Берлинер ансамбль». О каждом спектакле объявляет большое белое полотнище на стене дома. На занавесе театра — «Голубь мира» Пикассо. Приметы всемирно известного коллектива.
Театр много гастролирует в своей стране и за рубежом. Он побывал в ФРГ, СССР, Чехословакии, Австрии, Польше, Венгрии, Румынии, Швеции, Финляндии, Италии; участвовал в Первом и Втором международных фестивалях театрального искусства в Париже, в Первом и четвертом сезонах Театра Наций. Театр живет и совершенствуется благодаря одержимости его руководителей и актеров, благодаря их вдохновенному труду, и недаром после триумфа «Берлинер ансамбля» на Парижском фестивале Театра Наций в 1960 году критики писали о «совершенстве игры» и «почти физически ощутимом единстве идеально сыгранной труппы.
Коллектив, о котором мечтали, который создавали Брехт и Вайгель, был бы немыслим без споров, дискуссий, не мог бы существовать без живой и постоянной связи со зрителем. Над установлением и расширением этой связи неустанно работала интендант «Берлинер ансамбля» Вайгель.
«Брехт мечтал, чтобы в этом зале рядом с интеллигенцией
сидели сотни рабочих и крестьян, чтобы театральное искусство было доступно
всем, говорит Елена
178
Вайгель. — Но он был решительно против упрощенчества, против поверхностных и схематических решений. Он считал, что искусство выражать общественные идеи на театральных подмостках — чрезвычайно тонкая и сложная вещь. Театр должен быть не лакеем, не нянькой, не моралистом, а мудрым учителем, бескомпромиссным провозвестником правды, борщом за справедливость»[192].
Требование Брехта — развивать не только актерское искусство, но и искусство быть зрителем — обусловило поиски театром совершенно новых отношений с публикой. Театр заинтересован в том, чтобы привлечь побольше зрителей, объединенных местом работы. Если на спектакль приходят рабочие какого-то завода, школьные учителя, студенты, солдаты — целые коллективы, это помогает возникновению дискуссий, обсуждений и делает из наиболее продуктивными для обеих сторон. Так, во время школьных каникул в театр приезжают на четыре дня учителя немецкого языка из школ республик[193]. Шестьдесят человек (желающих гораздо больше, но возможности театра не безграничны) смотрят спектакли вечером и напряженно работают днем: дискуссии о постановках, семинары и беседы с Вайгель, Веквертом, Теншертом, посещение репетиций. «Дни учителя» — одна из плодотворнейших традиций театра.
Это началось в 1959 году — и стало законом. В первый раз тогда отправились автобусы с актерами и грузовики с декорациями «Берлинер ансамбля» на гастроли по крупным промышленным и университетским городам ГДР. Тогда же возникло шефство театра над рабочими химического комбината «Буна», шефство, перешедшее в тесную дружбу.
В своем письме рабочим-химикам Елена Вайгель писала: «Когда ”Берлинер ансамбль“ десять лет тому на-
179
зад приехал к вам впервые, мы не предполагали, к чему может привести эта встреча… Родившаяся у вас на предприятии идея театральных экскурсий в Берлин вызвала движение, распространившееся теперь по всей республике — на заводах, фабриках, в университетах и институтах. До сегодняшнего дня к нам прибыло уже больше семидесяти спецпоездов из всех частей республики. Это великая и новая связь театра со своими зрителями — большая радость для нас. После десятилетнего сотрудничества мы попробуем (экспериментируя, как ваши химики, только, может быть, не так успешно) найти новые формы для наших контактов»[194].
За десять лет спецпоезда привезли на спектакли «Берлинер ансамбля» более пятидесяти тысяч человек. Свято соблюдается брехтовское правило «открытых дверей» во время репетиций, обычаем стали субботние зрительские семинары, «Театральные дни для молодежи». Поздние дискуссии в фойе после спектакля — еще один обычай театра.
«Собираются в буфете. Уже поздно, буфетчица должна уходить и, весело спеша, распродает участникам беседы пузатые бутылочки пива, бутерброды, конфеты. Все садятся неровным кругом, сдвигая столики, стулья и скамьи… Заговариваем с ближайшими, знакомимся: студент-философ, электромонтер, повар, студент-социолог, официантка, машинистка, шофер…
Вперемежку с гостями сидят артисты, режиссеры… разговаривают они как равные, спорят горячо, иногда сердито, раздраженно. И те, и другие всерьез увлечены, заинтересованы разговором.
Два часа ночи. Актерам и режиссерам завтра с девяти утра
начинать репетиции. Нужно расходиться. Спорщики вежливо просят прощения друг у
друга за резко-
180
сти. Елена Вайгель извиняется перед вихрастым очкастым юношей-студентом — она его несколько раз прерывала сердитыми репликами. И юноша просит ее не обижаться за то, что он и его друзья, быть может, говорили не очень вежливо: они очень любят этот театр и хотят, чтобы он был еще лучше…»[195][196]
Бертольт Брехт считал, что в основе искусства лежит умение трудиться; тот, кто наслаждается искусством, наслаждается очень искусным и удавшимся трудом. «И хотя бы кое-что знать об этом труде просто необходимо, чтобы можно было восхищаться им и его результатами» («Восприятие искусства и искусство восприятия»).
Тесная связь и многообразные формы работы «Берлинер ансамбля» с публикой воплощают идею Брехта о театре-лаборатории людей труда. Ведь именно об этом говорят Актер и Рабочий в «Покупке меди».
Актер. …Мне как будто позволили превращать в королей
зрителей моего нового театра. И они будут не вымышленными, а настоящими
королями. Государственными деятелями, мыслителями, инженерами. Что за публика у
меня будет! Я буду отдавать на их суд все, что случается в этом мире. А каким
благородным, полезным, славным местом будет мой театр, когда он станет
лабораторией всех людей труда! Я же буду следовать призыву классиков:
«Преобразуйте мир! Он в этом нуждается!»
Рабочий. Эти слова звучат несколько высокопарно. Впрочем,
почему бы им так не звучать, коль скоро за ними стоит великое дело?
Каждый день, с 9.30 утра до 15-ти дня Елена Вайгель неизменно находилась в своем рабочем кабинете, «бюро». Над дверью светилась табличка: «Нет ни единой минуты!»
181
Сюда приходили актеры, режиссеры, рабочие сцены, повар театральной кантины; представители подшефных предприятий, зрители, журналисты-интервьюеры («интервью я никогда не даю, но вы можете посидеть здесь у меня в течение рабочего дня, послушать»), посетители; сюда приносили образцы ткани для обивки кресел в фойе, железнодорожные билеты для едущих на гастроли; отсюда Вайгель звонила заболевшему актеру, в Академию искусств, членом которой она являлась, в армейскую часть с просьбой помочь установить световую рекламу на крыше здания…
Напряженная рабочая атмосфера. Но… в кабинете даже нет письменного стола. Сидела Вайгель за круглым, заваленным бумагами, заставленным телефонами, цветами, фотокарточками четырех внуков. Так же заставлена и завешена вся комната — рисунки Пикассо, его роспись по ткани, лапти, подаренные актрисе в Ленинграде, куклы, детские рисунки, подсвечник, пепельницы…
На первый взгляд кажется — тесно и неудобно, должно быть, работать за круглым столом. Но вскоре понимаешь — здесь все подчинено удобному легкому ритму. Предметы, сама комната — пластичны, они приобрели подвижность хозяйки, заразились ее энергией, фантазией и боевым духом.
По телефону, с посетителями она говорила быстро, лаконично, с юмором.
Ей была ненавистна демагогия, подозрителен пафос и нарочитая, сугубая серьезность, смешны высокопарность, краснобайство, многословие. Столкнувшись с этим, она умела одним метким словом добиться снижения пафоса, разрядки скуки. «Работать надо весело!» — было ее девизом.
Во время гастролей 1968 года коллектив театра встречался со студентами и преподавателями Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.
182
После большого выступления завлита Теншерта, говорившего очень серьезно, Вайгель озабоченно и лукаво посмотрев на аудиторию, сказала: «Только вы уж не думайте, пожалуйста, что мы во время работы то и дело морщим лоб от напряжения. У нас на репетициях и смеху много!»
И на седьмом десятке она была легка, подвижна и очень изящна. Когда она выступала с чтением стихов, то, выслушав аплодисменты в конце, кланялась, вешала через плечо сумочку на длинном ремне и, улыбаясь публике, уходила со сцены легкой и горделивой походкой девчонки.
У нее было узкое, энергичное, некрасивое, но очень интересное лицо, большие глаза, четко очерченные губы и высокий скульптурной лепки лоб. Волосы собраны сзади в узел, на шее почти всегда легкая косынка, завязанная узлом. Во рту неизменная сигарета — она курила их одну за другой, предпочитая самые крепкие.
Она была умна и образованна, но любила «подыграть» — заговорить с крестьянским акцентом, сказать о себе в ответ на какие-либо серьезные расспросы: «Куда там, я просто актриса, в этом я ничего не понимаю, вы поговорите с режиссером, завлитом…»
Она с увлечением собирала старинную медную посуду, крестьянскую мебель. Обожала собирать грибы — и с детской гордостью ликовала, находя их. любила варить, жарить, печь — и угощать; славилась своими кулинарными успехами еще со времен эмиграции, когда нужно было уметь приготовить еду не только вкусно, но из весьма скудных припасов. Она отлично шила, могла побелить квартиру и починить мебель.
Она была талантливой матерью — чуткой, умной, сдержанной,
нежной, веселой. Став бабушкой нескольких внуков, все равно осталась Матерью
(это так хорошо выражено в немецком слове «бабушка» — Großmutter, буквально означающем
«большая мама»).
183
Она была матерью и для своего театра. Театр был ее детищем, ее счастьем и гордостью. Как всякая мать, она приносила ему жертвы, не требуя благодарности. Может быть, она слишком долго считала его ребенком, не понимая, что он уже вырос и нуждается в большей самостоятельности.
На каком-то этапе существования театрального организма, очевидно, неизбежен момент, когда его достоинства, будучи культивируемы и умножаемы, могут обернуться застоем, кризисом. Такой кризис не миновал и «Берлинер ансамбль» во второй половине 60-х годов, сменив десятилетие творческого подъема и расцвета театра.
Наиболее недоброжелательные из западных критиков писали о том, что Брехт мертв для театра, режиссеры «Берлинер ансамбля» — эпигоны и догматики, актеров «дрессируют», и брехтовские «модели» спектаклей — неживой и опасный груз. Театр называли «музеем» и «мавзолеем» Брехта.
Критики доброжелательный, озабоченные судьбой театра, говорили об опасности останговки в пути и о необходимости обращения к современной актуальной драматургии.
Б. Райх, давний товарищ Брехта, его ученик и исследователь, писал об этом в 1967 и в 1968 годах; остановка, полагал он, может произойти и тогда, когда просто шагают «в ногу со временем». В этом случае время непременно окажется впереди. Не остановиться можно только обгоняя время[197].
Елена Вайгель не могла не почувствовать опасности. Она
«…вовремя уловила слабые сигналы снижения качества работы, удовлетворенности
сравнительно легкими задачами и озабоченно стала искать мощный катализа-
184
тор сопротивления «честному профессионализму и автоматизму художественного мышления»[198]. Вайгель была уверена, что нашла этот катализатор в «международном брехтовском коллоквиуме».
Этот коллоквиум назывался «Брехт-диалог 1968». Он проходил под девизом «Политика на театре». Так названа одна из заметок Брехта, где говорится «Когда от театра требуют только познания, только поучительных отражений действительности, то этого недостаточно. Наш театр должен вызывать радость познания, должен организовать удовольствие от преобразования действительности. Наши зрители должны не просто слышать, как освобождают прикованного Прометея, но и воспитывать в себе желание освободить его. Наш театр должен быть школой всех радостей и удовольствий, свойственных открывателям и изобретателям, он должен воспитывать триумфальные чувства освободителей».
«Диалог» продолжался восемь дней, съехались более двухсот человек. Режиссеры, актеры, литературоведы, писатели разных стран встречались в Немецкой Академии искусств, в репетиционном павильоне «Берлинер ансамбля», на дневных и вечерних спектаклях «Берлинер ансамбля», Немецкого театра, Государственной оперы. «Диалог» включал в себя несколько более узких «диалогов»: встречались литературоведы — и театроведы, переводчики — и издатели, режиссеры — и актеры, театроведы — и критики, деятели театра — и философы. Были открыты две выставки — «Брехт и театральные художники» и «Детские рисунки к произведениям Брехта»[199].
185
Гости слушали доклады, посещали репетиции. В «Берлинер ансамбле» были показаны «Покупка меди», «Мать», «Кориолан», «Дни Коммуны», «Что тот солдат, что этот», «Карьера Артуро Уи» и «Булочная». Свои брехтовские спектакли показывали не только столичные, но и периферийные театры ГДР; учебную пьесу Брехта «Исключение и правило» сыграли арабские студенты, обучающиеся в республике.
Весь «Диалог» проходил как живой и увлекательный разговор, как и острая и содержательная дискуссия. Чаще всего в речах и высказываниях звучал призыв — не абсолютизировать Брехта, не превращать его учение в систему предписаний и правил!
Заключительное заседание — «Брехт в театрах мира». Со словами прощания выступила Елена Вайгель. Она говорила: «Во всех своих работах Брехт ратовал за прогрессивное искусство, за реалистическое искусство, которое, обращаясь к человеческому разуму, призывает изменять мир до тех пор, пока человек не станет помощником людям. Беседы, проходившие в нашем ”Брехт-диалоге“, не всегда приносили нам решения, но возникали новые вопросы — и это гораздо важнее[200]. Все мы согласны в самом главном: участниками ”Брехт-диалога 1968“ стоят вместе с Брехтом за политику на театре, за то, чтобы театр был на стороне масс. Работая — все еще — в условиях капитализма, нужно проводить эту программу сквозь все трудности. Работая — уже — в условиях социализма, нужно развивать ее. Слова, которые
186
Брехт дал своему Галилею, относятся
ко всем нам: ”Наружу выходит ровно столько истины, сколько мы выводим. Победа
разума может быть только победой разумных“. ”Брехт-диалог“ окончен. Диалоги
начались. И они будут продолжаться здесь и в театрах мира»[201].
Действительно, закончившись в Берлине, диалоги о Брехте продолжались в театрах Варшавы, Москвы, Парижа,Лондона и других городов, на тех сценах, где так же, как у Брехта, главным был «призыв к изменению мира».
В том же 1968 году «Берлинер ансамбль» обращается наконец к современной драматургии. Это Петер Вайс — «Беседа о Вьетнаме» [202].
Критики писали, что, придав действию эпический размах, режиссура — ставила спектакль Рут Бергхауз — потеряла из виду движение, динамика сменилась статикой, а приемы очуждения оказались лишними, ибо очуждение как таковое заключено и в самом тексте Вайса»[203]. Все же обращение к актуальной политически заостренной пьесе было для театра полезным.
Современной была и поставленная в 1969 году пьеса Байерля «Иоганна фон Дёбельн», работа принципиально важная. Автор «Фрау Флинц», продолжая разрабатывать темы своего учителя Брехта, написал пьесу о Жанне д’Арк в наши дни, о девушке Иоганне Дайк, работающей курьером на большом предприятии, вмешивающейся в дела завода, требующей справедливости… Эту комедию поставил Манфред Векверт.
Но вскоре Векверт из театра ушел. И не один Векверт. Еще
раньше — в начале 60-х годов — театр лишился Эрнста Буша, оставившего сцену и
посвятившего се-
187
бя исключительно песне, Ангелики Хурвиц и Регины Лютц; в 1968—1970 годах ушли Вольф Кайзер, Роберт Науманн, Хильмар Татэ, Ангелика Домрёзу, Иоахим Теншерт, Фред Дюрен, Манфред Карге и Маттиас Лангхоф… Они уходили по разным причинам, более или менее весомым, важно одно — они уходили в другие театры, оставляя «Берлинер ансамбль».
Появлялись новые режиссеры. Так, пришедший из кинематографа Хельмут Ницшке поставил «Войцека» Г. Бюхнера. Снова упреки критики — потеряны ритм, динамика, специфика языка Бюхнера. Но одобряют попытку открыть новые стороны пьесы, саму ее обработку и отличную игру Эккехарда Шалля — Войцека[204].
Обращение театра к пьесам Вайса, Байерля, Бюхнера не стало, к сожалению, поворотным пунктом, новым этапом. Театр переживал кризис. Это слово «кризис» звучало все чаще — не только на страницах западной печати, но и в выступлениях критиков ГДР,на различных форумах творческой интеллигенции республики.
В 1969 году исполнилось пятьдесят лет со дня франкфуртского дебюта Елены Вайгель, а в 1979 году тожественно отмечалось ее семидесятилетие. Вайгель продолжала играть, продолжала руководить театром.
В марте 1971 года театр едет во Францию. Исполняется столетие Парижской коммуны. «Берлинер ансамбль» везет три брехтовских спектакля: «Дни Коммуны», «Мать» и «Булочная». Играют не в самом Париже, а в театрах его рабочих предместий — в Обервилье, Нантере, Сен-Дени. Это «красное предместье» Парижа.
Вайгель смертельно больна. Это известно ее родным. Никто в зале театра в Нантере не знает, сколько мужества понадобилось актрисе, чтобы выйти 3 апреля 1971 года на сцену в роли Пелагеи Власовой. Но сама поездка в Париж, спектакли, которые они привезли, роль матери-революционерки — все это и есть «политика на театре», то, что стало делом ее жизни в Берлине
188
1932 года, когда Пелагея Власова впервые вышла на сцену[205]. Сейчас она играет роль, прошедшую сквозь всю ее жизнь, играет еще лучше, чем всегда. Она стоит в рядах рабочей демонстрации. «Дай сюда знамя, Симлгин! — говорит она. — Да! Я понесу его. Все это еще переменится».
Это был последний выход на сцену. Поздним вечером 6 мая 1971 года Вайгель скончалась, не дожив несколько дней до своего семьдесят первого дня рождения.
«Так завершилась ее богатая, наполненная жизнь борца: от Пелагеи Власовой, сыгранной перед безработными и забастовщиками Берлина тридцатых годов, до Пелагеи Власовой, сыгранной перед наследниками Коммуны в рабочих предместьях Парижа в последние недели ее жизни. доброта, ум, человечность, все ее творчество были отданы трудящимся…» — говорилось в некрологе ЦК СЕПГ[206].
Манфред Векверт в мае 1971 года находился в Лондоне, где они вместе с Иоахимом Теншертом поставили в Национальном театре шекспировского «Кориолана». О смерти Вайгель он узнал в вечер премьеры. Векверт пишет в некрологе: «Мы прощаемся не просто с великой Вайгель, мы потеряли одного из выдающихся художников нового социалистического театра. Она по праву считалась уже символической фигурой, как когда-то Каролина Нейбер. […] Хелли была политиком, кухаркой, актрисой, спорщицей, садовницей, литературным критиком, коллегой, товарищем»[207].
«Она была убеждена, — вспоминает о Вайгель нынешняя «Intendantin» театра Рут
Бергхауз, — что искусство и художник должны служить прогрессу. Политический
театр был для Елены Вайгель практическим решением, средством помощи человека
человеку. ”Я не
189
верю, — говорила она, — что гуманизм
— это что-либо иное, чем помощь людям, именно не ”человеку“, а людям. Она была
практиком, и ее практика служила политике, улучшавшей сосуществование и
жизненные условия людей. Это она делала с удовольствием — в искусстве и в
жизни»[208].
Вайгель интересовало все, что происходило в мире, она была открыта всему. Это и выразил Брехт в одном из своих коротеньких диалогов:
Б.
Гениальная актриса — эта Вайгель.
Х.
Что такое гений?
Б.
Гений — это интерес
Наша Вайгель — мамаша Кураж — так звали ее тысячи людей в ГДР. Ее знали и любили в самых разных уголках земного шара, хотя ни кино, ни телевидение не способствовали распространению ее славы. «Повсюду на земле, где только звучит слово ”театр“, скорбят о ее смерти»[209], — писал западногерманский критик Ф. Люфт.
Ею сыграно не так уж много ролей, между ними — большие промежутки времени, но каждая ее работа — как бы высшая точка исканий немецкого и мирового театра.
Вайгель осталась в истории
великой актрисой. Это очень много. Но она достигла большего. Она была соавтором
Брехта, сотворцом театра нового времени. «Берлинер ансамбль», созданный ими,
живет уже более четверти века, и сегодня продолжая свой путь поисков этот
театр, его лучшая актриса продемонстрировали, каких высот может достичь
искусство, главным для которого является революционная устремленность, борьба
за изменение, усовершенствование мира.
СОДЕРЖАНИЕ
ЩЕДРОСТЬ НАЧАЛА 3
В БЕРЛИНЕ — ГОРОДЕ ТЕАТРОВ 26
«Я, ПЕЛАГЕЯ ВЛАСОВА…» 63
ВТОРАЯ СЛАВА 91
ТЕАТР НОВОГО ВЕКА 120
ТРИ МАТЕРИ 148
ЭХО И ИСТОЧНИК 167
АКТРИСА РУКОВОДИТ ТЕАТРОМ 175
Варгафтик Е. С.
Елена Вайгель, Л., «Искусство», 1976.
192 с.; 12 л. Ил. (Серия «Мастера зарубежного театра»)
Книга рассказывает о жизни и творчестве одной из крупнейших актрис XX в. века, сподвижнице выдающегося реформатора сцены Бертольта Брехта.
Елена
Соломотовна Варгафтик
ЕЛЕНА ВАЙГЕЛЬ
Редактор
С. В. Дружинина. Художественный редактор Э. Д. Кузнецов. Технический редактор
И. М. Тихонова. Корректор А. Б. Решетова. Сдано в набор 16/IV 1976 г. Подписано к печати 15/IX 1976 г. Формат 17![]() 1081/32.
Бумага для текста типогр., для иллюстр. Тиф-дручн. Усл. печ. л. 9,45. Уч. изд.
л. 9,44. Тираж 25 000 экз. М. 31311. Изд. № 218. Зак. тип. № 421.
Издательство «Искусство». 191186. Ленинград. Невский, 28. Тульская типография
Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. Тула, проспект им. В. И. Ленина,
109. Иллюстрация отпечатаны в Калининском полиграфкомбинате
«Союзполиграфпрома». Цена 63 коп.
1081/32.
Бумага для текста типогр., для иллюстр. Тиф-дручн. Усл. печ. л. 9,45. Уч. изд.
л. 9,44. Тираж 25 000 экз. М. 31311. Изд. № 218. Зак. тип. № 421.
Издательство «Искусство». 191186. Ленинград. Невский, 28. Тульская типография
Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. Тула, проспект им. В. И. Ленина,
109. Иллюстрация отпечатаны в Калининском полиграфкомбинате
«Союзполиграфпрома». Цена 63 коп.
