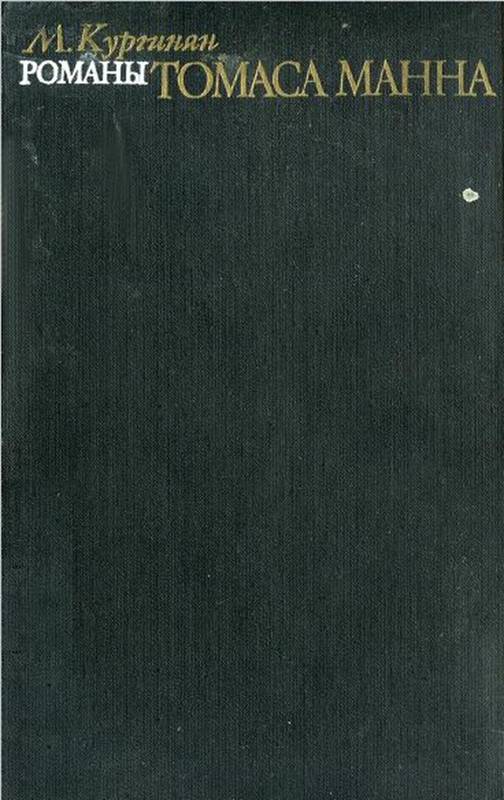
М. Кургинян
РОМАНЫ ТОМАСА МАННА
Формы и метод
МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975
Кургинян М.
Романы Томаса Манна (Формы и метод). М., «Худож. лит.», 1975
336 с.
В книге М. Кургинян дается детальный анализ романов Томаса Манна «Будденброки», «Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус» и другие. В центре исследования — художественное новаторство писателя-реалиста, обогатившего роман XX века значительными художественными открытиями.
Художник
В. ДОБЕР
Постижение
человечности человека как творческая задача
Не так уже велико по общему объему наследие Томаса Манна — романиста. «Будденброки. История гибели одной семьи» (1897—1901), «Королевское высочество» (1909), «Волшебная гора» (1913—1924), «Лотта в Веймаре» (1936—1939), «Иосиф и его братья» (1926—1943), «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом» (1943—1947), «Избранник» (1951), «Признания авантюриста Феликса Круля» (1910—1955) — всего восемь романов, которые давно знакомы советским читателям.
Творчество выдающегося немецкого писателя постоянно привлекает внимание советских исследователей. Только за последние годы о Томасе Манне написано несколько монографий и обстоятельных статей. В них жизненный путь художника, этапы его идейных и творческих исканий освещены на широком историческом фоне, в связи с литературной и общественной ситуацией, характерной для эпохи. Анализ произведений Т. Манна занимает немалое место и в теоретических работах, посвященных проблемам реализма и особенностям романа XX века. Вместе с тем для советского литературоведения последних лет характерно стремление к детальному анализу отдельных произведений Т. Манна — романов «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус». Исследователи сочетают подробный анализ данного произведения с освещением принципиальных теоретических проблем и общих закономерностей современного литературного процесса.
Именно такую методику анализа произведения мы пытаемся по возможности осуществлять при обращении ко всем романам Т. Манна. Мы не ставим перед собой задачу исчерпать заключенное в романах Т. Манна содержание, а
3[1]
стремимся сосредоточиться на выяснений тех художественных принципов и средств, которые воплощают единую для всей манновской романистики идею — важнейшую, как мы попытаемся доказать, для автора и самую, очевидно, живую и интересную для современного читателя. Предваряя все дальнейшее рассмотрение, скажем, что такой объединяющей идеей для Т. Манна была идея нравственного человека — именно постижению «человечности» современного человека, человека в ситуации XX века были подчинены искания художника.
Скорее проблемный, чем историко-литературный характер нашей работы позволяет нарушать хронологическую последовательность при рассмотрении манновских романов. В первой главе дается разбор «Избранника» и «Признаний авантюриста Феликса Круля». Рассмотрение романов «Будденброки», «Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус» составит центральную часть работы. Романы «Королевское высочество» и «Лотта в Веймаре», не выделенные в особую главу, тоже займут немалое место в разных разделах книги.
Даже при поверхностном обращении к романам Т. Манна читателя впечатляет необыкновенное разнообразие лежащего в их основе материала: история поколений бюргерской семьи, в истоках своих автобиографическая («Будденброки»), эпизод из жизни Гете («Лотта в Веймаре»), мотивы библейского мифа («Иосиф»), средневековая легенда («Избранник») и т. д. Столь же прихотливо и необычно соседствуют у Т. Манна — одного из самых смелых экспериментаторов и новаторов в области поэтики современного романа — контрастные оттенки стиля: ирония и трагическая патетика в «Докторе Фаустусе», например, или эмоциональность и рационалистическая рассудочность в «Волшебной горе»; традиционные и новаторские формы повествования («Признания авантюриста»); простые по расстановке «сил», но сложные в своей многоплановости конфликты и характеристики и т. д. Даже эти внешние контрасты ставят вновь и вновь читателя перед вопросом: что стимулирует и объединяет богатство и многообразие содержания и форм восьми столь внешне несхожих между собою романов Т. Манна?
Ответ на этот вопрос можно, очевидно, извлечь прежде всего из анализа текста самих романов, что мы и попытаемся сделать. Вместе с тем мы привлечем во всех частях работы соответствующие нашей задаче теоретико-крити-
4
ческие и публицистические произведения Т. Манна и его переписку.
Обращение к высказываниям, признаниям, оценкам и самооценкам Т. Манна, заключенным прежде всего в его блестящих критических статьях и разборах собственных романов, а также в письмах и публицистике, дает в руки исследователя дополнительный ориентир, помогающий подойти к центральным для понимания романов Манна идеям, составляющим органическое единство с принципами его метода и чертами его поэтики.
Выходы за пределы художественной литературы, обращение к литературной критике и политической публицистике было характерно для крупных писателей Запада в период первой мировой войны и революции (Франс, Роллан, Барбюс, Голсуорси, Г. Манн, Ст. Цвейг) и еще более в годы борьбы с фашизмом, когда к политической публицистике приобщилось и сравнительно молодое поколение — Фейхтвангер, Бехер, Брехт, Арагон и многие другие.
Не все из названных здесь крупных писателей были в равной мере близки Т. Манну по политическим взглядам, направлению, да и просто по связывающей людей личной человеческой симпатии. Тем не менее творчество каждого из них составляло немалую часть той литературной и духовной атмосферы, в которой протекал путь Манна-романиста.
Не говоря уже о том, что объективно романы Т. Манна включены, как мы попытаемся показать, в еще более широкий литературный ряд, самые значительные из них открывают возможность для широких типологических соотнесений (мы продемонстрируем это лишь на одном примере), вписываясь в общую картину литературного процесса XX века.
Интересы Манна были чрезвычайно широки и далеко выходили за собственно литературный круг.
Не только Гете и Л. Толстой остались на всю жизнь животворным источником для творчества Манна. Столь же постоянны, хотя и противоречиво-сложны были отношения, связывающие его еще с юности с Ницше, Шопенгауэром, Вагнером, а также Достоевским, как мыслителем и как художником. На последнем этапе творчества огромную роль в духовной жизни Манна начинают играть Чехов и Шиллер. Сближение с творческими мирами этих столь разных и столь отличных от прежних кумиров Манна художников
5
находится в полном соответствии со сдвигами, происходящими в творчестве и мировоззрении позднего Манна.
Подчеркивая свою приверженность прошлому веку, во многом олицетворяемому для него названными именами, Т. манн всегда ощущал себя и действительно являлся художником, кровно связанным со своим временем, целиком поглощенным стремлением постигнуть его противоречия и приобщиться к тому новому и позитивному, что вносилось им в историю человечества.
Постоянно ширились интересы Т. Манна, все более разнообразным становился круг имен и произведений, которые оказывались в центре его внимания. Знаменательно, например, что в конце жизни он отмстил таких крупных современных писателей, как Фолкнер, Дю Гар, еще раньше — Чапека, Музиля1.
Заинтересованно, но и критически Манн говорил о таких видных фигурах, как Жид, Джойс, Фрейд, Кафка, Пруст, Т. Адорно; скептически высказывался относительно американского и английского «авангарда» и все более охотно вступал в переписку и полемику с писателями и учеными социалистических стран.
Достижения Манна-романиста неотделимы от эволюции его мировоззрения. Решительный разрыв с идеями принципиального «аполитизма» произошел после первой мировой войны, Октябрьской революции и революции в Германии и совпал со вступлением писателя в пору творческого расцвета. Сам Т. Манн очень точно воспроизвел значение этого мировоззренческого возрождения в следующих словах статьи «Культура и политика» (1939): «Тот факт, что я осознал себя сторонником демократии, — пишет Т. Манн, — является следствием убеждений, которые дались мне нелегко… Да, я пришел к убеждению, что политическое, социальное составляет неотъемлемую часть человеческого, принадлежит к единой проблеме гуманизма. И что в проблеме этой может обнаружиться опасный, гибельный для культуры пробел, если мы будем игнорировать неотторжимый от нее политический социальный элемент»2.
Для зрелого Манна, вступившего на путь антифашистской деятельности, неотделимость художественного твор-
6
чества от политики — ежедневно подтверждаемая очевидность.
«…Задержалась работа над завершением «Иосифа-кормильца», уже весьма близким в предшествующие недели, когда гремела битва за окутанный дымом и пламенем Сталинград… поездка, в которой меня сопровождала рукопись лекции о почти что законченной тетралогии… была богата встречами, сборищами и деятельностью… Что касается самой лекции, то она, не лишенная печати злободневных событий и благодаря репродукторам услышанная также и во втором, до отказа заполненном зале… была встречена публикой более чем дружественно»1.
Автор «Иосифа и его братьев», «Королевского высочества», «Избранника» — произведений, казалось бы, очень далеких не только от современной действительности, но и от всякой исторической реальности, постоянно подчеркивал, что все его творчество, все романы обязаны своим существованием вполне конкретным фазам современной общественно-исторической жизни и его личной жизни как писателя и как человека.
«…Кто такой писатель? — вопрошает Т. Манн в заметке о романе «Королевское высочество». — Тот, чья жизнь — символ. Я свято верю в то, что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорило человечество, и без этой веры я отказался бы от всякого творчества»2.
Помимо полемического задора, свойственного молодому тогда автору, в этом высказывании есть очень серьезное, пронесенное через всю жизнь, убеждение: лишь то произведение является фактом искусства, которое говорит от лица эпохи и от человечества, то есть выражает сущность времени и человеческие идеалы.
Неожиданные нападки на роман «Будденброки», который тупоумными блюстителями «нравственности» обвинялся, наравне с произведением второстепенного писателя Фрица Бильзе, в «пасквилянтстве» и «клевете», послужили Манну стимулом для очень энергичного определения своих творческих принципов. В статье «Бильзе и я» (1906) есть немало полемических крайностей. И все же эта ранняя статья вполне заслуженно именуется Манном «маленьким манифестом». Ибо здесь Манном действительно намечаются некоторые из главных принципов, которые навсегда
7
определили характер его романов как романов реалистических. Манн присоединяется здесь к тем критикам, которые «привыкли отождествлять понятие художника с понятием познающего». Познавать же для художника значит, по убеждению Манна, властно подчинять наблюдения мысли, всецело им владеющей. А это требует, как предвидит Манн с самого начала и как подтвердит все дальнейшее его творчество, открытия самых многообразных форм, способных реализовать эту мысль и сделать ее обобщением сущности познаваемого мира. Этот принцип Манн осознает как нечто глубоко индивидуальное и вместе с тем как черту, присущую определенному «роду» художников. Манн заключает: «Художник такого рода — а род этот, по-видимому, неплохой — хочет познавать и создавать: глубоко познавать и прекрасно создавать»1.
При этом «глубокое познание», которое осуществляет художник, является познанием прежде всего окружающего мира. «Художническое познание»,— считает Манн,— начинается с беспощадно-критического наблюдения. Наблюдать — значит «с молниеносной быстротой поглощать каждую подробность, характерную в литературном смысле, типичную в своей значительности, открывающую перспективы, выражающую расовые (точнее, национальные. — М. К.) и социальные признаки»2.
Нет нужды доказывать, что эти принципы «маленького манифеста» по сути близки принципам реалистического метода. Вместе с тем на основе этой ранней статьи и тем более первых романов очевидно, как показательно творчество Манна с точки зрения демонстрации того, что реализм не предполагает изображения «лишь социальных аспектов жизни» и не замыкается «и границах социальной тематики»3.
В статье «Бильзе и я» Майи не выдвигает ни проблему человека как центральную проблему своего творчества, ни проблему объективности изображения, ни вопрос о соотношении эстетического и нравственного начал в искусстве; они станут главными в пору высших достижений и «итогов», о чем мы подробно будем говорить ниже.
В ранних же статьях Манн занят преимущественно проблемами формы, которая понимается, однако, очень
7
содержательно. Начатое «Будденброками» и продолженное «Королевским высочеством» обновление традиционных форм и средств жанра уже юным Манном ощущается как историческая необходимость.
Переход от «Будденброков» к «Королевскому высочеству» был первым шагом к утверждению смелых, глубоко содержательных художественных открытий, которые уже на других исторических рубежах, в иных общественных и личных ситуациях совершились в «Волшебной горе», «Иосифе и его братьях» и в последующих романах.
Причастными к процессу обновления содержательной формы — повествования, композиции, конфликта, элементов стиля — оказываются и наиболее значительные произведения манновской новеллистики, особенно примыкающие тематически и стилистически к «Доктору Фаустусу», «Приключениям авантюриста», «Избраннику». Мы имеем в виду такие новеллы, как «Марио и волшебник», «Обмененные головы», «Закон», «Обманутая».
Но доминирующее положение в творчестве Т. Манна занимает роман.
Вряд ли есть в XX веке писатель, который не писал бы о своем понимании романа и не определял бы так или иначе своего отношения к этой царствующей на протяжении вот уже двух веков, вопреки любым пессимистическим прогнозам, форме. Но даже в самых высоких оценках возможностей и перспектив романа вряд ли можно ощутить такую проникновенность, преданность и влюбленность, как в характеристиках и оценках Т. Майна. Он посвятил анализу этого жанра и обширные теоретические статьи, и публичные выступления, и рецензии, и письма, и отдельные полемические или поощрительные реплики. Манновскую влюбленность в роман передают такие, например, строки из большой статьи «Искусство романа» (1939): «…именно этому жанру, гению эпоса, принадлежит моя любовь и приверженность»1.
Нравственный пафос («знание добра» — как писал однажды Манн), широта и объективность постижения человека и жизни, ирония как «чувство расстояния» между романом и реальностью, то есть богатство средств и форм, созидающих художественный мир подобный жизни, но не тождественный ей, — все эти черты романа ощущаются
8
Т. Манном как глубоко органические для самой природы жанра и столь же органично свойственные современной стадии его развития.
Это отнюдь не мешает остроте ощущения современной эпохи как качественно нового этапа в судьбах жанра и в реализации его возможностей, среди которых главной для Манна является способность к охвату глубинных, скрытых процессов, — недаром уподобление романа (и «стихии» эпоса вообще) морю, часто встречающееся у Манна, подразумевает не только масштабность, безоглядную «ширь», но и бездонную глубину с неразгаданностью ее «тайн». Всячески акцентируя активизацию именно этой романной потенции, Т. Манн проявляет не только проницательность и интуицию, но и большую точность наблюдения и самонаблюдения. Ибо именно проблема нового уровня глубины постижения жизни и человека является, пожалуй, тем центром, к которому сходятся художественные искания западноевропейского реалистического романа первой половины XX века.
Все более решительная перестройка структуры романа, все более органическое использование возможностей вводимых в него форм условности, все более виртуозное овладение средствами стиля — словом, все доступные Манну содержательные новации в области поэтики жанра целеустремленно подчинены расширению и углублению познавательных возможностей романа. Задачи метода и открытия в сфере поэтики, как мы попытаемся показать, оказываются нерасторжимо слитыми.
В пору работы над «Доктором Фаустусом» Т. Манн, рассказывая о впечатлении от публичного выступления Бруно Франка, «давшего пищу для раздумий», замечает: «…любопытно: он пользуется гуманистическим (то есть традиционным, в духе начала прошлого века. — М. К.) повествовательным стилем Цейтблома вполне серьезно, как своим собственным. А я, если говорить о стиле, признаю только пародию. В этом я близок Джойсу»1.
О близости к Джойсу и о смысле, который вкладывал Манн в слово «пародия», мы скажем дальше. Пока же отметим, что традиционный повествовательный стиль — стиль столь любимой, столь чтимой им эпохи принимается Манном отнюдь не безоговорочно; напротив, он видит в нем явление, которое должно доказать свою современность.
10
Т. Манн очень последовательно и очень чутко реагировал на стилевую окраску произведений как на своего рода «опознавательный знак» литературы эпохи. Прежде всего, он улавливал эту стилевую дистанцию в собственных романах, относящихся к разным периодам творчества.
«После пятидесятилетних скитаний в пространстве и времени мой творческий путь вновь входит в старое русло, приводя меня в родимую Германию, в мир старонемецких городов, в мир немецкой музыки», — пишет Т. Манн, сопоставляя «Будденброков» с «Доктором Фаустусом». И тут же замечает, что общий предмет изображения («мир старонемецких городов») вовсе не снимает глубокого различия в том стилевом колорите, в котором этот старонемецкий мир предстает. В «Будденброках» он проникнут «умудренной познанием многих печальных истин» и сочетающейся с юмором меланхолией; в «Докторе Фаустусе» освещен отблеском трагического сюжета старинной народной книги, который дополняет мрачную картину «ужасов нашей эпохи»1.
Не только элементы стиля, но и другие особенности поэтики (формы условности, повествования, конфликта) рассматривались Т. Манном — критиком и «самокритиком» как «приметы» определенной литературной эпохи, соответствующим образом преломляющей эпоху историческую. Он убежден, например, что исповедь авантюриста Круля должна была прерываться, откладываться и дописываться именно после «Доктора Фаустуса» и параллельно с «Избранником», ибо сама содержательная форма этого романа, хотя и складывалась вслед за «Будденброками», стала необходимой и смогла завершиться только в литературной и исторической ситуации середины XX века.
Тот же историзм в подходе к новаторским чертам поэтики отдельного произведения и творчества писателей присущ статьям и отзывам Манна о художниках XVIII, XIX и XX веков (Лессинге, Гете, Келлере, Фонтане, Л. Толстом, Чехове, Шоу, Кафке). Но суждения Манна —тонкого ценителя и критика литературы, глубоко проникающего в природу художественного произведения, интересуют нас здесь не только в плане самооценок. В растущем, углубляющемся стремлении к обновлению форм писатель справедливо усматривал не личное пристрастие, а прояв-
11
ление власти духа времени — даже отдельные формы отдельного произведения подчинены ему.
Проницательность проявляет Манн, делая и другое, не столь широкое и значительное, но весьма существенное для своего творчества обобщение.
Т. Манн причисляет себя к писателям, у которых «каждое отдельное произведение… не столь знаменательно… и отнюдь не представляет их с… исчерпывающей полнотой», а является «лишь фрагментом… обширного целого»1.
К мысли о том, что творчество его — не только поступательно развивающаяся, но вместе с тем и восходящая к некоему единому мотиву система, Манн возвращается постоянно, и особенно настойчиво в связи с характеристикой своих романов.
«…Очень трудно и почти бесполезно, — пишет он, — говорить о «Волшебной горе», не принимая во внимание те связи, которые протянулись от нее в прошлое — к моему юношескому роману «Будденброки», к критико-полемическому трактату «Размышления аполитичного» и к «Смерти в Венеции»…»2
В других высказываниях Т. Манна подчеркивается связь между значительно более удаленными друг от друга произведениями. Например, между «романом-первенцем» «Будденброками» и произведением-«итогом», каким был для него «Доктор Фаустус», работа над которым в 1943 году началась обращением к почти забытому замыслу: «Отыскал три строчки 1901 года с планом «Доктора Фаустуса»3.
Характерным для своего творчества Манн считает судьбу «Признаний авантюриста Феликса Круля». Замысел этого романа относится к поре «Будденброков», начальные главы были написаны вслед за «Королевским высочеством» и прерваны работой над «Смертью в Венеции» и «Волшебной горой». Возвращение же к «Признаниям авантюриста» совершилось только после окончания «Иосифа» и тут же снова прервалось властно овладевшим Т. Манном замыслом «Доктора Фаустуса». И, наконец, завершение (или частичное завершение, ибо фабульно роман остался незаконченным) «Признаний авантюриста
12
Феликса Круля» совершается в самые последние годы жизни писателя.
«…Со странным волнением подумывал о возврате к «Авантюристу» — главным образом с точки зрения цельности жизни. Тут есть своя прелесть — через тридцать два года снова начать с того места, где остановился… Вся основная и побочная работа, проделанная с тех пор, вклинилась… в предприятие, затеянное в тридцать шесть лет, этакой вставкой, потребовавшей целого человеческого века…»1
Здесь снова все творчество, и прежде всего «основная работа», работа над романами, предстает как осуществление некоего изначально владеющего автором намерения. Каждый роман с точки зрения такого подхода — отдельный «фрагмент» замысла, отразившего «цельность жизни», то есть целеустремленность в решении — средствами искусства — некоей, главной для художника жизненной проблемы.
Это, действительно, очень знаменательно, что замысел романа об авантюристе Феликсе Круле оказался еще более долговечным, чем прошедшая почти через всю творческую жизнь, любовно хранимая для «финала» фаустовская тема. И, конечно, эти два самые устойчивые, долговечные замысла не просто «соперничают» в смысле сроков реализации. Их сложное переплетение и своеобразный антагонизм прежде всего отражают знаменательное для эпохи единоборство сильнейших духовных тенденций, за которыми стоит, более или менее непосредственно претворяемая образной системой произведений Манна, реальная расстановка политических и социальных сил.
Замыслы «Авантюриста» и «Фаустуса» частично реализовывались всеми романами Манна. И полнота их осуществления в конце творчества совершилась на основе предшествующих решений.
Авантюрист и Фауст были у Манна чрезвычайно емкими в своем содержании образами-символами. В их ставшей неизбежной для XX века соотнесенности сосредоточилась для него вся современная историческая ситуация в ее человеческом, то есть духовно-нравственном, аспекте.
Само слово «авантюрист» в заглавии говорило о том, что «ядром» романа является художественное исследование человека, стоящего вне социальных и нравственных норм и обязательств, поставившего себя в положение принципи-
13
альный безответственности л «невинности». А с другой стороны — само имя Фауст говорило о том, что в центре произведения встанет проблема нравственно ответственной личности, воплотится из глуби веков идущий мотив трагической вины и искупления за поступок, значимый не только для личной судьбы, но и для окружающих, современников и даже потомков.
Полярность замыслов «Авантюриста» и «Фаустуса» по самой их идее — очевидна. Тем более парадоксальны взаимоотношения, в которые с первых же этапов своего возникновения они вступают.
Имея в виду первые главы «Признаний авантюриста» в том виде, в каком они в 1910 году были опубликованы, Т. Манн утверждает, что в них художественно воплощено его отношение к гуманистическим традициям прошлого века, и прежде всего к гетевской традиции — «одновременно любовное и разлагающее»1.
То, что «элемент нежно любимой традиции, гетевский автобиографизм самовоспитующейся личности» переведен «в план преступного», означало признание слабости этой традиции перед лицом господствующей и на страницах романа, и в жизни новейшей человеческой «модели». Манн трезво понимает важность для художника XX века исследования «психологии нереально-иллюзорной формы существования» (то есть до артистизма доведенного освобождения от какой бы то ни было нравственной «обремененности»). Раскрытие вторжения такой нереально-иллюзорной личности в область самых исконных нравственных отношений и ощущение неизбежности ухода в прошлое гармонически-человечной «гетевской» личности и названо в приведенном высказывании «разлагающей», по отношению к традиции, авторской позицией.
Но вместе с тем, что особенно ясно из окончательного текста «Признаний», сама «гетевская» форма записок авантюриста все время ставит авантюриста в очень невы-
годный, как бы изнутри разоблачающий его контекст, создает сложный ассоциативный фон. Гетевские, и не только гетевские, правдоискатели как бы незримо присутствуют в узурпированной авантюристом форме повествования. Роман об авантюристе не только создавался почти параллельно с «Доктором Фаустусом», но и па собственных страницах осложнялся встречей с фаустовской темой в том
14
широком, символическом плане, в котором она всегда и особенно на последнем этапе понималась Манном.
За ходом этого разворачивающегося на страницах самого романа единоборства двух «сквозных» тем манновского творчества мы проследим в разделе, специально посвященном «Признаниям авантюриста Феликса Круля». А сейчас отметим лишь, что не просто исследование «психологии нереально-иллюзорной формы существования», но именно утверждение неизбежности саморазоблачения этой психологии стоит в центре оконченного после «Доктора Фаустуса» романа об авантюристе.
Недаром работа над ним ведется на этом этапе параллельно с быстро возникшим и тут же осуществленным замыслом небольшого романа «Избранник», в основу которого легла средневековая повесть о римском папе Григории, привлекшая внимание Манна мотивом саморазоблачения и расплаты.
В романах-«итогах» с особенной очевидностью проявилось сочетание черт, определяющих суть манновского реализма: неприятие ни социально-исторической действительности, его окружающей, ни жизни в более широком и общем смысле — в ее биологических началах и «тайных» психологических законах, «управляющих» человеком, как неизбежной «данности»; последовательно критический подход к социальной действительности с позиций гуманности, разума и демократии; убеждение в духовных возможностях человека, вера в присущее ему — исконно и неистребимо — нравственное чувство.
На разных этапах творчества, в разных романах Т. Манна та или иная из этих черт могла оказаться преобладающей. Но во все периоды и во всех его романах утверждение светлых начал жизни и человека — постижение человечности человека — оставалось главнейшей задачей метода и представало формообразующей основой жанра.
«…Я верю в доброту, духовность, правдивость, свободу, смелость, красоту и праведность — словом, в возвышенную веселость искусства, сильного средства от ненависти и глупости»1,— писал Манн в 1952 году одному своему корреспонденту.
В то же время (в 1952 г.) в статье «Художник и общество» Т. Манн замечает: «…врожденному критицизму искусства свойственно нечто моральное… из идеи «добра»,
15
нашедшей себе приют в обеих этих сферах: эстетике и нравственности…» И далее: «Каким бы суровым обвинением ни являлось искусство, как ни горько сетует оно на гибель мироздания, как ни далеко оно заходит в иронизировании над действительностью и над самим собою… оно предано добру, и сущность его — доброта, которая сродни мудрости, но еще более близка любви»1.
Когда несколькими годами раньше Т. Манн, закончив роман «Доктор Фаустус» и получив первые по этому поводу поздравления, задался вопросом: оправданы ли они, — он так ответил на него в своем дневнике: «Признаю нравственную ценность»2.
Такой ответ вовсе не означал, что автор недооценивал значения того «сурового обвинения» социального зла, которое в этом произведении содержится, упускал из виду глубину «постижения сущности явлений», которая в нем достигается, не принимал во внимание огромного интеллектуального багажа, в нем обобщенного, и не был удовлетворен новизной формы, нерасторжимо слившейся с содержанием. Выдвижение на первый план «нравственной ценности», так органично сказавшееся в запечатленной дневником реакции, означало только одно: познавательная, эстетическая и нравственная ценность произведения осознавалась и осуществлялась Манном не только в нерасторжимом единстве, но и при известном приоритете последней над первыми.
Искусство, утверждает Манн в названной статье, несет в себе «критерий всякого стремления к совершенству». И именно в этом качестве оно с самого начала было дано «в спутники человечеству»3. Эта мысль, выраженная в поздней статье, является продолжением давно созревшего убеждения, что «познать добро нельзя вне искусства». Хотя, подчеркивает Манн — убежденный противник всяческого иррационализма и принижения мысли — «наука тоже зародилась из стремления человека к добру»4.
Но вместе с тем осуществляемое искусством познание добра неотделимо от критического начала, исконно ему присущего. Это тоже одна из «постоянных» идей Манна, получающая развитие на протяжении всего его пути и
16
очень полно отразившая целеустремленность его противоречивых, но верных главному своему направлению исканий. Основным узлом этих противоречий является вопрос о том, что же лежит в основе осуществляемой искусством «критики жизни»? Ведется ли она с позиции воли к изменению и улучшению социального бытия человека и его самого; или — с позиции безвольного отвращения, внушаемого трудностью, беспощадностью, жестокостью жизни?
Т. Манн не связывал сколько-нибудь последовательно ответ на эти вопросы с мировоззренческими позициями писателей, с принципами борющихся в XX веке литературных направлений. Дифференциация «настоящего» и «ненастоящего» искусства превалировала для него над какой бы то ни было другой. Но по существу, обсуждая вопрос о критической по отношению к жизни позиции искусства (так же как любую другую принципиальную для него проблему литературы), Манн имел в виду западноевропейский реализм XX века в лучших его проявлениях и традициях.
Защищая «Будденброков» от обвинений в плоском «критиканстве» и «копировании» действительности, молодой автор в статье «Бильзе и я» (1906) утверждает, что наблюдаемые явления окружающей действительности служат лишь внешним толчком для выраженной в романе критической идеи.
Ссылаясь на Гете, Тургенева, Шекспира, подразумевая широкую традицию немецкого и европейского романов, — от Келлера до Золя и Гонкуров, — Т. Манн утверждает, что каждый настоящий писатель наделен особым даром проникать в глубины жизни и человеческой души. И вот эта-то способность, дающая знание несовершенства мира, терзающего, мучающего художника, — источник неотделимой от искусства критики.
Иначе говоря, Т. Манн утверждает объективность источника критического «свойства» искусства и активность позиции не только подлинного художника, но вообще тех, кто «стоит на точке зрения искусства», то есть не принимает жизнь пассивно, такой, «как она есть», ни в биологических, ни в социально-исторических ее формах.
Манн считает, что человек «не принимает жизнь такой, как она есть, а выносит ей свой приговор, — даже если это неприятие приводит его к гибели»1. При всей лаконично-
17
сти этих строк, они ясно свидетельствуют, насколько тесно переплетаются для Манна критическое начало произведения (и литературы, искусства вообще) с утверждаемой в нем позитивной идеей. Ибо точка зрения человека, не смиряющегося с жизнью как данностью, является, с одной стороны, источником осуществляемой искусством критики, а с другой стороны — носителем утверждаемого им идеала; ведь в этой же способности быть высшей нравственной «инстанцией» и «точкой опоры» по отношению к ставящей себя вне нравственного закона жизни — Манну видится осуществление духовного, то есть подлинно человеческого начала в человеке.
Так «читается» одно из обобщающих высказываний Манна относительно столь важной и острой для него проблемы человека. Разумеется, формулировка Манна во многом абстрактна и в подлинной глубине и правоте своей постигается лишь во всем контексте его исканий. Абстрактны, если говорить о данной формулировке, сами понятия «жизнь», «человек», столь часто и с самым разным наполнением употребляемые современными Манну писателями, философами, социологами, критиками.
«…Жизнь такая, как она есть…» — означает ли это, что она неизменна в биологической и в исторической своей сущности? Отрицает ли или просто «обходит» Манн вопрос о разных исторических ступенях «жизни, как она есть»? Подразумевает ли его формулировка наличие каких-то объективных закономерностей, «жизнью» управляющих? Связана ли гибель человека, не принявшего жизни, с конкретными обстоятельствами, или она фатальна и неизбежна? И в чем сущность возвышаемой Манном человечности, то есть духовности человека? Какая практическая жизненная позиция стоит за этим?
Задаваясь такими вопросами, мы не навязываем манновской мысли посторонние ей аспекты.
Проблемы эти постоянно возникают и в связи с центральными произведениями, и по самым разным, формально не относящимся к ним поводам.
Примечателен, например, данный в одном из писем 1942 года подробный пересказ книги малоизвестного социолога, посвященной теме будущего «возвращения в общество» буржуазного индивида, утратившего исконный человеческий инстинкт «к солидарности и единению», лежащий в основе «первобытного коммунистического общества» и побежденный затем «стремлением к обособленности
18
и к власти», тоже исконно человеку присущими. «Социальные побуждения» человека «первобытного коммунистического общества» будут возрождены на более высокой стадии человеческого общества, которая — как считает автор этой концепции — наступит «без потрясений» и будет лишена недостатков существующих ныне общественных систем.
Манна, однако, не интересуют эти «прогнозы». Ясно отдает он себе отчет и в том, что книга эклектична: автор «многое заимствует от Гегеля, Маркса, Ницше, Фрейда… так что создается впечатление, что из нескольких великих книг сделана одна, не плохая, но посредственная…»1 Внимание Манна-читателя тем не менее привлекает разнообразие подходов к человеку, которое здесь, хотя и на эклектической основе, продемонстрировано: биологическая, палеонтологическая, психологическая, антропологическая аргументации сочетаются, констатирует Манн, с историческим подходом: «Человек, — цитирует он, — есть историческое существо, которое содержит друг на друга накладывающиеся психологические слои, образующиеся в разных исторических формациях…» и т. д.2
Впрочем, как ясно из дальнейшего, и многогранность подходов интересует его не «вообще», а применительно к «психологическим напластованиям» вполне определенного периода: заслугой автора, считает Манн, является характеристика «психологии фашизма» как формы вырождения еще оберегавшего христианские ценности капиталистического империализма.
Мы так подробно остановились на разборе этого малозначительного произведения, потому что он свидетельствует: «метафизическая» обобщенность рассуждений у Манна существует в контексте порою даже обнаженно-социологических размышлений. Понятия «человек», «жизнь» были для Манна всегда очень широки, но никогда не абстрактны, не внеисторичны.
Одобряя тенденции рассматривать человека во многих и разных «измерениях», возвращаясь к доисторическим «первоосновам» — к мифу, преданиям, погружаясь в глубины психологии и биологии, Т. Майн не терял из виду исторической сути понятий «жизнь» и «человек». И уже эта органично присущая ему историчность мышления отделяет Манна не только от Ницше, но и от философии экзи-
19
стенциализма, о которой он специально не писал, но объективно (порою, может быть, даже невольно) полемизировал с ее сторонниками и в теоретических своих высказываниях, и творческой своей концепцией.
«В силу тех дерзновенных опытов, которые он (человек. — М. К.) в последнее время произвел над самим собой, проблема человека приобрела своеобразную актуальность; вопрос о его природе, его происхождении, цели его жизни повсюду пробуждает некий нового свойства «гуманный» интерес — понимая слово «гуманный» в… освобожденном от оптимистических тенденций значении»1 — так писал Манн еще в «Очерке моей жизни» (1930).
Ставя слово «гуманный» в кавычки, говоря с горькой иронией об «освобождении» этого понятия от «оптимистического» значения, Т. Манн имел в ту пору в виду прежде всего многообразно сказывающиеся во всех сферах идеологии мрачные предвестия фашизма. Именно в этом же плане нужно понимать саркастическое замечание о «дерзновенных опытах», которые человек «в последнее время произвел над самим собой». Вместе с тем наблюдения Т. Манна распространяются не только на какой-то определенный период, и горький его сарказм адресован не только непосредственным «инициаторам» страшных экспериментов по обесчеловечиванию человека.
Автор «Будденброков», «Волшебной горы», «Иосифа и его братьев», «Доктора Фаустуса» прекрасно отдавал себе отчет в том, что процесс «расчеловечивания» человека протекал не только в период господства «человеконенавистнического режима»2, но в иных, «мирных» формах давал о себе знать и в начале века, и в последнее десятилетие его — Томаса Манна — жизни.
«…Критика преломляется в призме жизненного опыта маленького Ганно… школа нужна здесь автору лишь как символический заменитель самой жизни с ее издевательски жестокой обыденностью…»3 — говорит автор «Будденброков». А в строках, воссоздающих атмосферу эпохи перехода от «Волшебной горы» к «Иосифу», речь идет уже о «жестокости» не «обыденности», а «нашего времени»—времени «исторических потрясений, причудливых поворотов личной жизни и страданий, поставивших перед нами вопрос о человеке, проблему гуманизма во всей ее широте и возло-
20
живших на нашу совесть столь тяжкое бремя, какое, наверно, не знало ни одно из прежних поколений»1.
В этих словах очень полно передано восприятие Манном не только атмосферы конца 20-х — начала 30-х годов, но и последующих десятилетий. Манном владеет «моральная обеспокоенность» за человека, вернее, за его стойкость, сопротивляемость. Современный человек, ввергнутый самой историей в трагическую ситуацию, — окажется ли он на высоте возлагаемой на него ответственности? Сможет ли он не просто уберечь, по активно защитить основы человечности, культуры, творчества? И вообще: применимы ли к современному человеку, к современной жизни восходящие к трагической атрибуции понятия ответственности, вины, непримиримости столкновения, готовности понести кару за поступок?
Эти продиктованные «духом времени» вопросы составляют проблематику и лежат в основе новаторской формы центральных произведений Манна-романиста.
От «революционного» обновления структуры и форм социально-психологического романа, в центре которого стоит проблема самоопределения личности в ситуации выхода из окружающих обстоятельств и выбора своей судьбы[2], — к роману, прослеживающему становление нравственно-ответственной личности и созидающему форму трагического конфликта в системе новейших форм эпического повествования,— такова логика внутреннего развития от «Будденброков», «Королевского высочества» и «Волшебной горы» к «Иосифу и его братьям», «Лотте в Веймаре» и «Доктору Фаустусу».
Поступательность этого развития органически сочетается, как мы уже говорили, с осуществлением сквозных тематических и проблемных линий, что особенно ярко и характерно подтверждено самим фактом создания такого романа, как «Признания авантюриста Феликса Круля», необычного по своей творческой истории и хронологически, так сказать, «нейтрального».
Зато с точки зрения развития единого сюжета манновской мысли именно «Признания авантюриста» и примыкающий к ним «Избранник» образуют совершенно органичный «пролог».
В них не развивается проблема социального и нравственного человека в тех сложных аспектах, которые явля-
21
ются содержательными и формообразующими центрами других романов. Социальное и нравственное присутствуют в них в плане обоснования самого понятия «человек» как простейшие и основополагающие начала, как то, что делает человека человеком.
Вместе с тем «Признания авантюриста» и «Избранник» были тем «плацдармом», на котором Манн защищал роман как форму адекватную социально-этической концепции человека по самым исконным своим традициям и демонстрировал неограниченность ее познавательных возможностей и формального обновления.
Широко и смело использующий приемы и формы условности «Избранник» и воспроизводящий жизнь в формах реальности «Авантюрист» — органичность этого «соседства» типична для метода Манна.
Романы Т. Манна принадлежат к тем произведениям XX века, в которых «приметы» эпохи присутствуют далеко не всегда прямо и непосредственно. Стилизация, условность и другие средства нарочитой завуалированности действительности XX века — настоящего «адресата» содержащейся в произведениях социальной критики — служили средством проникновения в скрытые процессы общественной жизни и человеческого духа.
Принцип условного и нарочитого «ухода» от действительности по сути своей очень стар, традиционен для реализма, хотя манновский путь его претворения и рождаемые на этом пути формы произведений отличаются неповторимой оригинальностью. В них именно вместе, «разом» говорят эпоха и индивидуально-неповторимое писательское «я».
Духом времени в широком смысле слова проникнуто все творчество Манна — новеллы, публицистика, критика, воспоминания о современниках, письма. И все же роман — основное, виртуозно освоенное и излюбленное орудие манновского творчества — несет в себе самое глубокое и последовательное постижение человека и эпохи. Именно «в себе», то есть во всех компонентах постоянно обогащаемых, обновляемых форм, служащих решению проблемы человечности человека XX века.
Все творчество Т. Манна, и особенно его романы, — очень значительное явление западноевропейской литературы нашего века. Произведения Манна вовсе не «отходят», как говорят иногда, в прошлое, а, напротив, именно в наши дни вполне раскрываются в основной для них нравственной
22
идее, которая в конечном счете обусловила и вобрала в себя все напряженные авторские искания в области творческих принципов, идей и формы.
Совершенно очевидно, что за последние годы и в самой литературе, и в ее изучении приобрели особое значение нравственный аспект художественного исследования человека, этический принцип в эстетике реализма, то есть те начала, которые так глубоко чувствовал Манн, в специфической акцентировке которых он усматривал условие самого существования искусства вообще и искусства XX века особенно.
Как раскрывалась, обогащалась идея нравственного человека в творчестве самого Манна, во многом определяя художественные принципы, содержание и формы каждого его романа и ведя к углублению познавательных возможностей, художественного совершенства его произведений и росту вклада, вносимых им в общее достояние реализма XX века, — все эти вопросы могут быть освещены лишь в процессе анализа самих произведений. Предваряя его, подчеркнем еще раз, что стремление к постижению человечности человека и вся связанная с ним этическая проблема не отделялись у Манна от общих познавательных задач его романов, никогда не обращались в некую самоцель. Сфера этическая была в равной степени связана для Манна как с эстетической, так и с социальной и идейной сферами его романов и искусства, литературы вообще.
Надо сказать, что именно «повороты» исканий, связанные со столь важной для Манна проблемой человечного человека и идеей гуманизма, наводят на мысль о бо́льшей, чем это часто представляется, сложности его отношений к литературе критического реализма XX века и, в частности, к той современной ее линии, близость с которой, казалось бы, очевидна.
В произведениях немецкой и вообще западной реалистической прозы последних десятилетий (Беля, Вальзера, Фриша, Апдайка, Воннегута, Грина) вновь и вновь поднимается вопрос об ответственности человека за свои поступки и решения в условиях фашизма. Причем заостренность нравственного аспекта стимулирует интенсивность исканий новых, не только формальных, но и содержательных решений. Формальная перестройка ведет к утверждению гуманизма как «вечно бодрствующей, неугасимой и неистребимой любви к человеку, веры в него и надежды на счастье, которое ему уготовано» — по точному определению иссле-
23
дователя современного романа1. Причем справедливо подчеркивается, что так понимаемый гуманизм и складывающиеся на его основе нравственные идеалы восходят к Достоевскому2.
Знаменитое рассуждение Ивана Карамазова о желании жить «вопреки логике», но во имя любви к «клейким распускающимся весной листочкам» и т. п., проникнутое пафосом ценности каждого человека и каждой человеческой жизни, действительно близко гуманизму «неистребимой» любви, который во многом определяет нравственный идеал, так или иначе воплощаемый в современных романах соответствующего «ряда». Но именно на этой почве может, нам кажется, обнаружиться принципиальность тех расхождений, которые отделяют роман Манна от этого отнюдь, конечно, не чуждого ему, но вместе с тем и не безусловно близкого «специфического ответвления»3 современного романа.
Вопрос об отношении манновского романа к литературе современного критического реализма, то есть проблема преемников, не будет предметом нашего рассмотрения. Мы лишь коснулись ее, желая подчеркнуть, что важная для Манна проблематика имеет самые разные преломления на протяжении последних десятилетий; но неправомерно было бы замыкать Манна в пределы любых ответвлений современного романа. Ибо при таком закреплении манновская проблематика не сможет раскрыться в самых сильных, смелых и оригинальных своих чертах.
Заканчивая затянувшуюся вводную часть работы, повторим сказанное с самого начала: останавливаясь на сравнительно узкой теме, мы опираемся на богатый опыт изучения творчества Т. Манна в нашей и зарубежной науке. Принципиальное несогласие с общими концепциями творчества Т. Манна и освещением отдельных его произведений возникает, когда обращаешься ко многим западным исследованиям. Вместе с тем очевидна ценность их отдельных наблюдений[3], особенно наблюдений над формой, которые порою как бы «заслоняют» и отодвигают на задний
24
план общие, с нашей точки зрения[4] неплодотворые, взгляды авторов1.
Не вступая в непосредственную полемику, мы вполне ощущаем полемический по отношению ко многим зарубежным ученым «поворот» своей темы, отраженный уже в подзаголовке: «формы и метод». В попытке последовательно проследить на анализе текста произведений органичность взаимосвязи этих понятий, нередко вовсе не признаваемых в таком их объединении, мы видим одну из основных задач своей работы.
Произведения Манна-эпика дают возможность последовательно прослеживать органическое единство присущих писателю принципов познания жизни и человека, сложно преломляющих его идейную позицию и миросозерцание в целом, и создаваемой на их основе художественной системы, вплоть до отдельных форм и средств каждого отдельного произведения. Именно этой последней реализуются осуществляемые художником познавательные задачи, именно она «обеспечивает» доступный ему уровень глубины проникновения в жизнь, утверждая вместе с тем нравственный идеал писателя, определяя силу его эмоционального воздействия на читателей. Иначе говоря — метод не навязан творчеству писателя как некий внешний, непричастный его сути «придаток». Он неотделим от творчества, от каждого отдельного произведения — от всей совокупности форм той художественной системы, которая осуществляется на его основе. Произведения любого настоящего художника реализуют главную свою мысль, центральную концепцию именно в этом единстве: формы и метод.
Потому, нам кажется, приобретает принципиальное значение учитывающее все особенности формы прочтение текста произведений, которое можно, не претендуя, разумеется, на терминологичность[5], назвать «микроанализом».
Задачу своей работы мы видим не в пополнении фактических сведений, которыми располагает наука о Т. Манне. Скорее — в демонстрации возможности раскрыть доступную реализму Манна глубину постижения современного человека в процессе изучения отдельного произведения.
1. Преодоление кризиса
средствами «точного слова»
В статье «
«В наши дни, — замечает Т. Манн, — вовсе не надо быть героем-одиночкой, для того чтобы, выбросив за борт всевластный в XIX веке авторитет науки, положиться вместо знания на «миф», на «веру»… все это стало массовым явлением, но это не шаг вперед, а сто шагов назад…»2
Говоря о «массовости» увлечения «верой» и «мифом» в противовес идеалам прошлого века, Манн в какой-то мере имеет в виду зараженную духом фашистской идеологии низкопробную литературу. Но этим отнюдь не исчерпывается смысл его размышления. Данная им характеристика относится к общей атмосфере духовной жизни западного мира XX века, подразумевает и философию, и музыку, и судьбы романа.
Каждый современный писатель, — считает Манн, — сводит так или иначе счеты с этими симптоматическими для эпохи «массовыми явлениями».
Современная литература, считает он, прокладывает себе дорогу не «над» и не «в обход», а «сквозь» них.
Плодотворной для художника Манн считает такую позицию, которая, не принимая нигилизма по отношению к прошлому, но и не возвращаясь к нему, «ищет истины,
26
свободы и знания». Идеал этот «нельзя назвать ни старым, ни новым, ибо он вечен, как род человеческий»1.
Согласно Манну, поступательное развитие современной литературы обязательно предполагает следующие друг за другом шаги: ту или иную форму вторжения в область явлений, которые стали фактом современной духовной и литературной жизни, хотя и не знаменуют «подлинный прогресс»; «сразу же» происходящее отталкивание от них — поиск новых идей и форм на основе познания, что свобода и истина остаются идеалом искусства, так же как идеалом человека и человечества.
Отказ от характерного для XIX века «авторитета науки» и ставка на иррационализм в тех или иных его проявлениях сочетаются, считает Манн, с многообразными формами «имморализма» и деформацией художественной формы. Отделяя самого Ницше от его «продолжателей» в области и политики и литературы — Манн вместе с тем видит в нем фигуру, возвестившую о том, что имморализм и иррационализм станут типичными «спутниками» в развитии научной мысли и искусства XX века. Впрочем, здесь Манном тоже проводится четкая градация: научные изыскания Фрейда в области психологии или мифологии решительно отделяются им от реакционных спекуляций, которые предпринимаются философами и писателями на основе тех или иных заимствованных у него аспектов2.
Таким же образом отделяет Манн нарушающие традиции музыки XIX века эксперименты Вагнера, которые кажутся ему содержательно обусловленными, исторически закономерными, от той интерпретации, которую они получают даже у такого в общем приемлемого для него философа, как Т. Адорно3. И шумное «возрождение» Кафки, которое Манн связывает с теми же стремлениями увести человека за пределы рациональных и социальных «измерений» и над которым иронизирует, тем не менее тоже отделяется им от самого Кафки, то есть от некоторых сторон того «гуманистического (то есть критического. — М.К.) пессимизма», который составляет продуктивную сторону лучших его произведений4[6].
27
Т. Манн, как мы уже гоолорили, совсем не склонен к сокрушительным декларациям и «громкой» полемике с представителями модернистской мысли и искусства. Напротив, он всегда воспринимает их как явления противоречивые, сложные, многосторонние. Но это не исключает того, что Манн, во-первых, с большой отчетливостью видит реакционность социально-политической природы долголетнего «содружества» имморализма и иррационализма, которое осуществляется на пути отхода от «устаревшей» гуманистической концепции человека и истории; и, во-вторых, настойчиво и последовательно ищет не столько философско-теоретических, как практически-эстетических решений, этому «содружеству» противостоящих.
Можно сказать, что все его творчество и, прежде всего, все крупнейшие его романы несут в себе эти решения. Однако в последних произведениях — в «Избраннике», в «Признаниях авантюриста» — преодоление явлений «кризиса» в воззрениях на человека и роман, стремление продемонстрировать беспредельность новаторских возможностей формы при сохранении принципа изображения человека в его социальной обусловленности, становится основной, самодовлеющей задачей.
Подчеркивая «игровой», экспериментаторский характер этих произведений, особенно «Избранника», во многих своих высказываниях, Т. Манн не однажды навлекал на себя упреки за уход с путей реализма и, полагая, что не только все его творчество, но и эти последние произведения с достаточной очевидностью свидетельствуют об обратном, не пытался рассеять подобных мнений. Более того: в «Избраннике» Манн прямо вторгается в сферу «веры», а в «Признаниях авантюриста» не только делает своим героем личность антиобщественную, но и избирает форму повествования от лица рассказчика, как бы подчеркивая свою авторскую «нейтральность».
По всему этому кажется, что Манн «идет на сближение» с теми
«массовыми явлениями», которые критически отмечал в статье «
Прежде всего, конечно, своими принципами познания человека и жизни, характерными для всех его романов.
28
Ибо «реалистическая природа его творчества сказывалась прежде всего в том, что подосновой художественных обобщений Манна был социальный анализ, позволяющий ему проникать в суть общественных причин, предопределяющих многоплановое движение жизни, и прослеживать их воздействие на человеческие помыслы и поступки»1. Манн верит и утверждает эту веру творчеством, что художественные возможности искусства социального романа — неиссякаемы. Он может вторгаться в любые сферы жизни, избирать любой предмет изображения и подчинять его задаче познания современности, анализу души современного человека путем открытия художественных форм и средств, этой задаче соответствующих.
Каким же художественным средством намеревается воспользоваться автор «Избранника» и «Признаний авантюриста», чтобы преодолеть то сближение с противником, — в предмете изображения, темах, форме повествования, психологии героев, — которое допускает? Ответ на этот вопрос мы попытаемся получить в результате анализа самих произведений. Но предварительно напомним об отношении Манна к свойствам слова и речи.
«…Чувствительность наблюдения, — пишет Т. Манн в ранней статье по поводу «Будденброков», — проявляется и выражается… в… «критической точности» слова… Вот он — источник холодной и неумолимой точности обозначения, та натянутая и дрожащая от напряжения тетива, с которой вот-вот слетит слово…»2
Еще более страстное упование на «критическую точность» слова», на «очистительную святыню языка, хранителя национальных традиций», ответственность за который носит не только эстетический, но и «общий нравственный смысл»3, выражено в знаменитой «Переписке с Бонном» по поводу лишения Т. Манна почетного звания доктора Боннского университета.
О реализации огромных возможностей стилевых оттенков слова в плане утверждения общечеловеческих, нравственных идеалов Манн говорит в связи с работой над «Иосифом». А после завершения «Избранника», «Фаустуса» и на последнем этапе работы над «Признаниями аван-
29
тюриста» Т. Манн в «Слове о Чехове» выразил мысль «о связи между… мастерством формы и… морально-критической чувствительностью писателя к духу времени» особенно проникновенно и глубоко1.
Вера в критически-оценочную природу самого слова, если это последнее мобилизовано художником в присущих ему потенциях, многое объясняет в той весьма содержательной и остро полемической «игре», которую осуществляет Т. Манн в последних своих романах.
Новейшие
„комплексы“
в свете старой фабулы
«…Мой стилизующий и играющий в стилизацию роман, эта последняя форма, в которую вылилась легенда о Григории, чист в своих помыслах и бережно сохраняет ее религиозную сердцевину, ее христианскую мораль, идею Греха и Милосердия», — писал Т.Манн в «Заметках о романе “Избранник”»2.
Так, в манере повествования, характерной для самого романа, Манн говорит об особом значении, которое приобрела в нем стилизация старой фабулы как сердцевина нравственной идеи произведения, как источник чистоты, наивности и однозначности оценки.
Авторские заметки об «Избраннике» намечают очень характерный для этого романа своеобразный «дуализм»: с одной стороны, достигаемое средствами искусной стилизации «оживление» старой фабулы во всех житейско-реалистических, сказочных, высоких и наивных ее моментах; с другой стороны, использование всех средств, которые «накопило за семь столетий искусство повествования, стремясь к передаче движений человеческой души»3.
Эти, казалось бы, несовместимые начала не только не приводят к «распаду» произведения, но составляют основу его цельности.
Направляемая уверенной рукой мастера, эта кажущаяся «несовместимость» с поразительной пластичностью вы-
30
ливается в форму, адекватную задаче: осветить сложность душевных движений человека светом исконных, простых нравственных требований; и одновременно: восстановить престиж фабульных перипетий, характерных персонажей, четких линий конфликта в противовес изощренным средствам аморфного психологизма.
Исполнение этой задачи на почве реставрации старой фабулы, разумеется, требовало от Манна использования средств стилизации и приемов новейшего повествования. Но эти подвластные ему «стихии» стиля и повествования мобилизовывались таким образом, что не заслоняли старую фабулу и образ старого рассказчика при исследовании нравственного потенциала современного человека.
«Жизнь человеческая течет по избитым образцам, но она стара и косна только в словесном обличье, сама по себе она всегда нова и молода»1, — рассуждает манновский рассказчик — ирландский монах Клеменс, приступая к повествованию о Грегориусе. Грех будущего папы состоял в том, что он был рожден от брата и сестры, а потом сам стал мужем собственной матери. Искупив все это тяжелым испытанием, Грегориус был прощен.
На первый взгляд кажется, что роль рассказчика в новом романе Т. Манна вполне ясна: следует, согласившись с собственным комментарием автора, видеть в этом образе один из компонентов стилизации, то есть чисто условную маску, за которой настоящий автор, как явствует, например, из приведенных выше строк о вечно обновляющейся жизни, либо вовсе не пытается прятаться, либо прячется в целях самой откровенной иронической игры. «Не лучше ли было мне, — размышляет, например, рассказчик, — с благочестивой обстоятельностью изложить историю Бенедикта и Схоластики?..» Или такое, в форме прямой имитации эмоциональное вмешательство: «Я, Клементий, воздаю хвалу содеянному премудростью божьей!..» и т. п. Но по мере углубления в текст «Избранника» становится очевидным, что функции рассказчика здесь чрезвычайно сложны и многогранны.
В функциональном плане образ Клементия призван служить, с одной стороны, «усилению» эмоционального воздействия на слушателей излагаемой им необычной, гре-
31
ховной и страшной судьбы, с другой стороны, быть столь же своеобразным возбудителем специфической читательской активности: провоцировать читательское несогласно с нарочито прямолинейным и наивным освещением той или иной сложной психологической ситуации и тем самым способствовать пониманию ее истинного, нарочито вуалируемого смысла. Позиция повествования аргументирована характеристикой повествователя: он наделен недалекостью и добросердечием, склонностью к созерцательности, наблюдательностью ума, практической неискушенностью, наивностью, стихийной демократичностью.
Так, в «стилизаторском» эксперименте, «в романе конца» — «позднем» во всех отношениях «Избраннике», образ рассказчика сложен по функциям и полнокровен в характеристике. И уже это предварительное наблюдение не может не навести на мысль, что рассказчик отнюдь не призван служить орудием растворения художественной плоти характера и конфликта в стихии иронического, релятивистского повествования, а скорее выполняет прямо противоположную миссию. Обладая принципиальной содержательностью, рассказчик «Избранника», как мы попытаемся показать, решает вполне самостоятельные, новые, сложнейшие художественные задачи.
«Дух повествования… вводит читателей и слушателей куда угодно, даже в одиночество своих сотканных из слов героев и в их молитвы. Но он умеет также молчать и застенчиво опускать то, что, по его мнению, вовсе не стоит воспроизводить, а лучше спрятать в тени безмолвия…» — таково одно из рассуждений рассказчика, в котором явственно звучит мотив о праве повествователя на тенденциозную выборочность, на заявление о своем «я» не только путем эмоциональных, почти невольно вырывающихся комментариев, полностью диктуемых действиями и помыслами центральных героев, но и путем организации самого хода повествования.
«…Опускать то, что, по его мнению, не стоит воспроизводить…» Что же именно и почему не стоит воспроизводить? Ответ дается незамедлительно: «…во-первых, описания любовных сцен не приличествуют… сану и облачению»; во-вторых, то, что не приличествует подлинной вере, а именно рассуждения, прибегающие к «избитому доводу, что-де для бога нет невозможных и непосильных чудес. Такое доказательство, — утверждает Клементий, — было бы, конечно, неопровержимым, по слишком дешевым».
32
Уклоняется, кроме того, рассказчик от подробных живописаний батальных сцен и торжественных церемоний, тоже ссылаясь на свою неосведомленность и непричастность к светской суетности. Так характеристика рассказчика — облик не лишенного гуманистической широты и душевной глубины «служителя бога» — обосновывает «тенденциозность» повествования, конкретизирует его границы, выделяет (методом исключения) основную коллизию.
Эдипова основа, о которой упоминает Т. Манн в своих «Заметках к роману», предстает свободной от сублимации эротического мотива, ставшего в пору создания «Избранника» особенно модным в модернистских кругах, христианская основа средневековой легенды умеряется в своей тяге к чудесам и мистическим глубинам. На первый план выступает нравственное и социальное начало мифа. Однако они весьма своеобразным образом маскируются. Эдипов комплекс, фрейдистские оттенки психологизма подчеркиваются порою с большой рельефностью, служа лукавой авторской цели: создать как бы «ложную демонстрацию» позиции отказа от традиционного романа, на которой якобы стоит автор «Избранника».
Сама избранная для стилизации фабула и нарочито подчеркнутый философично-иронический подход к ней — мы убеждаемся в этом даже на первых эпизодах романа — призваны провокационно навести на мысль, что автор идет в русле мифологической экзистенциалистской оппозиции к существующим представлениям об особенностях сюжета, героя и конфликта социального романа — некогда столь несомненного, а ныне ставшего столь «проблематичным» жанра. Но при ближайшем рассмотрении, как показывают те же первоначальные эпизоды «Избранника», пародийно-стилизаторские начала повествования предстают иным образом: они не только не размывают стержневую для романа коллизию, но подчеркивают и оттеняют ее. Отсюда — и сохранение фабульной целостности. Манновская стилизация и пародия не разрушают исконную фабулу и определенный тип конфликта, заимствованные из первоисточника. Скорее можно сказать, что они как бы довершают старую постройку. В том смысле, что выявляют и обнажают самое ядро «старого» конфликта или выделяют соответствующую авторской мысли определенную его ветвь, с тем чтобы предельно углубить и ориентировать на современность заключенную в нем непримиримость проти-
33
востояния. Все это достигается именно повествованием, «духом повествования» — утверждением специфических функций специфического рассказчика, аргументированных его специфической характеристикой — то есть атрибутами той формы, которая выдается (и провокаторские «саморазборы» художника порою используются в качестве довода в пользу такой оценки) за изящную и бесцельную игру в мифотворчество.
«Ведь в гордыне, о горемычнейшая и любимейшая, состоял наш грех, в том, что мы ничего в целом свете знать не желали, кроме самих себя, столь избранных и особых детей… долю вины несет и господин Гримальд… он весьма по-рыцарски обходился с тобою… и часто ревниво прогонял меня от тебя, а это и погнало меня к тебе в постель. Ах, к чему все эти мои слова? С кем бы мы ни делили свою вину, мы оба обречены — здесь на позор, а там на адский огонь». Самопризнание Вилигиса — родоначальника мрачной цепи кровосмесительных связей и неискупимой греховности — звучит как речь растерявшегося ребенка.
Такое звучание речи, говорящей о темном и низменном, — результат виртуозного обращения со словом1, подвластным мастеру во всех тончайших оттенках звучания. В этом смысле можно сказать и «игра», имея в виду полноту власти над материалом. Более того — есть в этой речи (и это характерно для произведения в целом) и элемент двусмысленной пикантности, идущей от почти слитного звучания противоположных интонаций: парадоксальность соединения инфантильности и умудренности. Но во всей этой изощренной словесной вязи, выражающей, казалось бы, безвыходную путаницу противоречивых чувств и хаотических мыслей, есть точный ориентир: сама фабульная ситуация, требующая решения и действия.
Игра в речевые парадоксы не может быть самоцельной уже потому, что в «Избраннике» нет речей персонажей, не направленных к решению, свободных от задач самым непосредственным образом созидать ту или иную стадию конфликта. Собственно повествовательное, «мирное» течение фабулы постепенно как бы сгущается в «драматические узлы», и соответственно этому в отдельных речах героев эмоции, самоанализ, размышления совершенно не-
34
посредственно подчинёны необходимости сделать выбор, принять решение.
«Ах, к чему все эти мои слова?» — восклицает Вилигис. И это очень точная характеристика речей романа: каждая из них к чему-то направлена и предназначена; этот по природе своей драматический принцип строения речей пронизывает все повествование.
Даже в речи, казалось бы, целиком захваченной чувственностью и отчаянием, ощущается стройность и рациональность. Эмоции укрощены анализом, оценкой и самооценкой. Тональность речи, при всем богатстве ее оттенков, подчиняется началу разумного и точного слова: словуопределению, слову-выбору, слову-решению. Интонации двусмысленные, инфантильно-неопределенные в конце концов образуют лишь контрастный фон рациональному звучанию и содержанию речи: познанию происшедшего и меры своей вины, — самопознанию. Именно в речи «родоначальника греха» Вилигиса определяется или, вернее, подтверждается трагическая непримиримость коллизии; и здесь же обнаруживаются те ее новые аспекты, которые станут главными для романа — этический и социальный.
Кастовая изолированность со всеми пороками, извращениями и предрассудками, на ее почве взрастающими, — эту причину греха «скверные дети» назвали и охарактеризовали своим своеобразным языком («…мы никого в целом свете знать не желали, кроме самих себя»), и она вообще так или иначе постоянно присутствует в произведении. Но этот традиционный аспект — изображение окружающих обстоятельств как предпосылки, детерминирующей судьбу и личность героев, — отнюдь не исчерпывает социальное начало данного романа. Недаром их ссылки на обстоятельства как причину своих пороков — не бесспорно справедливы, недостаточны, не исчерпывающи. Социальность трактуется в манновском романе в самом широком плане: как то начало, которое делает человека человеком, формирует его духовно, нравственно, отделяет от природы и вооружает против своих собственных низменных инстинктов.
С самого начала романа, с момента образования коллизии, социальное начало предстает в нем в антиномии с природным как низшим и низменным. Ибо сущность коллизии как раз и сводится к столкновению тех нравственных понятий и тех взаимных обязательств, которые приобрета-
35
ются людьми в общении друг с другом (то есть в результате социального опыта в самом широком смысле этого слова), и власти тех природных стихий, которые владычествуют над каждым человеком в отдельности, предопределяемые самой природой, коль скоро она не прояснена, не облагорожена, предоставлена самой себе.
Вот именно этот момент напряженного единоборства природного и социального, при самом широком истолковании последнего понятия, определяет своеобразие «прочтения» Манном мифа о Григории и полемическую остроту его истолкования, направленную против модернистских концепций человека, лишающих его и социальных и нравственных основ.
В «Избраннике» сам миф истолковывается как противоречивое единство низменного и высокого, темного и светлого, чувственного и разумного. Двойственным предстает тем самым и человеческое как таковое. Оно тоже состоит из враждебных начал, так или иначе воплощаемых, во всей напряженности своего противостояния, и в уже намеченном нами своеобразии позиции рассказчика, и в его характеристике, и, конечно, особенно впечатляюще — в стиле речи персонажей, непосредственно раскрывающих соотношения стихийно-эмоционального и разумно-аналитического, природного и социального. В какие-то моменты повествования они прямо выводятся на поверхность, формулируются в комментариях рассказчика: «Мой дух не хочет помириться с природой, он ей противится, — восклицает рассказчик, повествуя о встрече матери с сыном, — Она от дьявола, ибо ее безразличие не знает предела… природа, которую многие называют матерью и богиней… равнодушна к себе самой…»
Но подобные прямые авторские декларации не характерны для повествования. Противление «госпоже природе», так же как постепенное осложнение и уточнение этого образа-понятия, происходит органически, в ходе формирования многих звеньев повествования и моментов конфликта. Именно это определяет своеобразие всего строя романа, управляет внутренним его движением.
Согласно фабуле легенды, которая сохраняется Т. Манном во всех деталях, Вилигис, чтобы искупить свою греховную любовь, отправляется в крестовый поход и погибает, после чего Сибилла дает клятву не принадлежать никому другому. Это ее решение становится источником многолетней кровавой войны, так как домогающийся супружест-
36
ва герцог соседней державы решил покорить неприступную красавицу силой оружия. При этом ни двор, ни народ, ни бог «не могли ничего возразить» против столь добродетельной стойкости.
Однако «Дух повествования» — новый, изощренный в средствах и формах, умудренный новым историческим опытом и новыми проявлениями человечности и бесчеловечности рассказчик старинной трагической легенды — оказывается способным извлечь более глубокий смысл из решения, принятого безутешной Сибиллой. Самый момент, когда страшная весть о гибели Вилигиса ее настигла, изложен в романе так: «Она выслушала рассказ пажа о том, что случилось с его господином, и молвила: «Хорошо». Ничего хорошего в этом «хорошо» не было. Такое «хорошо»… словно бы говорит: «Как тебе угодно, господи, — а я извлеку вывод из твоего приговора, для меня неприемлемого… Отныне я вообще не буду женщиной, а буду навеки оцепенелой невестой боли. Я так замкнусь в себе, так ожесточусь, что ты подивишься». Здесь снова решение как момент конфликта нерасторжимо слито с оттенком слова. На этот раз содержательная значимость последнего развернуто прокомментирована: богобоязненный рассказчик, не лишенный вольнолюбия, втайне любуется независимостью, прозвучавшей в Сибилловом «Хорошо»: «…я ничуть не подвержен подобным бедам. И все же я рад, что повесть моя позволяет мне отведать от них и что я в каком-то смысле их познаю». Но «богоборческий» оттенок, подмечаемый рассказчиком в ответе Сибиллы, подавляется в нем же содержащейся интонацией мрачного, мстительного и бесплодного ожесточения против всего мира. И, в общем, ее решение, несмотря на сложную гамму нюансов, означает вполне недвусмысленную победу этого последнего звучания: Сибилла утверждается в кастовой изолированности, обрубает все социальные связи, что уже само по себе создавало предпосылки, при равнодушном попустительстве «госпожи природы», для нового погружения в бездну порока. Противоборствующее начало — социальная критика, духовность — здесь фактически безмолвствует.
Особого драматического напряжения конфликт достигает после вступления на сцену главного героя романа — сына Вилигиса и Сибиллы.
На второй неделе от роду «рожденный в грехе» был уложен в парчовые ткани, снабжен золотом и табличкой с письменами, гласящими о знатности и намекающими на
37
неблагополучие его происхождения, и брошен в засмоленном бочонке в морские волны. Рискованное путешествие это протекает, как и все внешние перипетии фабулы, в полном соответствии с легендой: бочонок, выловленный моряками, попадает в руки настоятеля монастыря, расположенного на уединенном острове. Младенец получает имя Грегориус и отдается в многодетную семью одного из своих спасителей, с тем чтобы потом стать монахом. Образование, получаемое в монастырской школе, в которую определил Грегориуса крестный его отец — настоятель, а также врожденное изящество внешнего облика выделило юношу из окружающей среды. Конфликт со средой, типичный для традиционного романа, не стал, однако, в центре повествования о «годах учения» героя «Избранника». Предпосылки конфликта и сложны и многозначны; соответственно сложны и воплощающие его формы. Ни в расстановке персонажей, ни в их характеристике, ни в их речах нет прямолинейной четкости и выделения одного-единственного узла противоречий. Как часто бывает у Манна, характеризующие строение романа новые черты выведены на поверхность в одном из его эпизодов.
Флан — молочный брат Грегориуса, —вызывая его на решительное единоборство, затрудняется определить реальную причину своей вражды к брату, но речь его очень выразительно передает сложность соотношений и противоречий между социальностью в широком и узком смысле, а также между природным и животным началами, лежащими в основе характеристик и отношений между героями. «Будь ты этаким святошей… обабившимся монашком, хилым и немощным… я тебя не трону… Но ведь ты, как вор, добываешь откуда-то мощь, и в играх ты так же искусен, как я, в точности так же, как я, хотя я силен своей силой, а ты — своей нежностью,— этого не стерпеть честному парню, и поэтому я говорю: «Нам пора посчитаться… в простом кулачном бою и до решительного конца». Вражда Флана порождена, с одной стороны, непониманием природы «силы-нежности» Грегориуса, ибо источник ее — недоступная ему духовность («величайшая собранность», как определена она на языке рассказчика); с другой стороны — подсказанной инстинктом уверенностью, что секрет силы Грегориуса — в принадлежности к высшей социальной касте. Невольно признавая чистоту одного из истоков силы-нежности: духовность так же сильна, как для всех очевидная
38
физическая сила,— сын природы и народа Флан ненавидит ее из-за второго ее источника — кастовости. Природное как таковое, то есть грубо-физическое начало, воплощаемое Фланом, осложнено в этой принципиальной для романа сцене вызова элементом духовным — вылившимся в критику чувством справедливости. И это типичное для романа нарушение четкости антиномии «дух — природа» предстает здесь как сочетание и взаимопереходы оттенков речи — наивной и мудрой, грубой и тонкой, злой и завистливой и вместе с тем прямодушной и справедливой. Характерно, что речь Флана перекликается с речью другого персонажа, произнесенной совсем при других обстоятельствах. «…Ты вносишь в мир беспорядок и путаницу»1, — говорит Флан. «Вот какой беспорядок и смуту внесли вы, неразумные, в мир божий», — говорит господин Эйзенгрейн Вилигису и Сибилле2. Это совпадение — как бы косвенная поддержка интуитивной догадки Флана о социальном источнике «особенности» Григорса. Повтор слов, возвращающих к сцене, предшествующей рождению Григорса, подкрепляет речь Флана неизбежно возникающими у читателя ассоциациями, вносящими в нее даже оттенок некоего обобщенного (как бы «гласа» многих) приговора. И еще одна столь же косвенная, но подчеркнутая деталь оттеняет истинность зерна противоречивой речи «честного парня».
В самом начале главы, посвященной поединку, без видимой связи с контекстом, описан перстень Григорса: «Между прочим, на указательном пальце правой руки он носил перстень с печатью, каковой недавно подарил ему его Отец во Христе, аббат, и на темно-зеленом камне коего был вырезан агнец с крестом». В решительный момент поединка этот «между прочим» упомянутый перстень сыграл немаловажную роль: удару, сломавшему переносицу Флана, придал особую тяжесть перстень с крестом и агнцем.
Соседство агнца и сокрушительного удара, креста и потока крови (да и то, что подарок, полученный от «Отца во Христе», определил фактическое неравноправие поединка) — все эти столь искусно введенные в повествование детали, несомненно, причастны неправой «путанице».
39
Положить ей предел Флан вознамерился, однако, не только примитивными, но и погодными средствами. Ибо, восстав против высокого происхождения Грегориуса и присущей ему в силу этого двусмысленности, Флан противопоставил ей лишь физическую силу — природное как таковое: «Флан… бросился на него, наклонив вперед голову, как бык… Это была сумятица неистовых кулаков, подергивающихся голов, растопыренных, упирающихся, топочущих ног, сталкивающихся, переплетающихся, выпрастывающихся и снова сплетающихся тел…»
Не просветленный духовностью разгул природных сил отвратителен и безобразен и тогда, когда происходит от утонченной порочности, и тогда, когда становится выходом для грубой непосредственности.
Зато прекрасно сочетание силы физической и духовной, даже иллюзорно, лишь в игре, лишь совершенно условно достигаемое их согласие, уравновешенность. «Григорс метал копье на редкость далеко… но затем, совершенно рядом, в землю, дрожа, вонзалось ратовище Флана, не дальше, однако же, ни на пядь и не ближе, —никакой судья не сумел бы тут установить чье-либо превосходство, как и в беге, когда они, завершали его в точности одновременно, едва дыша, хотя одного несли мускулисто-кряжистые, а другого — стройные ноги: они вместе касались грудью шнурка, и приходилось выкликивать сразу два имени, ибо победителей было двое».
Все это описание есть, по существу, апофеоз «силы-нежности» в том ее истоке, который по темноте своей не может ни понять, ни оценить Флан: апофеоз духовности, преодолевающей рафинированность, заявляющей о своей причастности ко всем сферам жизни.
С демонстративной, полемической остротой, направленной против принижений человека, духовность названа Манном силой и опоэтизирована не за возвышенность, не за одинокую стойкость, а именно за способность к самому непосредственному вторжению в жизнь.
Рассказчик говорит о неважности сцен состязаний и поединков, спешит уйти от «неподобающих для его сана» подробностей. Всей этой нарочитой смятенностью и уклончивостью речи достигается, конечно, оттенение особой значимости подобных эпизодов и для конфликта в его собственно фабульном течении, и для подспудно созидаемой коллизии природного и духовного начал в современной остроте ее поворота.
40
Не описание состязании, им сцена единоборства Грегориуса и Флана никак не могут быть восприняты в качестве отвлеченных социально-философских аллегорий. Но, оставаясь описаниями вполне бытовыми, вполне соответствующими общей манере рассказчика и логике развития фабульного конфликта, они вместе с тем привносят в эту конкретность оттенок самого широкого обобщения. Особенно ясно это ощущается в рассказе о спортивной игре-борьбе между Фланом и Грегориусом, имевшей место незадолго до их серьезной, роковой схватки.
«Флан, будучи сильнее, но не искуснее, быстро повалил Грегориуса, однако тот, упершись в землю ногой и руками и особенно головой, не давал положить себя на спину… видно было, что полупобеждениый скорее позволит проломить себе череп, чем перестанет упираться. Так длилось несколько минут… и за этот срок руки Флана набухли от усилия… Грегориус оттолкнулся от земли головой и ногой… и… подминая Флана под себя, бросил обвившего его брата на мятый дерн, так что лопатка противника чуть коснулась земли — но лишь на мгновенье, ибо сразу же, прежде чем следивший за ним судья успел выкрикнуть имя Грегориуса, Флан, не ослабивший натиска, снова повалил победителя и прижал его лопатку к траве: таким образом, он победил напоследок, а Грегориус сначала, и опять нельзя было назвать имени победителя, иначе как выкликнув то и другое», «…упершись в землю ногой и руками и особенно головой…»; «…полупобежденный скорее позволит проломить себе череп…»; «…руки Флана набухли от усилия…»; «…он победил напоследок, а Грегориус сначала», — значимость этих деталей явно не исчерпывается их буквальным смыслом.
Здесь и ассоциация с мифом об Антее, столь знаменательно переосмысленным, и выдвижение на первый план, с одной стороны, головы, с другой — рук, символизирующее источники силы противников, — все это является доказательством присутствия в романе содержания и образов, далеко выходящих за непосредственно фабульные рамки и несущих острые и глубокие социальные обобщения.
То, что Грегориус победил сначала, а Флан «напоследок» — звучит прежде всего преуведомлением[7] о сейчас же следующем за этой «спортивной репетицией» настоящем поединке[8]. Вместе с тем строки эти, включающие в гамму повествовательных оттенков, казалось бы, безмятежно-спо-
41
койное простодушие, содержат интонацию и более серьезного пророчества: намек на то, что на нелегких перепутьях своей необычной жизни Грегориусу еще не однажды доведется столкнуться с противниками, подобными Флану, выступающими под разными именами.
Нетрудно установить близость содержания и даже стиля и тона речи-вызова Флана с речами рыбака, в хижину которого кающийся, ушедший от Сибиллы и княжеских почестей Григорс забрел в ненастную ночь. «Тьфу, глаза бы мои не глядели, как ты выхваляешься перед нами своим воздержанием, нищий, а ведь все это чепуха одна… Я не просто подозреваю, а знаю, что где-нибудь далеко отсюда ты управляешься своими нежными ручками совсем не так, как хочешь нам внушить… я уверен, что уже завтра ты будешь потешаться… над нами, бедными людьми». Недружелюбие хозяина — это то же инстинктивное распознание принадлежности странного гостя к высшей касте, непонимание воодушевляющих его духовных целей и протест, ожесточение против двусмысленного и хвастливого, как кажется этому привыкшему к недоверчивости человеку, суесловию[9].
Изобретательная жестокость рыбака определяет место покаяния: Грегориус доставлен на совершенно пустынную скалу посреди озера: «…рыбак с мрачной усмешкой сделал то, что обещал, он надел на ноги Грегориуса кандалы, запер замок и сказал: «Тут и сиди! Ты попался в ловушку своего же мошенничества». С этими словами он бросил далеко в озеро кандальный ключ…»
Относительная справедливость, казалось бы, абсолютной несправедливости оценки — «мошенничество» — опять проясняется ходом повествования, расстановкой действующих лиц, логикой их действий и чувств, воплощаемой гаммой речей персонажей и рассказчика. Ибо в известном смысле кающийся грешник, действительно, дает некоторые основания для уличения в лукавстве: он не лишен расчетливого тайного предчувствия, что низвержение обернется вознесением и совершенно необходимо для последнего[10].
Грегориус не чужд такой дальновидной ставки; но более откровенный расчет на «спасение» приглянувшегося ей странника делает жена рыбака, торопящая его занять место на своем камне. Их прощальный диалог — ее напутствия и его наивная поспешность («Друг, рыбак, ангел мой, подожди, не покидай меня! Я иду…» — Bd. 8, S. 190)
42
в соединении с нарочитой серьезностью рассказчика — все это служит как бы подтверждением иронического недоверия рыбака к миссии странного его гостя. Разрешением всех этих противоречивых оценок, почти неосознанных побуждений, притяжений, отталкиваний и вражды является, так же как в отношениях с Фланом,— действие, поступок Грегориуса: он влез на скалу, дал заковать себя и остался наедине со своей судьбой. Недвусмысленность поступка опять противостоит любой интонации повествующего о нем рассказчика, любым взаимоисключающим оттенкам диалога персонажей.
В последующих главах, посвященных необыкновенным обстоятельствам пребывания Грегориуса на камне, пророческим видениям, возвестившим о нем как о новом папе, его отысканию с помощью того же рыбака и водворению в Риме, ироническое обыгрывание фабулы легенды становится особенно открытым, явным. Но вместе с тем здесь еще более отчетливо раскрывается, что «вязь» обсуждений и речей как бы натыкается на опорные точки — размываемые иронией, пародией и всеми новейшими формами повествования и все же незыблемые, объективные начала жанра: непреложность решения, выбора, действия, однозначную определенность поступка.
Прокормившись «млекоподобным соком», источавшимся из самой земли (это почерпнутое из чтения древних «научное» объяснение рассказчик противопоставляет примитивным религиозным «чудесам»), в течение семнадцати лет, Грегориус «так усох, что стал немногим больше ежа. Он превратился в некое шерстисто-щетинистое, поросшее мохом созданье природы, которому уже не были страшны ни зной, ни морозы, в существо с едва различимыми атавистическими членами — ручками, ножками и с такими же чуть заметными глазками и отверстием рта».
Предводительствуемая рыбаком миссия из Рима пришла в ужас от такого облика будущего папы. Однако уже на обратном пути к хижине рыбака, вкусив настоящей человеческой нищи, Грегориус принимает свой прежний человеческий облик.
Рассказчик просто неистощим на самые разнообразные комические подробности — и в них он особенно явственно выступает как характерная, психологически и даже исторически достоверная личность скрыто оппозиционного к официальной церковности монаха позднего средневековья.
Амплуа это имеет, однако, тенденцию к специфическому
43
«перерастанию». Речи рассказчика — этого благочестивого вольнодумца, как будто бы оставаясь в кругу обычной для него тематики, ведут тем не менее, не отрываясь от конкретной темы, к таким неожиданным ассоциациям и акцентам, которые целиком причастны проблематике XX века — философской, социальной, эстетической (хотя об этом и не заявлено прямо). Так, например, приведенное выше описание нового облика Грегориуса — и в некоторых своих деталях, и в самой последовательности описания преображенных частей тела — ассоциируется с известной новеллой Кафки. Сознательно или невольно возникающая ассоциация с новеллой «Превращение» носит полемический характер — превращение героя романа «Избранник» утверждает идею, отрицаемую Кафкой и родственным ему направлением,— идею изменения человека не к худшему, а к лучшему, не деградации, а восхождения.
Недаром глава, повествующая о процессе уподобления человека «твари», названа «Покаяние», а заголовок «Превращение» (точнее, «Перемена» — «Wandlung») имеет глава, посвященная преодолению этого несообразного облика и обретению подлинно «человеческой стати». Превращение у Кафки — внезапно проявляющееся, но заложенное в самой человеческой природе отвращение к социальным формам жизни, ужас перед лицом их противоречивой сложности. В «Избраннике» утрата связей с людьми и обществом, одиночество, изолированность — результат решения, вызванного чрезвычайными обстоятельствами. Но даже при признании серьезных оснований для этой «чрезвычайности» — условия изоляции во всех своих жалких и отвратительных подробностях питают насмешку рассказчика. А в последующих главах, в ретроспективе, выясняется (и это тоже продолжает ассоциативную полемику с Кафкой), что при полной внешней победе природы дух не сдался, ибо Грегориус, потеряв чувство и времени и пространства, не потерял память: он с полной отчетливостью помнил, что привело его на скалу. Отсюда — мгновенность превращения после освобождения и принятия пищи: облик твари относился только к телесной оболочке, а не к духу.
Попав снова в хижину рыбака, Грегориус сейчас же разыскал забытую в ней табличку с описанием горьких обстоятельств своего рождения и, прочитав ее, убедился, что свободен от того двусмысленного волнения, которое она когда-то в нем пробуждала, толкнув на уход из монастыря и женитьбу на собственной матери.
44
И вот, держа в одной руке табличку, а в другой — ключ, он про себя произнес:
…И
дивлюсь я…
Той
алхимии святой,
Что
и плоть, и боль, и стыд
В
дух чистейший претворит…
Этой фразой-размышлением Грегориуса, собственно, заключается эдипова линия романа. И заключение это, данное в столь демонстративно-стилизаторской и условной форме внутреннего монолога, призвано подчеркнуть преодолимость, «невсамделишность» власти тех темных плотских стихий и психологических «комплексов», которые были приняты очень всерьез и фрейдистскими и мифологическими направлениями. Приведенные строки, предельно обнажив иронию и стилизацию, пронизывающие речь рассказчика и весь его образ, явственно подтвердили многообразие средств, использованных Манном для подрыва «эдипова начала» романа в фрейдистском смысле этого понятия. Свое собственное полемически направленное понимание и свое освещение мотивов легенды Манн осуществляет не только путем создания на ее основе драматических перипетий, проникнутых современным этико-социальным содержанием (суд «чести и совести», которому подверг себя Вилигис, отречение Сибиллы, единоборство Грегориуса с Фланом, его возвышение и расплата и т. д.), но и путем использования богатой гаммы иронических оттенков и обнаженно-стилизаторских приемов повествования, низводящих «роковые» моменты мифа до чисто игрового и пародийного эффекта.
И все же главным руслом, которое организует повествование и в котором сосредоточено полемическое переосмысление легенды, является внутренняя жизнь героев.
Здесь Т. Манн наиболее глубоко и смело вторгается в сферу новейших психологических учений и создаваемых на их основе концепций человека в литературе и вместе с тем наиболее энергично и последовательно опирается на традицию большой литературы и свой собственный опыт романиста, стремясь к утверждению противостоящего им решения.
Полемика сосредоточена в узкой и внешне лишенной непосредственного общественного содержания области — человеческой психологии. К углубленной и полемической постановке проблем, связанных с этой сферой, автор
45
«Избранника» был подготовлен всем своим творческим путем, не говоря уже о тех уроках психологического аналитизма, которые были взяты им у русских учителей. Так что к задаче «боя на территории врага» Т. Манн был подготовлен блестяще. В центре внимания Т. Манна оказывается проблема, подробно и многообразно освещаемая и решаемая его противниками, — роль и соотношение бессознательных и сознательных, приобретенных из социального опыта и заложенных в человеке самой природой психологических предпосылок, определяющих линию поведения человека вообще и особенно — в ситуации, требующей решения и нравственного выбора.
Роман и драма французского экзистенциализма всеми доступными им художественными средствами подрывали этическую, социальную и рациональную мотивированность решений и поступков своих героев. И высокое и низменное в их поведении предстают как проявление стихий, извечно заложенных в человеке и мощно подавляющих сопротивление, казалось бы, очень глубоко впитанных им идей, принципов, верований, привязанностей, идущих от социального и интеллектуального опыта.
У Камю («Посторонний»), Сартра («Дороги свободы»), Саррот («Золотые плоды»), Ионеско («Носороги»[11]) борьба между началами природного и общественного в человеке может разыгрываться очень остро, создавая впечатление психологической достоверности и реальной сложности происходящих в душе персонажей или в их чувствах друг к другу коллизий. И все же борьба эта — «не на равных», ибо духовное, этическое, интеллектуальное начало в человеке — вся область социальных «навыков» и контролируемая разумом сфера не затрагивают сущности ни содержания, ни формы романа; содержательным же и формообразующим центром является как раз сфера подсознательного, «темного» и стихийного. Роман Т. Манна, не уходя от того же аспекта проблемы: сознательное — бессознательное как решающий фактор характеров и судеб героев — разрушает самый ее фундамент. Ибо «Избранником» берется под сомнение сама неосознанность неосознанного. Весь строй романа, все необычные его средства подчинены последовательной компрометации неведения и подсознания. Стилизованная «наивность» жанра служит средством обнаружения не только изощренно-рационалистической сущности «подсознания», но и выявлению отнюдь не «роковых» и не «темных», но весьма земных и
46
реальных факторов, имеющих прямое отношение к сознанию и судьбам героев, «…вот что, Вилло, я тебе обещаю: я не буду принадлежать ни одному мужчине, кроме тебя. Наверно, я и не смею принадлежать, но прежде всего не хочу», — говорит Сибилла при расставании со своим возлюбленным— братом. И это четко осознанное «не хочу», в котором есть оттенок дерзкого вызова «общепринятому», но еще больше воспитанных условиями «избранности» своеволья и порочности, — является первой взрывчатой миной, подложенной под якобы ничем не обусловленную, неосознаваемую темноту «эдипова комплекса»[12].
Подрыв осуществляется и с другой стороны: «Подкинут из-за какого-то темного пятна? Но где пятно, там благородство. Кто не знатен, тот и без пятен[13]. Как хотелось ему променять плебейское благополучие на благородное неблагополучие». Не менее, чем у Сибиллы, осознанное «хотенье» Грегориуса фактически предопределяет дальнейшее, не оставляя места для «комплекса», сводя его фактически к нулю. Процесс «вытеснения» подсознательных мотивов сознательными не только не ослабляется, но последовательно нарастает. «…Герцогиня на астурийском иноходце… со своей свитой спустилась из замка в последний свой город, к стенам оглашаемого колокольным звоном собора; здесь она спешилась… с кавалерами и дамами… проследовала… к своему креслу и к подушечке с золотою оторочкой и кисточками, приготовленной для ее колен. Так увидел ее Грегориус со своего места над проходом… увидел при звуках песнопений, в мерцающем свете свечей и в пряном дыму ладана…» В окружении пышности, роскоши, во всеоружии красоты, в притягательности силы и властности Сибилла становится олицетворением юношеских мечтаний и снов Грегориуса. Его «восторг» обусловлен рождением, мотивирован всеми «воспитательными» главами романа.
Не темный, не поддающийся аналитическому подходу инстинкт, не необъяснимый, ничем не предвещаемый рок толкает Грегориуса в объятия матери, а подстрекающая и фантазию, и чувственность, и честолюбивые мечты обстановка этой встречи — такова логика повествования: речей и дум героев, комментария к ним рассказчика и его собственных описаний.
С еще большею целеустремленностью, всеми средствами повествования, всей сложностью соотношения героев, рассказчика, автора, происходит подрыв «комплекса» при изображении взаимоотношений героев, противоречивости
47
их дум, чувств» и самоанализа. «Когда он так подошел к ней, он был похож на нее, ибо был похож на Вилигиса, своего отца… Но она воспринимала это сходство совсем не так, как мы, для нее оно было только чем-то приятным и привлекательным… Разве не мог молодой человек напомнить ей брата-возлюбленного и этим тронуть ее сердце, без того чтобы непременно вызвать у нее далеко идущие подозрения? Но то, что она гордилась им и даже его походкой, это, по-моему, все-таки должно было заставить ее призадуматься».
Здесь рассказчик предстает во всех основных своих ипостасях: и как носитель неограниченного всезнания самого «Духа повествования», свободно проникающего в душу героини («она воспринимала это свойство совсем не так, как мы…» и т. д.), и как повествователь, становящийся на точку зрения персонажа и говорящий как бы от его лица («Разве не мог молодой человек напомнить ей брата-возлюбленного… без того чтобы непременно вызвать у нее далеко идущие подозрения?»), и как сторонний, но сочувственно заинтересованный наблюдатель — резонер («…это, по-моему, все-таки должно было заставить ее призадуматься»). И все эти оттенки авторских голосов сливаются в одном звучании: в аналитическом, насквозь рационалистическом подходе к проблеме. Уже здесь, в этом авторском приступе к основным психологическим перипетиям, позиция «незнания» лишена фактически серьезной аргументации, уже здесь «роковое» незнание предстает как избираемая самой героиней точка зрения, как игра в незнание. Недаром в фразе, данной как бы от ее лица, так ясна самооправдательная интонация: «Разве не мог молодой человек…» — и т. д.
Стилизованная под слог религиозно-рыцарского эпоса (хотя бы того же Гартмана фон Ауэ, фабула поэмы которого лежит в основе «Избранника») молитва Сибиллы к богородице[14] отличается демонстративной изощренной аналитичностью. Наивная простоватость старого слога (Bd. 8, S. 158—160) лишь оттеняет, что по рационалистичности самоанализа монолог Сибиллы близок речам классицистической трагедии. Эта средневековая госпожа напоминает расиновскую Федру, изливающуюся перед своей наперсницей. Но за этими обличиями не скрыта приобщенность героини легенды к XX веку. Многообразная по оттенкам, молитва гораздо меньше похожа на исповедь, чем на сделку, сговор. Она обращена не столько к поверенной, но и к
48
союзнице — соучастнице: «За грешницу перед царем небесным и перед юношей доброчестным тебя молю я похлопотать: ты богу невеста, дитя и мать»1.
Такое обращение окончательно разоблачает незнание как знание; неподвластные якобы разуму, темные и властные глубины подсознательного выступают той стороной сознания, которая вполне осознанно маскируется и подчиняется своевольному «не хочу» или «хочу».
Молитва Сибиллы непосредственно следует за решающим для их отношений разговором с Грегориусом-победителем, характер которого недвусмысленно определен рассказчиком: «Этот разговор… протекал при свидетелях и все же походил на торопливую и тайную сделку, при заключении которой глаза чаще избегали, чем искали встречи с глазами…» Недаром диалогическая и монологическая «сделки» происходят в такой же обстановке придворности и изысканности, как и первая встреча Грегориуса с Сибиллой. Автор снова специально оттеняет «пряность» атмосферы. Даже изображение богородицы причастно к ней: «Перед скамеечкой, где она стояла на коленях, висела прекрасная, отличного письма, икона, изображающая богородицу». Святая дева слушала «кудрявого ангела в голубой мантии поверх белого, с буфами, одеяния, каковой согбенно застыл у двери…». По многозначительной торжественности изображение на иконе напоминает только что происшедшую встречу во дворце: «…стройными, обтянутыми мягкой тканью, ногами шагает к ней через огромный, увешанный коврами… парадный зал…»
Низведение молитвы до сделки — еще один нюанс иронических оттенков повествования. Глубины подсознательного оказываются весьма точным расчетом разума, умеющего извлекать выгоды из попустительства божества, равнодушия «госпожи природы» и непререкаемого «хочу», право на которое обеспечено кастовой принадлежностью[15].
Ироническая двусмысленность молитвы — одно из умалений значения монологически-лирической формы вообще: при воплощении конфликта, в раскрытии сути действующего в нем героя. Мы с самого начала подчеркивали, что центр повествования составляет речь, как бы вырывающа-
49
яся из статической «вязи» переливающихся, взаимопереходящих друг в друга оттенков, или слово-решение, однозначное и прямое. И подводят к нему, формируют и обуславливают его не столько внутренние, в душе героя происходящие процессы, сколько объективное стечение обстоятельств или вмешательство посторонних, «второстепенных» лиц. Роль этих последних (вспомним хотя бы Флана и рыбака) всячески подчеркнута, вопреки нарочито-уничижительным замечаниям рассказчика (например: «…немало городских ополченцев было отрезано и, надо думать, убито. Но ведь это же были фигуры второстепенные…», нужные именно для того, чтобы быть опровергнутыми).
Рассказчик не останавливается на том, что происходило в душе героев после бракосочетания, основанного на лукавом «незнании» «неблагополучия обстоятельств». Сообщается лишь, что тайная друг от друга скорбь «вселилась и в него, и в нее, как червь в розу». Далее вводится совершенно новое лицо — служанка Иешута — которая даже косвенно не включена в ситуацию, но вместе с тем, действуя согласно своим побуждениям и свойствам характера (холопской преданности, любопытству и скрытому коварству), решающим образом способствует развитию действия, переходу (или, вернее, резкому обрыву) неопределенности и статичности затаенных переживаний к оформлению решений, поступков. Еще в большей мере, чем другие второстепенные персонажи, выступающие в той же функции, Иешута олицетворяет совокупность объективных обстоятельств, имеющих явную тенденцию занять первенствующее место в ряду обуславливающих судьбу героев предпосылок.
Ее именем названа целая глава — именно та, в которой происходит выяснение связующих супругов уз крови. И это известная демонстрация стремления оттеснить речи-признания и полупризнания и всю противоречивость внутренних мотивировок «сторонним» лицом-обстоятельством.
Диалог между Грегориусом и Сибиллой соткан из сложных, противоречивых, двусмысленных оттенков и оставляет немалую недоговоренность; о том, что «узнание» наступило для обоих много раньше, здесь так и не было сказано прямо. Но даже частичная правда, вырвавшись наружу, в диалог, властно привела к «обрыву» многосложных речей и формированию слова-решения. Речь-диалог, даже когда он происходит между «сообщниками» и наедине, наделяется Манном именно очистительно-действенным свойством.
50
Казалось бы, нет нужды в традиционном (по-эдиповски постепенном) узнании. Однако именно классическая «постепенность», вся цепь последовательных «доказательств» воспроизведены в романе: услышав от служанки Иешуты о таинственной табличке с письменами, над которой Грегориус тоскует и плачет, и убедившись собственными глазами, что это есть ее собственной рукою начертанные письмена, Сибилла не может избежать объяснения с Грегориусом — «сцены узнания».
Она особенно показательна с точки зрения вытеснения «эдипова комплекса» и возрождения идущих от настоящего классического «Эдипа» функций очищающей трагической развязки. Прежде всего — пафосом утверждения значения прямого бескомпромиссного слова, апеллирующего не только к религиозно-нравственному, но и к социальному началу в человеке — к его обязанностям и ответственности перед законами человеческого общежития: «…не говори так! Но нет, нет, говори! Я понимаю, зачем ты это делаешь. Мы должны говорить ясно и называть вещи их именами…»
Сцена эта показательна и в том смысле, что право суда, возмездия, вершения собственных судеб признается за героем, — вернее, сохраняется за ним. И в самом характере этого суда сказался социальный пафос. Понимая необходимость искупления не только перед богом, но и перед людьми, Грегориус присуждает: «Созовите вашу знать и велите избрать нового герцога… Так же, как трон, покиньте и замок. Пусть у его подножья… построят… приют для бездомных, для старых и дряхлых, для больных и калек. Там надлежит вам править… лечить хворых, омывать их раны, купать их, одевать, раздавать милостыню странникам, нищим и мыть им ноги… Геррада, наше дитя, пусть помогает вам пить воду смиренья, когда подрастет… Я же… отправляюсь в покаянное паломничество как нищий, подобный тем, чьи ноги вы будете мыть». Таков результат обретенной необходимости и потребности «говорить ясно и называть вещи их именами».
Здесь невозможно не вспомнить написанную задолго до «Избранника» новеллу Т. Манна «Обмененные головы» (1940) — плод обращения не к западному, а к восточному (индийскому) средневековью.
«Греховно-запутанные» взаимоотношения героев этой новеллы — Нанды и Шридамана, связанных крепкой дружбой, начались с того, что, под воздействием бесстыдной бо-
51
гини природы и при «невольном» содействии прекрасной Ситы, они обменялись головами; так что отныне невозможно стало понять, чьей же женой является любимая ими обоими Сита. Это положение героев, не находящих или, вернее, не желающих найти выхода из лабиринта «подсознательных» влечений, кажется неразрешимым до пробуждения потребности в ясном, оценивающем и карающем слове. «Мы… должны убить себя, то есть друг друга, ибо в нашем случае “себя”и “друг друга” равнозначно и, с точки зрения чистоты речи, вполне правильно…» — решение это принимается обоими друзьями-соперниками, а Сита решает «живьем следовать» за мертвыми супругами и сгореть на том костре, на котором будут сожжены их трупы.
И это решение тоже не встречает возражения: «Ибо если отдельное существо до того запуталось, как это имеет место в нашем случае, то лучше, чтоб оно расплавилось в пламени жизни, как масло в жертвенном огне».
Бескомпромиссно-трагический конец новеллы кажется особенно сильным сравнительно с финалом близкого ей во многих тематических, идейных и стилистических мотивах романа.
Заключительная часть «Избранника» — это характерно и для других романов Т. Манна — является более прямолинейной в утверждении основной своей мысли, более статичной и менее богатой в мобилизуемых автором средствах повествования, чем основной «массив» произведения, который мы пытались рассматривать.
Воцарение привезенного с места покаяния Грегориуса в Риме, повествование о благочестивой и умиротворенной встрече с Сибиллой, которая, в свою очередь, пришла к очищению тяжкими трудами, бедностью и милосердием к людям, и особенно рассказ о мудром и гуманном его правлении, в частности, о том покровительстве, которое он оказывает вышедшему из народа живописцу Пенкарту, допускавшему в своих полотнах насмешки в адрес церковных и светских правителей, — все эти мотивы эпилога призваны наметить некий социальный и этический позитив[16]. Впрочем, как это всегда бывает у Манна, без всякой настойчивости и не без оттенка иронии в адрес им же изображаемых идиллических «разрешений». Не они, разумеется, определяют ту эстетическую и социально-этическую позицию, которую утвердил Манн, создав своего «Избранника» — роман «конца», содержащий вместе с тем цельную и наступательную программу.
52
«ПРИЗНАНИЯ
АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА КРУЛЯ»
„Испытание“
имморализма формой повествования от первого лица[17]
Забегая вперед, скажем, что если в «Избраннике» Манн сокрушительно вторгается в такую наимоднейшую зону, как подсознание и «комплексы», то в последнем романе средствами внешне традиционного, а по существу еще более радикально-новаторского повествования он утверждает мысль об иллюзорности свободы от нравственной оценки и самооценки даже для человека, находящегося в ситуации, казалось бы, полной социальной и психологической освобожденности от всяких обязательств и норм.
Ведь на этот раз Манн исследует нравственный потенциал человека, изобразив принципиально-беспринципного героя, убежденного авантюриста; к тому же он возлагает на этого героя роль автора исповедальных признаний. То есть ставит его в максимально благоприятную ситуацию для «отрешенности» от всяких извне «навязываемых» обязательств.
Рассуждая о характере своих записок, подчеркивая их отличие от детективных романов, о принадлежности к которым как будто бы говорит заглавие, Круль заверяет, что не эффектные и необычные перипетии исключительной судьбы, а прежде всего обобщение психологического опыта лежит в основе повествования: «… на встречах или событиях, благодаря которым мне многое открывалось в себе самом и в окружающем меня мире, я останавливаюсь подолгу, тщательно выписываю каждую деталь и в то же время легко проскальзываю мимо всего, что мне менее дорого и интересно».
Такое самопризнание рассказчика, конечно, усиливает впечатление близости романа к классическому социально-психологическому роману воспитания и к произведениям жанра исповеди. Вместе с тем из этих же самохарактеристик явствует сложность, промежуточность жанра: самому рассказчику не удается дать ему четкое определение. И чем дальше следишь за строением романа и его мыслью, тем больше ощущаешь, как это, казалось бы, наделенное и историко-бытовой конкретностью, и психологической детализацией повествование не удовлетворяется раскрытием непосредственно воспроизводимых положений и состояний героя-рассказчика. Жизненные и психологические ситуа-
53
ции, о которых повествуется, особенно в тех моментах, в которых они соотносятся с романом XIX века, служат, по существу, такой же канвой для нового изощренного рисунка, как старый сюжет (или элементы сюжета) в «Избраннике». Но здесь к решению владеющей им задачи писатель заходит как бы с противоположной стороны: не в старой ситуации обнаруживает проблемы и формы, адекватные современности и способствующие «испытанию» современного человека, а, напротив, — современную ситуацию и психологию и саму литературную форму, в которой они воплощаются, освещает их исторической и общечеловеческой родословной.
«Что за люди эти артисты! Да и люди ли они? Нет, я только оказываю им честь, защищая их против гуманной пошлости и говоря: они — не люди… Для заурядности все должно быть “человеческим”». Это рассуждение Феликса Круля связано с посещением парижского цирка. Но выраженное в нем отношение к «человеческому» имеет значение ключа, открывающего доступ к центральной мысли романа.
Попытаемся последовательно восстановить в памяти события, ситуации, которые являются предметом описания и поводом для размышлений и обобщений Феликса Круля.
Самоубийство отца-банкрота, вынужденный уход из реального училища, переезд в Мюнхен и нужда, «уроки улицы», связь с проституткой Розой, прохождение военной комиссии, отъезд в Париж, работа в гостинице лифтером, связь с женой миллионера, авторшей «сверхинтеллектуальных» романов — Дианой, любовь богатой англичанки Элионор, встреча с маркизом Веноста и «договор», отъезд в Лиссабон, встреча с Кукуком и ситуация любовного «треугольника», прием во дворце и т. д. — каждый из перечисленных здесь моментов повествования предстает в двух ракурсах: в объективно присущей ему «человечности» — в переживаниях, страданиях, взаимоотношениях и столкновениях персонажей — словом, в острой конфликтности и драматизме, отражающих остроту социальных противоречий мира, в котором живет и действует рассказчик; и вместе с тем в субъективном освещении рассказчика, последовательно направленном к уничтожению вульгарно-заурядной, традиционной «человечности» — страстей, страданий, нравственных исканий, социальной непримиримости. Повествование строится на противоборстве этих ракурсов, хотя по первому впечатлению кажется, что субъективное — крулевское — освещение абсолютно доминирует, что защита
54
против гуманной пошлости осуществляется беспрепятственно: становится «последним словом» не повествователя, а романа в целом.
Попытаемся раскрыть соотношение этих двух освещений, заранее оговорив необходимость прибегать при этом к обширным цитатам из романа.
«Собственно говоря, мой бедный отец не производил впечатления вконец сломленного человека. В нем замечалось даже известное удовлетворение по поводу того, что дела, распутать которые ему не представлялось возможным, теперь находятся в надежных руках… Легковерный и добродушный по природе, он и других людей не считал за жестокосердных педантов и не думал, что они всерьез его оттолкнут; у него даже достало наивности явиться в местное акционерное общество по выработке шампанских вин и предложить свои услуги в качестве директора. Получив насмешливый отказ, он сделал еще несколько попыток встать на ноги, для чего храбро возобновил свои вечера и фейерверки. Когда и это средство не помогло, отец впал в уныние; а так как он еще полагал, что стоит нам поперек дороги и что без него мы легче пробьемся в жизнь, то и решил покончить с собою».
Так в одном абзаце записок Круля бегло проиграна целая гамма трагических мотивов романов XIX и XX веков1.
Ассоциативно-контрастные параллели лишь усиливают основную стилевую установку, во всем описании последовательно осуществляется контраст между драматизмом ситуации, трагизмом самих за себя говорящих фактов и ироническим их освещением. Оно достигается без всякого специального нажима и нагнетания, средствами самыми скупыми: сочувственно-уничижительным наименованием — «бедный отец» (оно, кстати сказать, проходит от первых до последних страниц романа), вскользь оброненным определением «храбро» («храбро возобновил»), обилием придаточных предложений: присмотревшись к строению фраз, можно заметить, что психологический план ситуации отодвинут на второстепенное место и синтаксически. Стилистика и грамматика служат средствами «материализации» тенденции к «устранению» драматизма — и это характерно для повествования Круля[18].
55
«…А так как он еще, кроме того, полагал, что стоит нам поперек дороги и что без него мы легче пробьемся в жизнь, то и решил покончить с собою» (Bd. 8, S. 323). Этим «ausserdem» (кроме того) и «meinte» (полагал) рассказчик, казалось бы, начисто разделывается с «заурядной человечностью» ситуации, возникшей на первых этапах его жизненного пути. Целый каскад с замечательной эластичностью переходящих друг в друга стилевых оттенков, снижающих и смягчающих смысл слов, плотно обволакивает трагический смысл конца фразы: «и решил покончить с собою».
Все средства повествования «брошены» на то, чтобы смерть «бедного отца» выглядела неудачным цирковым антраша, так же, впрочем, как и его безнадежная борьба с конкурентами, попытки выдвинуться, развал семьи.
Повествование Круля ведется таким образом, чтобы нейтрализовать или по возможности уничтожить реальный смысл события, напряженность социально-психологической драмы. И все же непреложность факта, так же как прямое значение констатирующих его слов, не поддается полному «растворению» — драматизм ситуации оказывает большее или меньшее сопротивление атакующей его иронии стиля[19]. Впрочем, в названном эпизоде из первых глав романа своеобразное «единоборство» стилевой установки и характера коллизии, иронии повествования и драматизма ситуации, традиционно присущего манновскому роману, скорее намечено, чем развернуто. С полной силой оно заявляет о себе в центральных эпизодах произведения, посвященных жизнеописанию самого Круля.
«…У меня не нашлось даже нескольких су на омнибус… Такой гигантский город, как Париж, состоит из множества кварталов и приходов… За роскошным фасадом, ослепляющим иностранцев, метрополия укрывает мещанские провинциальные улицы, самодовольно живущие своею собственной жизнью. Из обитателей улицы Небесной лестницы многие, вероятно, годами не видели сияния авеню Оперы и всесветной сутолоки Итальянского бульвара. Меня окружало идиллическое захолустье. На узкой мостовой играли дети. Вдоль мирных тротуаров рядком стояли незатейливые дома, в нижнем этаже некоторых из них помещались такие же незатейливые лавки…»
Здесь снова вся картина организована социальным контрастом. Некоторые фразы кажутся буквально «списанными» из Бальзака или Диккенса. А характер других
56
определяется словом «идиллическое», наиболее прямо выдающим ту ясно проступающую тенденцию к сглаживанию остроты реальных противоречий, к борьбе с неподдающимися фактами, которые лежат в основе всей системы повествования рассказчика. Еще несколько примеров.
«Не буду, — пишет, например, Круль, — останавливаться на первых суматошных днях нашего пребывания во Франкфурте. Мне неприятно вспоминать о той жалкой роли, которую мы играли в этом богатейшем торговом городе… Умолчу и о грязной харчевне… где мы… из соображения экономии провели много ночей… Умолчу и о мытарствах, которые мы претерпели, разыскивая в этом большом, бессердечном, враждебном беднякам городе хоть мало-мальски подходящую квартиру…» — это откровенно заявленное крулевское «умолчу» — еще один способ уклонения именно от тех острых моментов столкновения с условиями, «враждебными беднякам», которые являлись основным предметом изображения в классическом социально-психологическом романе. Форму своего повествования сам Круль характеризует не очень точными словами: «…легко проскальзываю мимо всего, что мне менее дорого и интересно». Рассказчик, действительно, пытается «проскальзывать» мимо всего, что свидетельствует о глубокой противоречивости внешнего мира или внутреннего состояния человека, но совершается это скорее тяжело, а не легко, во всяком случае, всегда очень подчеркнуто, выдавая провокационное намерение автора вызвать сопротивление читателя, натолкнуть его на ряд контрастных ассоциаций с Бальзаком, Диккенсом, Достоевским.
Так реализуется авторская установка на недоверие к объективности рассказчика, которая воплощается в особенностях повествования, определяя новаторство его строя, многообразие функций и форм. Они, действительно, очень богаты. Наряду с охарактеризованной нами установкой на «проскальзывание», рассказчик в иных случаях прибегает, например, к очень развернутым, красочным картинам социальных контрастов с тем, чтобы тут же противопоставить потенциально содержащемуся в них элементу критики общественных устоев выраженную в наивно-циничных размышлениях и обобщениях патетическую его защиту. Описание «уроков», извлекаемых из ночной жизни Франкфурта и Парижа, — самый яркий, пожалуй, пример открытой примиренности рассказчика с трагически-непримиримыми
57
социальными контрастами, свойственными им же описываемой действительности.
«А теперь представьте себе невзрачно одетого юношу и то, как он, без друзей и знакомых, одиноко пробирается сквозь пеструю сутолоку чужого города! У него нет денег, чтобы насладиться радостями цивилизации… Он видит празднично освещенные подъезды театров, но ему нельзя слиться с людским потоком… Я стоял подле них (витрин. — М. К.), защищенный от холода только шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи… и пожирал глазами все эти прекрасные, изящные, дорогостоящие вещи, не обращая внимания на холод и сырость, пронизывающие меня до мозга костей». И далее: «…по окончании спектаклей я терся у театральных подъездов и… подзывал… экипажи для избранной публики… я бросался чуть не под ноги лошадей, чтоб заставить их остановиться у крытого подъезда… или пробегал изрядный кусок по улице, разыскивая чью-либо карету… как лакей, стремглав летел отворять дверцу…»
И тут же, рядом с этими столь яркими картинами-контрастами, создается своего рода эмоциональный «заслон» против тех объективных свидетельств, которые в них изложены: «Дар созерцания… составлял для меня все — это дар воспитующий уже потому, что он обращен на вещественное, на все заманчиво-поучительное, что есть в мире. Но насколько же глубже бывают затронуты чувства, когда ты пожираешь глазами не вещи, а людей… О, эти сцены светской жизни… одна из картин так врезалась мне в память, что я и сейчас трепещу от восторга, вспоминая о ней… То были любовные сцены, исполненные восторга и жажды слияния…»
«Дар», «созерцание», «восторг», «трепет», «мир» — уже сама эта лексика выступает как некий «нейтрализатор» и «растворитель» по отношению к соседствующему с нею лексическому ряду: «дорогостоящие вещи», «пестрая сутолока», «холод и сырость», — пафос рассказчика направлен к тому, чтобы этот прозаический словесный «ряд» был уничтожен параллельно с ним возводимым, возвышенно-абстрактным «заслоном»; чтобы «радости цивилизации» — дорогие кафешантаны[20], наполняемые великосветской толпой театры, роскошные витрины магазинов — «подменились» обширным и высоким словом «мир», а жалкая фигура одинокого бедняка, раболепствующего перед богачами, — одухотворенным обликом восторженного наблюдателя и пламенного мечтателя.
58
Именно в силу того, что столь разные лексические ряды и повествовательные интонации демонстративно соприкасаются, прозаически-драматическая суть картины остается не заслоненной «восторгом и трепетом» рассказчика. Достигается искомый автором эффект: невольная объективность свидетельств, неумолимость фактов все явственнее отделяется от субъективной позиции рассказчика — его оценок и самооценок, взгляда на мир и на самого себя. И чем дальше, тем четче вырисовывается напряженность взаимодействий и отталкиваний: плана объективного, констатирующего — и субъективного, оценочного. Нарастающий между этими планами своеобразный конфликт приобретает все более острый характер, все полнее и глубже выявляя суть авторской мысли и закономерность избранной формы: традиционного в своих истоках жанра исповеди, смело и радикально обновляемого.
Нарастание расхождений между субъективным восприятием рассказчика и объективным смыслом им рассказанного можно проследить на сопоставлении двух описаний, относящихся к одному и тому же явлению.
«Уличный шум, пронзаемый криками продавцов газет, был оглушителен, свет ярок до умопомрачения. Под навесами кафе, за маленькими столиками сидели люди в пальто и шляпах, с тростью, зажатой между колен, и, точно в театре, смотрели на толпы пешеходов и проносящиеся экипажи, а между их ног ползали какие-то темные фигуры, подбирая окурки сигар. Нисколько этим не смущаясь, они попросту не замечали бедных ползунов или же считали их нормальным и узаконенным порождением цивилизации, за радостной суетой которой они с таким удовольствием наблюдали из своего укрытия», — так рассказывает Круль[21] о «ползунах» в первый раз, по приезде в Париж, обозревая всю картину со стороны, взглядом объективного наблюдателя. В следующей главе то же явление описано уже с другой позиции: сбыв перекупщику украденные драгоценности и приобретя модную и дорогую одежду, Круль «решил часок-другой провести так, как проводили время те, на кого… с завистью смотрел вчера… — посидеть под навесом кафе… любуясь на суету и сутолоку парижской улицы». Так он и сделал: «Я сидел с добрый час и, вероятно, просидел бы и дольше, если бы под моим столиком и вокруг него не столпилось бы слишком много «ползунов», подбирающих отбросы. Я потихоньку сунул франк оборванному старику и десять су какому-то мальчишке в лохмотьях…
59
но это привело к моему столику такое количество их собратьев, что я, поскольку одному человеку все равно невозможно насытить всех алчущих, вынужден был обратиться в бегство. Тем не менее я должен признаться, что возможность оказать людям посильное вспомоществование, о котором я думал еще накануне вечером, сыграла известную роль в моей тяге к подобному времяпровождению».
На этих двух отрывках можно представить себе в миниатюре систему повествования в одной из основных ее черт — в тенденции рассказчика переносить центр тяжести повествования с изображения явлений внешнего мира на описание своего к ним отношения; причем субъективный взгляд не дополняет, не углубляет объективную картину, а стремится к ее деформации — к освещению, как бы «смазывающему» четкость однажды созданного рисунка.
Контраст, положенный в основу первой зарисовки: наслаждающиеся суетой цивилизации буржуа на ярко освещенных террасах и копошащиеся в тени столов, у них под ногами, «естественные» ее порождения, — это почти в символ возведенное обобщение (вместе с тем остающееся, как свойственно манновскому методу, и конкретной бытовой зарисовкой) социальной сути общества, его разделенных пропастью полюсов.
Второе изображение ползунов призвано, по замыслу автора «Признаний», смягчить и снять остроту непосредственного наблюдения. Оно уже не организовано четкостью контраста. Напротив, в основе его — тенденция к «расплывчатости очертаний». Образ «ползунов» теряет собирательность и монументальность, но вместе с тем не приобретает индивидуализации: «оборванный старик», «мальчишка в лохмотьях», «их собратья» — это те «стертые» общие слова, которые уничтожают четкость и характерность первой зарисовки и приводят к ослаблению силы контраста. «Размыт» контраст еще в большей степени с другой стороны: безликие «некто», сидящие на бульваре и относящиеся к «ползунам» как к неодушевленным предметам, заменены во второй картине самим рассказчиком, преисполненным участливым вниманием к оборванности, к лохмотьям и лишь под влиянием очевидной невозможности удовлетворить свою доброту вынужденным отказаться от «наведения моста» над социальной пропастью. Однако и о собственных мыслях и чувствах, связанных с этим эпизодом, Круль рассказывает такими же стертыми, безликими
60
словами: «посильное вспомоществование», «насытить всех алчущих» — сама казенность фразеологии исключает непосредственность, якобы свойственную его порыву. Субъективная оценка и объективное описание явления и здесь демонстративно противостоят друг другу.
Отправляясь в путешествие в качестве «двойника» маркиза Веноста, Круль должен, для вящей убедительности обмана, «научиться» живописи. Он мгновенно раскрыл секрет «художественной манеры» Веноста: «…ландшафты маркиза отличались совсем уж бесконтрольной[22] призрачностью и расплывчатостью очертаний… все линии… были… подчищены, если можно так выразиться, втерты одна в другую… я тотчас решил, что… сумею сделать не хуже». Здесь, собственно, охарактеризованы принципы не столько картин Веноста, сколько повествования, осуществляемого в «мемуарах» самого Круля.
Попытки Круля обойти резкость контрастов, непримиримость конфликтов, существующих в окружающем его мире и так или иначе отражаемых в его повествовании, приводят к результатам, обратным расчетам рассказчика, но соответствующим замыслу автора романа: к обретению новых средств раскрытия вопиющих противоречий современного буржуазного мира, к нахождению действенных форм для выражения недоверия к позиции уклончивого их смягчения.
Эпизод с «ползунами» — не единственное соприкосновение Круля с социальными низами. Общение с пассажирами третьего класса по дороге в Париж, встреча с бедной старухой на парижской улице и гораздо менее мимолетные встречи и отношения, завязываемые на ночных улицах Франкфурта, а также с прислугой гостиницы, и, наконец, встречи с народной толпой на зрелищах — в провинциальном театре на родине и в цирках Парижа и Лиссабона, — в фабульном смысле роль этих эпизодов различна. Но каждый из них причастен к раскрытию отношений Круля (в самих формах повествования запечатлеваемых) к «вульгарно-традиционной человечности».
Названные эпизоды романа, посвященные встречам Круля с простыми людьми, особенно показательны в смысле демонстрации «уклонений» и речевых маскировок перед лицом «вульгарной человечности» уже не только в суждениях и чувствах, но и в поступках и действиях. Идя от старой формы жанра — жизнеописания и исповеди — и виртуозно варьируя и обогащая форму повествования от первого
61
лица, Т. Манн раскрыл заключенные в ней новые возможности социальной критики и проникновения во внутренний мир человека.
Попытаемся еще раз обозреть предстающий в «Признаниях авантюриста» облик современного мира — в чертах, которые объективно фиксирует Круль, а точнее говоря — в специфически манновской форме углубленной социальной критики.
«…Работать мне приходилось, можно сказать, сверх сил, и вечерами после тяжкого и многообразного дневного труда… я себя чувствовал до такой степени усталым, что сердечность моего общения с клиентами как-то сникла… а улыбка мало-помалу превращалась в болезненную гримасу», — мы снова убеждаемся в присущей Крулю наблюдательности, в остроте и точности его мысли и оценок.
«…Их сердца, — говорит лифтер Круль о «клиентах», — давно очерствели, и, кроме классового высокомерия, в них ни для чего не оставалось места». При случае, не заходя, разумеется, слишком далеко, Круль способен даже встать в некую позу сопротивления в отношении уж очень экстравагантных поползновений со стороны носителей «высокомерия».
«Мисс Элионор… прошу вас, найдите в себе хоть искорку юмористического отношения ко всей этой истории… Ведь это же противоестественно! Вы дочь… человека, достигшего богатства и высокого положения… я всего только кельнер… низшее звено нашего общественного строя, к которому я отношусь с благоговейным уважением, вы же бунтуете против него, ведете себя неестественно…» Речь красавца кельнера Круля, обращенная к дочке миллионера, которая хочет бежать с ним и тайно обвенчаться, насквозь проникнута издевкой над разнузданностью «малютки Элионор», над ее претензией на романтичность; но вместе с тем и над человечески «пошлым» элементом ситуации, а заодно и над человечностью собственного протеста, который потенциально содержался в наблюдениях над «клиентурой», а теперь с каким-то своеобразным сладострастием попирался в этой благонамеренной тираде.
Осмеяние «человечески сентиментального», столь, казалось бы, сокрушительное, в свою очередь, соседствует с описаниями и признаниями, носящими именно сентиментальный оттенок: сцена в вагоне третьего класса с детьми, которые возбудили в рассказчике «добрые чувства» и любовь которых он сумел завоевать; сцена с кондуктором, в
62
которой Крулю удается преодолеть холод отчужденности, окутывающий это «должностное лицо», и создать атмосферу «простой человечности»; описание первой парижской встречи с нищей старухой, указавшей ему дорогу: «…она потрепала меня по щеке своею жесткой рукой… и эта ласка была мне дороже, чем ласки более красивых рук, которые впоследствии выпадали мне на долю».
Легко показать, что и эти «островки» человечности, если можно так выразиться, тут же окутываются интонациями или прямыми суждениями, призванными «стереть», затушевать это содержание. «За эту возню с детьми, — комментирует Круль, — взрослые не раз награждали меня благосклонными взглядами, хотя я нимало этого не добивался… Я отлично знаю, что эти люди неповинны в своем безобразии… Но стремление к красоте принуждает меня от них отворачиваться. Они переносимы лишь в возрасте… детишек…»
Так через весь роман проходит этот своеобразный параллелизм: картины, освещаемые Крулем-наблюдателем, и картины, препарированные Крулем-аналитиком. Причем устанавливается некое равновесие: как бы далеко ни заходил Круль в своей рассудочной «защите» человека от «гуманной пошлости» — картина реальной действительности, им невольно нарисованная (или, вернее, начатая, так как роману не суждено было быть продолженным), не свободна от драматизма, неразрешимых коллизий, неизлечимых человеческих страданий. Она преисполнена выразительных, на каждом шагу по-разному, но с равной силой проявляемых социальных контрастов: тяжелой борьбы за существование и проявлений теплоты и человечности, с одной стороны, и преизбыточных благ и «классового высокомерия» — с другой. И то, что эти «приметы» мира, в котором существует Феликс Круль, даются приглушенно, «стерто», с постоянно обнажаемой тенденцией «останавливаться не на уродливых и суровых, а, напротив, на приятных и тонких явлениях жизни», как прямо заявляет Феликс Круль в одном месте своих мемуаров, не снижает, а усиливает драматическую силу запечатлеваемых им вопреки этому намерению картин жизни.
Не только картина богатства и нищеты попадает в поле зрения Круля, но и многие другие остро противоречивые отношения. Произвол хозяев по отношению к рабочим отеля, напряженность конкуренции между последними, при очевидной безнадежности честных ее путей, обстоятельст-
63
ва молниеносного собственного продвижения благодаря успеху, который имеет его смазливость у соответствующей клиентуры. После разговора с директором отеля, которого Круль патетически заверяет в своей ненависти к сторонникам социализма и в «восхищении» существующим порядком, он становится на место отстраненного лифтера, после ловкого доноса на старого, тепло отнесшегося к нему на первых норах кельнера Лектора — занимает его место и т. п.
Все эти напряженные коллизии предстают в описаниях Круля со свойственной его манере «эластичностью», и это совершенно специфическим образом углубляет их трагизм. То же можно сказать о демонстрирующей неограниченный произвол и унижение человеческой личности сцене рекрутского набора; о, казалось бы, просто саркастически-гротескной в откровенном своем цинизме сцене с Дианой, находящей источник сладострастия в социальной приниженности, бесправии своего любовника — «раба»; и, наконец, о имеющих особенно большое значение для его судьбы двух встречах: с «девой радости» и с маркизом Веноста.
Обратимся опять к обширному отрывку текста, чрезвычайно характерному для крулевского повествования.
«…Среди многоразличных людских пород, которые представлялись моему взору в большом городе, одна… в почтенном обществе неизменно дающая щедрую пищу для фантастических измышлений, не могла не привлечь к себе внимания еще незрелого юноши… «публичные женщины», «девы радости» или попросту «эти создания»… в ночное время снуют по определенным улицам и предлагают себя… мне всегда казалось, что если смотреть на это явление так, как вообще следовало бы смотреть на вещи, а именно свежим, не омраченным привычкой взглядом, то мы увидели бы в нем красочный пережиток более ярких эпох, включившийся в наш благопристойный век, пережиток, который меня лично радовал и веселил…»
Представляющее собою сложный сплав цинизма, ханжества и многоразличнейших оттенков иронии, крулевское освещение этой стороны жизни — на протяжении веков бывшей одной из самых трагических и гуманных тем большой литературы — демонстративно, вызывающе. Причем оно прямо ориентировано на ассоциации с литературой прошлого века и находится в центре тех глав романа, которые мы назвали «бальзаковскими» — затрагивающими острые социальные проблемы, стоящие в центре внимания романа
64
прошлого века[23]. Именно в связи с последними «ночная тема» постоянно, а с конца прошлого века особенно, служит основой глубоких, трагических коллизий — не только для Мопассана или Куприна, но и для Толстого, Достоевского, Чехова.
Именно потому агрессивность крулевского повествования, направленная против «заурядной человечности», проявляется на этой проблеме особенно остро. И тем не менее именно эта, казалось бы, столь решительно лишаемая Крулем всякого человеческого содержания «ночная» встреча оказалась для него не так то легко преодолимой внутренне, о чем мы подробно скажем ниже. Видимо, столь же решительно должны были разойтись внешние и внутренние результаты встречи Круля с маркизом Веноста, давшей толчок необыкновенной карьере авантюриста. В этой части романа, особенно в описании «сделки», очевидна огромность тех литературных ассоциаций и той традиционной гуманистической проблематики, которую приходится преодолевать Крулю как рассказчику, принципиально восстающему против точки зрения «заурядной человечности».
Определившая их отношения встреча с Веноста происходит в тот вечер, когда Круль собрался в оперу на «Фауста», но отказался от этого намерения ради решительного разговора с Веноста. Казалось бы, незначительная деталь (отказ от посещения театра) является формой выражения принципиальной мировоззренческой и жизненной позиции: Круль подчеркивает, что его сделка с «искусителем» происходит на основах забвения о Фаусте. Иначе говоря, Круль очень далек от стремления, составляющего пафос всей традиционной фаустовской проблематики: использовать договор со злом во имя добра, во имя человека, человечности, своего собственного нравственного возвышения. Последующие сцены с Веноста тоже содержат подразумеваемые фаустовские ассоциации или, вернее, демонстрацию пренебрежения ими.
Крулю и здесь кажется, что беспредельность его цинизма полностью торжествует над «грузом» традиций. Но, как увидим дальше, задача эта оказывается не столь простой, как кажется. Человечность, справедливость, совершенствование, истина — понятия, субъективно преодоленные Крулем, — возникают совершенно естественно и непроизвольно в тех же его рассуждениях и проделках, которые направлены к их победоносному уничтожению. В этом реализуется главнейшая установка автора — достижение нового
65
уровня познания современного мира при использовании наиболее субъективной жанровой формы — исповеди, то есть формы, по самой природе подразумевающей абсолютное доверие к тенденции, к освещению, исходящим от героя-рассказчика.
Созидаемая же Манном разновидность исповеди строится именно на недоверии к рассказчику: из «эксплуатации» этого недоверия писатель извлекает (постоянно ориентируясь на уроки западноевропейского и: русского романа) оригинальные и эффективные возможности постижения и социальных, и психологических истин. К этим последним, то есть к собственно психологическому плану романа — к составляющим главное его ядро самооценкам и самоанализам Круля — нам пора теперь перейти.
«Мои чувства никогда не были направлены на точную, определенную цель, чем, наверно, и объясняется то, что я, несмотря на весь жар вожделения, так долго оставался в наивном неведении, вернее, навеки остался ребенком и мечтателем», — это не центральный и не самый постоянный, но все же существенный мотив самохарактеристики.
Самохарактеристика «мечтатель» в дальнейшем обогащается, варьируется, сливается с генеральной «ролью» Феликса Круля, о которой речь пойдет впереди. В приведенной генерализации рассказчика интересно отметить тяготение к установлению противоречивости собственного духовного облика. «Издавна присущие мне робость и нелюдимость, — замечает Круль несколько ниже, — кстати сказать, отлично уживались в моем сердце с алчной приверженностью к жизни и людям». Ни к обоснованию, ни к раскрытию этих «диалектических» парадоксов в ходе повествования, ни к согласованию соседствующих дефиниций, вроде вышеприведенных, рассказчик не стремится; и эта обнаженная несогласованность — один из тех «ходов», которые делают его повествование не только сложным, но и разоблачительным: невидимые для самого Круля противоречия прорывают «оборону» противоречий самооправдательных, специально оговариваемых, которые строятся им самим. Герой-рассказчик как бы «вываливается» из идущей в обход социальных конфликтов, не знающей нравственных коллизий атмосферы самопризнаний в конфликтную ситуацию романа, созиданию которой «невольно» способствует. Все это нельзя не иметь в виду, обращаясь к той части произведения, которая представляет собою собственно признания: рассказ о чувствах, стремлениях, побуждениях, пове-
66
дении, поступках. Причем и эта сфера повествования Круля содержит, с одной стороны, рассказ о ближайшем окружении, влияниях, отношениях и внешних проявлениях «алчного» к жизни «мечтателя», с другой стороны — рассуждения, самоанализ, самооценку.
Самой примечательной деталью домашней обстановки было «хитроумное устройство» над входными дверями: «покуда дверь закрывалась, оно тоненько выводило начало песни «Жизни возрадуйтесь!» — а также украшение в саду — «…большой, блестящий шар, уморительно искажавший лица»; самым близким и наиболее влияющим в годы детства лицом был крестный Шиммельпристер — поставщик картин для апартаментов местного купечества, — маленький Круль часто для него позировал в различных костюмах; самый запомнившийся рассказ этого наставника — история о «проворовавшемся» Фидии; самое лестное его поощрение: «Этот мальчик рожден для маскарада»; любые формы маскарада и игры были и самыми любимыми проделками и занятиями: сцены судорог и припадков, обманывающие мать и врача, артистическая подделка отцовской подписи для освобождения от занятий и организованное самим отцом выступление «вундеркинда-скрипача», — на нем мы остановимся позднее.
А сейчас присмотримся к цепи воспитательных моментов, фиксируемой рассказчиком: мы уже говорили, что он очень последовательно осуществляет однажды прямо объявленный принцип — останавливаться только на особо значительных для его внутреннего формирования моментах. При этом в ходе повествования раскрывается многозначность функций, возлагаемых на «обстоятельства»: иногда они нужны рассказчику как лишний довод в свою защиту, ибо мотив «жертвы среды» порою вплетается в весьма сложную и многослойную самооправдательную «оборону», им воздвигаемую; порою же обстоятельства нужны, напротив, для того, чтобы быть опровергнутыми в прямых филиппиках рассказчика против детерминизма и материализма или послужить точкой отправления для иронически-полемических параллелей и ассоциаций с понятием среды в произведениях романтиков, в «старом» реалистическом романе, в романе «потока сознания» и экзистенциализма. Причем истинное отношение Круля как рассказчика к предшественникам и современникам не соответствует изображаемой им позиции или, вернее, той или иной из избираемых им поз.
67
Вот, например, маска, не лишенная (особенно если отвлечься от контекста) прямо-таки мятежно-романтических интонаций: «…Главными приметами моей необычной жизни… были воинственная суровость, самообладание, опасности… первейшей ее предпосылкой и основным условием неизменно была свобода, а это условие несовместимо с ярмом какой бы то ни было грубо-доподлинной действительности». Рассказчик явно развивает здесь ту линию самохарактеристики, согласно которой он — «ребенок и мечтатель», человек не от мира сего. И другое перекликающееся с тем же мотивом место в начале романа: «…ночь и сон всегда были как бы второй моей жизнью… когда просыпался, чувствовал себя куда более бодрым и счастливым, чем после дневных впечатлений и радостей…» Здесь одновременно и позыв к романтической позе, и весьма органическое, собственное решение проблемы отношения к действительности и к свободе: свобода несовместима с какой бы то ни было подлинной действительностью[24]. Это заявление окрашено в тона свойственной всему высказыванию иронической и двусмысленной игры рассказчика с понятиями и субъективно, то есть с точки зрения самого Круля, ограничивается именно таким «игровым» заданием. Но, по существу, объективно оно звучит серьезным обнаружением одного из основных убеждений Круля. Поза мятежно-романтического вызова действительности, на которую он пытается иронически намекнуть, оборачивается провозглашением принципа, близкого модернистским философам: человек, изъятый, изолированный от всякой (а не именно прозаической буржуазной, как у романтиков) социальной действительности, а заодно — и от социальных связей.
«Да, вера в свое счастье, в то, что я любимец богов, постоянно жила во мне… все страдания и муки, выпавшие мне на долю, я воспринимал как нечто случайное, мне не предопределенное, и сквозь них для меня неизменно мерцало солнечным светом мое истинное предназначение…». Здесь очень характерное для Круля сочетание: с одной стороны — он не прочь предстать жертвой «грубой действительности», как скажет однажды; с другой — утверждает торжество над нею, освобожденность. Последнее происходит не от избытка внутренних сил и веры в одушевляющие идеи, как это было у героев XIX века — Жюльена Сореля или Вильгельма Мейстера, например. Уверенность в торжестве над обстоятельствами исходит у Феликса Круля совсем из другого источника — из веры в свою привлекательную
68
внешность, инстинкта приспособляемости и актерских данных. Иначе говоря, из веры в абсолютность преимуществ физических «данных» — над нравственными, интуиции — над разумом, имитации — над подлинностью.
Мы можем отметить определенную закономерность: самонаблюдения Круля, так же как его наблюдения над внешним миром, идут по линиям, характерным для классического жанра исповеди: отношение к окружающей среде, к действительности, к самоутверждению и т. д. Но чем легче исповедь Круля «вписывается» в эти контуры внешне, тем больше не укладывается она в них по существу — и не только по содержанию, но и по форме.
В основе классической исповеди находились поиски истины, анализ душевных противоречий, их обострение или примирение. По отношению к Феликсу Крулю сами понятия: «противоречия», «противоречивость» — неприменимы ( и как-то архаичны!). По отношению к его признаниям и самоанализу скорее нужно применить понятие «емкость»: «параллельность» обнаруживаемых «Признаниями» взаимоисключающих свойств находится вне общепринятых представлений о личности — и это-то обнаружение и является подлинным содержанием созидаемой Манном новой формы.
Обоснуем это свое утверждение еще одним примером того свойства исповеди Круля, которое мы назвали «емкостью»; обратимся к его анализу общемировоззренческих своих представлений, чувств, нравственных «правил».
По поводу несостоявшихся сближений с разными людьми (товарищами по школе, домочадцами, сослуживцами в отеле, дружески принявшей его семьей ученого Кукука, с женщинами, его любившими) Круль размышляет о свойственной ему тяге к дистанции, к изоляции, к «обреченности» на одиночество: «…внутренний голос рано возвестил мне, что приятельство и теплая дружба — не мой удел и что мне предназначено в трудном одиночестве, не полагаясь ни на кого, кроме самого себя, неуклонно идти своим особым путем». Романтическое и ницшеанское русла сливаются здесь, осложняясь к тому же и более новыми мотивами, которые в дальнейшем, при осмотре Крулем музея Кукука и истолкования[25] излагаемой им философии в антисоциальном духе, находят теоретическое обоснование: человек от века по самой своей природе и положению в мире и в человеческом сообществе обречен на одиночество. Он обособляется среди враждебной и вооруженной против него природы. Об
69
отделении от животного говорит прежде всего «боязливая отчужденность и беспомощность волосатых человечков[26] в чуждом мире… по твердому моему убеждению, они уже знали… что созданы из более благородного материала, нежели все остальные». А далее — по «концепции» Круля — происходит выделение наиболее благородных: именно в этом и проявляется собственно человеческое начало человека — в возвышении над массой, в выделении, обособлении от себе подобных.
Три фигуры, изображенные на представленных в музее макетах древнейших эпох, привлекли особое внимание Круля: первобытный художник, который в полном одиночестве, «скорчившись в пустой пещере» (в то время как остальные думали о добыче пищи и устройстве жилищ), занимался никому не доступным делом — «покрывал… стены изображением буйволов, газелей и прочего зверья, а также людей, на него охотящихся»; жрец в первом храме, резко отделенный от окружающих самой непроизводительностью своего занятия; наконец, человек, торжествующий над животным миром, — искусный, не знающий промаха, вооруженный копьем охотник,— тоже своего рода мастер, артист, безбоязненно встречающийся со смертью.
Об особом «профессиональном», как он выражался, пристрастии Круля к сфере искусства, мы будем говорить ниже специально. Здесь же отметим лишь снова, что осложнение мотива одинокой сильной личности мотивом «естественной» избранности художника и мотивом смерти в чем-то соприкасается с теми позициями по отношению к действительности, которые исповедовал герой романтизма или критического реализма, в чем-то с активностью и наступательностью «сверхчеловека», в чем-то — с той пассивной обороной от действительности, к которым приходит порою герой модернистского романа.
Судьба, личность, обстоятельства — все эти слова, употребляемые Крулем, придают его размышлениям налет неуловимости, многосмысленности, сложности и проблематичности. «…Сила, которую мы зовем судьбою… по существу, мы сами», — рассуждает, например, Круль. Или: «…Есть натуры, что умеют придавать обстоятельствам известную гибкость, основанную не на одном только умении приспособляться».
Так же как при определении отношения к действительности и свободе Круля «выдали» слова о непризнании «какой бы то ни было действительности» (S. 376), здесь
70
его выдает слово «Biegsamkeit» (гибкость) (S. 403), с очевидностью обнаруживающее, что речь идет не об изменении и даже не об улучшении обстоятельств, а о способах гибкого и дерзкого самоутверждения.
Так что, как видим, емкое сочетание несовместимых понятий, которыми жонглирует мысль Круля, оказывается сводимым в конечном счете к однозначно-точному слову. И этот момент признания-исповеди имеет принципиальное значение — именно он-то в значительной мере и реализует новую функцию традиционной формы: обретать в саморазоблачении релятивиста новый уровень объективного знания о современном мире и человеке. Но обратимся снова к страницам «Признаний»…
Некое любимое в детстве «упражнение», о котором повествуется в легком и шутливом тоне, предстает раскрытием глубокой исторической правды.
«…Мне вздумалось,— вспоминает Круль,— на себе самом наблюдать силу человеческой воли… Всем известно, что зрачок наш сужается и расширяется в зависимости от силы света, падающего в него. И вот я вбил себе в голову подчинить это непроизвольное движение своенравных мускулов своей воле… Удовлетворение, которое испытывал я от такого успеха, уже граничило со страхом; я содрогался, думая о тайнах человеческой природы».
«Тайны природы» — это от фразеологии, ибо речь вполне определенно идет не о «тайне», а о подчинении, то есть извращении человеческой природы. Суть «опыта» — выражение готовности к извращению. Обширность понятия «подчинение природы» в этом духе раскрывается в рассказе уже не о детских, а о позднейших «упражнениях» Круля в том же направлении.
Реализуя плоды ранних опытов по подчинению человеческой природы, Круль имитирует приступы удушья перед врачом и матерью, а потом припадки падучей перед воинской комиссией; и пугающая подлинностью картина страшных конвульсий, подробное описание уродливых, противоестественных положений предстает как превышающее свой буквальный смысл обобщение — противоестественные телодвижения символизируют извращенность не только тела, но и духа: именно все «человеческое естество», отнюдь не лишенное достоинств — и физической красоты, и живости ума, и восприимчивости чувств — последовательно и разрушительно изуродовано поистине могущественными, но отнюдь не природными силами.
71
Вопреки самооценке автора исповеди, но благодаря новым, открываемым автором романа, возможностям формы, читатель узнает об исповедующемся гораздо больше, чем не только говорит, но и знает о себе сам Круль. Он одновременно предстает в трех ипостасях: в живущих на дне души человеческих задатках, в способности к безусловному подчинению и в активной приспособляемости, которая делает его фигурой представительной и страшной. В своем наступлении на «заурядную человечность» и в жажде подчинения «человеческой природы» он олицетворяет господствующие в мире силы.
В ходе повествования подчеркивается, что мемуары Круля — это признания авантюриста, хотя и понесшего наказание (обстоятельства разоблачения в написанной части романа остались невыясненными), но не раскаявшегося. И основная тональность «признаний» соответствует этому: это тон проповедника, активно, во всеоружии аргументации наступающего на инакомыслящих, на заурядно человеческое поведение, поступки и оценки этих последних на основе общечеловеческих норм.
Легкость побед над «человеческим», которые одерживает Круль в отношениях с окружающими и со своей собственной совестью, — обманчива. Внутренняя коллизия романа основана на растущем сопротивлении «заурядности», с которым сталкивается Круль и как действующее лицо, и как рассказчик-интерпретатор, эти действия освещающий и оценивающий.
Собственно говоря, удачно, казалось бы, подавляемая человечность так и не складывает оружие с первых и до последних страниц романа, заявляя о своей непобедимости в самых разных, странных и неожиданных формах. Вот один из выразительных эпизодов, относящихся к детству Круля.
Не умея играть на скрипке, Круль с обезьяньей точностью и в такт игравшему за сценой инструменту воспроизводил движения виртуоза, чем и создал достаточную иллюзию, чтобы убедить курортную публику в своей «гениальности». «Все глазели на вундеркинда. Бледность и самозабвенное выражение моего лица, кудрявая прядь, то и дело спадавшая мне на глаза, детские руки, выглядывавшие из синих рукавов… вся моя трогательная и необычная фигура умиляла сердце. Когда я кончил, широким и энергичным жестом коснувшись всех струн зараз, бурная овация, мешающаяся с криками «браво», потрясла
72
здание. Маленькие аристократы… на которых я частенько посматривал с тоской, получая в ответ лишь удивленные, холодные взгляды, учтиво просят меня сыграть с ними партию в крокет… То был один из лучших дней моей жизни, если не самый лучший…»
Этот эпизод детства примечателен во многих отношениях. Он является, во-первых, в значительной мере как бы центральным звеном той цепи детерминирующих характер Круля и его судьбу факторов, которые нанизывались рассказчиком с самого начала повествования и были перечислены выше: отсутствие нравственных устоев в семье, «сомнительность» общественного положения родителей, отражающаяся на отношениях Феликса Круля со сверстниками, болезненно его задевающих, развращающее влияние «сеансов» у крестного, развивающее преувеличенное внимание к своей внешности и узаконивающее обман, — все эти характеризующие «годы учения» Круля и во многом предопределившие его будущее психологические процессы предстают в этой сцене сгущенно, концентрированно. С другой стороны, эта сцена впервые принципиально обостряет своеобразное противоречие между рассказчиком-свидетелем и рассказчиком-интерпретатором, между субъективной установкой повествователя и объективным звучанием и содержанием повествования.
На других страницах мемуаров, рассказывая о крестном, родителях, о «болезнях» и пр., Круль проявляет свою позицию лишь в тоне, который может быть назван прежде всего тоном иронии, но может быть и уточнен в одной из своих интонаций — в интонации индифферентно-безоценочного отношения к окружающему и к себе самому при специфическом, как мы отмечали, выборочном внимании к определенным сторонам внешнего и внутреннего мира.
Сцена же выступления «скрипача» относится к тем узловым моментам признаний, в которых стремление рассказчика уйти от реальной сложности и оценки им же рассказанных фактов происходит с особенной оснащенностью и интенсивностью.
Не нагнетание одной интонации — индифферентной, а гамма самых разнообразных тонов и оттенков речи, организованной, как это было в «Избраннике», стремлением к уничтожению — поскольку это оказывается возможным — прямого и однозначного смысла, которым обладал данный факт,— вот то, что можно наблюдать, обратившись даже
73
только к приведенным строкам интересующего нас сейчас момента повествования.
Пренебрежительные интонации в адрес «избранной» публики («… валом валила со всех сторон, все глазели на вундеркинда»), сочувствие наивному торжеству ребенка, утолившего боль от унижений, серьезность и даже торжественность описания самозабвения артистической натуры, попавшей в свою подлинную стихию («бледность и самозабвенное[27] выражение моего лица…»), и, наконец, проникновенная элегичность заключающего восклицания: «То был один из лучших дней моей жизни…» — все эти тональности повествования оттесняют реальные обстоятельства «концерта»: «по дешевке приобретается небольшая скрипка, смычок тщательно смазывается вазелином…», «меня стаскивают на землю — маленький капельмейстер уже успел припрятать мою скрипку и смычок», — подобные фразы-скороговорки совершенно тонут в элегичности тона рассказчика, прозвучавшей не только в конце, но и с самого начала: «Тем больше радости доставило мне одно приключение, которое я и сейчас с удовольствием припоминаю во всех его подробностях».
В этом эпизоде счастливого детства Круль еще не приходит к столкновению с подразумеваемой «обычной» человеческой точкой зрения на свой поступок и не становится по отношению к этой последней в активно-агрессивную позицию.
Это происходит при изложении последующей детской «проделки» — в рассказе о посещениях Крулем гастрономической лавки (в те недолгие минуты, когда она оставалась без присмотра) с целью пополнения вкусных припасов, всегда хранящихся в его спальне. Рассказчик ставит эти посещения в непосредственную связь с основным принципом всей последующей своей жизни, который сводится к хищению «сладостей жизни»: «…я так же легко и свободно пригоршнями брал сладости жизни», — говорит Круль, как бы стягивая к этому эпизоду многие принципиальные моменты повествования.
Именно поэтому эпизод в лавке служит уже не экспозицией, а самой завязкой необычного конфликта с невоплощенным, но неотвратимо присутствующим антагонистом принципа «сладких пригоршней», за который сражается Круль. И здесь рассказчик мастерски вуалирует совершившийся факт романтической фразеологией: «Я стоял, как зачарованный, впивая трепещущей грудью чудесный
74
воздух…», «сказочные страны и подземные сокровищницы вставали в моем воображении», «добропорядочность будней вдруг рассеялась…», «с трудом подавил в себе желанье вскрикнуть от неистового счастья, от наслаждения всей полнотой небывалой свободы». Но сейчас же прямо и точно от третьего лица названо то, что подразумевается под «полнотой свободы»: «Мне, конечно, скажут, что моя проделка — обыкновеннейшее воровство»1.
Так заявляет о себе антагонист Феликса Круля — заурядная человеческая точка зрения, воплощаемая в точном однозначном слове. Против этого последнего Круль и обрушивает все ухищрения своей софистики: «…слово, поскольку оно должно характеризовать поступок, напоминает хлопушку для мух, то есть всегда бьет мимо. Вдобавок, когда речь идет о поступке, существенно не «что» и даже не «как» (хотя последнее все-таки важней), а «кто».
Этот момент битвы с «заурядной человечностью» замечателен выбором оружия: Круль стремился поразить противника, становясь под его знамена: он делает вид, что выступает не против исконного закона человеческой нравственности, воплощенного в не знающем релятивистской уклончивости, непримиримо точном слове, а против формальной «буквы закона», неправого и несправедливого. Но и здесь софистически емкая речь впадает в саморазоблачение: в определенный момент она явно обнаруживает свою несостоятельность; и Круль вынужден, выйдя из-за прикрытия, перейти к откровенным и недвусмысленным признаниям. Он снова говорит о своих «природных преимуществах», дающих право на неподсудность, и выступает с прямой декларацией недоверия к слову как средству человеческого общения и выразителю нравственных законов, на основе этого опыта выработанных.
Правда, и здесь Круль не отказывается придать атаке на слово чуть ли не мятежный характер: слова отвергаются за то, что они «не теплы и не холодны, условны, ограниченны, скованы принятой формой светской условности».
В данном случае главной проблемой является, однако, не расхождение субъективной направленности речи рассказчика и ее объективного содержания, а именно попытка ниспровергнуть слово как глашатая нравственной истины, истины-приговора, восстанавливающей права разума
75
и человечности в хаосе и тьме природных стихий и инстинктов, которые «поэтизируются» Крулем.
Отношение к слову выражается, таким образом, с одной стороны, в компрометации его как «фразы, риторики», а с другой стороны, в демонстративном игнорировании смыслового значения окружающего слова контекста. Вспомним, например, разговор с «часовщиком», покупающим украденные Крулем драгоценности, в котором он упрекает собеседника в «безнравственности и надувательстве» и т. д.; или уже упоминавшиеся разговоры с директором отеля, с некоторыми клиентами, с португальскими вельможами и самим королем, благосклонности которого, выступая под именем Веноста, удостаивается Круль, — каждая из названных речей может служить примером словесной эквилибристики, стремящейся уничтожить подлинное и прямое значение слова и, казалось бы, вполне успевающей в этом начинании.
Развитие внутреннего действия, основные узлы, по существу, центрального конфликта во многом определяются сражением Круля с попранным, но так и не уничтоженным им, суровым, непреклонным, однозначным, заурядно постоянным по своему смыслу словом.
«Сейчас, мой строгий читатель, я снова в положении, в каком уже находился, когда рассказывал о том, как я в ранние годы запустил руку в сладости жизни, в том месте я сделал оговорку, что нельзя смешивать поступок с его наименованием, нельзя нечто живое, кому-то одному присущее припечатывать обобщающим словом…» — так начинает Круль второе генеральное сражение с упрямо не поддающимся словом и его носителем, — на этот раз он персонифицирован в лице «строгого читателя». Именно этот последний с однозначной точностью характеризует существование Круля на средства полюбившей его женщины.
И Круль не может уйти от сурового слова-приговора; даже вынужден прямо признать непобедимость тех, кто остается при своем «примитивном заблуждении» и «судит иначе».
Третье столкновение с «примитивным» словом-приговором происходит в размышлениях по поводу похищения шкатулки с драгоценностями при таможенном осмотре — «скорее свершении, чем деянии», как именует это Круль поначалу.
На этот раз анализирует случившееся не только сам Круль, но и его «жертва» — хозяйка похищенных ценно-
76
стей, мадам Гупфле, или Диана Филибер, остановившаяся в отеле, где работал Круль, и отметившая его своею благосклонностью.
«…Удирай, как положено вору», «вора искать поздно», «ты их украл, любимый, значит, они твои», «сейчас я позвоню в полицию, или не стоит этого делать?» — лепечет изысканная любовница Круля. Она наслаждается пикантностью ситуации: мальчишка-лифтер, которому она позволила любить себя,— не только «дерзкий раб», но и вор: «…иди ко мне, бог воров… воплощенная мечта любви».
Круль вынужден не только выслушать, по и принять ненавистно точные слова, прекрасно понимая, что они содержат приговор даже тогда, когда произносятся с восхищением. Не учитываемая ни Дианой, ни Крулем «пикантность» их встречи заключается именно в этом объективно присутствующем в ней торжестве антагониста: в утверждении устойчивой значимости «заурядных», «примитивных» слов, суровых и однозначных в заключенной в них нравственной оценке, способных оказать сопротивление, то есть отстоять подлинное свое звучание.
Так постепенно меняется соотношение сил в этом своеобразнейшем столкновении: «эластичных», двусмысленных внутренних монологов, направленных к самооправданию, — и прямого, однозначного слова-приговора. Эти словесные соотношения, за которыми встает не только столкновение непримиримых нравственных понятий, но и контраст социальных миров, могли получить, очевидно, если бы Манн продолжил фабульно незавершенную исповедь Круля, богатое развитие. Недаром в последней части Круль особо отмечает такую черту своей лиссабонской приятельницы — Зузу: ей было свойственно весьма оригинальное и «настораживающее» убеждение, что «вещи надо называть своими именами», а молчание — вредно. «Своеобразное существо! —- рассуждает по этому поводу рассказчик. — Своеобразное и несколько выпадающее из рамок общепринятого, а также из окружающей ее светской и национальной среды».
Дело, видимо, шло к тому, что Круль должен был встретить выразителя антагонистической ему точки зрения в том или другом действующем лице романа. Иначе говоря, то нравственное разоблачение, которое совершалось только средствами самой формы повествования, должно было воплотиться в характере. Но и написанная часть незавершенного романа с очевидностью доказывает, что
77
предпринимаемые Крулем атаки на заурядно человеческие чувства, отношения, понятия и поведение — не венчаются успехом, встречают нарастающее сопротивление, постепенно выбивая героя «Признаний» из принимаемых на себя ролей, заставляя снимать интересные и загадочные маски.
Нельзя не сказать в заключение еще об одном постигающем его поражении и невольном саморазоблачении. Мы помним, что один из излюбленных Крулем путей маскировки — это самозванное причисление себя к миру искусства на основании присущей ему жажды иллюзии, самообмана и перевоплощения. Все это лежит, по Крулю, в основе всякого искусства, вернее — к этому сводится суть искусства. Потребность в нем, особенно в искусстве актера, в свою очередь, держится, как утверждает Круль, только благодаря присущей каждому человеку неосознанной готовности принять обман и даже стремиться к нему.
«Какое единодушие в желании поддаться обману! Видимо, это потребность, вложенная самим господом богом в природу человека… Любовь и приверженность к этой серой толпе сделали его столь искусным». Так рассуждает Круль после посещения варьете в родном городе. И, действительно, низкопробное, балаганное, рассчитанное на вульгарные, низменные вкусы толпы искусство актера, движимого мелким тщеславием, сродни Крулю.
Когда же Круль в парижском цирке сталкивается с подлинно высоким акробатическим искусством, он, хотя и утверждает, что и здесь испытывает чувство «профессионала», но должен признать огромность дистанции между «девой воздуха» и собою, оставшимся затерянным среди толпы. Она же «вознеслась отвагой и чистотой» — эти прозреваемые Крулем свойства искусства не имеют никакого отношения к тому, что «присваивалось» им как родственное и сопричастное. Но в полной отстраненности от якобы профессионально «сродственного» ему мира Крулю приходится признаться в национальном цирке Лиссабона, на представлении боя быков, когда проявляются такие свойства искусства, как способность сплачивать людей не «желанием поддаться обману», а восхищением отвагой, пренебрежением опасностью — словом, мастерством, в котором оживает героическое прошлое народа. Испуганный и подавленный этим искусством, Круль вынужден отступить перед объективной констатацией своего отлучения от какой бы то ни было к нему причастности.
78
Итак, в своеобразном единоборстве с традиционно-заурядной человечностью Круль оказывается, чем дальше, тем чаще, побеждаемой стороной.
Мы видим, как на протяжении всего романа средствами специфических форм повествования раскрывается контраст между самооценкой рассказчика, утверждаемой им оценкой явлений внешнего мира, нравственных возможностей человека — и объективными свидетельствами самого хода повествования; как контраст этот, созидаемый средствами формы, служит художественному познанию современной ситуации, воплощению нового, в лице Круля предстающего, художественного характера — носителя «современной» античеловечности; как формируется на путях смелых открытий новый тип конфликта, особую роль в котором приобретают действие, поступок.
Исповедь (признания), написанная с позиции самодовольства и любования ушедшим прошлым, а не покаяния, или сожаления о совершенных ошибках, о неудавшемся в чем-то жизненном пути, — это, казалось бы, отход от традиций «старого» реализма и некоторый «крен» в сторону линии, восходящей к Прусту, на которой ослабляется пафос традиционных признаний: стремление к самоочищению, обнажение «язв» собственной души перед самим собой и перед читателем. Но огромная «исповедальная» традиция, так же как традиция «фаустовская», нарушается в «Признаниях» Круля лукаво, нарочито, постоянно наталкивая на ассоциации, утверждая верность традициям по существу.
Мы имеем в виду прежде всего играющие столь большую роль в «Признаниях авантюриста» ассоциации с «предварившими» XX век созданиями Толстого, Достоевского, Чехова. Значимость созидаемой Манном новой формы романа — носителя глубокой социальной критики — предстанет полнее и глубже, если обратиться хотя \бы к самому беглому обзору той ближайшей традиции, которую он путем очень сложных взаимодействий и отталкиваний продолжает, прежде всего в области собственно повествовательной формы.
«Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро узнают… Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство,— это трудно, ужасно трудно… Вы хоть слушаете, я и то благодарен», — так обосновывает
79
свои признания перед случайным спутником Позднышев — герой «Крейцеровой сонаты» (гл. XV).
Форма рассказа от первого лица становится у Толстого и исповедью, и проповедью, и сознательно возвещаемым откровением, и невольно допускаемым самообнаружением.
В «Крейцеровой сонате» герой открывает себя в совершенном поступке; и, открыв таким путем правду о себе, вместе с тем узнает и о том, что «люди не скоро еще узнают».
Близок к такому обоснованию исповеди и герой Достоевского: «…я сделал эту жестокость хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того напускная, до того головная, нарочно подсочиненная, книжная, что я сам не выдержал даже минуты… Никогда я не выносил еще столько страдания и раскаяния» («Записки из подполья», ч. II, гл. X).
В критической пародии на «Записки из подполья» Щедрин, с беспощадной непримиримостью опровергая сущность воззрений «антигероя» Достоевского, очень точно уловил вместе с тем логику, обосновывающую само существование его исповеди: «…он говорит… наконец, что всякий человек дрянь, и до тех пор не станет хорошим человеком, покуда не убедится, что он дрянь…»1
Итак, в поздних, особенно влиятельных в XX веке, произведениях Толстого и Достоевского форма повествования от первого лица вводится под условием, что предпосылкой ее (то есть самой исповеди) является овладение каким-то общезначимым содержанием. Именно суд над самоизоляцией и эгоцентризмом своих воззрений, предшествующих преступлению и очищающим страданиям, питает пафос саморазоблачительной исповеди и «подпольного человека» Достоевского, и рассказчика-убийцы из знаменитого произведения Толстого.
Сила непосредственного нравственного чувства, глубина страданий, пережитых героями в минуты высшего нравственного просветления, бывают столь очистительны, что человек, оставаясь полностью ответственным за поступок, вместе с тем оказывается как бы отделенным не только от своих заблуждений, но и от самого поступка. Этой сложной диалектике последствий поступка и самого поступка, свойственной в разных вариациях и Толстому и Достоевскому,
80
соответствует весьма специфическая диалектика речевых форм, обрамляющих и оформляющих исповедь. С одной стороны, речь повествователя строится на пафосе саморазоблачения, и эта субъективная «установка» кажется определяющей и всепоглощающей: для взгляда «со стороны» как бы не остается места; с другой стороны — в процессе сокрушительного саморазоблачения раскрывается глубокая, более или менее осознанная противоречивость рассказчика и постепенно выявляется точка зрения незримо или зримо присутствующего «оппонента», которого постоянно предполагает и с которым спорит повествователь у Достоевского и который, в лице слушателя исповеди Позднышева и других лиц обрамления предстает у Толстого. Так или иначе, но объективно раскрывающаяся раздвоенность рассказчика значительно нарушает единую покаянную тональность исповеди.
«…И вот (я ведь омерзительную правду пишу), лежа ничком на диване… я начал помаленьку, издалека, невольно, но неудержимо ощущать… что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мною в ту ночь… Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить… Именно потому, что мне стыдно было смотреть на нее, в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство… чувство господства и обладания… Это походило чуть не на мщение!..» (ч. II, гл. IX).
За этим высшим моментом самообличения следует описание поступка с Лизой и ее реакции. «Записки из подполья» обрываются именно на характерном для повествования противоречии: субъективно поступок как бы «отделен» от рассказчика потоком покаянного самоанализа; но объективно факты, излагаемые им,— непоглощаемы, «нерастворимы» в самодовлеющей своей значимости.
В «Крейцеровой сонате», хотя и в других проявлениях и формах, переживания, чувства рассказчика, основы новой его веры, в свете которой предстает его поведение и поступок, тоже перекрещиваются с освещением, исходящим из других источников: с реакцией непосредственных участников «истории», о которых повествует сам Позднышев, а также лиц, выступающих в обрамлении и ведущих обсуждение поднятой в нем общей проблемы, и, наконец, слушателя всей исповеди — рассказчика внешнего.
Мы не будем показывать, как соотносятся эти лица с повествованием Позднышева, ибо нам важно лишь уста-
81
новить само отсутствие единого освещения в, казалось бы, неделимом, отданном во власть субъективной интонации повествовании. По-разному претворяется общая тенденция: использовать форму повествования от первого лица не только для расширения возможностей проникновения в «тайны» внутреннего мира человека, но и для раскрытия новых путей к объективному исследованию его нравственного потенциала.
Форма исповеди, построенная на расщеплении единой точки зрения, на так или иначе вводимой двойственности освещения, становилась новым средством обличения, сулила новые возможности объективного и разностороннего познания человека. И здесь наряду с именами Толстого и Достоевского[28] должно быть названо имя Чехова. Для его творчества проблема новых функций повествования от первого лица и, в частности, исповедальной формы становится едва ли не самым определяющим началом.
И именно по этой линии — по линии новых повествовательных форм — чеховская традиция имела (и подлинное, и спекулятивно-имитирующее) продолжение в зарубежной повествовательной прозе XX века. И по этой же линии оно привлекает самое пристальное внимание позднего Манна. В центре его интереса оказалась «Скучная история», в той ее особенности, которая была с замечательной меткостью определена самим Чеховым: длинные рассуждения «нельзя выбросить… без них не может обойтись мой герой, пишущий записки. Эти рассуждения… характеризуют и героя, и его настроение, и его вилянье перед самим собой»1. Этот авторский комментарий из письма по поводу «Скучной истории» содержит принципиальное для Чехова положение.
Называя «вилянье перед самим собой» основой речей-рассуждений, составляющих центр исповеди, Чехов очень точно определил характерную для его повествования черту. Источником освещения героя становятся не соотношения внешнего обрамления и самой исповеди, как в «Крейцеровой сонате», и не обнажаемые контрасты чувств и поведения, как у Достоевского, а невольно саморазоблачительные, казалось бы, лишенные резкости контрастов и драматической напряженности, речи.
Мы здесь не будем прослеживать интересующую нас черту по всему тексту чеховской повести, а попытаемся
82
раскрыть ее лишь на одном показательном примере. «…В этом, конечно, никто не виноват, но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло».
В центре высказывания — отречение от суетности как от заблуждения всей жизни: именно в этом прямой смысл признания в нелюбви к своему популярному имени. Однако трудно согласуется с отречением от суетности последнее признание: популярное имя как будто «обмануло». В обмолвках, намеках того или иного высказывания прорывается истина, скрываемая от самого себя: не слава и популярность отвергаются профессором, а они отвергают его: популярное имя перестает приносить плоды, способные удовлетворять его тщеславие. Таков расходящийся с субъективным пафосом исповеди героя-рассказчика итог скучной истории его жизни. Самообличение, заключенное в исповеди, предстает маской; искупительное покаяние стремится, но не может утвердиться в качестве объективной истины.
Идя по пути использования субъективной формы повествования в целях постижения истины объективной, Чехов ориентируется прежде всего на интонационные средства выразительности. Именно в этой сфере он обретает источник второго освещения, который позволяет вести разоблачение изнутри. При этом именно Чехов начинает интересоваться ординарным сознанием заурядной личности, склонной, однако, к преувеличенному представлению о собственных возможностях и значении; и, наконец, именно Чехов возлагает на монолог-исповедь ту специфическую функцию, которую Т. Манн охарактеризовал как «обесценивание» субъективных идей и мнений1.
Об особом значении для автора «Признаний авантюриста Феликса Круля» именно в эти годы «открытой» им «Скучной истории» и чеховской традиции вообще свидетельствует даже однотипность названия его романа и названной повести Чехова. В .самом деле, название романа имеет тот же отчужденно-отстраненный от героя-повествователя характер, как и отмеченное самим Т. Манном название особенно высоко поднимаемой им чеховской повести — «Скучная история».
«….Во всей литературе не сыскать ничего похожего на нее — такая печальная и странная эта история, именую-
83
щая себя «скучной»1,— писал Т. Манн, тонко улавливая особенности чеховского повествования. — «Скучная история» — история, созданная без видимого участия автора и вместе с тем отнюдь не отданная во власть рассказчику: ведь не он же назвал собственную жизнь «скучной историей».
Вот именно этот принцип утверждения объективной точки зрения в повествовании, по-видимому, целиком отданном во власть исповеди рассказчика, осуществлен заголовком и последнего манновского романа: ведь не самим же рассказчиком его исповедь почти по-судейски названа: «Признания авантюриста».
Впрочем, не только характером названия, но и более легко расшифровывающимися ассоциациями, возникающими по ходу повествования, Т. Манн свидетельствует о значении русской традиции для этого произведения.
«…Стоит… например, припомнить, как я в одной из знаменитых столиц империи сижу за чашкой кофе в избранном обществе, среди которого находится начальник полиции, на редкость гуманный сердцевед, и веду беспечный разговор об авантюризме и криминалистике…» — такова очевидная «отсылка» к «Преступлению и наказанию».
Есть и менее явные, но не менее выразительные. Например, зимний пейзаж — густой, мокрый снег при встрече с «ночной бабочкой» — Розой,— деталь, чреватая двойной ассоциацией: с одной стороны, с «Главкой о мокром снеге» в «Записках из подполья», с другой — с описанием переулка, где помещаются «эти дома», предстающего в дымке густого белоснежного снегопада у Чехова в рассказе «Припадок». Но это уже частности. Наиболее же существенны те содержательнейшие открытия новых возможностей формы повествования от первого лица, за которыми встают широкие, но прежде всего русские и особенно чеховские традиции[29].
Характерно, что представители другой линии развития реализма — Горький, Шолохов, Бехер, Брехт, Роллан, Арагон — продолжили, на более ранних этапах, чем это сделал Т. Манн, именно эту традицию русского реализма, вдохнув в нее новые силы. Субъективно минуя или почти минуя опыт этих современников и обращаясь к той же чеховской традиции помимо и «в обход» Горького, Манн, как мы попытаемся показать ниже, объективно сближа-
84
ется с ними, если не в результатах, то в некоторых путях исканий и в направлениях полемики. Противостоя явлениям и настроениям «кризиса», Т. Манн оказывается близок классикам литературы социалистического реализма в том, что идет по пути обогащения и осложнения важнейших для романной традиции содержательных форм.
Он очень целеустремленно сосредоточивает свое внимание на возможностях точного, полновесного слова, на поисках новых путей и форм объективного познания жизни и правдивого изображения. Чем далее, тем более Манн открывает в этом подходе возможность противостояния слишком далеко заходящим стремлениям увлечь человека в «недостойные» его, противные подлинной его природе темные области духа и деятельности.
Органичность связи «частных» исканий в области формы, идейных позиций, принципов метода присуща всему наследию Манна-романиста.
II. Пути «активизации»
социального романа
Романы «Будденброки», «Королевское высочество» и «Волшебная гора» характеризовались самим Манном как романы, принадлежащие к разным периодам одной эпохи и, соответственно, в чем-то близкие по проблематике и форме.
«…Мне думается, — говорил Т. Манн в докладе о «Волшебной горе», — что потомки все же увидят в этом романе документ, отражающий духовный склад европейца первой трети XX столетия и вставшие перед ним проблемы». И тут же замечает, что «очень трудно и почти бессмысленно говорить о «Волшебной горе», не принимая во внимание те связи, которые протянулись от нее в прошлое», прежде всего — к «юношескому роману «Будденброки»1.
Вместе с тем, «Волшебная гора», как явствует из оценок Т. Манна, усваивает опыт обращения к сказке, аллегории, который был в «Королевском высочестве». Образ героя «Волшебной горы», сказал Т. Манн в другом своем выступлении, несет в себе и обобщающее, символическое содержание; оставаясь героем определенного времени, он воплотил «вновь и вновь встающую перед нами загадку: «Что есть человек?»2.
Тенденцию к выходу за традиционные пределы романа имеет в виду Т. Манн, когда говорит о процессе «активизации» героя и всей романной формы3. Отмечая, что в «Волшебной горе» процесс этот особенно интенсивен, Манн утверждает, однако, что подобного рода «активизация» — расширение в процессе творчества предмета изображения, характеров — общая черта почти всех его романов и, прежде всего, ранних.
86
«Мой первый роман “Будденброки” был задуман по образцу скандинавских семейных хроник и повестей из купеческого быта как книга страниц на двести пятьдесят, а между тем он разросся до двух толстых томов… Точно так же дело обстояло и с “Волшебной горой”: “задуманная некогда новелла” превратилась в два тома»1. Дело, разумеется, не в объемах самих по себе, а в потребности углубить исследование человека в связи со сложными процессами и событиями, происходящими в общественной жизни Германии, Европы и всего мира.
Не только «Волшебная гора», расширившая, как признается автор, проблему человека под непосредственным влиянием опыта первой мировой войны и бурных событий, за нею последовавших, но и «Королевское высочество» — роман, отразивший «кризис индивидуализма… внутренний поворот… к служению человеку и жизни»2, и «Будденброки», проникнутые «раздумиями об упадке» целой исторической эпохи и судьбах связанных с нею поколений, — сосредоточены на тех социальных и духовных последствиях, которыми историческая ситуация первой трети XX века осложнила положение человека, его самоопределение по отношению к обстоятельствам и сами обстоятельства.
По мере углубления в эту подсказанную временем проблематику растет интенсивность исканий новых путей, форм и средств, способных охватить и воплотить ее. «Своевольная» активизация замыслов, которая характеризовалась Манном как «честолюбие», свойственное «самим произведениям»3, имеет не только содержательный, но и формальный аспект. Одновременно с углублением проблематики, расширением предмета изображения и уточнением ракурса характеристики героя в «честолюбивых» романах Манна созидалась иерархия аспектов повествования, определялись соотношения между персонажами и их значимость, дифференцировались фабульные и внефабульные линии и т. д., — словом, осуществлялась структура (строение) произведения, которая отвечала сложности авторской мысли, формируемой и направляемой стремлением постигнуть специфичность положения человека в духовной атмосфере и исторических обстоятельствах XX века.
87
«…Многое должно было, в подлинно кристаллографическом смысле этого слова, соединиться, чтобы получилось образование, которое, играя преломленным светом своих граней, зыбится множеством соотношений…»1 — пишет Т. Манн. Примененная здесь «геологическая» метафора — не случайна. Ибо именно многопластовое строение — типичная для манновских романов (да и для таких крупных новелл, как «Смерть в Венеции», «Тонио Крегер») и всегда выявляемая им самим черта.
Автор «Королевского высочества» соглашался с критиками, считающими это произведение романом из придворной жизни. «С виду», признавал Манн, это «придворный роман»; по существу же «глубокого и скрытого содержания» — это аллегорическая сказка, решающая на узколичном материале центральную для автора проблему положения человека в современном мире.
Из авторской характеристики очевидно, что соединение этих двух ипостасей романа определилось не только содержательно, но именно структурно: на первом плане «придворная» фабула, которая оттеснила пространственно и количественно сказочную аллегорию. Однако эта последняя, уйдя в глубинный пласт, сохранила за собою ведущее содержательное значение[30]. Верхний и глубинный пласты романа Т. Манн выделяет и в «Волшебной горе», о чем мы подробно скажем в своем месте.
С наибольшею отчетливостью эту особенность своих романов Т. Манн раскрыл в предисловии к «школьной» главе «Будденброков» (1947). Он отмечает парадоксальность построения этого романа: «…Ядром замысла, тем, что я с самого начала вынашивал в сердце своем, был образ Ганно». Однако этот образ, составляющий ядро замысла, нашел воплощение лишь в самых последних главах произведения и в силу этого не может, казалось бы, претендовать на центральное место. Тем не менее Т. Манн настаивает именно на этом: все части произведения, предшествующие главам о Ганно, то есть, по существу, весь роман, является «предысторией моего героя»2[31].
Так, ретроспективно обозревая свой первый роман в соотношении с его «запоздалым собратом» — «Доктором Фаустусом», писатель с тем большей остротой замечает проявившуюся, как ему теперь особенно очевидно, уже
88
и в тот ранний период тенденцию к нарушению традиционной иерархии компонентов, попытку как-то сместить и перевернуть их: центральные части романа, сосредоточившие в себе все развитие фабулы и, казалось бы, основные характеры, оказываются лишь «предысторией», а образ, занявший небольшое место в повествовании,— «ядром замысла».
Тем самым выдвигается на первый план некая новая структурная основа, которая создает целостность произведения помимо фабулы, — роль последней, естественно, ограничивается, снижается.
Манн снова и снова утверждал особую значительность той содержательной нагрузки, которая ложится в его романах на композицию, — подчиненность и соподчиненность отдельных моментов произведения — фабульных и внефабульных, событийных и психологических, развернутых в подробностях и мимолетно намеченных и т. д. «Я люблю слово “соотношения” (Beziehung), — говорит Манн. — С этим понятием для меня полностью совпадает понятие “значимости” (Bedeutende)… Значимое — не что иное как богатое соотношениями…» — писал Манн в «Очерке моей жизни» в связи с приводившимися рассуждениями о кристаллографических соединениях1.
Автор «Будденброков» и «Волшебной горы» имел полное основание с удовлетворением заявить: «…насквозь дерзновенная, лично достигнутая возможность созидания чего-то нового стала для меня воплощением искусства»2, — и рассматривать формальные и, в частности, структурные особенности своих произведений как неповторимое новаторство. Но оно не исключало того, что уже ранние романы Манна вливались в то русло, которое определило развитие реалистического романа не только в первой трети века, но и в последующие десятилетия.
Тенденция к тому, что Манн назвал честолюбием «самих» произведений, то есть потребность в широком тематическом и проблемном охвате современности, присуща не только «Саге о Форсайтах» или «Жан-Кристофу», но и «Семье Тибо» или «Прощанию» — это тоже романы, посвященные тем качественным изменениям, которые внес XX век в жизнь целых поколений и отдельной личности, трагически осложнив и вместе с тем расширив и обогатив
89
ее возможности и перспективы. Непосредственная затронутость судьбы личности и ее духовного мира общественной и духовной атмосферой эпохи очень по-разному преломляется в западноевропейском реалистическом романе, в его содержании и формах1. Вместе с тем и в содержании, и в поэтике романа можно обнаружить и некую общую закономерность.
Роман по-прежнему исследует человека во всей специфичности и реальности окружающих его ближайших социально-бытовых обстоятельств; с другой стороны, в обстоятельствах исторических или как бы на подступах к ним — в атмосфере каких-то новых жизненных «токов», которые неприметно становятся фактором личных судеб, острых коллизий, более или менее выявленных внутренних размежеваний между людьми, внешне связанных между собою крепкими узами.
Выход за пределы непосредственных, социально-психологических обстоятельств, окружающих героя, поиски путей воплощения более глубоких и дальних факторов, влияющих на формирование личности, присущи всем ведущим художникам зарубежного реализма XX века. Эта общая художественная закономерность, имея предпосылку в специфической расстановке общественных сил, присущей империалистической эпохе, реализуется, собственно говоря, всей идейной и формальной системой романов соответственно мировоззренческим возможностям того или иного писателя. Потребность познания сущностных закономерностей эпохи в художественных формах, ей адекватных, приводит к глубокой и органичной перестройке структуры романа, затрагивая многие (конечно, в каждом отдельном случае различные) компоненты формы2.
Отступления от классической формы романа в произведениях начала века наиболее ярко проявляются, пожалуй, в понижении значимости фабулы и тончайшей дифференциации стилевых нюансов в речах персонажей и автора. Мы остановимся под этим углом зрения, более или менее кратко, на некоторых моментах произведений, современных или почти современных «Будденброкам», и сделаем
90
некоторые исторические экскурсы, с тем чтобы создать соответствующий фон для рассмотрения манновского «первенца».
В романе Голсуорси «Собственник» (1901) линия Босини не сводится ни к любовной драме, ни к единоборству «свободного художника», творческой личности, и буржуа (отношения Сомса и Босини). Она раскрывает принципиальный антагонизм не только между Форсайтами и художником, но и между Форсайтами и человеком. Во всех сценах с участием Босини и Ирэн, переплетаясь друг с другом и вместе с тем не теряясь одна в другой, развивается линия личных, любовных, отношений и линия отношений деловых, а за ними, как бы «перекрывая» их, возникает глубинный конфликт: форсайтизм — и человеческие чувства, потребности; Форсайты — и человек.
Этот глубинный конфликт то запрятан в самый скрытый подтекст и обнаруживает свое присутствие только в строении фразы или в особом распределении речей, а не в смысле произносимых слов, то, в отдельных местах «Собственника», особенно в последних главах, неожиданно обнажен той или иной авторской репликой или внутренним монологом персонажа.
«Ему показалось, что все Форсайты повержены ниц и лежат без дыхания около этого тела… Силы, таящиеся в каждой трагедии, непреодолимые силы, которые со всех сторон пробиваются сквозь любую преграду к своей безжалостной цели, столкнулись и с громовым ударом взметнули свою жертву, повергнув ниц всех, кто стоял рядом. Во всяком случае, так казалось молодому Джолиону, такими он видел Форсайтов возле тела Босини».
Всемогущие Форсайты выглядят около тела Босини поверженными, а, казалось бы, частное столкновение, из которого они выходят победителями, предстает непримиримым конфликтом и возведено в ранг высокой трагедии. С точки зрения фабульного конфликта приведенное размышление неожиданно и ничем не оправдано. Но с точки зрения коллизии, определяемой на другой орбите (Форсайты — человек), оно совершенно обоснованно и строго логично.
Путем отхода от ближайших, непосредственных социально-бытовых обстоятельств, многозначностью конфликта, обнаружением в героях невыявленных, нереализованных сил, входящих в противоречие с их реальным существованием, — художниками Запада с самого начала века
91
совершалась перестройка романной структуры на основе углубления принципов реализма.
«…После целого дня унижений Кристоф прислушивался к безмолвным стенаниям своего сердца, к живущему в нем вечному Существу. Волны будней перекатывались где-то там; что было общего между ним и этой жалкой жизнью? Все скорби мира, жадные до разрушения, разбивались о его твердыню…» Итак: что общего между сокровенной сущностью человека, скрытыми в нем потенциальными силами, возможностями, стремлениями — и жизнью, которою он живет, «волнами будней», которые, поглощая его ежечасно, не затрагивают, не реализуют и не раскрывают его подлинной сущности? Внутренний монолог Кристофа передает не только состояние героя, но и общую мировоззренческую и художественную проблему. Принципиальна уже сама резкость разделения: человек в его сущности — и человек в его жизни, в повседневной, видимой практике. Недаром, думается, мысль эта высказывается в части романа «Ярмарка на площади», представляющей как бы его кульминацию и вместе с тем наиболее близко соотносящейся с произведениями Бальзака и вообще реалистическим романом XIX века, в котором проблема сущности человека и его жизни тоже стояла в центре внимания, но разрешалась иным и в чем-то даже противоположным образом.
Интересно в этой связи сравнить, например, описание банкета у Тайфера в «Шагреневой коже» с изображенным в «Ярмарке на площади» обедом «нескольких писателей и художников», на котором присутствует Кристоф.
При обращении к названным схожим эпизодам бросается в глаза, что картина, созданная Ролланом, почти лишена диалогических речей, которые у Бальзака играют исключительно большую роль. В известном отзыве о «Шагреневой коже» Горький писал об этой сцене: «Другое место в этой книге, поразившее меня своим мастерством, — диалог на банкете, где Бальзак, пользуясь только бессвязными фразами застольного разговора, рисует лица и характеры с поражающей отчетливостью»1.
Действительно, каждая фраза в этом эпизоде, — будь то реплика, содержащая философское обобщение, или речь, посвященная политической программе; будь то преисполненное искренности интимное признание или самая легко-
92
мысленная шутка; будь то слова гнева или восторга, ненависти или любви, — выявляет самую суть характеров в их проявлениях в данных обстоятельствах, в их связи с данной конкретной ситуацией, типичной для эпохи.
Для Бальзака сущность человека раскрывается с исчерпывающей полнотой на пути его показа в непосредственно окружающей среде, путем тщательной обрисовки жизненных обстоятельств, окружающих человека, и предметов быта, сопутствующих его повседневной жизненной практике. У Роллана иной подход.
Вся сцена застольной беседы в «Ярмарке па площади» складывается из тех или иных проявлений отчужденности Кристофа от происходящего, — от того, что его непосредственно окружает; все то, что происходит на банкете, все, что окружает Кристофа, слова, которые звучат в этом эпизоде, и то, как они звучат, разделяет видимые проявления героя и спрятанную за ними потенциальную его сущность, которая отнюдь не нереализуема[32] принципиально (это означало бы возврат к романтическому характеру), но как бы отделена от ближайших обстоятельств, которые господствуют в данной сцене, и соотнесена с обстоятельствами глубинными и сущностными, так или иначе приоткрываемыми на соответствующих пластах романа. В показе этого — основной смысл и назначение всего эпизода, так же, впрочем, как и многих других моментов романа.
Подобного рода тенденции, осложняющие традиционную структуру реалистического романа, проявляются у самых разных по индивидуальным своим особенностям художников, в разных национальных литературах и в разные десятилетия. Они менее всего плод личного произвола того или другого писателя. Тенденции эти глубоко закономерны. Зарождаясь в начале века, они обогащаются и углубляются на последующих этапах.
Характерен в этом смысле начатый в 20-х годах и законченный в 1940-м роман И. Бехера «Прощание», занимающий по формальной жанровой принадлежности промежуточное положение между «Будденброками» и «Волшебной горой», то есть между социально-психологическим романом смены поколений и воспитательным романом. Рассказ о годах учения Ганса Гастля — о его семье, школе, товарищах, провинностях, наказаниях, заблуждениях и прозрениях — остается с начала и до конца единственным предметом описания. Но вместе с тем, не теряя своего прямого, конкретного, бытового и биографического
93
значения, почти каждый момент этого описания или, вернее, заключенная почти в каждом фабульном моменте специфическая деталь приобретает и некую новую функцию, далеко выходящую за ее непосредственное бытовое значение. Бытовой, верхний слой романа как бы прорастает вглубь, захватывает более существенное содержание.
Образы таких второстепенных персонажей, как денщик Ксавер, служанка Христина, первый закадычный друг Ганса, мальчик из рабочей семьи — Гартингер и ряд других, далеко уходят от своего фабульного амплуа.
Порою эти образы, обозначаемые Гансом собирательными словами — «настоящее», «оно», — заменяют и авторский психологический анализ, и внутренний монолог героя.
«…Это было “оно”, когда я в новогоднюю ночь, в канун наступления нового, двадцатого, века, поклялся начать новую жизнь… Это родная стихия Гартингера… Христина воплощала его в себе, и Ксавер играл о нем на своей гармонии».
Задача автора «Прощания» состоит в том, чтобы создать впечатление подчиненности и неполноты непосредственно изображаемых бытовых картин, внушить мысль о присутствии второго, более глубинного, пласта. Помимо него, или, вернее, вне соотнесения с ним содержание произведения и суть воплощаемого в нем характера, «выпадающего» из окружающих обстоятельств, не могут быть до конца раскрыты.
Повышение роли детали и второстепенных компонентов в строении романа, оттеснение фабульного конфликта внефабульным, (возникновение различных по своей значимости «пластов» действия, создание меняющихся и «растущих» в своих функциях персонажей — все это новые признаки глубокой перестройки формы, которая знаменует чуткость к требованиям эпохи и рост познавательных возможностей метода.
Романы Т. Манна причастны всем названным здесь содержательным и формальным линиям перестройки традиционного социально-психологического романа. Однако уже в пору создания первых романов выявляется характерный именно для Т. Манна аспект исследования положения человека в современной ситуации и соответствующая ему форма. Выход за пределы ближайших обстоятельств к обстоятельствам «далеким» сопровождается в романах Манна не обострением коллизии, как у Голсуорси, или духов-
94
ным обогащением возрождающегося к новой жизни героя, как у Роллана и Бехера. В романах Манна на судьбах обыкновенных героев, не отличающихся незаурядностью Кристофа или Босини, раскрывается объективная невозможность оставаться в пределах ближайших обстоятельств и утверждается возможность и даже необходимость выбора судьбы. Так уже в ранних романах, как мы попытаемся показать, выявляется тот нравственный аспект характеристики и коллизий, который составляет «ядро» романов Т. Манна и лежит в основе их своеобразия.
Открытие
„далеких“ обстоятельств
и объемной структуры романа
«С тифом дело обстоит так. Человек ощущает какое-то душевное расстройство, оно быстро возрастает, переходит в бессильное отчаяние. При этом им овладевает физическая слабость… Больного все время клонит ко сну… У некоторых индивидуумов диагноз затруднен привходящими обстоятельствами…» и т. д. и т. п. Так начинается предпоследняя глава романа Т. Манна — «Будденброки». Настоящая выписка из медицинского справочника!
«Предположим, к примеру,— читаем на тех же страницах «Будденброков»,— что первые симптомы заболевания — упадок духа, вялость, отсутствие аппетита… имели место уже в те дни, когда больной — надежда и упование своей родни — был еще на ногах, и потому внезапное обострение этих недомоганий никому не кажется чрезмерным уклонением от нормы… И все же опытный врач, ну хотя бы доктор Лангхальс, смазливый доктор Лангхальс с маленькими волосатыми руками очень скоро разберется, в чем дело, а появление роковых красных пятен на груди и животе превратит его подозрение в уверенность… Он потребует для больного возможно большего и возможно лучше проветриваемого помещения…» и т. д.
Это стилизованное повествование «под» медицинское руководство или историю болезни, в которой один из главных героев романа превращается в некоего абстрактного «больного», его семья — то есть главные лица произведения, ставшие живыми и близкими для читателя на про-
95
тяжении всех предшествующих частей, именуются собирательно «родня», и даже такой бытовой персонаж, как доктор Лангхальс, сменивший .старика Грабова, абстрагирован официальным определением «опытный врач», — совершенно явно, ведется не «обычным» автором, который, то вполне скрывая, то как-то обнаруживая свое присутствие, ткал, казалось бы, традиционную эпическую ткань многих предшествующих страниц романа.
В главе, посвященной смерти Ганно, присутствует некое особое авторское начало, сходное с «Духом повествования» в «Избраннике». Это впечатление усиливается к концу главы, когда интонация документальности резко переключается совсем в другую тональность: наивно-патетическую и вместе с тем умудренно-ироническую речь отнюдь не холодного, но привыкшего руководствоваться разумом и примиряться с неизбежностью наблюдателя. Особенно замечательна в этом смысле заключительная фраза: «…тогда — это ясно каждому — он умрет…»1. Мы сейчас еще вернемся к ней и процитируем ее в контексте, а пока скажем, что даже только эта фраза демонстрирует форму повествования очень своеобразную, неожиданную для западноевропейского романа не только начала века, но и последующих десятилетий, столь богатых экспериментами и новациями.
Предпоследняя главка о тифе нужна Т. Манну не для того, чтобы итогово охватить фабульное начало романа в главных и очевидных его разветвлениях и перипетиях. (Эту функцию скорее выполняет следующая, самая последняя глава, посвященная проводам Горды.) Описание того, как «дело обстоит с тифом», призвано — это подчеркнуто самим демонстративным уходом от «господствующей» формы повествования — стать итогом фабульно-второстепенной, или скорее «спрятанной», «затененной», линии, несущей, однако, более сложное, глубокое и проблематическое содержание.
Суть последнего воплощена в этой же главе в соответствующем всему ее стилизаторскому строю поединке голосов жизни и смерти, исход которого, предопределенный обстоятельствами жизни и характером Ганно, решил его участь: «…больной ясно слышит призывный голос жизни… если человек прислушивается к этому звонкому, светлому, чуть насмешливому призыву… если в нем вновь пробудятся
96
энергия, радость, любовь, приверженность к глумливой, пестрой и жестокой сутолоке, которую он на время оставил… он повернет назад и будет жить. Но если голос жизни, до него донесшийся, заставит его содрогнуться от страха и отвращения, если в ответ на этот веселый вызывающий окрик он только покачает головой и отмахнется… тогда — это ясно каждому — он умрет».
Смерть в ее неотвратимости, болезнь как послушная исполнительница ее предначертании, жизнь как абстрактно-метафизическое понятие и называемый просто «больным», даже имени лишенный человек — вот, по-видимому, резюме романа, как бы выводимый наружу философский и художественный его итог. Он легко как будто бы сближается со «Смертью Тентажиля» Метерлинка, или заключительной главой «Процесса» Кафки, или некоторыми страницами «Чумы» Камю.
Но стоит внимательнее вчитаться в текст, воспринять его во всем богатстве оттенков — этого, как мы уже не однажды убеждались, главнейшего оружия и орудия манновской мысли и стиля — и от такого заключения приходится отказаться. Ибо уже в этом первом романе, — и это выявляется с особенной очевидностью, если рассматривать его, как мы и пытаемся, в свете позднего творчества, — Манн даже самую метафизическую ситуацию (встреча жизни и смерти, здоровья — болезни) делает ситуацией остродраматической, оставляет за своим героем выбор и сопряженную с ним ответственность, которых принципиально лишены герои перечисленных выше авторов и произведений.
До «больного» не просто доносится призывный голос жизни — этот голос предлагает выбор. И именно этот последний, а не абстрактный «поединок» голосов сам по себе и не неотвратимо надвигающееся «нечто» имеет решающее значение для его судьбы: «…если в ответ на… окрик он только покачает головой и отмахнется… он умрет». Само наличие предположительного оттенка фразы1 уничтожает впечатление предопределенности, неотвратимости судьбы человека перед лицом внешних сил. А чуть приметный оттенок иронии, не лишенной осуждающей «больного»
97
интонации, при всей нарочитой, стилизованной ее наивности, окончательно выбивает почву из-под аналогии между картиной смерти маленького Ганно и системой образов в названных выше произведениях. Осуждающий оттенок в адрес маленького Ганно или, вернее, сделанного им выбора воплощен не только интонацией, но и более непосредственно и прямо. Ведь сказано о том, что жизнь внушает ему только «отвращение» и прежде всего «страх», равно порождаемые всеми ее проявлениями — низменными и высокими, прекрасными и безобразными, печальными и веселыми. В противовес этому «наивный» дух повествования детально дифференцирует метафизическое понятие «жизнь». Он — этот столь нетрадиционный рассказчик — вовсе не претендует, естественно, на всеобъемлющее и глубокомысленное раскрытие этого понятия, но весьма выразительно, в соответствии с проблематикой предшествующего повествования, оттеняет «взаимоотношения» жизни с человеком как, хотя и неравносильных, но в принципе равноправных «партнеров».
Жизнь многолика, она неизбежно поворачивается к человеку очень по-разному, в зове ее очень много не только различных, но и противоположных звучаний: она глумлива и жестока, но «зов» ее звонок, светел, чуть насмешлив, преисполнен веселья и вызова1. Сами эти эпитеты, определения говорят о том, что понятие жизни освещено здесь не в натуралистически-физиологическом, и не в фрейдистском, и не в ницшеанском или шопенгауэровском духе. Скорее можно говорить о том, что каждое из односложных, но емких определений, к этому понятию прилагаемых, более или менее полемично по отношению к названным выше течениям мысли, под воздействием которых формировалось миросозерцание молодого писателя.
Призыв жизни «…звонкий, светлый, чуть насмешливый» — уже этот лексический ряд не вяжется с ее восприятием ни как игры подспудно действующих физиологических законов, ни с призывом к подавлению духовно-нравственного начала во имя инстинкта, ни с уничижением жизни перед лицом смерти.
Мы отнюдь не хотим сказать тем самым, что в романе нет следов всех упомянутых воззрений, столь распространенных и влиятельных для своего времени, то есть опровергать давно установленную и неоспоримую истину. Мы
98
хотим лишь подчеркнуть, что в «главке о тифе» — своеобразном резюме романа — выдвинуты на передний план все стороны: противоречивость и многообразие не только проявлений, но и основных начал человеческой жизни и серьезность требований, предъявляемых ею человеку.
Отвага, долг, энергия, любовь — вот главные из них. Метафизическое понятие жизни оказывается неотделимым, — и это тоже уже знакомо нам по поздним романам Т. Манна, — от понятий этических, ибо как будто бы абстрактное отношение человека и жизни сейчас же конкретизируется как отношение человека к человеку, к людям, к человеческому сообществу, к выработанным в нем нравственным понятиям и всему характеру его устройства или неустройства. Просто «отвага» или «энергия» еще может относиться к человеку «природному» и подразумевать его борьбу за существование, но «долг», «любовь», «радость» или «отвращение» — эти слова характеризуют позицию, которую человек должен занять по отношению не к жизни как существованию, а к окружающей его действительности во всей конкретности ее проявлений.
А. Жид («В подземельях Ватикана»), Камю («Посторонний»), Кафка («Процесс») вводят социально-бытовые, конкретно-«достоверные» моменты в свое повествование затем, чтобы подчеркнуть их несущественность перед лицом иных, первозданных могущественных и действительно «правомочных», сил, неотвратимо определяющих судьбу, поведение и жизненную позицию человека. А Т. Манн специфичнейшим путем, отходя от социально-конкретного плана повествования, и самые абстрактно-умозрительные образы наполняет острым психологическим и социальным драматизмом. Он как бы изнутри взрывает их отвлеченность, делает их неотделимым звеном единой для всего романа концепции человека как существа не только обусловленного, но и активного, призванного к противодействию злу, к нравственному выбору, ответственности за все, что происходит с ним и перед его глазами — во всей жестокой и радостной «путанице» жизни, по-разному претворяемой в отдельной человеческой судьбе.
Неразрывными нитями связан «метафизический» итог романа со всем предшествующим повествованием. Он как бы демонстрирует, что в любом ракурсе обозреваемая, в любой степени абстрагированная, предстающая в моменте наибольшей отключенности от всего «житейского» — человеческая жизнь все равно с неизбежностью остается пре-
99
исполненной проблемами и коллизиями, которые порождаются окружающими человека реальными обстоятельствами и избираемой в отношении к ним позицией.
«Страх», «отвращение», «жизнь», «смерть», «жестокость», «сутолока» — сам этот лексический ряд, проходящий через все повествование о маленьком Ганно, как бы перебрасывает мост между конкретно-бытовыми и вместе с тем остро драматическими страницами, посвященными описанию одного дня его школьной жизни и, казалось бы, абстрагированным от всякой бытовой, социальной и психологической реальности описанием «тифа».
«Так-то обстоят дела! — рассуждает, гуляя с Ганно в перерыве между уроками, его приятель Кай.— А теперь я спрашиваю: разве это жизнь?..» И маленький Ганно отвечает: «…Я от всего этого устаю. Мне хочется спать и ни о чем больше не думать. Мне хочется умереть, Кай!..» Так в разговоре школьников, происходящем по поводу тягот угнетающего их «заведения», возникает проблема жизни и смерти, стойкости и усталости как непосредственная, органическая реакция на окружающий мир — его несправедливость, духовное убожество, политическое мракобесие. Участники диалога далеки от осознания всей глубины затрагиваемых явлений, но тем не менее остро чувствуют силу и тяжесть «всего этого» — как не очень четко, но выразительно обобщил Ганно страшные и неприемлемые для него стороны жизни, непосредственно его затронувшие. Характерно, что он, повторяя слышанное, хочет убедить своего друга и самого себя в том, что его неудачи, тяжелое настроение, нежелание жить — связаны с биологическими причинами: с тем, что он — последний представитель вырождающегося рода: «Нет, нет, ничего из меня не выйдет. Я ничего не хочу. Даже не хочу прославиться… Меня это страшит, словно в этом тоже есть какая-то несправедливость… пастор Прингсгейм… недавно сказал кому-то, что на мне надо поставить крест — я из вырождающейся семьи».
Это высказывание Ганно замечательно во многих отношениях. В частности, и тем, что одной репликой наивного ребячьего рассуждения писатель прибавляет к характеристике среды еще один убийственный штрих: освещает цинизм священника, произносящего безапелляционный приговор над членом своей паствы в духе вульгарно трактуемого дарвинизма. Но особенно интересны нам сейчас слова Ганно содержащимся в них невольным самоопроверже-
100
нием: Ганно совершенно ясно говорит о том, что жизнь вселяет в него ужас прежде всего несправедливостью, возвышением одних над другими; однако этой же фразой он утверждает, что причиной его «усталости жить» является только наследственность.
Мы уже видели, как широко, как богато будет использован прием самоопровержения в романе позднего Манна, — в данном случае позднейший опыт опять-таки позволяет яснее увидеть масштабность, принципиальность тех ростков, которые давали всходы в романе-«первенце». Однако значение приема самоопровержения, перерастающего впоследствии в сокрушительное саморазоблачение, как принцип целого романа, велико не только в смысле возможностей дальнейшего развития: он играет большую роль в самих «Будденброках», особенно в части, посвященной Ганно. Но и не только в ней. Принцип опровержения мироощущения главных героев, видящих себя жертвами рокового упадка, логикой их же действий, чувств и невольных признаний осуществляется во имя раскрытия истинной основы, обуславливающей судьбы и внутренние драмы. В ходе дальнейшего анализа мы попытаемся развить и обосновать эти наблюдения на материале всего произведения, а пока вернемся к школьному дню Ганно.
Повествование о школьном дне, представляющее собою очень сложный сплав традиционно-объективного изложения, рассказа, ведущегося с точки зрения Ганно, его внутренних монологов, отчасти уже цитированных диалогов и непосредственно авторских обобщений, сосредоточено на освещении непроходимой пропасти, отделяющей Ганно от его окружения.
Сотоварищи Ганно, «с молоком матери впитавшие в себя воинственный и победоносный дух помолодевшей родины», превыше всего ставившие грубоватую мужественность, чуждые духовных интересов, — это намек на страшную суть школы, которая, в свою очередь, является олицетворением господствующего, определившегося после победоносного для прусской военщины 1871 года умонастроения общества.
Педагоги рисуются Манном в индивидуальных чертах поведения, портрета, в тех или иных сторонах биографии и личной жизни. Но вместе с тем каждый из них и все они вместе — преподающий закон божий Баллерштедт, ничего на свете так не любивший, как вкусно поесть и выпить; пресмыкавшийся перед знатными воспитанниками доктор
101
Гельднер; «восторженно относящийся к военной службе» преподаватель химии Мароцке; трепещущий перед сильными и задиристыми и обижающий слабых преподаватель английского языка Модерзон; восхваляющий при каждом удобном случае Бисмарка и поносящий социал-демократов Дрегемюллер и, наконец, отличающийся «бесконечной несправедливостью» латинист Мантельзак — конкретизируют, иллюстрируют, каждый по-своему, отражаемый школой дух общественной реакции. В центре повествования оказывается Мантельзак. Его урок — один из самых важнейших[33] моментов романа.
Повествование от автора, авторская точка зрения осложнена здесь восприятием порою всего класса, порою — одного Ганно, то есть к голосу рассказчика-наблюдателя как бы присоединяются «голоса» персонажей: «при появлении доктора Мантельзака в классе мгновенно водворилась тишина… Он был классным наставником, а к классным наставникам полагается относиться с сугубым уважением»,— свидетельствует, например, автор, нерасторжимо сливая объективное повествование с точкой зрения персонажей.
Подробно, обстоятельно повествуется об ответах вызванных учеников: любимец Людерс отказался отвечать, сославшись на головную боль, Тимм, изощренно использующий отработанный метод обмана, то есть прочитавший заданный для выучивания наизусть текст Овидия по книге, хотя и получил замечание за недостаточное «чувство гекзаметра», но был удостоен похвалы за прилежание; Мумме, всегда добросовестно учащий уроки и не могущий прибегать к жульническим проделкам по причине близорукости, вызвал резкие нарекания, гнев учителя; Ганно Будденброк, уже готовый отказаться от ответа, но в последний момент с помощью впереди сидящего ученика воспользовавшийся тем же спасительным обманом, который нагло и ловко применил Тимм, был сурово раскритикован за отсутствие «даже капли художественного чутья», но поощрен за «прилежание».
Кульминацией урока и всей школьной главы является, однако, ответ не Ганно, а злосчастного Петерсена, который «попался».
«— Вы позор нашего класса1 — изрек доктор Мантельзак и пошел обратно к кафедре…
102
Петерсен сел на место, как приговоренный. Сосед от него отодвинулся… Он пал, был всеми оставлен, покинут… Относительно Петерсена существовало сейчас только одно мнение, и это мнение выражалось в словах: «Позор нашего класса…» Того же мнения был он сам».
«Позорное пятно класса», — в лживой и двусмысленной патетике этого изречения учитель и ученики находят надежный заслон от своих поступков, от подлинного смысла всего происшедшего по существу. Так уже в «Будденброках» стилевая окраска высказывания, поглощая смысл слова, выступает как «укрыватель» истинной сущности поступка, поведения.
Нельзя не вспомнить в этой связи о традициях. Тирады лицемеров классического романа или драмы (назовем хотя бы мольеровского Тартюфа, грибоедовского Молчалина, щедринского Порфирия Головлева, многих диккенсовских персонажей) противопоставлялись их делам, и именно этот контраст во всем практическом его содержании и последствиях давал обличительный эффект. Внимание Манна сосредоточено на саркастическом выявлении контраста между истинным значением слова и значением, подчиненным «нуждам» двусмысленного высказывания, призванного не столько вуалировать действия, сколько разрушать души. В романе-«первенце» этот новый поворот скорее обозначен, чем развит. Но и в нем, как видим, присутствует проблема «покушения» на «точное слово», которая в творчестве позднего Манна займет столь важное и большое место.
«Казус» с Петерсеном является тем моментом главы, начиная с которого в центре оказывается размежевание среди учеников. Исподволь и непроизвольно выявляются важнейшие для романа отношения: Ганно и класс, школа, стоящая за ней жизнь, а также еще более значительная линия: Ганно и Кай.
Единство, как казалось не только учителю, но и самим ученикам, в отношении «позора класса» — Петерсена — не было абсолютный. «Те из двадцати пяти юнцов, что отличались устойчивой конституцией и были достаточно сильны и крепки, чтобы принимать жизнь такой, как она есть, и сейчас просто отнеслись к положению вещей… сочли все это само собою разумеющимся и нормальным. Но среди них нашлись и такие, чьи глаза в мрачной задумчивости уставились в одну точку. Маленький Иоганн не отрываясь смотрел па широкую спину Ганса Германа
103
Калиана, и его золотисто-карие глаза выражали отвращение, внутренний протест и страх». Так под внешним единством происходит фактический раскол, который, благодаря проведенным по всей главе ассоциациям школы с обществом, воспринимается много шире и глубже, чем раскол небольшого детского коллектива.
Итак, одни: «…были достаточно сильны и крепки, чтобы принимать жизнь такой, как она есть…» (Причем очевидно, что речь идет не о биологической, а о социальной «приспособляемости», проявляющейся в невосприимчивости к произволу, цинизму, несправедливости.)
С другой стороны — растерянность и чувство страха. Но и оно менее всего предстает здесь как некая биологическая стихия — рефлекс неполноценности. Страх рождается как результат «мрачной задумчивости», «отвращения», «оскорбления» и «внутреннего протеста». Страх не перед жизнью вообще, как кажется самому Ганно, а перед жизнью, в которой царят Мантельзаки и другие «жизнеутверждающие фигуры».
Так особым образом организуемая ассоциативная цепь, построенная на словах «боюсь», «страх», связывает разные формы повествования: стилизацию главки о тифе, самохарактеристику Ганно в школьной главе и объективное авторское описание реакции того же Ганно на «классическую несправедливость»1. Одно и то же слово-понятие — «страх» (Furcht) поворачивается разными, в том числе и взаимоисключающими, гранями. Отнюдь не во имя изысканной стилевой игры: здесь целеустремленно проводимое отграничение, с одной стороны, от специфической разновидности жанра, каким был роман наследственности, с другой — от традиционного семейного социально-психологического романа, сосредоточенного на выяснении отношений героя с окружающей его средой.
Прием соотнесения разных форм речей помогает установить истинный смысл и природу страха Ганно — его не биологический, а глубоко критический и социально-этический пафос.
Стилизованный рассказ в главке о тифе, о страхе Ганно перед жизнью и о загадочности его последней встречи с Каем соотносим почти каждым своим словом с деталями описаний и диалогов школьного дня. Он не только не противостоит логике предшествующих глав, но прежде всего
104
призван подтвердить значимость, казалось бы, не выходящих за пределы дома и школы отношений юных героев.
Полемически заостряя важность и жизненность типа, воплощенного в образе его маленького героя, Т. Манн приходит к отождествлению позиции Ганно с позицией искусства по отношению к обществу вообще: «Когда искусство критикует жизнь, действительность, а также человеческое общество — не есть ли это всегда критика с позиций маленького Ганно?..»1
Недаром, однако, положение это выдвинуто Манном в вопросительной форме и, видимо, не без столь характерного для него «лукавства», провоцирующего несогласие читателя. Ибо именно в главах, посвященных маленькому Ганно (которые Т. Манн в том же позднем предисловии назвал «ядром романа»), намечена позиция критики жизни человеческого общества, расходящаяся с позицией «последнего Будденброка». Причем расхождение это имеет первостепенное значение и для мысли, и для строения всей интересующей нас сейчас части романа.
Мы имеем в виду прежде всего отношения Ганно с Каем. Отпрыск в прошлом славного, а ныне пришедшего в упадок дворянского рода фон Мельн, имеющий не меньшую, чем Ганно к музыке, склонность к литературе, Кай, с одной стороны, очень близок Ганно, являя как бы вариацию одной и той же судьбы, одного и того же психологического склада, одних и тех же жизненных идеалов; а с другой стороны, он противоположность, даже почти антагонист своего друга. Соотношение образов этих подростков-школьников в последней части романа заключает один из самых глубоких и существенных идейных его аспектов, как бы подтверждая вместе с тем первостепенную важность «полномочий» фабульно второстепенных персонажей, которая определилась уже в «Будденброках» и, по-разному преломляясь, прошла, как мы отчасти уже видели, по всему творчеству их автора[34].
«Со своими маленькими товарищами Ганно особенно не сближался… Только с одним соучеником с первых же школьных дней его связала тесная дружба». Их соединяла нелюбовь к школе, к спортивным и светским удовольствиям, которым предавались их сверстники, наблюдательная вдумчивость, с которой оба относились ко всему окружающему, остро реагируя на жестокость, несправедливость,
105
пошлость, и, конечно, творческая одаренность и преданная увлеченность искусством. Казалось бы, их соединяло и вырождение, упадок их семей: «…ни одного графа Мельна больше не существовало. Отдельные ветви этого некогда богатого, гордого и славного рода мало-помалу впали в ничтожество, заглохли, вымерли». Сближение в судьбах семей подчеркнуто «территориальной» деталью: после смерти отца Ганно с матерью переселяются «за городские ворота» — в район расположения ветхой «усадьбы» последнего графа Мельна. Однако, при общности воздействия атмосферы «конца» и общей к ней восприимчивости, сознание, поведение и творческие устремления двух юных героев романа различны, и различие это определяется психологическими и социально-бытовыми факторами, которые оказываются более реальными и действенными, чем общий для обоих фатум вырождения.
«…Маленький Иоганн видел больше, чем ему следовало видеть… как легко, тактично и в то же время как до мельчайших оттенков по-разному умел отец держаться в обществе… и при одной мысли, что и от него ждут со временем таких же выступлений в обществе…. Ганно невольно закрывал глаза, содрогаясь от страха и отвращения. Увы, не такого воздействия на сына ждал Томас Будденброк от своего личного примера!» Во всех описаниях детства последнего Будденброка вскрывается постоянный и подавляющий, при всей любовной своей заботливости, гнет семьи и среды. Внутренняя сопротивляемость Ганно не была убита, но воля и жизнерадостность были парализованы.
Условия прошедшего в нищете и заброшенности детства Кая описаны очень кратко и скупо; члены семьи обрисованы несколькими словами: мать, умершая при его рождении; тетка, публикующая романы в журналах «для семейного чтения»; какая-то старушонка, которая вела хозяйство графа, и сам граф, отец Кая,— «чудак и нелюдим, крайне редко показывавшийся в городе и всецело поглощенный разведением кур, собак и овощей». Отношение его с окружающими определилось своеобразной декларацией, которую он вывесил на воротах своей усадьбы: «Здесь проживает граф Мельн в полном одиночестве. Он ни в чем не нуждается, ничего не покупает и никому ничего подавать не может».
Объявление, вывешенное графом, анекдотично, но, являясь своеобразной декларацией независимости и свободы, оно составляет полную противоположность поведению и
106
помыслам Томаса Будденброка, особенно в те последние годы его жизни, когда он стремился воздействовать на сына: «То, что в городе называли его «суетностью», возросло так, что он и сам уже начал этого стыдиться… жизнь Томаса Будденброка стала жизнью актера… Отсутствие интереса, способного захватить его… в соединении… с упорной решимостью всеми средствами скрывать свою немощь и соблюдать les decors, сделали существование Томаса Будденброка искусственным, надуманным…»
Приведенное место романа и страницы об отце Кая разделены между собою немалым количеством страниц и не имеют ни малейших точек фабульного пересечения, но это не исключает того, что «скрытое» их взаимодействие подводит фундамент под те различия психологического склада и жизненной позиции, которые отличают Ганно от Кая. Так опять-таки «переключается» повествование из плана общности роковых семейных судеб в план различия социально-психологических влияний и воздействий. Постоянно ориентированная на поддержание престижа «игра» Томаса Будденброка, с одной стороны, и до «дикости» доходящее пренебрежение и к «обществу», и к престижу нищего графа — с другой, — лишь важнейшее, но не единственное звено системы этих взаимооттеняющих контрастов.
Вырастившая несколько поколений Будденброков мамзель Юнгман, глубоко убежденная в избранности своего подопечного, фанатично верящая в великое предназначение племянника тетя Тони, артистически играющая на скрипке мать, озабоченная музыкальным образованием сына. А с другой стороны — сиротство, «некая старушонка», ведающая всем хозяйством графа, где-то существующая тетка, причастная литературе, но не ведающая ни о племяннике, ни о его литературной одаренности.
Такие параллели устанавливаются то косвенно, путем внутренне соотнесенных, но внешне независимых друг от друга моментов повествования, то непосредственно и прямо: «…вот и случилось, что маленький граф… переступил — с изумлением, но без всякой робости — порог роскошного жилища своего друга»; «…Хорошо тебе, Ганно, — говорит Кай. — Я, например, ни разу в жизни в театре не был…»
В этом же ряду можно было бы назвать еще несколько не менее выразительных деталей, единственным назначением которых является обнаружение социальных «примет»
107
как факторов, влияющих на мироощущение и формирование персонажей. При этом не забыты самые мелочи, использована малейшая подробность: говорится о различии в одежде, в прическе, отмечается, что у Кая нет теплой обуви и пальто, что он не знал, что значит уход за руками, ногтями и пр. И каждая такая деталь, все более углубляя социальный план образа, служит обоснованию психологических и творческих черт формирующихся индивидуальностей, характерной для них позиции по отношению к окружающему их миру и к жизни вообще.
Можно сказать, что основным содержанием последней части романа и является как раз итоговое, финальное уточнение позиции в отношении действительности и жизни вообще не только героев, но и романа в целом. Но достигается это прежде всего образом Кая.
В чем же, однако, суть этой представленной Каем позиции и как проявляются расхождения с Ганно?
Суть расхождений очень чутко распознана самим Ганно: «Ты — дело другое, — говорит он Каю.— У тебя больше мужества. Ты вот… над всеми смеешься, у тебя есть что им противопоставить… думаем мы одно и то же, но… я так не умею».
Умение смеяться, присущее Каю, воспринимается Ганно только как качество самой его «натуры» — действенной, необузданной, смелой. Но в связи со всем, что сообщается о семейных обстоятельствах этого «эпизодического» лица, в свете постоянно оттеняемого контраста между положением Кая и Ганно — словом, в общей логике повествования «необузданность» Кая предстает как результат объективно характерной для его «деклассированного» положения независимости от окружающих — семьи, духа школы, «хорошего общества», как прямое следствие моральной и материальной независимости от будденброковского мира. Эта независимость проявляется в смелости, с которой Кай вступается за Ганно, когда последний пасует перед наглостью самодовольных отпрысков богача Хагенштрема, и в особом уважении, которое он внушает товарищам по школе «своей дикостью и необузданным свободолюбием», и в глубокой и проницательной иронии, которую он может вложить в прозвище, данное тому или другому педагогу. В отличие от плоских кличек, даваемых учителям другими школьниками, прозвища Кая или принятые между ним и Ганно иронические наименования и обращения «были позубастее»: он ввел для себя и для Ган-
108
но обыкновение называть учителей их настоящим именем с прибавлением «господин»… Сколько презрительной, холодной иронии звучало в таком учтивом титуловании! Друзья говорили о «преподавательском персонале» и тешились на переменах, стараясь представить себе этот «преподавательский персонал» в едином обличье какого-то страшного фантастического чудовища. Школу они наименовали «заведением»…
Нельзя не заметить, что те же проникнутые презрительной иронией «учтивые титулования», уничижительные и собирательные наименования употребляются в авторском повествовании: позиция Кая в отношении окружающего его мира здесь наглядно сливается с авторским отношением к изображаемой действительности: «У него всегда имелись два или три любимчика… Они могли отвечать первое что им взбрело на ум, а после урока господин Мантельзак дружелюбнейшим образом беседовал с ними …господин Мантельзак орудовал пером… гневно и размашисто…» — и т. п. Мы не хотим преувеличивать значения подобных словесных совпадений в речах «от героя» и в авторской речи. Но оно важно как лишнее свидетельство того, что расхождения Кая с Ганно имеют принципиальное значение для утверждаемой романом мысли.
«Даже сострадание в этом мире невозможно», — размышляет Ганно на уроке английского языка преподавателя Модерзона, который, будучи предметом издевательств со стороны всего класса, сам притесняет Ганно именно потому, что тот не участвует в издевательствах.
«…Я не травлю вас, не издеваюсь… А чем вы платите мне? Но так было и так будет всегда и везде. — При этой мысли страх и отвращение вновь овладели душой Ганно». Внутренний монолог последнего Будденброка свидетельствует о не по возрасту глубоко выстраданной непримиримости с окружающими его обстоятельствами. В этом смысле Ганно с полным основанием объединяет себя с Каем, когда говорит, что думают они «одно и то же»; но этой рано созревшей непримиримостью кончается схожесть и начинаются различия: в самой направленности критической мысли, в характере эмоций, в самооценке, в мечтах о будущем и, наконец, в отношениях к собственным творческим начинаниям и в присущих им чертах.
В разговоре с Ганно на перемене Кай рассуждает об уроке Мантельзака, учителях и режиме школы вообще: «Ну, да что о них говорить, об этих идиотах!.. Смотри-ка,
109
калитка открыта… а вот выйти-то нам и нельзя… Нельзя даже подумать об этом, на секунду нельзя нос высунуть!.. А теперь я спрашиваю: разве это жизнь? Все шиворот-навыворот! Ах, господи, если бы нам уж выбраться из нежных объятий этого заведения». Кай тоже, вслед за Ганно, говорит о безвыходности, и вопросы его тоже риторичны. Но в них звучит не меланхолическая грусть, а наступательная требовательность, почти вызов жизни, устроенной «шиворот-навыворот», и убеждение, что где-то там, за запертой калиткой, вдали от душного «заведения», можно обрести иную жизнь и прорваться от «этих идиотов» к людям, — так впервые у Манна звучит столь значительный для его позднейших романов мотив «прорыва». Впоследствии понятие «прорыва» будет осложнено многими аспектами (особенно в «Докторе Фаустусе»), но оно и потом не потеряет пафоса, которым проникнуто рассуждение Кая: веры в то, что человек может обрести независимость от устроенной «шиворот-навыворот» жизни, что пребывание перед запретной калиткой не является неизбежным его уделом.
И тем же пафосом проникнуты творческие опыты Кая — сначала детские вариации мотивов волшебных сказок, в которых обязательно присутствовал сам Кай в роли избавителя «несчастных пленников», смелого победителя злых сил и открывателя неведомых земель, а потом — произведения, свидетельствующие о богатстве фантазии, бурности темперамента и романтичности. В центре внимания юного автора неизменно оказывался, однако, человек — страдающий, борющийся и, главное, достигающий слияния, единения с животворными и очищающими началами природы, жизни. Именно последнее придавало сочинениям Кая светлый, радостный колорит. Они были рассказаны «вдохновенными, многозначительными, немного высокопарными, но полными страсти и нежности словами». Отсюда впечатление умиротворения и бодрости, которое произведения юного писателя вселяли в единственного пока слушателя — Ганно. Собственное его творчество находилось во власти иных мотивов, иного пафоса и сопровождалось иным настроением: «…тот первый мотив послышался снова. И началось торжество… той самой фразы, что звучала во всех тональностях, пела, ликовала, всхлипывала… Что-то тупое, грубое и в то же время религиозно-аскетическое, что-то похожее на веру в самозаклинание было в фанатическом культе этого обрывка мелодии… Более того, было что-то порочное в неумеренном, ненасытном наслажде-
110
нии ею, в жадном ее использовании… Ганно посидел еще несколько мгновений — неподвижно склонив голову на грудь, бессильно сложив на коленях руки… Он был очень бледен, ноги его подгибались, глаза горели. Он прошел в соседнюю комнату, растянулся на оттоманке и долгое время лежал не шевелясь».
Фраза, «звучащая во всех тональностях», организующая произведение юного композитора, воплощает тот страх, то смятение перед жизнью, о котором много раз говорит Ганно, которое владеет им и выражается в импровизации даже помимо его воли. И именно это мироощущение, еще не до конца осознанное, но глубоко проникшее в духовный мир маленького музыканта, бессильного, при всей критичности своей мысли, пленника семьи, среды и всех окружающих обстоятельств, сообщает его произведению не только безрадостность, но и трудно совместимые с обликом чуткого умного Ганно оттенки чего-то грубого, тупого, порочного. Таков неизбежный непредвидимый результат любого, вольного или невольного, отказа от жизнеутверждения, оптимизма как основы творчества, утверждает Т. Манн уже в первом своем романе. И это одно из тех постулируемых «первенцем» положений, которое то полемически заострялось, то «провокационно» ставилось под сомнение, то прямо и страстно отстаивалось и прошло через все его творчество.
Для Кая не только открыт выход, но он, по существу, вообще вне того мира, с которым Ганно связан мучительно и неразрывно. Кай относится к персонажам, которые фабульно второстепенны, но занимают первостепенное место в организации идей и структуры романа. Эти фабульно второстепенные лица совершенно между собою не связаны внешними перипетиями повествования, но находятся в одной и той же позиции по отношению к главным героям романа: помимо воли и даже сознания последних они играют большую, неприметно возрастающую, роль на всех этапах их жизни.
Характерно в этом смысле изменение взгляда на Кая семьи Будденброков. В глазах верной Иды Юнгман и всей женской части семьи грязный и оборванный Кай был прихотью Ганно, которая поощрялась так же безоговорочно, как и всякая другая. Сенатор же не возражал против этой «странной дружбы» в надежде, что смелость и необузданность нрава маленького графа благотворно повлияют на «женственную изнеженность» сына. Словом, поначалу
111
Кай был в глазах семьи Будденброков — явлением малозначительным и случайным. В последней же главе романа, рассказывающей о сборище уцелевших членов семьи по случаю отъезда Герды, фигура Кая и его дружба предстает как нечто очень значительное и загадочное, имеющее какую-то таинственную связь с судьбой Ганно и его гибелью: «Какая-то мрачная тайна окутывала… болезнь маленького Иоганна… Они вспомнили… о появлении… оборванного графа, который почти силой проложил себе дорогу к постели больного. И Ганно улыбнулся, заслышав его голос, хотя никого уже не узнавал…»
Так на протяжении одной части романа маленький Кай из «проходной», эпизодической и чисто бытовой фигуры вырастает в фигуру почти символическую. Одновременно он становится центром не только «школьного дня», но и многозначительного финала всего романа. А финальные главы всегда являются у Манна не столько развязкой фабульной коллизии, сколько итогом основной мысли — как бы последним аккордом, в который она «изливается», если воспользоваться образом, любимым самим Манном.
Вместе с тем только в связи с бытовой «школьной новеллой» мысль финала романа раскрывается в полном своем значении. Приход Кая к умирающему Ганно — это трагическая развязка того внутренне-напряженного[35] контраста, который лежал в основе их отношений. Приход Кая был для Ганно «последним окриком жизни»,— такой, какой умел видеть ее Кай: трудной, но светлой, вооружающей на противостояние злу, сулящей радости творчества.
Ганно к «окрику» радостно прислушивался, как это было на протяжении всей их дружбы, но следовать за ним не был в силах.
Так представляется «таинственное» посещение Каем умирающего Ганно в свете всех предшествующих их отношений. Логика последних недоступна пониманию Будденброков. А между тем почти каждый из них хоть однажды в жизни прислушивался к «окрику», исходящему от тех или иных (внешне случайных на жизненном пути главных героев и, казалось бы, эпизодических для романа) лиц, принадлежащих к иным социальным мирам и обладающих иным миросозерцанием[36].
Отношение того или иного члена семьи Будденброков к подобным «окрикам» жизни и к их носителям так же существенно для организации предшествующих частей и глав романа, как и для рассмотренной «школьной» части.
112
Только в этой последней — которая, по выражению самого Манна, составила «ядро замысла» — своеобразное соотношение «голосов» и стоящих за ними миров выявляется с наибольшею наглядностью, что и побудило нас начать с нее свое рассмотрение[37]. Именно в «трагической новелле» о Ганно (если употребить другое манновское определение последней части произведения) мы обретаем как бы ключ к принципу «объемной» композиции, цементирующей мысль, строение «Будденброков».
Обращаясь в этой связи к центральным моментам романа, упомянем прежде всего тот из них, который затронул не отдельное лицо, а всех Будденброков и даже весь мир, к которому принадлежат они.
«…С улицы послышались крики, возгласы, какой-то торжествующий гогот, свист, топот множества ног по мостовой, шум, неуклонно приближающийся и нарастающий.
— Что это, мама? — воскликнула Клара. — …Что там случилось? Чему они все радуются?..
Консульша в страхе кинулась к окну… Да, да! Это революция… Это народ!»
И сказала, обращаясь к слуге:
«— Поди вниз, запри дверь, все запри! Это народ…
— Злые люди,— печально протянула Клотильда, не отрываясь от своего рукоделия».
Консул Будденброк, который собирается отправиться на собрание городского совета для обсуждения «проекта новой конституции, учитывающего требования новейшего времени», успокаивает жену: «Они пошумят перед ратушей или на рыночной площади и разойдутся…»[38]
Итак, четыре как будто бы разные реакции на недвусмысленно прозвучавший «голос» извне, вторгшийся в парадные, уютные покои «просторного старинного дома на Менгштраосе… приобретенного» еще главой фирмы — Иоганном Будденброком — старшим. Каждая реплика и по содержанию, и по тону, стилю высказывания совершенно точно соответствует индивидуальным свойствам, произнесшего ее лица, и вместе с тем все эти столь, казалось бы, разнохарактерные восклицания сближаются, однако, в двух интонационных оттенках: недоумения и устранения.
Двуединое это звучание присутствует и в патетике консульши, и в иронии Иоганна, и в меланхолии Клотильды, и в непосредственном любопытство Клары. «Что это?», «они», эти «люди» — так безлично говорят (независимо даже от эмоций, которыми данное суждение сопровож-
113
дают), о чем-то находящемся на самой далекой дистанции, вполне исключая возможность своей приобщенности к наблюдаемому. И интонация удивления, прозвучавшая на разный лад у каждого из Будденброков, тоже имеет общий исток: сам факт существования «этого», «их» — повергает в изумление, является неожиданностью.
Конечно, не только консул, но и консульша, и дети знали о существовании «[39]грузчиков, складских рабочих, рассыльных, учеников городского училища… матросов с торговых судов и прочих обитателей городского захолустья, всех этих «тупиков», «проездов», «проулков» и «задворий». Однако не только маленькая Клара, но и консул Иоганн не подозревал, что «обитатели» составляют какой-то самостоятельный мир, обладающий какими-то своими непонятными свойствами и особенностями.
Растерянность перед неожиданностью тоже выразилась по-своему: у консула в том, что, уверяя жену в полной своей безопасности, он воззвал тем не менее к богу, отдавая себя под его защиту, то есть невольно выдал владевшее им смятение («все в руце божией… я выйду через пристройку»); у консульши — в совершенно необычной для нее патетичности тона, в совершенно несовместимой со всеми другими ее речами лексике («революция», «народ»). Но особенно точно чувство невольного приобщения к чему-то неведомому и неожиданному передано возгласом Клары: «Чему они все радуются?»
Мы так подробно рассматриваем занявшее всего две страницы описание реакции Будденброков на выступление народа, потому что картина эта показательна в смысле вторжения в фабулу (историю семьи) сторонних, внефабульных, но, по существу, важнейших мотивов… Вторжение это осуществляется с помощью введения целой системы субъективных «призм», так или иначе освещающих новое обстоятельство.
Картина происшедшей в родном городе Будденброков[40] демонстрации «низов», явившейся слабым откликом на революционные события 1848 года, предстает и в названной[41], и в последующих главах романа прежде всего в призме самых различных и противоречащих друг другу преломлений при нарочитой максимальной самоустраненности автора, который если и вставляет отдельные реплики, то только в форме скупой репортажной констатации[42].
Романтически настроенному маклеру Гошу демонстранты кажутся каким-то подобием шиллеровских разбой-
114
ников — неукротимыми, свободолюбивыми и благородными; для «пострадавшего» суконщика Бентьяна, в витрину магазина которого был брошен камень, они — распоясавшиеся, хулиганствующие молодчики; для Будденброка — и эту точку зрения разделяют многие — они прежде всего жертвы подстрекательства местных политиканов, играющих на невежестве, «скудоумии» и «темноте» масс[43]; и, наконец, для Лебрехта Крегера — демонстранты представляют «сброд», силу которого он инстинктивно тем не менее прозревает, испытывая перед нею не скрываемый никаким показным презрением ужас.
Эта внешне, казалось бы, ничем не оправданная реакция занимает особое место в своеобразной разноголосице прочих суждений, оценок и суровых приговоров, ибо имеет некий пророческий оттенок.
«Лебрехт Крегер был, наверно, единственным, чье настроение не изменилось к лучшему», даже после того как его зять — Будденброк, выйдя к толпившимся вокруг здания городского совета людям, побудил их разойтись. Легкость «победы» над «бунтовщиками», подтвердившая как будто бы точку зрения консула, не имела воздействия на старого Крегера. Даже в собственном покойном экипаже он чувствует себя осажденным, хотя улицы, по которым он едет, лишь более оживленны и многолюдны, чем обычно. На успокоительные речи сопровождавшего его зятя старик отвечает каким-то жутким мертвенным молчанием. Случайно, по-видимому, попавший в карету камень, никому не причинивший вреда, производит на него потрясающее впечатление: «Старик Крегер молчал, как-то страшно молчал… Видно было, что он сидел еще прямее, надменнее, неподвижнее…»
Это вызванное ужасом оцепенение, эта органическая непримиримость оказываются, —во всяком случае, в плане внешней последовательности повествования, — заключительным ответом на растревоживший всех Будденброков «окрик», исходящий от стороннего, независимого мира[44]. И это тоже придает дополнительный вес крегеровской позиции, несмотря на то, что она все время подрывается точкой зрения Будденброка.
Все роковое путешествие в карете от здания городского совета до крегеровского особняка и последние минуты старика даны в призме восприятия его зятя — с оттенком той снисходительной и немного брезгливой жалости и иронии, которой проникнуты и его обращенные к тестю речи:
115
«Он медленно повел тестя по усыпанной гравием… дорожке… Но старик еще не успел взойти на первую ступеньку, как у него подкосились колени, а голова так тяжело упала на грудь, что отвисшая нижняя челюсть громко стукнулась о верхнюю. Глаза его закатились и померкли. Лебрехт Крегер, cavalier à la mode, отошел к праотцам».
Тот же оттенок будденброковской интонации вплетается в описание самого́ драматического момента: «Вдруг… случилось нечто ужасное! Когда… карета поравнялась с шумливой кучкой разгулявшихся уличных мальчишек, в ее открытое окно влетел камень. Это был безобидный камешек величиной не больше голубиного яйца, и его, несомненно, без всякого злого умысла, скорее всего даже не целясь, а просто так, во славу революции, подбросила в воздух рука какого-нибудь Кришана Снута или Гайне Фосса. Он беззвучно влетел в окно, беззвучно ударился о покрытую толстым мехом грудь Лебрехта Крегера и так же беззвучно скатился по меховой полости и остался лежать на полу». Это авторское описание проникнуто тем «легким» отношением с событиям, которое консул Будденброк усвоил для себя и старается внушить другим. Но в самой этой легкости явственно ощущается деланность, фальшь, пробиваются какие-то нотки, созвучные взгляду Лебрехта Крегера: «…он беззвучно влетел… беззвучно ударился… беззвучно скатился… и остался…» — трижды повторенное «беззвучно» вносит оттенок чего-то рокового.
Противоречащая легкости суждений Будденброка, формируемая нагнетанием «беззвучия» интонация преисполнена многозначным содержанием: она напоминает и предрекает, что звучащий извне голос, по-разному, но прежде всего «беззвучно», неприметно вторгается в мир Будденброков, становясь определяющим фактором судеб; что бурными и столь легко и быстро смолкнувшими отзвуками революции, прозвучавшими в трех небольших главках четвертой части, проблема исторических обстоятельств не будет исчерпана в романе. Интонационный нюанс, как это часто бывает у Т. Манна, подчеркивает, усиливает значение имеющего, казалось бы, очень незначительный удельный вес «революционного» эпизода. «Присвоение» оттенка интонации Лебрехта Крегера авторскому голосу (подобно тому как это было в «школьной» главе, где задорные клички и определения, связанные со школьной жизнью,
116
переходят из речей Кая в авторское повествование) кладет предел тому «равноправию» суждений о «бунте», которое существует на предыдущих страницах.
Опровергающее Будденброка определение народного выступления как чего-то серьезного, трагически-предвещающего[45] приобретает звучание «итоговости», потому что оно принадлежит не только голосу Крегера, но и авторскому голосу. Это не мешает тому, что в авторском голосе звучат отголоски и других уже знакомых нам суждений и восприятий.
«Улицы были оживленнее, чем в иной воскресный вечер. Всюду царило праздничное настроение. Народ, радуясь счастливому исходу революции, допоздна не расходился по домам. Время от времени раздавалось пение…»
Здесь порожденная страхом патетика консульши («народ», «революция») явно снижена идущей от Иоганна и опять-таки перешедшей в авторский текст иронией[46]: народ считает революцию завершенной, не начав ее. С другой стороны, здесь усилен и «поднят» в звучании мотив радости, прозвучавший в наивном восклицании маленькой Клары: «Чему они радуются?»
В приведенных строках от автора нет, разумеется, прямого ответа на этот вопрос, как нет прямых авторских оценок не только в этом эпизоде, но и в романе в целом. Ясно лишь, что, поддержав крегеровское восприятие народа как мощной и непримиримой силы, авторский голос расходится с его интонацией в другом: дерзость народа сопровождается не зверством, не жестокостью, а одушевлением, радостью, праздничностью. В восприятии Будденброка эта радость — еще одно доказательство крайней политической наивности, в глазах Крегера — еще одна из форм вызова; авторское же описание, учитывая оба суждения, просто отмечает радостность, оживление как отличительную атмосферу народного выступления.
Сталкивая различные точки зрения персонажей, фиксируя их расхождения и внутренние противоречия, оттеняя или приглушая то или иное освещение «подключаемым» в определенный момент авторским голосом, молодой романист избегает и релятивизма, ибо ни одна из как будто бы вполне независимых и равноправных точек зрения не оказывается в конечном счете освобожденной от авторского, косвенно заявляемого итога и субъективизма, ибо авторский голос нигде не звучит вне «призмы» восприятия того или иного персонажа.
117
Эти новые, расширяющие диапазон романа, возможности повествования находятся в полном соответствии с повышением функций второстепенных персонажей и всего формально второстепенного, а по существу основного, плана романа.
Здесь нельзя не сказать, что в освещении эпизода демонстрации присутствует (хотя всего несколькими репликами воспроизводимая) точка зрения самих демонстрирующих, представленных Карлом Смолтом — рабочим будденброковских складов, с которыми консул говорит во время своего «героического» парламентерства. Сразу же запутавшись в вопросе об «избирательных правах» (чем весьма удачно воспользовался Будденброк), Карл Смолт несколькими весьма нечленораздельными репликами внес все же существенно новое в освещение причин и сути так растревожившего будденброковский мир события: «Эх, господин консул, это вы так говорите, а коли до точки дошло!..»
Контраст между упорством, с которым Карл повторяет это заверение о «точке», и легкостью, с которой он мгновенно сдает позиции относительно вопроса о «правах», оттенен весьма рельефно и выразительно. Собирательный образ «возмутителей», имеющий тенденцию к символическому обобщению, оживлен бытовой и исторической чертой. И это еще раз подчеркивает принципиальность стоящего вне фабулы «пласта» романа, как бы «размыкающего» семейно-бытовую его сферу.
Мы пытались показать, что сама сложность повествовательных средств соответствует многогранности функций, казалось бы, «проходного» для романа «революционного» эпизода. Значимость его станет понятнее, если установить наличие внутренней соотнесенности между ним и предшествующими и последующими частями романа, которая обнаруживается в самых разных, порою очень неожиданных, моментах, как содержательных, так и формальных.
Укажем, например, на прямое авторское упоминание о событиях потерпевшей поражение революции в одной из развернутых характеристик Томаса Будденброка, относящейся к центральной части романа, рассказывающей о расцвете семьи, фирмы и самого Томаса: «Но и за пределами этого города, в обширном его (Будденброка. — М. К.) отечестве, после подъема общественной жизни — естественного следствия революционных годов, наступил период
118
расслабленности, застоя и реакции, слишком бессодержательный, чтобы дать пищу живой мысли».
Это авторское обобщение следует за описанием начала делового дня Томаса Будденброка: подробно воспроизводится его разговор за утренним туалетом с «просвещенным парикмахером» Венцелем — членом городского совета, знакомым читателю, о чем Т. Манн напомнил, как раз по сцене злополучного заседания во время демонстрации. Они говорят о политике Пруссии, о проблемах таможенного союза и ряде других вопросов, связанных с непосредственными интересами их маленького городка; но прежде и оживленнее всего обсуждается казнь Орсини, совершившего покушение на Наполеона III. При этом Томас Будденброк точно таким же путем «уходит» от грозной проблемы революции и народа, как и его отец — Иоганн Будденброк: «Пустяки! Народ здесь, собственно ни при чем…»
Томас Будденброк вовсе не склонен придавать серьезное значение событиям политической борьбы и тем более ставить свою деятельность в зависимость от них, — восприятие персонажа и авторская точка зрения, столь недвусмысленно сформулированная в приведенном выше резюме, и здесь расходятся. Так, описание делового дня Будденброка включает форму своеобразной «полемики» между авторским освещением и восприятием персонажа, знакомую нам по «революционным» эпизодам романа. Очевидно, что эти последние так же органичны для повествовательной системы романа, как и для развития его основной мысли. Покажем это еще на одном примере.
На званом вечере, который устраивают Будденброки по поводу переезда в свой новый, комфортабельный дом по Менгштрассе (часто вспоминают в этой связи прием у Анны Шерер, открывающий «Войну и мир»), обсуждается вопрос об отношении судеб и деятельности отдельных частных лиц к сдвигам и потрясениям, происходящим в общественно-политической жизни.
«Оставим прошлое и вернемся к радостному настоящему», — восклицает один из гостей, прерывая консула Иоганна Будденброка, говорящего о трагической судьбе бывших хозяев купленного дома. «А ведь настоящее могло быть и не столь радостным, — возражает ему пастор Вундерлих. — Молодежь, которая сейчас сорадуется с нами, и не представляет себе, что все могло идти по-другому…» — и далее следуют воспоминания о событиях наполеоновских времен, разноречивые оценки личности Наполеона,
119
противопоставление наполеоновской эпохи — эпохе Луи-Филиппа. Причем молодое и старшее поколения расходятся: Иоганн Будденброк — младший стоит за «дружелюбие и благожелательное отношение французского конституционализма к новейшим практическим идеалам и интересам нашего времени»; старики же высказываются против узкого практицизма, за широту взглядов и высоту идеалов прошедшей эпохи.
Обратим прежде всего внимание на мотивы застольной беседы, их чередование и соотношение. Сначала она сосредоточена вокруг идей роковой, фаталистической предопределенности, силу которой демонстрирует судьба бывших владельцев дома; затем касается исторических обстоятельств в широком смысле этого слова; потом переключается на ближайшие обстоятельства, связанные с деловой жизнью и политикой бюргерства города; наконец, останавливается на семейных проблемах, повседневных нуждах и интересах. И, разумеется, взаимодействие указанных мотивов беседы воплощается не только в речах самих персонажей, но и в обрамляющей их авторской речи. Причем последняя и здесь противоречит порою высказываниям действующих лиц. Например, авторская речь отмечает торопливость, с которой персонажи «уходят» от разговора о роковом упадке прежних владельцев дома и тем самым подчеркивает значимость и неисчерпаемость этой темы; смягчает, а вместе с тем многозначительно оттеняет авторская речь противоречия в оценке Июльской монархии и т. д. Само строение этих бесед возвращает нас и к разговору Томаса с парикмахером Венцелем, и к происходящей при чрезвычайных обстоятельствах беседе Иоганна Будденброка с консулом Крегером в день демонстрации. Мы опять убеждаемся, что «революционная» глава романа не выпадает из типичного для произведения арсенала художественных средств и не является единственным вторжением «большой» истории на страницы истории одной семьи. Примечателен в той же связи еще один момент романа.
«Война, бранные клики, постои, суета! Прусские офицеры расхаживают по навощенному паркету парадных комнат в новом доме сенатора Будденброка и целуют руки хозяйке… И наконец… мир, кратковременный, чреватый событиями мир 1865 года!» Речь идет о соглашении между Пруссией и Австрией во время Датской войны.
Последствия, связанные с этим событием, не так значительны, как докатившиеся до городка Будденброков
120
отзвуки 1848 года. Однако в соответствующей главе романа они предстают как непосредственная предпосылка имущественного положения, нравственного состояния главы фирмы, атмосферы, царящей в эту пору в семье, в ближайшем ее окружении, а также как фактор, формирующий сознание последнего ее представителя: «Покуда Ганно играл, свершились большие события. Вспыхнула война, победа заколебалась па чаше весов — и определилась. Родной город Ганно Будденброка, разумно примкнувший к Пруссии, стал с удовлетворением взирать на богатый Франкфурт, заплативший своей независимостью за веру в Австрию. Но в связи с крахом одной франкфуртской оптовой фирмы торговый дом «Иоганн Будденброк» за один день потерял немалую сумму — двадцать тысяч талеров!»
Весь этот «выход» авторского повествования в большой мир построен на двух интонациях, несколько иронической торжественности и деловитой констатации фактов. Масштаб событий — именно это весьма тонко оттеняет авторская ирония — не соответствует той значимости, которая придается им повышенными национальными чувствами их непосредственных участников. Авторская ирония снижает значение события, подчеркивает его отнюдь не эпопейный масштаб (что соответствует исторической действительности[47]). Но вместе с тем, вопреки игнорирующему события Томасу, автор категорически устанавливает непреложность зависимости сдвигов в судьбах Будденброков от того, что происходит в, казалось бы, далекой от них общественно-исторической жизни.
Таким образом, непосредственные выходы за пределы семейно-бытовых (ближайших героям) обстоятельств не так уж редки в «Будденброках». Более того — они составляют значимую композицию: в начале романа — разговор о событиях прошлого и роковой участи прежних владельцев будденброковского особняка; в главах, предшествующих вступлению на самостоятельный жизненный путь младшего поколения и закату старшего, — отзвуки революции; в частях, посвященных зениту и упадку деятельности Томаса Будденброка, — политический разговор и авторская «ремарка» о войне и ее последствиях; и, наконец, в финале — метафизическая «главка о тифе», в которой звучит «зов» жизни, а точнее — мотив прорыва окружающей героев социальной действительности и обретения тех или иных форм ее внутреннего преодоления.
Таким образом, выходы к историческим обстоятельст-
121
вам и к широкому понятию «жизнь» происходят на протяжении всего произведения; они служат порукою тому, что принцип натуралистического романа (Золя, Гонкуров, Стриндберга), от которого, по собственному признанию, отправляется юный автор, отнюдь не является господствующим и центральным. Мы уже видели, как утверждался, но тут же энергично и сокрушительно опровергался принцип биологического вырождения, когда он фигурировал в качестве объяснения судеб семьи в школьных главах.
Опровергнут или, вернее, вытеснен он и в главах, составляющих основной корпус романа. Ибо тот упадок семьи, который прослеживается на протяжении романа, обоснован прежде всего социально и психологически. Нежизнеспособность последних Будденброков скорее сопровождается, чем определяется физическими (болезненность Ганно, слабая «конституция» Христиана, нервозность Томаса) причинами. Ослабление жизнеспособности, усиливающееся от поколения к поколению, определяется «старомодностью» принципов Будденброков как коммерсантов и политиков, их неумением и нежеланием отказаться от традиционных понятий о честных путях наживы, бюргерской чести и усвоенного от предков «аристократического» консерватизма.
Бесплодность деятельности во славу семьи и фирмы на старых путях, все большая психологическая невозможность руководствоваться путями новыми порождают отвращение к деятельности, апатию, переключение своих сил в другие сферы, предопределяют полное поражение Будденброков в проходящей через весь роман борьбе с крупными хищниками новой формации — Хагенштремами, а также с мелким хищником-авантюристом Грюнлихом, беспринципным Перманедером и неудачливым стяжателем Вейншенком[48], которые сумели вторгнуться даже к ним в семью.
Перипетии этой борьбы — преимущественно в психологическом ее аспекте — составляют фабульное единство романа и воплощают важную сторону его критической идеи. Эта развиваемая «передним» планом романа коллизия находит завершение в последней главе: отъезд из города Герды — вдовы Томаса и матери умершего Ганно, знаменующий окончательную гибель семьи, родовое гнездо которой давно занято ее торжествующими врагами.
Коллизии между Будденброками и их противниками и недругами несут большое социальное наполнение. Но ими
122
не исчерпывается ни многообразие «соотношений», которые организуют историю одной семьи, ни иx содержание.
Помимо столкновений с Хагенштремами и подобными им «предприимчивыми» личностями, все Будденброки по-разному вовлечены в ситуацию более широкую и значительную: в так или иначе протекающие отношения с внешним миром, лежащим «за оградой», если воспользоваться образом школьной главы, то есть с чувствами и отношениями никак не связанными с интересами семьи, фирмы и личного престижа.
Даже Семейная книга Будденброков — этот памятник нерушимости семейно-общественных устоев — порою отражает на своих страницах невольные уклонения от проторенной и почтенной семейной стези.
«Господи боже наш! Ты один помогаешь нам во всех бедах и злоключениях и внятно возвещаешь волю свою, дабы мы, убоявшись тебя, покорились повелениям и заветам твоим!..» — вписывает в книгу консул Иоганн Будденброк по поводу рождения младшей дочери Клары. Но, перелистав страницы книги, он наталкивается на те, которые содержат неосторожные записи о былых «страстях». В сомнение повергает его и сделанная отцом по-французски запись: «Самый счастливый год в моей жизни!» — относящаяся к первому браку Иоганна Будденброка — старшего.
От картины смерти старшего Будденброка веет умиротворенностью, патриархальностью и вместе с тем духом того легкого вольнодумства, который был свойствен ему всю жизнь: «…наступила ночь, когда вся семья собралась у одра больного, и он обратился к консулу:
— Итак, счастливо, Жан, а? И помни — courage!
Потом к Томасу:
— Будь помощником отцу!
И к Христиану:
— Постарайся стать человеком!»
Старому Иоганну достало сил на то, чтобы в последний раз предстать в глазах семьи и перед самим собой таким, каким он хотел себя видеть и быть. И все же самый гармоничный и жизнерадостный Будденброк не избежал чувства смутной неудовлетворенности и сомнений в правоте своей жизни.
«…Случалось, что он вдруг умолкал и, точно обрывая долгую череду полубессознательных мыслей… покачивал головой, бормотал: «Странно!» — и отворачивался…
123
С этим недоуменно вопрошающим, как будто ко всей своей жизни обращенным «странно!» он испустил последний вздох.
Нет и намека на то, что «полубессознательные» недоумения столь полнокровно прожившего свою жизнь старика Будденброка были связаны с отношениями к «блудному сыну» Готхольду, который не явился даже к смертному его ложу. И все же именно Готхольд, больше упоминаемый, чем действующий в романе, открывает для семьи Будденброков саму проблему выхода и выбора под влиянием «окрика» жизни, исходящего из далекого по отношению к ним мира.
Очень показательно, что столь остро намеченный конфликт между отцом и сыном, осложненный недоверием последнего ко второй семье отца, — сводному брату и мачехе, — не имеет никакого продолжения: вся коллизия лишена фабульной функции. После смерти отца Готхольд примиряется с братом, отказывается от своих притязаний, а Томас Будденброк, став главой фирмы, в свою очередь идет навстречу: отказывается от избрания в консулы в пользу дяди.
Судьба Готхольда навсегда остается в суждениях большинства Будденброков примером заслуженной кары за «отступничество». И, действительно, неудачи, постигшие его на пути «непокорства» не только в делах («бельевой магазин… доставляет… мало радости», — признается он брату), но в супружестве и отцовстве (взрослые дочери Фридерика и Генриетта — «сухопарые и долговязые девицы» и младшая «коротышка Пфиффи» обречены на жалкую участь старых дев), были очевидны. «Господь не взыскует милостью строптивого сына», — так обобщает на своем языке размышления о Готхольде Иоганн Будденброк.
Только умница Томас воспринимает судьбу Готхольда тонко и проницательно. Он видит в нем воплощение определенной жизненной позиции, некоей установки на самостоятельность пути и право выбора. Именно в этом плане отвергнутый семейством родственник остро интересует молодого, только что вступающего в жизнь, Томаса не только как отрицаемый и преодоленный пример. «Ты хоть и был строптив, хоть и воображал, что эта твоя строптивость — своего рода служение идеалу, но дух твой не был достаточно окрылен… тебе недоставало чувства поэзии, хоть у тебя и достало смелости полюбить и жениться вопреки запрету отца», — размышляет Томас у гроба Готхольда. Он еще
124
уверен в эту раннюю пору, что путь «поэтического» — в аскетическом служении интересам фирмы и престижу семьи, в бегстве от сомнений в правильности жизненных позиций, от живых и предостерегающих «окриков» жизни. Но вместе с тем он с большой проницательностью понимает, что судьбой Готхольда скомпрометированы не «непокорство», не выбор, а прежде всего личность «непокорного», оказавшегося не на уровне ситуации. Так впервые поднимается в романе Т. Манна проблема масштаба личности в связи с ситуацией «выбора судьбы», которая получит огромный разворот в поздних его романах, но уже не в негативном, а в позитивном плане.
В ранних же «Будденброках» она решается в разных плоскостях, но прежде всего негативно. Наиболее ярко такой поворот проблемы предстает в образе Христиана, который заходит в самостоятельности своего выбора, то есть в непокорстве семье, дальше Готхольда и вместе с тем вкладывает в эту позицию еще меньше «чувства поэзии», то есть стремления к большой, высокой цели и способности утвердить ее.
«Но этого мало. Жизнь, которую вел Христиан вне дома, в тесном общении с Андреасом Гизике, своим однокашником, еще больше раздражала консула… Адвокат Гизике… однако… подобно остальным городским жуирам, умел соблюдать необходимую благопристойность… Друг его Христиан Будденброк… вследствие ли своего характера или долгих скитаний по свету, сделался suitier куда более наивного, беспечного склада и в сердечных делах, так же как и во всех других, был не склонен… заботиться о сохранении собственного достоинства… над его связью с одной из статисток летнего театра потешался весь город, и госпожа Штут с Глокенгиссерштрассе, та самая, что вращалась в высших кругах, рассказывала всем дамам… что Кришана среди бела дня видели на улице с той из «Тиволи».
Повествование ведется с точки зрения Томаса, но вместе с тем включает в голос обобщенного персонажа, выступающего под именем комической «госпожи Штут» — супруги модного портного, которая «вращалась в самых высших кругах общества». Суждения этой «представительницы общественного мнения» корректированы, однако, традиционным авторским всеведеньем. Определение Кришана как suitier особого склада — это уже не суждение госпожи Штут, а авторское прозрение внутренней сути героя («…был не склонен» и т. п.).
125
Христиан и сам себя воспринимает, и воспринимается окружающими как человек, выпадающий из своей среды, как блудный сын своей семьи и своего класса. Во всех эпизодах, ему посвященных, на всем протяжении романа эта линия характеристики проводится, казалось бы, вполне последовательно.
Побывав в Южной Америке и прибыв в родной город, Христиан манерой поведения, рассказами об американской экзотике, даже костюмом и наружностью подчеркивает свою отчужденность от семьи. Согласившись принимать участие в делах в качестве служащего фирмы, Христиан демонстративно манкирует служебными обязанностями, по-прежнему становится завсегдатаем клуба и театра, своим человеком в кругах богемы и среди «несерьезных» бюргеров, увеселяя которых он произносит свою самую «бунтарскую», ставшую для Томаса поводом к разрыву с ним фразу: «Все коммерсанты — жулики».
После ликвидации основанного в Гамбурге самостоятельного дела, очень скоро обросшего долгами и захиревшего, Христиан продолжает вести тот же образ жизни, обосновавшись в доме матери, а после ее смерти поднимает откровенный «мятеж» против Томаса, подвергает его сокрушительной критике, но, согласно условиям завещания, вынужден подчиниться; после смерти брата Христиан навсегда уезжает из родного города.
Цепь категорических суждений, рисующих Христиана неким мятежным отщепенцем, органически не укладывающимся в исповедуемые семьей и средой понятия и идеалы, нарушена малоприметной, но существенной интонацией сомнений и проблематичности. «Минутами начинало казаться, что… его особа возбуждала смех, что смеются над ним», — свидетельствует некий неопределенный свидетель. И эта нота сомнения соответствующая содержанию высказывания, приоткрывает оставшуюся в тени и тем не менее важнейшую сторону специфической системы повествования: соотнесенность не только созвучных, но и контрастирующих и противоборствующих голосов и интонаций. Облику развязного фрондирующего жуира, каким представляют Христиана уверенные, рационалистически четкие характеристики и каким осознает себя он сам, эта вплетенная в них неуверенная фраза противопоставляет совсем иной облик: несчастного человека, вынужденного играть однажды принятую на себя роль «веселящегося бюргера». Этот облик Христиана, контрастирующий с обликом Христиана-
126
«мятежника», попирающего устои семьи и общества, появляется на сцене отнюдь не только в выписанной нами неуверенно-проблематичной фразе. Находясь на втором плане повествования и речей, он проходит сквозь весь роман.
И постепенно, исподволь, так и не выходя на передний план, этот второй облик Христиана становится все более достоверным. Вытесняя беспутного бродягу, принципиального нарушителя «норм» и возмутителя всеобщего спокойствия, предстает облик несчастного человека, выбитого безнадежностью соперничества с презирающим его старшим братом — наследником фирмы, любимцем семьи, популярной фигурой в городе — из органически близкого ему бюргерского уклада. Специфические семейные обстоятельства, а также некоторые индивидуальные психологические и физиологические особенности как бы спровоцировали развитие[49] таких черт у оставшегося вне дел младшего брата, как дар подражания, способность к самоанализу, восприимчивость к искусству.
Подобные данные (имеющиеся и у Томаса, что признает он сам и о чем со всей определенностью напоминает ему Христиан во время одного из их бурных объяснений) развились, гипертрофировались и стали восприниматься как подлинная сущность младшего сына консула Будденброка.
Итак, спровоцированный обстоятельствами и культивируемый самим Христианом психологический облик начинает последовательно вытесняться: «Он играл, как настоящий шарлатан, удивительно правдоподобно, со страстью, с редкостным комизмом, носившим буффонный и эксцентрический характер, свойственный англо-американскому юмору… Потом вдруг… делался серьезен до того неожиданно, что казалось, маска упала с его лица…»
Снова употребляемая предположительная форма («…so überraschend, dass es aussah, als ob
eine Maske v
127
которое Томас передает сестре. «…Герда стала находить в нем вкус, — говорит сенатор Буддепброк, имея в виду Христиана. — А на днях она мне сказала: «Он не бюргер, Томас! Он еще меньше бюргер, чем ты». Суждение Герды, по существу, хотя и с противоположной оценкой, повторяет то, что высказал раньше сам Томас, сказав, что истинным идеалом Христиана являются подмостки. «…Тебе бы в кафешантане выступать — вот твое истинное призвание… тайный идеал… — Христиан ему не возражал и в задумчивости глядел прямо перед собой». Ему и нечего было возражать, ибо само понятие идеала превышало его личность, а целеустремленность в бунте была совершенно чужда его натуре.
В момент кульминационного объяснения между братьями в день смерти матери при дележе ценных вещей домашнего обихода, Христиан обнаруживает непоследовательность своего фрондерства с присущей ему противоречивостью, обывательской мизерностью и наивной человечностью. Объявив о том, что после смерти матери ничто не мешает ему осуществить давнишнее намерение жениться на гамбургской куртизанке Алине Пуфогель, и проявив алчную заинтересованность в сервизах, вилках и ложках, Христиан выговаривает свое жизненное кредо: «…Я поступлю, как честный человек… Я собираюсь на ней жениться потому, что истосковался по миру и покою… по человеку, который пожалеет меня, когда я болею. Да и вообще мы с ней люди подходящие. Оба мы немного запутались».
Христиан вполне справедливо напоминает родным, что он «много видел на своем веку, жил среди… различных людей и нравов» и это изменило его представления «о некоторых вещах». Из текста следует, что речь идет о некоторых внешних условностях поведения и этикета, принятых в «обществе», но по существу подразумевается и более широкое содержание. Христиан вынес из своих странствований и общения с представителями достаточно широких демократических кругов и понимание народного юмора, и вкус к народным формам искусства, и стремление обрести в супружестве «подходящего» человека, а не подходящую партию.
Но вместе с тем поведение Христиана во время дележа наследства и сама его избранница — олицетворение идеала «веселого» купечества, пленившая его своим физическим здоровьем («какие зубы!») и еще более тем, что польстила его самолюбию согласием разделять свое внимание между
128
ним и очередным богатым поклонником, — все это говорит о крепости уз, соединяющих «мятежного артиста» с понятиями среды, обличаемыми им столь же метко, как и мелко. Поиски «подходящего» человека и человеческого тепла остались в области слов, а поведение и идеалы определялись довольно сложным «сплавом» понятий добропорядочного и «беспутного» бюргера и не выходили за эти пределы.
Это очень важно и типично для Т. Манна: новое, снявшее предшествующие версии знание о герое, приходит не в результате самопостижения, не вытекает из умозаключений окружающих — оно приходит в момент порыва к выбору, к действию, к имеющему решающее для судьбы героя поступку. Речь-признание имеет значение, во-первых, в соотнесении с предшествующими речами, ибо намечает новые черты, разрушает общепризнанный облик Христиана, и, во-вторых, тем, что содержит переход от перипетий чувств к решению. Главной функцией последней речи Христиана является именно выбор. Забыв о роли виртуоза и фрондера против семьи, он объявляет об истинном своем кредо: уюте, покое, обеспеченности. Иначе говоря, и Христиан проявляет, с одной стороны, свойственную Будденброкам восприимчивость к раздающимся из другого мира «голосам», а с другой стороны — неспособность пойти им навстречу.
Образы Готхольда и Христиана, играя первостепенную роль в решаемой всем романом проблеме «избрания судьбы», последовательно осуществляют вместе с тем функцию фона для освещения позиции других героев.
Готхольд — антипод консула Иоганна Будденброка, сводного своего брата; Христиан — Томаса и Тони. Для консула Иоганна, Томаса, Тони — людей волевых, энергичных и цельных — вся жизнь посвящена служению семье и интересам фирмы. И вместе с тем, именно в силу того, что они — личности, ситуация выбора, в которую они невольно ввергаются, оборачивается для них более серьезными психологическими последствиями. Именно они-то — особенно Томас и Тони — оказываются по-настоящему затронутыми ею, несмотря на то, что внешне они шли дорогой своего отца, консула Иоганна Будденброка, против понятий семьи и среды не восставали.
«…Брак консула не мог быть назван браком по любви. Однажды старый Будденброк, похлопав сына по плечу, рекомендовал ему обратить внимание на дочь богача Крегера — она могла бы принести фирме большое приданое;
129
консул охотно пошел навстречу желаниям отца и с тех дор почитал свою жену как богоданную подругу жизни…» Такую же сыновью покорность консул Иоганн Будденброк проявляет, безоговорочно поддерживая отца в конфликте с обойденным в наследственной доле «блудным сыном» — Готхольдом. «…Нет, папа, — заключил он, делая энергичный жест рукой и еще больше выпрямляясь, — я советую вам не уступать!» — изрекает Иоганн-сын в решительном ночном разговоре с отцом. Далее следует ответная реплика: «Ну и отлично. Точка! Спать!» И вслед за нею примечательная авторская ремарка: «Последний огонек угас под металлическим колпачком. Отец и сын в полнейшей темноте вышли в парадные сени» (Bd. 1, S. 48).
В связи с явно психологическим антуражем всего разговора, происходящего после семейного торжества, ночью, в «тревожном полумраке», этот «задохнувшийся» последний огонек особенно выразителен: он не может не восприниматься как символ-намек: Иоганн Будденброк принял решение убежденное, добровольное — гасить светящийся «огонек», ненужный для того, чтобы ориентироваться в обширных пространствах своего дома, семьи, среды. Так уже в самом начале романа, в сцене, непосредственно следующей за описанием новоселья, намечена ситуация выбора, в которой оказывается герой. И вот именно драматизм этих исподволь возникающих ситуаций последовательно, с первых же глав образует стержень содержания и композиции, требуя иных форм и повествования, и конфликта, и характеристики, и психологического анализа, чем те, которым владел социально-бытовой, семейный роман классического реализма и натурализма.
«Иоганн Будденброк… побледнел… Вот уже второй раз атакует его этот человек, давит его своими переживаниями, вернее всего, непритворными», — в этой специфической форме речи, передающей состояние консула во время разрыва с Грюнлихом, глава фирмы предстает таким, каким видит себя он сам: во-первых, застигнутым «роком», «ослеплением», не давшим ему разглядеть истинное лицо своего зятя, во-вторых, человеком, отзывчиво и болезненно реагирующим на искренность чувства. И автор, казалось бы, подтверждает это самовосприятие героя, говоря, что «благоговейный трепет перед миром человеческих чувств», является «отличительной чертой его поколения». Но тут же отмечает из самых недр сознания персонажа возникающее соображение: «Сто двадцать тысяч марок», — и эта «внутренним го-
130
лосом» подсказанная цифра убытков определила решение консула Будденброка относительно разрыва с Грюнлихом столь же окончательно, как ранее цифра доходов Грюнлиха определила решение консула относительно его женитьбы на Тони.
На этот раз, однако, логика жизни доказывает Иоганну Будденброку, что «милосердие божье» отвергает покорность и переходит на сторону строптивости. Ибо и несчастья Тони, и душевная травма, нанесенная в связи с ними ее отцу, от которой он уже так и не оправился, происходят именно от покорного служения тому, что понимается под интересами семьи и фирмы.
«Ах, папа, — сказала она чуть слышно, почти не шевеля губами, — разве не лучше было бы тогда… — Консул не видел лица дочери, но сейчас на нем было такое же выражение, как четыре года назад, в Травемюнде, в летние вечера… В сердце своем он уже готов был услышать, что лучше было бы ей вовсе не вступать в этот брак».
Отвергнутый отцом и самою Тони вариант ее судьбы, намечавшийся — просто, естественно, органически —«четыре года назад в Травемюнде», при встрече с человеком из другого мира — сыном лоцмана и будущим лекарем Мортеном Шварцкопфом, предстает не только в этом разговоре отца с дочерью, но и во всем романе как более правильный, «праведный», словом, во всех отношениях «лучший» выбор. И притом — что очень существенно — вариант судьбы, в данном случае брак Тони и Мортена — это вполне реальная, а не мечтательная возможность. Недаром Мортен, выступая, правда, в отраженном освещении, не сходит со страниц романа до самого конца: он присутствует не просто в воспоминаниях Тони и часто употребляемых ею словах и выражениях, принятых между ними в короткую и счастливую пору их общения, но неприметно всю жизнь служит для нее высшим авторитетом и в малых и в больших вопросах. Так, например, беспокоясь о здоровье Ганно, она критикует домашнего врача Будденброков, невольно исходя из того идеала ученого, человека и даже гражданина, которым стал для нее Мортен: «Грабов пережил сорок восьмой год… но… его нисколько не волновали идеи свободы и справедливости, ничуть не затрагивала борьба с произволом и с сословными привилегиями. Он ученый, а между тем, я уверена, безобразные законы Немецкого союза касательно университетов и печати его нисколько не возмущали. Никогда в жизни не совершил он ни одного неблагора-
131
зумного поступка, никогда по утратил самообладания… Ах… существуют совсем другие врачи».
И надо сказать, что ориентация на сложившийся с юности идеал неприметно для самой Тони сказывается не только в ее воззрениях, но и в некоторых действиях: например, при очень неодобряемом и матерью и Томасом разрыве со вторым супругом — мюнхенским коммерсантом Перманедером, оскорбляющим ее, как проницательно замечает брат, не столько каким-то одним поступком, как «ничтожностью» своей натуры вообще, то есть отсутствием именно тех качеств — целеустремленности, энергии, духовного богатства и «благородного» честолюбия, прообразом которых явился Мортен, хотя ни сама Тони, ни ее близкие никогда не признавали, что он оставил сколько-нибудь заметный след в ее жизни.
Даже когда, проявляя именно ту способность к неблагоразумно-благородному поступку, которую она угадывала в Мортене, Тони горячо отвергает уговоры Томаса помириться с мужем и держит речь, «страстную, воодушевленную, льющуюся неудержимым потоком», из которой как бы «лавиной хлынуло то, против чего нельзя было возражать, то стихийное начало, с которым не спорят», — им обоим кажется, что и в этом случае она проявляет лишь приверженность (сейчас, по мнению брата, чрезмерную и неразумную) к родному городу, семье и дому и неспособность прижиться в чужом городе. Так уже не в области общественных проблем и отношений, а в чисто личной сфере проявляется неоднократно отмеченная нами особенность строения повествования: как «спора» между героем — одним из Будденброков — и воплощаемым тем или иным второстепенным персонажем голосом «извне».
«Резко выраженный родовой инстинкт лишал ее представления о свободной воле и моральной независимости и заставлял с фаталистическим равнодушием отмечать свойства своего характера, не пытаясь исправлять их или хотя бы здраво оценить», — такое авторское резюме дается в связи с рассказом об отношениях между Тони и ее мужем Грюнлихом, упрекающим ее за «расточительность». Автор как будто бы вполне присоединяется тем самым к точке зрения самой Тони: она охотно и гордо признавалась в том, за что винил ее Грюнлих, считая, что неумение быть бережливой и расчетливой она унаследовала от своей семьи, а следовательно, черта эта была «высоко достойной и безусловно заслуживающей уважения». Но, присмотревшись
132
к обобщению, выражающему как будто бы авторскую поддержку персонажу, пристальнее, понимаешь всю лукавую его иронию, находящуюся в полном соответствии с задачами и функциями манновского повествования вообще и в «Будденброках» в частности. Мы имеем в виду немалое значение для этого романа своеобразного «спора» между воспроизводимой точкой зрения персонажа (его самооценкой в данном случае) и автора; причем этот последний выступает не в одной, а в нескольких ролях: в качестве наблюдателя нейтрального, «лукавого» и проникновенно-эмоционального. Все три эти обличия сложно переходят друг в друга, определяя поразительное богатство и разнообразие оттенков, свойственное каждому описанию, картине, портрету: «…она двигалась плавно, стараясь, чтобы длинные складки мягкой ткани красиво ложились на ее фигуре, но наивно-чистое выражение ее рта сообщало этой величавости вид детской игры, что-то бесконечно ребяческое и наивное». Внешние черты, схваченные портретом, сочетаются с воссозданием присущей Тони (и другим Будденброкам) внутренней противоречивости: даже во внешних проявлениях, в деталях портрета проступает «спор» между социально-обусловленными[50] чертами, определившими одну сторону ее нравственного облика, и не осознанной ею самой, не укладывающейся в «идеал» среды, стихийной, «мятежной», непосредственной человечностью.
И надо сказать, что ни один из образов романа не воплощает этого «спора» так сложно, в таком переплетении и взаимодействии самых разнообразных приемов и средств, и явных и скрытых, как образ, казалось бы, очень простой, даже примитивной Тони. Ее судьба, пережитая ею драма любви не идет, кажется, ни в какое сравнение с преисполненными трагизма судьбами героинь русского и европейского романа, который, по свидетельству автора, оказал столь большое влияние на «Будденброков». А между тем именно образ Тони очень глубоко выявляет линию, по которой осуществляется преемственность: принципиально новые качества, вносимые Т. Манном не только в формы повествования, но и в структуру конфликта и средства психологического анализа, определяющие уровень новой его глубины.
133
по характеру, судьбе, интеллекту верная заветам «семейной книги», с глубокой радостью переживающая все семейные торжества и успехи, до конца дней оплакивающая продажу родового гнезда на Менгштрассе дочь консула и сестра сенатора Будденброка Тони Будденброк-Грюнлих-Перманедер, которая не только сама дважды выходила замуж во имя процветания семьи и фирмы, но и судьбу дочери подчинила той же высокой, как она считала, цели[51].
Достаточно вспомнить несколько эпизодов из первых глав романа (шалости и развлечения Тони-школьницы, пансион м-ль Вейхбродт, ночной разговор и мечты подруг), чтобы убедиться в последовательно проводимой Т. Манном этой полемической в отношении своих предшественников линии: Тони совершенно лишена незаурядности, вполне слита со своей средой, в ней ничто не предвещает столкновение, драму. «Тони знала решительно всю округу и решительно со всеми вступала в разговор… расхаживала она по городу, словно маленькая королева, знающая за собою право быть то доброй, то жестокой, в зависимости от прихоти или расположения духа». В Тони не было ни тени робости и ранимости Ганно — она легко шла на сближение со сверстниками, столь же легко ссорилась, враждовала с ними (с Юльхен и Германом Хагенштремами — детьми основного конкурента Будденброков и в торговле и в политике), разделяла шалости братьев, мечты подруг по пансиону о замужестве: Тони была вполне уверена, что выйдет замуж за коммерсанта — «только у него должно быть очень много денег, чтобы… устроить дом «благородно» и на широкую ногу». С этой мечтой или, вернее, намерением Тони и вступает в жизнь, выйдя из уютного пансиона Зеземи Вейхбродт, ставшей на всю жизнь другом семьи Будденброков,
Такая необычная для романов-предшественников идиллическая слитность с семьей, средой, представленной разными поколениями, разными слоями, подчеркнута и появляющейся именно на страницах, посвященных детству Тони, особой формой повествования. В отдельных моментах рассказ ведется не от автора, а от некоего собирательного лица, представляющего как бы точку зрения предполагаемых сторонних наблюдателей, — знакомых Будденброков или просто знающих их «благонравных» сограждан.
«Не беда, конечно, что Тони знала решительно всю округу… дружила со всеми торговками рыбой, фруктами, зеленью… Хорошо, Пускай!» — и т. п. Или: «…что хорошего неизменно преследовать маленькую женщину, при любой
134
погоде держащую над собой громадный дырявый зонтик? Еще того хуже, пожалуй, являться с двумя, тремя столь же озорными подружками к домику старушки… с притворной учтивостью спрашивать… здесь ли проживают господин и госпожа Плевок, и затем с гиканьем улепетывать… Тем не менее Тони Будденброк все это проделывала, и проделывала, надо думать, с чистой совестью».
Такие своеобразные формы «коллективных» обсуждений в качестве нового средства воплощения взаимоотношений главных персонажей с окружающей средой имеют место на многих страницах романа. В частях, посвященных юности Тони, они призваны (далее мы увидим, что функции этого приема весьма сложны и изменчивы) укрепить впечатление полной гармонии героини романа с окружающим ее миром, отсутствия в ней какой бы то ни было незаурядности, непонятости.
Останавливаясь на обычных для романной традиции моментах биографии своей героини, — ближайшее домашнее окружение, дружба, школа, забавы, мечты, — Т. Манн, как видим, не придает им обычного звучания: юность Тони не только не предвещает конфликта, драмы, напротив, исключает эту возможность. И еще одно заметное отступление от традиции: автор ни разу не оставил свою героиню одну, не дал повода для самоанализа, исповеди. Диалог, авторское повествование, «коллективное суждение» от собирательного, безымянного лица — эти формы явно превалируют над внутренним монологом. И эта черта, которая тоже претерпит видоизменения на протяжении романа, призвана в данном случае подчеркнуть «сращенность» его героини с окружением, средой.
Недоговоренность, иносказание в диалоге, использование пейзажа и внешних проявлений персонажа (поза, жест) для передачи настроения и чувств — таковы характерные черты повествования о самом поэтичном эпизоде истории Тони: ее пребывании в Травемюнде, знакомстве с Мортеном и их разлуке. Формы психологического анализа от автора или непосредственный внутренний монолог и здесь «подменены», с одной стороны, формой традиционной: письмо, с другой — весьма специфической: не дневник, а Семейная книга. Сцена чтения этой книги вернувшейся из Травемюнде Тони завершается внесением в нее самой лапидарной записи. По внутреннему же своему содержанию и функциям в романе эта сцена стоит самого развернутого психологического монолога или от автора дававшегося ана-
135
лиза: «…лицо ее приняло болезненное выражение. Она порывисто схватила перо, не обмакнула, а стукнула им дно чернильницы и затем, изо всей силы нажимая на него согнутым указательным пальцем и низко склонив пылающую голову, вывела своим неловким, косо взбегающим кверху почерком: «…22 сентября 1845 года обручилась с господином Бендиксом Грюнлихом — коммерсантом из Гамбурга». Покорность, отчаяние, мужество, самоотверженность, тщеславие, наивность — таково разнообразие, богатство, драматическая напряженность содержания, вместившегося в необычную форму психологического анализа, которую утверждает Манн «в обход» самоанализу монологическому.
Избранный им путь и в данном случае приводит к возможности освещать один и тот же момент внешней или внутренней жизни своих персонажей с различных точек зрения. Восприятие героини, без прямого авторского вмешательства, осложнено взглядом со стороны, элементом оценки, вступающей в противоречие с ее самоощущением. Вместе с тем избранная им «странная» форма финала любовной драмы героини демонстрировала повышение роли решения сравнительно с перипетиями, ему предшествующими, то есть собственно действия над психологией. Это отличие от традиций выступает опять-таки с особенной отчетливостью, когда роман-«первенец» освещен ретроспективно: последующее творчество Манна, и последние его романы особенно, выявили, как мы видели, всю значимость именно этического аспекта коллизии и в плане тех позиций, которые занимал художник в литературной борьбе, и в плане возможностей познания человека в определенной общенной[52] ситуации, которые этой формой открывались.
В «Будденброках» вся эта выявившаяся позднее сложность, емкость новых форм только намечена. Но тем не менее роман-«первенец» дает основания говорить о качественно новых чертах воплощенной в нем формы конфликта, характера героини, средств психологического анализа и об их исторической обусловленности. В самом деле, «обыкновенность» манновской героини, далекой от осознанной неудовлетворенности и противостояния среде и вместе с тем не только ввергнутой в коллизию, но и поставленной перед ответственным, реально определяющим ее судьбу выбором, — все эти свойственные роману Т. Манна черты не только специфичны, индивидуальны, — они несут на себе отпечаток неких общеисторических сдвигов, которые скорее еще ощущает, провидит, чем отчетливо осознает тогда еще
136
начинающий писатель, а также потенциальной готовности к обновлению, развитию того метода и жанра, из которых он исходит. Особое значение, которое отводилось психологическим перипетиям конфликта в романе XIX века, объяснялось тем, что завязка и исход его определялись той внутренней изоляцией, тем одиночеством, которые характеризовали положение героя или героини в отношении окружающего враждебного мира. Крушение любви было обреченьем на полное, несущее гибель одиночество. Трагизм ситуации как раз и заключался в том, что идеал, обретаемый в любви, оказывался иллюзорным, мечтательным, а гибель — неизбежной и неотвратимой, вытекающей из неравенства двух «полюсов» — стоящего выше своего окружения героя и сплотившейся против него «среды».
Роман Т. Манна, воспроизводя внешнюю канву традиционной драмы героини, существенно смещает акценты. Продолжая уже охарактеризованную нами линию взаимоотношений Тони с окружающей средой, автор «Будденброков» в том же идиллическом тоне рисует и кульминационный ее момент, — принимаемые отцом меры нажима на Тони в пользу Грюнлиха: по договоренности с консулом пастор произносит воскресную проповедь, целиком посвященную непокорным дочерям; результатом этой меры было лишь то, что Тони отказалась посещать церковь и вынудила родителей отправить ее на отдых в Травемюнде, где и происходит встреча с Мортеном и зарождается взаимное чувство. Противодействие ему со стороны консула (его письмо, миссия Грюнлиха) выглядит тоже отнюдь не грозно — скорее сентиментально и гротескно.
Так шаг за шагом, исподволь, изнутри, преображается характер конфликта: не сила противодействия внешних непреоборимых сил становится источником драмы, пережитой Тони, а слабость начала человечности и непосредственности, живущих в ней самой и побежденных ею же самою. Отсюда — первостепенное значение действенного момента выбора, решения, отодвинувшего чисто психологическое начало коллизии. Отношения с Мортеном определяет не внешнее противодействие, а живущая в самой Тони внутренняя приверженность к миру, который никогда, по словам лоцманского сына и будущего ученого Мортена, не примет его и не станет для него «своим». Не мечта о любви и возможности счастья обманула Тони, а она сама выбрала путь отречения от мечты во имя верности идеалам семьи и среды, вошедшим в ее плоть и кровь.
137
Приведенная выше сцена записи в Семейную книгу фактически лишь зафиксировала то решение, которое сложилось у Тони еще по пути из Травемюнде: «Она вспомнила все, что слышала от него, все, что узнала во время их долгих и частых разговоров, и, давая себе клятву сохранить все это в памяти как нечто священное и неприкосновенное, испытывала чувство глубокого удовлетворения». Так определила Тони место, которое мог занимать в ее жизни Мортен: он должен был находиться где-то вне реальности, перейти в область мечты, не вступив тем самым в противоречие с той действительностью, которую Тони признавала своим уделом. «Возможно, что она пойдет по предначертанному ей пути и станет женой господина Грюнлиха. Какое это имеет значение? Ведь когда он с чем-нибудь обратится к ней, она вдруг возьмет и подумает: а я знаю что-то, чего ты не знаешь».
В усилии разграничить мечтательную и действительную стороны жизни «одному богу известно», чего больше, — тоски и отчаяния, рассудительности и самолюбования или потребности в самооправдании и самоутешении.
Нельзя не усмотреть в этой стороне травемюндевской драмы зачатка одной из самых сложных общечеловеческих нравственных проблем, поставленных Манном в более поздний период. Проблемы ответственности, нравственного выбора, неотделимые от соотношения поступка и помыслов, составят в свое время едва ли не главнейшее содержание знаменитой тетралогии «Иосиф и его братья». В ранних «Будденброках» эта проблематика лишь намечена; и все же она существенно меняет характер конфликта и входит формообразующим началом в систему повествования.
Травемюнде, действительно, как казалось самой Тони, навсегда остался для нее самым светлым, счастливым, возвышенным и только ей одной принадлежащим воспоминанием. Но из логики повествования с непреложностью следует, что Травемюнде — отнюдь не промелькнувшее чудное виденье и не только эпизод жизни Тони, изолированный от других частей романа. Этот, казалось бы, мелькнувший эпизод, никаких фабульных последствий не содержащий, оказывается крепко связанным со всем последующим повествованием целой ассоциативной системой, так или иначе к нему возвращающей.
Характерно в этом смысле, что последние упоминания о Травемюнде связаны с Ганно, который проводит в этих мес-
138
тах свои летние каникулы — единственную счастливую пору своей короткой жизни. Для Ганно, так же как для «тети Тони», которая расспрашивает его о впечатлениях лета, Травемюнде — это больше чем место отдыха и красивых пейзажей. Не только для Тони, но и для Ганно, и на другой лад для Томаса в последний период его жизни этот маленький приморский курорт — иной мир, не знающий ни насилия, ни фальши, позволяющий быть самим собою, давать простор лучшим сторонам своей души и понимать жизнь, людей умнее и чище, чем это кажется возможным в условиях повседневно окружающей их жизни. Но главное «несовпадение» в освещении Травемюнде Тони и повествованием в целом заключается в том, что все связанное с ним не удается успокоительно заключить (воспользуемся и на этот раз понятиями из «Иосифа») лишь в сферу «помыслов» и отодвинуть в прошлое. Мы уже раньше говорили о том, что Мортен вошел в жизнь Тони не просто как счастливое воспоминание: он неосознанно для нее самой стал тем человеческим идеалом, — тем воплощением независимости и целеустремленности, — ориентация на который определяла отнюдь не только мечты, но и самые ответственные ее речи и поступки. Самым существенным и «осязаемым» доказательством принадлежности Мортена не только миру грез и воспоминаний, но и миру действительному являются те скупые, но при этом весьма выразительные, сведения, которые сообщает уже разошедшейся с первым мужем и навестившей Травемюнде с братьями Тони — старший лоцман Дидрих Шварцкопф: «…Мортен-то наш уж сколько лет доктором в Бреславле, и практику себе, пострел, сколотил недурную!»
Это краткое сообщение об ушедшем со страниц романа персонаже очень характерно. Оно не содержит никакой фабульной информации (не сообщает, как сложилась, например, личная жизнь Мортепа, каково имущественное его положение и пр.), чем подчеркивает, что Мортен — персонаж вне фабульного плана, имеющий специфические функции. Но, с другой стороны, при всей своей предельной лаконичности, оно достаточно обширно и содержательно, чтобы создать ощущение «здешности», реальности этого героя-идеала, героя неосуществленной травемюндевской мечты. В кратком сообщении лоцмана Шварцкопфа о сыне утверждается, что данное им Тони обещание «вернуться уже доктором», прозвучавшее для нее только мечтательно, стало непреложным, обыденным фактом. И более, чем житейским
139
фактом, ибо для того, чтобы проложить себе дорогу и добиться независимого положения, Мортену, говоря опять-таки его же словами, «надо работать так», чтобы именно завоевать не только свою профессиональную принадлежность, но и свои жизненные права (если уж не политические — об этом почтенный лоцман, естественно, не упоминает, ибо и понятия не имеет о принадлежности «мальчика» к некоей революционно-демократической корпорации). Главным из принципов Мортена была как раз борьба за основанную на собственном труде независимость и на том же пути приобретаемое чувство не фамильной и не сословной чести, столь развитое у Будденброков, а собственно человеческого достоинства.
Впрочем, была в этой позиции не осознаваемая самим Мортеном и семейная традиция: все поведение Шварцкопфа-отца с Тони, с Томасом и особенно при объяснении с Грюнлихом, да и сама его сдержанная информация о достигнутом сыном успехе свидетельствуют об умении соблюдать очень четкую дистанцию между будденброковским и своим миром, найденную на основе все того же глубоко органичного для него чувства человеческого достоинства.
Лаконичная информация о судьбе Мортена, не открывая никаких фабульных возможностей, составляет зато важное звено в проходящем сквозь весь роман подспудном противостоянии двух миров -— будденброковского и небудденброковского в нашем условном обозначении. Это и есть прямо не обнаруживаемый стержень повествования, который созидает новые образования внутри традиционной жанровой структуры семейно-психологического романа и, в частности, в структуре любовной коллизии, которая нас сейчас непосредственно занимает. Тот «подрыв» элегически-мечтательного образа Мортена, который осуществляется «фактической справкой» лоцмана, предстает еще одним опровержением позиции, избранной Тони: клятва верности грезе, мечте, идеалу не может не утерять ореола, коль скоро греза становится явью, реальным воплощением «варианта» судьбы, от которого, не поверив в него, отказалась Тони. Так, частный в системе произведения конфликт — любовная драма Тони — несет на себе отпечаток осуществляемого Манном отхода от традиционных форм романа. Именно на судьбе Тони приоткрывается, как мы пытались показать, новая значимость момента выбора и решения как формообразующего центра конфликта, а тем самым и особый
140
аспект, и особые формы психологического анализа, сосредоточенные на вине, ответственности.
В том, что в процессе обновления традиционной структуры романа намечается именно это русло, сказывается органичность для исканий Манна уроков «русской школы», которая с самого начала поразила его силой нравственного пафоса и сосредоточенностью на проблемах «греха», «очищения» и внутреннего прозрения. Но в этом же раннем романе наметилось вполне оригинальное преломление традиции. Ибо уже для него характерна вполне специфическая сосредоточенность не столько на исследовании очистительных потенций человека, проходящего через горнило исканий и страданий, как это было у Достоевского и Толстого, сколько на освещении вопроса участия (вольного и невольного) самого человека в обстоятельствах своей судьбы. По первому роману трудно предположить тот разворот, который получает эта проблема в позднейшем творчестве Манна, отправляющегося от трагического исторического опыта последующих десятилетий и мобилизующего в процессе их художественного отражения такие смелые и необычные средства, которые не были доступны ему в период «Будденброков».
И все же тип конфликта, намеченный в «традиционном» романе об одной семье, уже осуществляет определенный поворот к самым исконным, старейшим формам конфликта, к использованию мотивов мифического понимания судьбы, предстающих в очень своеобразном сочетании с использованием Манном «уроков» романа прошлого века. Моменты решения, выбора, как особо значимые «части» конфликта, недаром получают такое неожиданное и сильное обнаружение в эпилоге романа — в главке о том, как «обстояло дело» с тифом. В «метафизическом» финале выведена наружу внутренняя пружина конфликта, общая для всех линий романа, объединяющая трагическую историю Ганно с повествованием о судьбах других Будденброков. Именно в свете эпилога, отнюдь не только Ганно касающегося, любовная драма Тони получает свое истинное, более глубокое, чем кажется ей самой, значение — она предстает как результат «глухоты» к «окрику» жизни, раздавшемуся из другого социального мира и возвестившего о небудденброковских понятиях и принципах.
В романе XVIII—XIX веков незаурядный, рвущий связи со своей средой герой искал выходов за ее пределы, осуществлял контакты с миром «униженных и оскорбленных»,
141
в ситуациях чрезвычайных, драматических, либо касающихся только его, либо связанных с общественными событиями и сдвигами в окружающем мире (Вильгельм Мейстер, Жюльен Сорель, Алеша Карамазов, Левин, Пьер Безухов). Герои Т. Манна, напротив, не только не стремятся к выходам за пределы своего социального круга и к контактам с другой средой, как к сознательной, глубоко выношенной цели, но, напротив, более или менее последовательно (в меру своих внутренних сил и особенностей внешней ситуации) таким контактам и выходам сопротивляются. Для героев Т. Манна контакты с представителями «иных миров» — отнюдь не искомы и не желаемы. Они очень скоро начинают тяготиться ими или воспринимают их как случайность, обременительную или недопустимую. Но зато их навязывает им в различных формах, в обличиях самых неожиданных — сама жизнь. И, как мы уже говорили относительно Ганно и Тони, однажды прозвучавший для них «окрик» жизни объективно становится решающим фактором их внутреннего формирования и судьбы. Тем самым определяется первостепенное значение и специфического соотношения фабульного и внефабульного пластов романа.
Для старшего Иоганна Будденброка отвержение «окрика» жизни, исходящего в данном случае от блудного сына Готхольда, не чревато как будто бы никакими внешними последствиями. Но неприметно оно становится самым тяжелым переживанием его «заката».
Второе поколение — Иоганн Будденброк — младший и его супруга Бетси, урожденная Крегер — услышало однажды голос иного социального мира очень отчетливо и ясно — в дни народных волнений, явившихся отзвуками революции 1848 года. Но, как мы подробно говорили выше, решительно и стойко заняло позицию их игнорирования, прекрасно передаваемую любимым словом консульши: «assez» (достаточно). Оно как бы отгораживает от вторжения всего осложняющего установленный распорядок жизни и распространяется и на семейные, и на общественные события и отношения. С помощью спасительного assez консульша пережила неудачи личной жизни дочери, неустроенность младшего сына, растущую ненависть между братьями: «Много есть уродливого на свете, — думала консульша Будденброк, урожденная Крегер. — Случается, что братья ненавидят и презирают друг друга. Это ужасно и, однако, это бывает. Но не надо говорить об этом. Даже думать не надо». В такой же позиции своего рода обороны от не только
142
тяжелого и «ужасного» в жизни, но и всего выходящего за пределы понятий, идеалов и навыков своего круга стоит и консул Иоганн Будденброк, способный впадать в состояние полного душевного смятения при виде фиктивного или настоящего человеческого горя и вообще всяческих более или менее сильно проявляемых человеческих эмоций, но так и не осознавший истинного смысла пережитой Тони драмы: рокового значения выбора между Грюнлихом и Мортеном. Вернее, последний вовсе не существует для Иоганна Будденброка. В письме консула Тони нет излюбленного его супругой слова «assez», но есть немало слов и фраз, несущих тот же смысл: замолчи, оставь, довольно — довольно прислушиваться к голосу, исходящему из чуждого, враждебного мира, нельзя не сопротивляться его вторжению. Так старшим Будденброкам удавалось без существенных, как им казалось, потерь обороняться самим и оборонять своих детей от соблазнов, исходящих от посторонних их среде и ее идеалам «непроторенных путей». Однако для этих последних — как мы уже отчасти установили это на судьбе Тони — позиция обороны от «окриков» жизни объективно оказывается невозможной, независимо от того, желаема ли она субъективно.
Для третьего поколения Будденброков необходимость отклонения от проторенных путей и взаимодействия с посторонними «голосами» и «мирами» является неким постоянно действующим фактором, во многом определяющим их мироощущение, взаимоотношения и положение в семье, в обществе и саму судьбу.
Итак, в главах о «средних» Будденброках характеризуемый нами композиционный принцип соотнесения «миров» и стоящих за ними основных и второстепенных персонажей реализуется особенно интенсивно. Соответственно этому, здесь же развита во всем многообразии своих форм система повествования как своеобразного «единоборства» точки зрения героя — его оценок окружающего и самооценок — и того объективного освещения созидаемых в романе лиц и ситуаций, которое складывается из описания поступков, действий, переживаний — словом, всех их проявлений и отношений. Особое значение приобретает при этом сочетание авторской речи с речами персонажей, суждениями некоего собирательного лица, представительствующего от общественного мнения, а также средства внеречевой характеристики, которые восполняют традиционные формы психологического анализа.
143
Это произошло в те далекие дни юности, о которых никто кроме бестактного Христиана («по совести говоря, — сказал он однажды, — у тебя в свое время были разные там историйки…»), не смел напоминать сенатору Будденброку. Прошлое, как был уверен он сам, быстро и бесследно изгладилось из его памяти.
Однако «историйка», действительно, была, и описание ее финала, почти совпавшего с травемюндевской драмой Тони, принадлежит к одной из самых поэтичных страниц романа: «В маленьком магазине было темно. Влажный аромат земли и цветов наполнял его. А за окном зимнее солнце уже клонилось к западу. Нежная, чистая, словно нарисованная на фарфоре, вечерняя заря позолотила небо над рекою. Уткнувшись в поднятые воротники, люди торопливо проходили мимо окна, не видя тех двух, что прощались в углу маленького цветочного магазина».
Так же, как его сестра, Том убежден, что он «в себе не волен», что во имя дела своих отцов он «должен сделать подходящую партию», что сильное чувство, которое он испытал к продавщице цветочного магазина на Фишергрубе — красавице Анне, померкнет и исчезнет в сиянии деловой и личной жизни главы солидной и богатой фирмы.
Судя по внешнему течению жизни консула и сенатора Будденброка, все так и случилось. В его жизни, да и в жизни его возлюбленной юношеская любовь не оставила, видимо, ни малейшего следа. Сцена в цветочном магазине, так же как объяснение отца с сыном в начале романа по поводу Готхольда, травемюндевская история Тони, обманчива по своим фабульным возможностям: она не продолжена в дальнейшем внешнем развитии романа. Но так же, как названные эпизоды, она имеет самое богатое и органическое внутреннее продолжение, вернее — все нити линии Томаса восходят к ней и ею венчаются.
Уже одно то, что на каких-нибудь двух-трех страницах текста, которые отведены прощанию в магазине, сосредоточены богатые ассоциации (стилевые и фабульные), говорит о большом и специфическом значении юношеской «историйки» в развитии мысли романа и в строении повествования.
«— О, боже,—воскликнула она и робким, скорбным жестом поднесла к глазам подол фартука.
— Когда-нибудь это должно было случиться,
— Когда? — сквозь слезы спросила она.
— Послезавтра».
144
На память приходят эпизоды не только из романов Фонтане или Флобера, но и Толстого.
Совершенно толстовский психологический жест[53],
диалог, состоящий из почти односложных реплик, понятных только для ведущих его
двух лиц и преисполненный для них трагическим содержанием, и само ритмическое
движение разговора, и к тому же имя —
А какие-то детали портрета отдаленно напоминают Катюшу Маслову: «Она была поразительно хороша собой…[54] С лицом почти малайского типа — чуть выдающиеся скулы, раскосые1 черные глаза, излучавшие мягкий блеск, и матовая кожа… Руки ее, тоже желтоватые и узкие, были на редкость красивы для простой продавщицы»…
К последнему толстовскому роману (конечно, тоже отдаленно)
приближается и сама обстановка первой встречи героев, решающей их отношения: в
праздничной толпе, в атмосфере особой радостной возбужденности.
Связь с отпрыском бюргерской аристократии не повела ни к
каким дурным последствиям для манновской героини (если можно так назвать
совершенно второстепенное в фабульном отношении лицо). Когда Томас вернулся
из-за границы, его
145
знаваемым и незамечаемым — и все же постоянным — спутником на поворотных и горестных этапах жизни.
В еще большей мере, чем Мортен для Тони, супруга хозяина
цветочного магазина — «белокурого молодого гиганта» —
В соответствующих главах романа применяется такая нарочито объективистская форма повествования, что так и остается проблематичным: была ли доля сознательного намерения в том, что глава фирмы и счастливый отец семейства, в пору наивысшего внешнего подъема и начала еще неприметного внутреннего, для него самого необъяснимого упадка, осуществляет строительство роскошного особняка как раз на той самой Фишергрубе, на которую когда-то пробирался тайком на свидание с прекрасной продавщицей. «…Он… тут же рьяно взялся за осуществление своего плана и уже облюбовал место для постройки. Это был довольно большой участок на нижнем конце Фишергрубе… Соседство было неплохое — добротные бюргерские дома с высокими фронтонами. Самым неказистым из них был дом насупротив — узенькое здание с цветочной лавкой внизу»1.
Это «vis-à-vis» невозможно не причислить к свойственной и другим произведениям раннего Манна сдержанной, как бы «затененной», но тем не менее преисполненной большого содержательного смысла символике. Он привносит в самые простые бытовые ситуации и в самые ничтожные, с точки зрения фабулы совсем «ненужные», детали обстановки обобщающе-символизирующие оттенки. В данном случае роскошный дом «насупротив», явно ненужный Томасу практически, но настоятельно необходимый с точки зрения «подсознательной потребности», символизировал попытку вызова со стороны будденброковского мира, будденброковского «варианта судьбы» тем, кто «окликал» надменных его представителей с иных жизненных позиций,
140
противостоял им как самостоятельное, не дающее сломить себя начало.
Надо сказать, что по всему роману проходит эта тенденция обобщающе-символизирующего обыгрывания деталей, относящихся к месту действия: Травемюнде в жизни Тони, отцовский дом на разных этапах жизни семьи и его продажа «врагам» — Хагенштремам, «участие» тех или иных улиц в развитии событий или переживаний, знаменующих определенные этапы пути героев, и пр. На свойственном всему роману фоне постройка нового дома сенатора Будденброка напротив цветочного магазина четы Иверсен выглядит подчеркнуто многозначительно. Встреча четы Будденброков, приехавших на освящение своего нового жилища, и четы Иверсен, вышедших приветствовать своих богатых соседей, является, по сути, началом того нравственного поражения, которое терпит будденброковский мир в лице духовно самого значительного и стойкого своего представителя.
«Иверсен поклонился, почтительно и неловко, в то время как его жена, не переставая катать колясочку, внимательно и спокойно разглядывала своими черными чуть раскосыми глазами сенаторшу… Томас Будденброк… резким движением вскинул голову, посмотрел на госпожу Иверсен открытым, ясным, дружелюбным взором и… учтиво откланялся».
Дружелюбие и учтивость при сознании социальной дистанции — такова сознательная позиция Томаса, которую он демонстрирует при этой встрече, доказывая себе и другим полную победу над прошлым, правоту в выборе варианта судьбы. Но непроизвольная резкость движения вступает в противоречие со спокойной плавностью обдуманных жестов и заставляет взять под сомнение полноту торжества самовнушаемой позиции. Спокойная и независимая заинтересованность Анны контрастно оттеняет непроизвольную нервозность Томаса.
Эта мимолетная, знаменательная сцена выявляет драматический разрыв между внутренним состоянием и внешним поведением Томаса; между осознанными, но не главными и главными, но не осознанными и не признаваемыми факторами, определяющими его судьбу. Анализ этой как бы удвоенной психологической разорванности составляет еще одну нетрадиционную черту романа, которая с особой силой проявляется в главах, посвященных Томасу Будденброку.
147
Сенатор Будденброк в разговоре с сестрой, описав свое состояние, сказал, что он перестал ощущать власть над тем, чем владел, над чем властвовал раньше. Томас затруднился назвать это неопределенное «нечто», ускользающее все более и более у него из рук, и так и не смог этого сделать до конца жизни, хотя именно стремление к самопознанию, к определению своей человеческой сущности и оценка пройденного жизненного пути занимали самое большое место в его внутренней жизни. Собственно говоря, вся последняя часть романа сосредоточена на этом и организована все той же повествовательной формой специфического спора различных точек зрения, находящих разрешение в моменте перехода от рефлексии к действию.
С первых дней своего участия в делах фирмы и тем более после смерти отца, в период женитьбы, рождения сына, избрания в сенат, постройки нового дома и празднования столетия существования фирмы Томас Будденброк неизменно находился в центре внимания высшего городского общества, и даже «низов», тоже имевших о нем свое нелицеприятное и меткое суждение. Во время выборов в сенат, например, в кучке людей — складских рабочих и служащих, матросов, грузчиков, мелких торговцев — дожидавшейся их результатов, раздавались голоса, с одобрением отмечавшие образованность и ум Будденброка («у него башка что надо») — качество, получавшее в высших кругах отнюдь не столь безусловное одобрение. «…На бирже, в клубе, в городском театре, в гостиных» в равной мере вызывали неодобрение и изящество жены консула Будденброка, и его пристрастие к туалетам из Гамбурга, и «цитаты из Гейне и других поэтов, которыми он так и сыплет по любому поводу». Словом, «общий» глас сводился к тому, что «в консуле Будденброке есть что-то «такое-эдакое», что, однако, можно и простить, ибо семья почтенная, фирма солидная, женитьба выгодная («шутка ли — сто тысяч талеров!..» ) и сам он — консул Будденброк — любит город и может способствовать его процветанию. И это в основном уважительно-амнистирующее признание характеризовало отношение «общества» к Томасу постоянно и неизменно. Так что неудачные замужества Тони, скандальный процесс и заключение в тюрьму мужа ее дочери Эрики, похождения Христиана и коммерческие неудачи самого Томаса легко компенсировались в глазах общественного мнения светскостью Герды и роскошными приемами, родовитой родней (крестным отцом Ганно был сам бургомистр!), но-
148
вым, великолепным особняком и политическими успехами консула, ставшего в столь молодом возрасте сенатором.
В разговорах с Тони, Гердой, Христианом или матерью Томас, то сдерживая неумеренно восторженное отношение к нему сестры, то частично признавая критику в свой адрес жены и даже Христиана, в какой-то мере присоединяется к тому мнению, которое сложилось о нем у его сограждан. Но в глубине души таимая самооценка, лишь очень слабо и лишь при особых обстоятельствах выходящая наружу, убежденно и уязвленно отрицает это суждение — внешнее, элементарное и близорукое. Как никому другому из героев романа Томасу Будденброку предоставлено право на обширный самоанализ, использующий форму не собственно прямой речи, и внутреннего монолога, и приближающегося к толстовской диалектике души аналитического воссоздания мельчайших, но преисполненных большого содержания душевных движений, не учтенных характеристикой1
Вместе с тем именно образ Томаса Будденброка создается при большом участии широких авторских обобщений, отталкивающихся от «мелочного» анализа душевной жизни героя и тем самым опять-таки приближающихся к толстовским генерализациям, формируемым на основе авторского «всезнания». А наряду с ними образ Томаса созидается и средством, восходящим уже скорее к Достоевскому, чем к Толстому и ставшим неотъемлемым достоянием не только Т. Манна, но и поэтики реалистического романа XX века вообще.
Мы говорим о приеме специфического «подсматривания» за внешними проявлениями героя, мельчайшими жестами, позами, непроизвольными движениями, выдающими тайны — порою самим героем не осознанные — внутренней его жизни.
Голос толпы низводит Томаса Будденброка до уровня претендующей на оригинальность посредственности, освещение же изнутри — формы внутреннего анализа и самоанализа — поднимают его до уровня трагического героя. При этом «низводящая» версия компрометируется пародийным оттенком, который в большей или меньшей степени присущ «общественному мнению», коль скоро форма эта
149
появляется в романе. В связи с Томасом она особенно ясно раскрывается как ироническая стилизация под эпическую патриархальность; содержащаяся в ней «версия» освещения выглядит несерьезно, заведомо тушуясь перед противостоящей ей сложной и богатой противоречивыми и тонкими нюансами версией субъективной. Но это отнюдь не значит, что и последняя несет полную и окончательную о нем истину.
«— Скажи еще, Том, восклицает Тони, узнав, что родительский дом переходит в руки исконных конкурентов и недоброжелателей Будденброков — Хагенштремов, — неужто это не бред?
— Безусловно, бред.
— Не кошмар…
— Пожалуй, что и кошмар»,— отвечает сенатор, отнюдь не отвергая такого фаталистического восприятия семейной и собственной судьбы. Это мировосприятие находит продолжение и в другом разговоре с сестрой — об «ускользании» «чего-то», что раньше находилось в руках, а также в размышлениях Томаса после ссоры с матерью по поводу отданной без его ведома наследственной доли: «Все не ладилось, все шло вразрез с его желаниями!.. Ему казалось, что прежде этого не могло бы случиться, что события не посмели бы принять такой оборот…»
«Внезапный», еще не имеющий видимых признаков, «упадок» представляется Томасу то как результат игры иррациональных и неопределенных сил, властвующих над его судьбой, то как результат физиологического процесса вырождения и упадка, застигшего его в сравнительно молодом возрасте: «…хотя Томасу Будденброку едва минуло тридцать семь лет, это указывало… на упадок его сил и быструю утомляемость» — свидетельствует автор. А через несколько лет все мысли, занимавшие Томаса, отступали на задний план перед физическим ощущением, что он, не будучи больным, «в сорок два года — конченый человек». Стоило ему остаться одному, как «выражение бодрости… уступало место мучительной усталости». И все это Томас был склонен объяснять в духе столь поразившего впоследствии его сына довода о «вырождении семьи». Умудренный жизнью и склонный к анализу, Томас Будденброк прибегает и к физиологическому и к иррациональному объяснению своей «усталости» скорее метафорически: он прекрасно отдает себе отчет в том, какую роль играют в его «усталости» и преждевременной дряхлости отношения с окружаю-
150
щей средой. Незаурядная даже для «ученых бюргеров» начитанность, образованность, культурные традиции семьи, близость с женщиной, утонченной и артистичной по самой своей натуре, — все это отдалило его от среды, поставило по отношению к ней в позицию иронической и вместе с тем мучительной дистанции.
Решаясь совершить не вполне чистую с точки зрения идеалов купеческой честности сделку (купить рожь на корню у разорившегося помещика по заведомо «не своей» цене), сенатор наталкивается на вопросы, субъективно так и оставшиеся неразрешенными: «Кто он? Деловой человек или расслабленный мечтатель?» И — так как деловая жизнь представляется ему как «точный сколок с течения той, другой жизни, большой и всеобъемлющей» — «приспособлен ли он… к этой суровой практической жизни»?
Итак, в отличие от Ганно, Томасу Будденброку ясно, что страх перед «чуждым сантиментов течением жизни» является не признаком биологического вырождения, а не чем иным, как органически присущим ему непринятием («гадливым возмущением», «непреходящей болью») тех социальных норм, которыми он не может не руководствоваться. Однако Ганно, в отличие от отца, обладает неосознанной, но непреклонной твердостью в своем неприятии жестокости и уродств социальной жизни, олицетворенной для него порядками и атмосферой школы. «Не нужно мне такого везенья», «я устаю ото всего этого», не сумею обороняться и своей музыкой, не смогу сделать ее «нужной», — твердит он Каю. И в этом трагическом самоотрицании и неприятии остается стойким до конца. Томас же так и не обретает ни последовательности, ни стойкости в своей «гадливости»: в «лучшие дни, окрепнув духом», он стыдится своей боли от «уродливой, бесстыдной жестокости жизни». Только в тяжелые, но светом истины озаренные, минуты он далеко заходит по пути отречения от всех идеалов «делового человека», которыми взнуздывал себя всю жизнь.
Это далеко идущее отречение сказывалось и в духовной, и в семейной, и в официальной жизни сенатора. Самым ярким его проявлением является празднование столетнего юбилея фирмы. Освещенный сквозь призму восприятия Томаса, юбилей этот предстает уродливо-фарсовым маскарадом — нудным, лицемерным, бездушным и вызывающим страшное утомление. Он как бы своего рода «сколок» деловой жизни, все больнее ранящей Томаса: «…брало верх ощущение чего-то смешного и неловкого, неотделимое от
151
…пошлой музыки, от всех этих заурядных людей, только и знающих, что болтать о биржевых курсах и званых обедах». Единственным соответствующим настроению Томаса поздравлением была традиционная речь складского рабочего Гроблебена — фигуры внешне совершенно комической. Он произносил ее на всех торжествах в доме хозяина, являясь туда в качестве поздравителя: «…господь… за все воздаст… уважаемому семейству… все ведь сойдут в могилу, бедный и богатый, на то уж воля господня, только что один заслужит красивый полированный гроб, а другой — сосновый ящик. А в прах мы все обратимся, все будем прахом… Из земли вышли, в землю и вернемся», — говорил Гроблебен на крестинах Ганно; на юбилее он успел произнести только один отрывок этого своеобразного поздравления, не подозревая, насколько созвучно оно на этот раз настроению хозяина.
Но в этот же день, когда Томас, страдая и проклиная обязанности юбиляра, с особой остротой чувствовал дистанцию, отделяющую его от своего круга, он не может простить сына, плохо прочитавшего поздравительное стихотворение, и ощущает до слез доходящую растроганность при изъявлениях восторгов и похвал, в искренность которых не верит, форма выражения которых ему противна. Такова противоречивость Томаса в день юбилейных торжеств. И это было не настроением одного дня, а проявлением постоянно живущей в нем и не находящей разрешения разорванности.
Усталость от жизни и обязанностей «делового человека», уступки живущему в нем «мечтателю» проявлялись настолько явственно, что это замечал даже Ганно: вопреки постоянному стремлению сделать из него достойного наследника, делового человека, Томас внимательно и ревниво следил за его увлечением музыкой, стремясь с помощью сына вторгнуться в эту недоступную для него область — пленяющую и ненавистную преграду между ним и женою. Здесь намечается ассоциация с «Крейцеровой сонатой». Мы говорим о тех эпизодах, в которых появляется лейтенант фон Трота, артист по призванию, играющий на нескольких инструментах, нашедший в Герде единственную родственную себе душу. «Томас Будденброк, сидя за своим письменным столом, ждал… покуда там, в большой гостиной, над конторой, не оживут потоки звуков… Самое страшное, нестерпимо мучительное — это тишина, которая следует за бурей звуков и царит там, наверху, в гостиной —
152
долго, долго… Греховная, немая, сомнительная тишина!»
Эта близкая к толстовской повести ситуация не только не получает продолжения, но и сейчас же «обрывается» следующей за этим не собственно прямой речью героя: «Испытывал ли он ревность?.. Ах, да ни в какой степени! Ревность — сильное чувство, оно толкает человека на действия, пусть неправильные, сумасбродные, но захватывающие его целиком, раскрепощающие его душу». Так прихотливо перемежается и сливается даваемая в намеке оценка несчастного героя толстовской повести и связанный с непосредственной ситуацией манновского романа итог самоанализа героя. Дерзновенное введение ассоциаций, вернее, реминисценций из знаменитой толстовской повести уверенно подчиняется автором «Будденброков» все той же цели: раскрытию противоречивости жизненной и нравственной позиции героя, половинчатости, нестойкости его противостояния «страшному» в жизни, а тем самым и проблематичности «заявки» на трагизм, которую его субъективное самоощущение порою предполагало. Еще более глубокое и в конечном счете критическое по отношению к своему герою соотнесение с толстовскими искателями истины дано Манном в главе о знакомстве Томаса с книгой «некоего философа», в романе не названного (Шопенгауэра).
В опровержение критиков, считающих Манна писателем-интеллектуалом, который ищет любой предлог для погружения в собственно философские сферы, автор «Будденброков» вовсе не заинтересован в раскрытии и обсуждении положений шопенгауэровской философии по существу. Книга философа — это толчок к обнаружению все той же непримиримой противоречивости, присущей его герою, и к выяснению возможностей и перспектив его исканий. Рассказ о воздействии книги имеет точки соприкосновения со страницами Толстого о переживаниях Пьера после встречи с масоном, с описаниями смерти Андрея Болконского и Ивана Ильича.
Показывая последствия встречи своего героя с потрясшей его книгой, Т. Манн в толстовском духе повествует о наметившемся под ее воздействием и в результате давней неудовлетворенности жизнью нравственном обновлении.
Прославленное сочинение философа-пессимиста, столь созвучное декадентским настроениям и декадентской литературе, было воспринято манновским героем прежде всего в той своей части, которая объясняла и оправдывала его
153
страдания от уродств и жестокости жизни: «Это было удовлетворение страдальца, который получил… обоснованное право страдать в этом мире — лучшем из миров или, вернее, худшем, как неоспоримо и ядовито доказывалось в этой книге». Кроме того, эта книга была воспринята Томасом как подтверждение правоты его стремлений возвыситься над повседневной, низменной жизнью и, наконец, как обещание возможности вернуться к утраченным в житейской сутолоке человеческим ценностям. Такой «возврат» сулила смерть; и измученный жизнью «деловой человек» с восторгом, с внутренним просветлением и вдруг обретенной надеждой, как это случалось с толстовскими героями в минуты посещавших их прозрений, принимает такое условие. Неискушенный в философских тонкостях (это не однажды подчеркнуто автором) Томас Будденброк на свой лад воспринимает шопенгауэровский культ смерти; его союз со смертью — это по существу последняя вспышка жизнелюбия, ибо он означает для него надежду на возрождение утраченного и обретение желаемого: «Стены его родного города… раздвинулись, открывая его взору мир — весь мир, клочки которого он видел в молодости и который смерть сулила подарить ему целиком».
Знаменательно это как бы невзначай вплетенное упоминание именно поры молодости (не детства, не супружества, не отцовства, не успехов карьеры). Ведь и действительно именно в эту пору стены родного города раздвинулись перед Томасом и в буквальном смысле (он уезжал за границу), и в фигуральном: находясь в городе, он выходил за те пределы, в которых безраздельно замкнулся потом, перестав посещать прекрасную Анну в ее цветочном царстве. Так шопенгауэровское декадентство оборачивается в восприятии Томаса жаждой нравственного обновления, а эта последняя возвращает его, как это было свойственно и героям Толстого, к самым чистым периодам жизни.
Однако и здесь ассоциации с толстовскими героями (Пьером, Болконским, Левиным, Нехлюдовым, Иваном Ильичом) фиксируют не только сходство, но и резко оттеняют своеобразие мысли и строя манновского произведения. Прежде всего оно проявляется в новом характере, новом положении и новых функциях, которыми отличается у Манна сам момент духовного переворота, как один из существеннейших «опорных точек» композиции романа.
Для толстовского романа подобный момент — всегда в самопознании героя; оно несет объективную правду о его
154
человеческой сущности. Для Манна субъективное восприятие героем пережитого им внутреннего переворота отделено от объективного значения этого момента. Предстающий для него самого как предел «настоящей» о себе истины — момент этот не является таковым в системе повествования. Уже в первом романе решающее значение приобретает соотнесение того, что думает о себе сам герой, с тем, как он поступает и действует.
Недаром «встреча» Томаса с поразившей его книгой является встречей Томаса размышляющего с Томасом действующим — «расслабленного мечтателя» с «деловым человеком», если употреблять даваемые им самим определения. И столкновение этих двух источников характеристики завершается умалением значимости «самоочистительного» духовного переворота: «Я буду жить!» — прошептал он в подушку, заплакал и… в следующее мгновение уже не знал, о чем. Его мозг застыл, знание потухло, вокруг опять не было ничего кроме тишины и мрака…
На следующее утро, проснувшись с чувством… неловкости из-за духовных экстравагантностей, которые он себе позволил вчера, сенатор почувствовал, что из этого прекрасного порыва ничего не выйдет».
Все последующее повествование о Томасе Будденброке призвано подтвердить правоту этого трезвого признания: душевный порыв не имел последствий; истина, открываемая в процессе самопознания, далеко и резко разошлась с истиной, раскрываемой посредством других источников освещения, которым придано особенно большое значение. Рассказ о последнем периоде жизни Томаса строится как цепь точных наблюдений над внешним его поведением, поставленным с нарочитой подчеркнутостью в центр повествования. Только однажды, в главах о последнем пребывании Томаса и Тони в Травемюнде, этот принцип нарушается задушевным разговором Томаса с Тони, в котором он чуть приоткрывается изнутри (говорит о своей усталости от жизни). Но на первом плане и в этом травемюндевском эпизоде находится повествование о чисто деловом: разговоры Томаса о бирже, городских новостях, полемика о политике: он горячо выступает, например, против демократизации сената и пр. А затем повествование ведется уж только совершенно внешним, подчеркнуто «посторонним» повествователем, появившимся именно на этих страницах романа. Этот рассказчик как бы «не знает» ни о чем предшествующем: как бы заново наблюдает и
155
Томаса, и других лиц романа, и всю окружающую их обстановку, он характеризует, например, уже знакомое читателю расположение городских улиц, базарную площадь, здание сената… Все это как будто бы, с одной стороны, укрупнено, приближено к наблюдателю во всей четкости своих деталей, с другой стороны, дается в отдалении, с большой дистанции.
«…на мостовой было мокро и грязно, с крыш капало… была суббота — базарный день. Под готическими арками ратуши мясники окровавленными руками отвешивали свой товар… шла торговля рыбой… На Брейтенштрассе около полудня было шумно и оживленно. Школьники с туго набитыми ранцами… Конторские ученики… с портфелями в руках… седобородые… почтенные бюргеры… внимательно поглядывали на глазурный фасад ратуши, перед которым был выставлен двойной караул. Сегодня заседал сенат… заседание началось всего три четверти часа назад…»
Далее следует подробное описание церемониальных обязанностей караула, призванного салютовать не только проходящему по улице офицеру, но и выходящим из ратуши сенаторам, — вот этот старомодный ритуал да рыночная предпраздничная толчея только и привлекают внимание, вернее, только и доступны взору совершенно стороннего наблюдателя — заехавшего в город туриста, в позиции которого находится повествователь в этих главах романа. Вот именно такой наблюдатель и фиксирует попавшую в поле его зрения сцену: «…в подъезде (сената. — М. К.) вспыхнул красный фрак служителя… В треуголке и при шпаге, он… тихо скомандовал: «Внимание!» —и тотчас же опять скрылся за дверью… Солдаты встали во фронт, стукнули каблуками… в несколько приемов четко отсалютовали. Между ними, слегка приподняв цилиндр над головой, быстрым шагом прошел человек среднего роста… Сенатор Томас Будденброк покинул сегодня ратушу задолго до конца заседания… безупречно элегантный, он шел… вдоль Брейтенштрассе, то и дело раскланиваясь со знакомыми».
Далее следует описание встречи Будденброка с приятелем (Кистенмакером), при которой выясняется, что причиной неурочного ухода сенатора с заседания является острая зубная боль.
В отстраненном тоне, с точки зрения далекого, незаинтересованного, но на этот раз не случайного и внешнего, а
156
скорее всезнающего и от самой судьбы уполномоченного наблюдателя, повествуется об обмороке Томаса на улице, по дороге от зубного врача, и о его безмолвной, длящейся несколько дней агонии: «…Едва он достиг середины мостовой, как… словно чья-то рука схватила его мозг и с невероятной силой, с непрерывно и страшно нарастающей быстротой завертела его… и, наконец, с неимоверной, грубой, беспощадной яростью швырнула в каменный центр… Томас Будденброк… рухнул на мокрый булыжник мостовой».
Герда назвала «насмешкой, низостью, что все так получилось под конец», имея в виду падение на улице, испачканную одежду, обезображенное лицо — все то, что так противоречило вниманию к приличиям, заботе о своей внешности, всегдашней элегантности Томаса. Но трагической насмешкой выглядит этот конец и в других отношениях. Томас остается в конце как бы окруженным и изолированным обывательским провинциализмом родного города, мелочной, пустой помпезностью, связанной с его положением, и непонятным, тоже унизительно-мелким недугом — всем тем, чему он умел сопротивляться в лучшие минуты жизни. Смерть, которую он приветствовал под влиянием прочитанного сочинения как избавительницу именно ото всех этих обстоятельств, явилась в их обличии, подтвердила их силу, власть, непреоборимость.
Обстоятельства смерти Томаса Будденброка были злой насмешкой и над обещанием его видения, которое сулило восстановление через смерть открытого в молодости и утерянного потом счастья. Не случайно обстоятельства смерти застигают его как раз на том месте, на той улице, через которую всегда пролегал его путь на свидания с прекрасной цветочницей: даже характер фраз, детально воссоздающих последний маршрут Томаса по родному городу, близок описанию его тайных юношеских путешествий по тем же улицам, поворотам, спускам: «…вышел на Фишергрубе. Пройдя несколько шагов по этой улице… круто сбегающей к реке, он очутился у маленького домика…» — читаем мы в начале романа. «Завернув на Фишергрубе, он стал спускаться вниз… и шагов через двадцать почувствовал дурноту», — свидетельствует безликий наблюдатель, который ведет повествование в некоторых главах предпоследней части «Будденброков».
Все обстоятельства смерти Томаса, и более всего эта иронически-трагическая «перекличка», снимают, разбива-
157
ют утешительную иллюзию его видения. И — что еще существеннее — именно формой отстраненного повествования, не принимающей во внимание сложность внутреннего мира и учитывающей только внешнее и «очевидное», подводится жизненный итог пройденного героем пути. В основу его кладутся не перипетии «сумятицы чувств», а результаты поведения, отношений с другими людьми. В этом смысле итог жизни Томаса может быть выражен одним словом — изоляция. Невольно и не до конца осознанно он оказывается внутренне изолированным от общества, от семьи, от мира искусства, в который вхожи жена и сын, от мира религии, к которому близки отец и мать, от собственного светлого прошлого, от воплощенного в сыне будущего.
Впечатлительный Христиан, стоя у смертного одра брата, ощущает это запечатленное смертью одиночество в самом облике мертвого брата — «молчаливого, холодного, чуждого, недоступного… Он умер, ни слова не сказав, горделиво, спокойно, замкнулся в молчании».
С еще большей выразительной силой изоляция и отчуждение, как самой смертью запечатленный итог жизненного пути Томаса, воплощены сценой прощания с его телом: поток парадных венков, официальных соболезнований, толпа рабочих, пришедших проститься с хозяином, и, наконец, прощание с мертвым Томасом хозяйки цветочного магазина г-жи Иверсен — прекрасной Анны поры его молодости.
«Она… оглядывала… растения, канделябры, ленты, потоки белого шелка и лицо Томаса Будденброка».
Описание построено так, что вызывает ощущение дистанции: «лицо Томаса Будденброка» как бы отгорожено от Анны длинным перечнем предметов окружающей его пышности; и само ее присутствие в пышной зале особняка усиливает впечатление огромности разделяющего их расстояния и невольной внутренней изоляции, ставшей уделом Томаса.
Эта сцена не является завершением одной из фабульных линий романа; так же как не имела фабульной функции встреча Томаса и Анны у нового особняка. Смысл, художественное назначение этих эпизодов романа — развитие или, вернее, уточнение внутренней и главной его проблемы: отношения представителей мира Будденброков к доносящимся из далеких от них социальных и нравственных миров зовам жизни. Этот образ-определение из «главки о тифе» кажется абстрактным, а на самом деле преис-
158
полней совершенно конкретным содержанием — и психологическим, и социальным. Если вдуматься во все представленные в романе линии и снять с них более или менее внешние покровы, то ясно обнаружится, что каждый из них и весь роман выясняет отношения Будденброков с людьми из другого социального мира — будь то вышедший на стихийную демонстрацию народ, грозящий подрывом близких для всех них устоев, или отдельная личность, внесшая новую струю в духовный мир того или иного из них. На каждой линии романа и относительно каждого члена семьи происходит такого рода «испытание» социальной жизнеспособности, и в личном, и в общем плане. Характерно, что прощаться с мертвым Будденброком почти одновременно с Анной приходит группа складских рабочих: «С чинно поджатыми губами, ломая шапки в руках, смотрели они на великолепный катафалк. Сначала дивились, потом заскучали». Пришедшие просто не находят того, с кем приходят проститься,— он загорожен, скрыт, поглощен атрибутами своего общественного положения, сопровождающими его до самой могилы. Так в последний раз подчеркнута недоступность Томаса Будденброка «окрикам жизни» как (субъективно не осознаваемая) предпосылка трагической его судьбы.
В сцене прощания с мертвым Будденброком как бы подтверждается истина отношений изображенных в романе социальных миров. Причем и здесь она утверждается так же, как на страницах, повествующих о демонстрации, в форме своеобразного спора противоположных освещений одного и того же факта: «Г-жа Перманедер была в восторге. Она утверждала, что у многих слезы текли по жестким бородам». На этот раз (это редкий для романа случай) спор между видением персонажа (Тони) и точкой зрения, утверждаемой ходом повествования, разрешается категорическим авторским резюме: «Это она (г-жа Перманедер. — М. К.) выдумала. Ничего подобного не было». Тони Будденброк, так же как ее отец и ее брат, не может воспринять главное: люди, стоящие вне будденброковского мира и внешне ему подчиненные, по существу, независимы от него, не заинтересованы в нем и преисполнены чувством неосознанного, но органического своего над ним превосходства. Таким образом, представшее в романе соотношение социальных миров не осознано персонажами. Только маленький Ганно безоговорочно признал превосходство «антибудденброковского» мира, воплощенного для него фигу-
159
рой деклассированного графского отпрыска — оборванца и поэта Кая. Соответственно этому, все посвященные Ганно главы демонстрируют не только неизбежную сопричастность мира Будденброков иным социальным мирам, но и решительность вторжения этих последних в жизнь отвергающих их, но все более чутко прислушивающихся к исходящим от них зовам представителей «гибнущей семьи». Достаточно сравнить в этом смысле сцену прощания у гроба Томаса Будденброка, о которой мы сейчас говорили, со сценой прощания Кая с умирающим Ганно.
Глубина проникновения в жизнь, достигаемая в «Будденброках», является результатом не только органического усвоения великих традиций реализма прошлого века. Победа метода не стихийна. Она основана на проницательном и критическом отношении Манна к той новой исторической стадии, в которую вступало буржуазное общество, к тем последствиям, которыми оборачивалась она для человека, человеческой личности и художника. В письмах и статьях будденброковской поры1 Манн то шутливо, то грустно обсуждает проблему, перед которой стоит, как ему кажется, каждый художник: предпочесть ли трудный путь глубокого и критического познания жизни и верности своему «я» или, пойдя по пути угождения господствующим понятиям и вкусам, достичь легкого успеха2.
«Будденброки» в конечном счете родились из органической неприемлемости для Манна второго решения.
Отправляясь от традиционной для социально-психологического романа прошлого века проблемы отношения личности и окружающей ее среды, автор «Будденброков» осложняет ее проблемой выбора.
Герои манновского романа не замкнуты кругом ближайших обстоятельств. Каждый по-своему, но так или иначе из них выходит. Расширяется, обновляется само понятие обстоятельств. Именно отсюда особая значимость момента решения: в каком бы бытовом или психологическом обличий такие моменты ни выступали (отказ жениху или вступление в брак), речь идет об определении героем своих
160
отношений к голосу из другого мира — к той или иной форме согласия или отказа ответить на их зов. Таким образом, момент решения, выбора становится центром не только повествовательной системы, но и решающим моментом характеристики. И здесь в «Будденброках» опять-таки намечается чрезвычайно перспективное новшество: отход от традиционного воспитуемого героя к герою испытуемому.
«Будденброки» утвердили, или, во всяком случае, четко наметили, контуры поэтики принципиально новой в западноевропейском реализме XX века. Это и определило положение «первенца» не только в литературе того или иного десятилетия, но и в мировом литературном процессе эпохи, и в формировании новых разновидностей жанра.
«Будденброки» — один из тех романов Т. Манна, который справедливо соотносится с магистральным руслом развития современной литературы: не только с начатыми вслед за ним «Сагой о Форсайтах», «Жан-Кристофом» или более поздним «Прощанием», но и предшествующим ему в первоначальном замысле «Делом Артамоновых» Горького.
Соотнесение: романы Т. Манна и советский роман — органично возникает из существа поднимаемой в самых значительных его творениях этической, философской, социальной, эстетической проблематики. Ранние «Будденброки» впервые наметили и обосновали внутреннюю правомерность и плодотворность казалось бы далеких параллелей: романа «интеллектуалиста» Манна и советской классики. И более того: именно эта внешне очень далекая соотнесенность оказывается, как мы попытаемся доказать в связи с другим произведением, способной обогащать наши представления о таящихся в художественном методе Манна возможностях обобщения и проникновения в сущность своей эпохи.
Романы, последовавшие за «Будденброками» — «Королевское высочество» и знаменитая «Волшебная гора» органичнейшим образом продолжают ту революционную перестройку поэтики жанра, которая была начата первым романом. С тою, однако, разницей, что в обоих произведениях Манн широко использует условность, вводит мотивы сказок, древних легенд, отходит от жизнеподобия. Отсюда — впечатление более радикального сравнительно с «Будденброками», обновления жанра. Но по существу новаторская форма «Волшебной горы» продолжает «будденброковскую» линию.
161
От героя воспитуемого к герою «Взыскующему и Вопрошающему»
К видовым формам романа, имеющим очень длинную историю, глубокие, теряющиеся в древности истоки, принадлежит роман о вступающем в жизнь, ищущем своего места в ней и проходящем через тяжелые испытания молодом человеке. «История молодого человека XIX века» — назвал Горький серию, которую стали издавать под его редакцией в начале 30-х годов. Характерен этот акцент. Не «воспитание», а именно «история молодого человека», не «воспитательный роман» в духе «Вильгельма Мейстера», а более широкое жанровое образование, включающее не только собственно воспитательный, позитивный для формирования личности опыт, но и столкновение молодого человека со всей сложностью жизни — выдвигается Горьким как актуальная традиция.
Автор недавно вышедшей знаменитой автобиографической трилогии и начатого «Клима Самгина» утверждает особое значение именно этого романного «поджанра» для созидаемой в жизни и в литературе новой истории нового молодого человека XX века: «…Она (разновидность жанра. — М. К.) перешла в XX в., волнует… молодежь… и в наши дни. Она жива еще и у нас»1. Здесь же Горький выделяет как особенно важную для Запада линию романа: историю молодого человека, разошедшегося со своей средой, ставшего в оппозицию к породившему его классу, занятого выбором жизненных путей и решением общих мировоззренческих проблем.
Это горьковское обобщение имеет непосредственное отношение к западному опыту 10-х— начала 30-х годов, когда именно история молодого человека активно заявила о себе в новых и разных обличиях и проявила тенденцию к усвоению очень глубоких и далеких традиций. Именно история молодого человека становится одной из форм романа, наиболее непосредственным образом вобравшего в себя опыт военных и послевоенных, прошедших под знаком революционных потрясений и преобразований, лет. Мы имеем в виду романы, посвященные теме войны, — «Огонь» (1916) Барбюса, «Воспитание под Верденом» (1935)
162
Л. Цвейга, «Смерть героя» (1929) Олдингтона, «На западном фронте без перемен» (1929) Ремарка, «Прощай, ору- жие!» (1929) Хемингуэя и, наконец, при всех оговорках о дистанции, разделяющей авторов и сами романы, — «Волшебная гора» Т. Манна.
«Война, — признается Т. Манн, — подсказала мне конец романа и непредвиденно обогатила книгу жизненным опытом, но зато на долгие годы прервала мою работу над нею»1. Дело, однако, не только в этом признании непосредственного значения опыта войны. Характерно и то, что Т. Манн не относит свое произведение безоговорочно к «воспитательному роману»: это определение кажется ему узким, требующим восполнения. В посвященном «Волшебной горе» докладе (1939 г.) Т. Манн заявляет, что роман этот не может быть просто отнесен к «роману воспитания». Он впитал более широкую и дальнюю традицию, представ, «в сущности, сублимированным и облагороженным мыслью вариантом романа приключений»2.
Под «романом приключений» Т. Манн подразумевает тоже богатые и многообразные истоки: не только плутовской, но и рыцарский роман, ближайшим образом происходящий, как считает Т. Манн, от группы произведений, известных под названием «Сказаний о святом Граале» и составляющих «традицию не только немецкой, но и мировой литературы». Основой, на которой эта средневековая «романная» традиция сближается с реалистическим романом XIX и XX веков, является — показывает Т. Манн — дух «искательства», пронизывающий образы и все приключения рыцарей Грааля, по-своему ищущих новых истин о сущности человеческого бытия, о самом человеке и его нравственной стойкости.
Таким образом, Т. Манн тоже утверждает живое значение одной из линий истории молодого человека, а именно той, которая сосредоточена на воплощении героя неудовлетворенного, порывающего с обычными формами существования, — героя «Взыскующего и Вопрошающего». Отсюда кажущаяся парадоксальной на первый взгляд, а по существу закономерная тенденция к расширительному пониманию традиции, обращение к ее истокам с тем, чтобы осмыслить «уклонения» от тех особенностей воспитательного романа, которые составляли только немецкую традицию.
163
Манн выделяет следующие своеобразные и новые, как он считает, моменты. Известное интеллектуальное «опрощение» героя: он зауряден, обычен, простоват: «Взыскующего героя… в начале его странствий часто называют «простаком», «великим простецом», «безобидным простаком», — замечает Манн, имея в виду свой роман, но, но существу, делая широкое обобщение1. Суть героя и всей его истории, считает Манн, заключается не столько в обретении какой-то практической жизненной позиции, сколько во внутреннем росте и своеобразном превышении самого себя; и наконец бытовая достоверность и жизненность сочетается с тенденцией к символической обобщенности образа героя и приобретаемого им опыта, и это открывает возможность непосредственного выхода в сферу общих, «метафизических», как говорил Т. Манн по другому поводу, идей. Отсюда основная, обновляющая традицию черта романа: история героя предстает как «история активизации человеческой личности». Отсюда же новые, превосходящие роман воспитания и даже вообще традиционный роман формы и средства воплощения: «Конечно, повествование оперирует средствами реалистического романа, но оно не является реалистическим романом (в традиционном смысле. — М. К.) …оно постоянно выходит за рамки реалистического, символически активизируя, приподнимая его и давая возможность заглянуть сквозь него в сферу духовного»2. Рассуждения о собственном опыте приводят Т. Манна к выводам, имеющим общее значение, как бы «подсказанным» ему тенденциями, зреющими в современной литературе. Так или иначе претворяемыми в произведениях не только зарубежных, но и — коль скоро речь идет о внутреннем росте и «превышении самого себя» в ситуации чрезвычайного по своей значимости жизненного опыта — неизвестных Манну, но объективно «охваченных» его определением советских авторов.
Не является ли наше стремление воспринимать «Волшебную гору» в широком литературном контексте и в таком же духе понимать авторский комментарий к ней натяжкой? Не слишком ли явно это наше стремление расходится с непосредственным читательским восприятием манновского романа как произведения целиком поглощенного духовными, вернее, интеллектуальными, исканиями героя,
164
поставленного в обстоятельства герметической обособленности от реальной жизненной практики?
Такое читательское восприятие закономерно, но основывается на центральной и количественно доминирующей части романа: на главах, посвященных пребыванию героя романа в горном санатории. Но нельзя вовсе не учитывать тех частей романа, которые с санаторием не связаны. К ним относятся: маленькое вступление, глава вторая, возвращающая к детству и юности героя, и последняя часть заключающей роман главы, которая приоткрывает судьбу героя после его отъезда из санатория при известии о начале первой мировой войны. Как бы ни были количественно ничтожны эти не относящиеся к основному массиву романа части, они имеют первостепенное значение для характеристики героя и воплощения идеи романа в целом. Важно учитывать и композицию собственно санаторной части романа: соотношение глав, условно говоря, интеллектуальных, то есть посвященных идейным спорам и размышлениям героя, и глав остро драматических и действенных, реализующих любовную линию и повествующих о судьбе некоторых лиц, составляющих его окружение. Композиционные соотношения играют первостепенную роль в воплощении качественно нового сравнительно с главными лицами «Будденброков» героя. В «Волшебной горе» герой не только объективно поставлен перед возможностью выбора судьбы и лишь в редкие минуты духовного подъема непосредственно выходит к этой идее — он осознает задачу познания смысла жизни, назначения человека и соответственно — избрания того или иного пути как главное содержание своей жизни. «Санаторные» главы не содержат полного ответа на владеющий героем вопрос о смысле жизни и практических решениях, из него вытекающих. Ответ заключен во всем романе. То есть в отношении, в котором находятся центральные его главы к «внесанаторной» части.
Таким образом, композиционные соотношения несут большую содержательную нагрузку и в «Волшебной горе», продолжая «Будденброков» и в этом смысле. Но здесь содержательные функции необычной композиции, ее прямая соотнесенность с характеристикой героя выступает обнаженнее, весомее.
В докладе о «Волшебной горе» Манн специально остановился на этом: для романа «Волшебная гора», — говорит он, — «по самой его сути… характерен именно второй, зад
165
ний план»1. И тут же Манн предостерегает читателей от поглощенности «передними», не самыми существенными, «планами» романа, в известной мере скрывающими суть содержания. Постигнуть его можно, погрузившись во всю сложность переплетения побочных и основных тем и мотивов, проходя сквозь «верхние пласты» к ядру замысла. Отсюда принимаемый нами план рассмотрения романа: мы снова, как при анализе «Будденброков», начинаем с конца, а к осмыслению начала жизненного пути героя (глава 2-я) подходим в заключительной части своих наблюдений.
Итак, попытаемся «войти» в роман, начав с рассмотрения самой, казалось бы, неорганичной для него заключительной части. Так же как «главку о тифе», заключительные странички последней главы «Волшебной горы» легко воспринять как нечто будто бы не принадлежащее этому роману и даже вообще чуждое творчеству Т. Манна:
«Сумерки, дождь и грязь, багровое зарево на хмуром небе, а небо беспрерывно грохочет тяжким громом, им наполнен сырой воздух, разрываемый ноющим свистом, яростным, дьявольски нарастающим воем, который, взметнув осколки, брызги, треск и пламя, завершается стонами, воплями, оглушительным звоном труб и барабанным боем, подгоняющим людей вперед все быстрее, быстрее… Вон лес, из него льются бесцветные толпы солдат, они бегут, падают, прыгают… Цепь холмов на фоне далекого пожарища… волнистая пашня, изрытая, истерзанная».
Приведенные строки действительно кажутся отрывком из романов Хемингуэя, А. Цвейга или Барбюса. Подбором деталей (сумерки, грязь, зарево, пламя, пашня, изрытая, истерзанная и т. д.), эпитетов (оглушительный, багровое, ноющий, бесцветный и пр.), тоном внешне сдержанной, но, по существу, нагнетаемой патетики и, наконец, самой позицией повествователя, явно включенного в описываемую обстановку и вместе с тем описывающего ее со стороны, картина эта поразительно близка многим послевоенным произведениям. Описания боя направлены в каждой своей, с нарочитой натуралистичностью обнажаемой, подробности к разоблачению войны — жестокой, бессмысленной, стоящей огромных, неоправданных жертв: «Они должны пройти… эти три тысячи лихорадочно возбужденных мальчиков… должны решить исход атаки… на горящие деревни и продвинуться до определенного пункта,
466
обозначенного в приказе, который лежит в кармане у командира. Их три тысячи, чтобы могло остаться хоть две, когда они дойдут до холмов и деревень; в этом — смысл их численности. Они — единое тело… чтобы даже при больших потерях… действовать… побеждать… приветствовать победу тысячеголосым «ура».
На нескольких страничках заключения к «Волшебной горе» дан как бы «сгусток» многих проблем, многих оттенков настроения и некоторых из литературных приемов, характерных для так называемого антивоенного романа 20-х годов.
Уже это свидетельствует о том, как несправедливо «отлучение» этого романа от текущего литературного процесса и социальных сторон современной общественной жизни. Выходы за пределы текста настойчиво диктуются самим же текстом. Мы еще остановимся на этой стороне вопроса ниже, а пока выясним связи, идущие в обратном направлении, то есть от выписанной нами картины из последней главы в части и главы основного «корпуса» романа. Нельзя не учесть при этом одной из самохарактеристик автора «Волшебной горы», говорящего об особенностях ее организации: «Роман всегда был для меня симфонией, произведением, основанным… на технике контрапункта, сплетением тем… Техника, которую я… использовал… в «Волшебной горе»… максимально усложнена и пронизывает весь роман»1.
Вот эта-то максимально усложненная техника и обеспечивает связь между как бы выпавшим из текста эпилогом и центральными его частями, вернее, обнажает эту связь, выводит ее наружу. Весь военный эпизод как бы пронизан тонкой и разветвленной системой фабульных, характерологических и стилевых деталей, либо прямо возвращающихся к определенному эпизоду романа, либо косвенно, но очень выразительно намекающих на тот или иной важнейший момент житейских перипетий или духовных исканий Ган- са Касторпа. В самом начале страшной картины сражения упомянута, например, такая подробность: «Вот дорожный указатель, но густой сумрак не дал бы нам прочесть надпись на доске, если бы даже она не была выщерблена снарядом: Восток или Запад?» Альтернатива «Восток — Запад», которая в данном случае выглядит как будто бы лишь «нейтральной» описа-
167
тельной «подробностью», играет очень важную роль в идейных спорах «духовных руководителей» героя романа (Сеттембрини и Нафты), занимающих центральное место в воспитательной линии романа.
«…Обрамленные ремешками лица под обтянутыми, сдвинутыми назад шлемами» — эта фраза, принадлежащая описанию молодого пополнения, почти текстуально совпадает с описанием облика умершего двоюродного брата героя — Иоахима Цимсена, незадолго до войны представшего перед участниками некоего «сомнительного сеанса». Состояние воинов-мальчиков, определенное как «лихорадочно возбужденные», прямо повторяет определения состояния Ганса Касторпа в период болезни и любви к прелестной обитательнице санатория — мадам Шоша. К поре особого внутреннего подъема героя романа, почти бессознательно напевавшего полюбившийся мотив, возвращает воспроизведение той же песни в страшных обстоятельствах эпилога:
В кору ее я врезал
Немало нежных слов…
Бегло упомянутая деталь пейзажа — «начался расщепленный лес»
— ассоциируется с одной из решающих для развития фабульной и психологической
линии романа глав с участием Питера Пеперкорна, в которой компания, им предводительствуемая,
наблюдает страшный в своей противоестественной необычности высокогорный лес. В
конце военного эпилога мы находим прямой повтор: «Можно было бы… рисовать себе
и совсем другие картины… вот эти юноши объезжают лошадей… прогуливаются с
возлюбленными» — все это текстуально совпадает с соответствующими строками в
важнейшей для романа главе «Снег». И уже совсем впрямую «неожиданный» эпилог
романа соотнесен с предшествующими частями деталью портрета героя и
специфической для санаторного жаргона репликой: «А вот и наш знакомый, вот Ганс
Касторп! Мы уже издали узнали его по бородке, которую он отпустил, сидя за “плохим” русским столом», —
читаем мы в эпилоге. Таково разнообразие средств, с помощью которых Т.
Манн утверждает органичность «неожиданного» выхода за пределы по видимости только
интеллектуальной и мифологической проблематики, которая занимает большое место
на протяжении многих глав, но отнюдь не исчерпывает их содержания.
Говоря о непредвиденном расширении замысла «давосской
истории», которая поначалу мыслилась как основан-
168
ная на личных впечатлениях небольшая новелла, Т. Манн замечает: «…пришла война, которая тотчас же подсказала мне конец романа и непредвиденно обогатила книгу жизненным опытом, но зато на долгие годы прервала мою работу над нею»1. Иначе говоря, писатель утверждает, что весь роман создан лишь после того, как опыт военных и революционных лет был глубоко осмыслен, ошибки и иллюзии некоторых собственных верований и представлений преодолены, а стремление понять причины «грома» исторически — обращено в настоятельную творческую потребность.
Последняя «неожиданная главка» не только не инородное тело, но органический финал и, повторяем, ключ к основной художественной мысли и всему внутреннему строению романа[55].
Мы сказали о том, как осуществляются ассоциативные и прямые взаимосвязи между концом романа и центральными его эпизодами. Но надо сказать еще об одном, главнейшем для организации всего романа, моменте: о своеобразном соотнесении главы-эпилога со «Вступлением». Оно представляет собой стилизованную речь некоего безымянного повествователя, присутствие которого почти не ощущается в основной части романа, написанного в общем в объективной «будденброковской» манере, впрочем, как мы помним, однажды тоже нарушенной: в «главке о тифе». «Вступление» к «Волшебной горе» отчасти напоминает эту последнюю, а отчасти предвосхищает Дух повествования в «Избраннике». Оно призвано наметить проблему романа, которая составит центральную его мысль и организует сложное многоступенчатое строение. Во вступлении она предваряется таким образом: «…особая давность нашей истории зависит еще и от того, что она происходит на некоем рубеже и перед поворотом, глубоко расщепившим нашу жизнь и сознание… Она… произошла некогда, когда-то в стародавние времена, в дни перед великой войной, с началом которой началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться… Но разве характер давности какой-нибудь истории не становится тем глубже, совершеннее и сказочнее, чем ближе она к этому «перед тем»?»
В такой парадоксальной и изящной форме Манн «сводит» начало
романа с его концом проблемой исторического времени. И вместе с тем дает
читателю как бы путе-
169
водную нить для ориентации в истинном значении всего того, что происходит в центральных частях — в необычном, таинственном, демонстративно от времени отключенном мире волшебной горы.
Следуя этим указаниям самого автора, мы попытаемся проследить «планы романа» — от совершенно очевидных и внешних до самых подспудных и скрытых, выясняя их взаимозависимость, содержательные функции и отношение к основной и глубинной мысли.
«…Критика санаторной терапии — это только передний план, один из передних планов романа», —утверждает Манн.
Говоря о «переднем плане» своего произведения, писатель имеет в виду не только эту критику (роман Манна вызвал негодование в медицинских кругах и не допускался в библиотеки соответствующих лечебных заведений), но прежде всего непосредственно «житейский климат», который окружил молодого Ганса Касторпа — отпрыска почтенных гамбургских бюргеров, только что окончившего инженерный институт, когда он приехал к лечившемуся в санатории кузену — Иоахиму Цимсену. Причем этот фабульный план все время перерастает в лежащие под ним содержательные планы, как бы расслаивается в своих значениях и обогащается в способах критики.
Уже на первой для героя романа «увеселительной прогулке» Сеттембрини — «старожил» санатория, литератор по роду деятельности, «гуманист, просветитель», враг деспотии по убеждениям и потомок карбонария по происхождению — просвещает Касторпа относительно медицинского персонала санатория. Он направляет свою иронию, с одной стороны, в русло политических и мифологических ассоциаций, а с другой стороны, развивает характерные для раннего Манна толстовские «антимедицинские» мотивы.
Беренса и его ассистента Кроковского, специализирующегося в
«модной» области психотерапии и читающего больным курс лекций о любви как
первопричине болезни, Сеттембрини окрестил именами, почерпнутыми из античной
мифологии —
170
единстве стиля, долженствующего царить в вверенной ему «обители». Так неприметно вопросы терапии осложняются политическими акцентами, хотя непосредственный предмет разговора ни на минуту не уходит из поля зрения говорящих.
Далее на нескольких примерах собеседник Ганса Касторпа показывает роковые последствия предписаний, исходящих из уст косноязычного Беренса и его медоточивого помощника. Наряду с рассказом о принце, страдавшем туберкулезом мозга и даровавшем Беренсу звание гофрата за то, что он закрыл «оба глаза» на тот «скандальный образ жизни», которому предавался этот больной, Сеттембрини чрезвычайно живо и образно рассказал историю одной пациентки, попавшей в санаторий с самым легким заболеванием, но чуть не умершей в нем по причине неприспособленности своего организма к климатическим условиям высокогорной местности. Причем ко всем жалобам пациентки и мольбам отпустить ее Беренс относился с поистине царственным величием и судейской непреклонностью: «…она твердит, что ей становится не лучше, а хуже. Ей внушают, что только врач может судить о том, каково ее состояние в самом деле… она молчит, лечится, каждую неделю теряет в весе. Наступает четвертый месяц, она во время осмотра падает в обморок. Пустяки, уверяет Беренс… на пятый месяц у нее уже нет сил подняться».
В этом эпизоде, так же как во многих других описаниях грубых врачебных ошибок, наблюдаемых Гансом Касторпом уже непосредственно, под ударом разоблачения оказывается не только некомпетентность науки, с необоснованной самонадеянностью вторгающейся в заповедные области природы и духа человека, как это было у Толстого. Главный объект критики «санаторной терапии» — не самонадеянность, свойственная «служителям» науки, а их несвобода от расчета, корысти и эксплуатации человеческого горя и беззащитности. Отсюда — сближения с носителями абсолютной и неправой власти, резкость нравственных оценок, сочетающаяся, как мы уже отметили, с политическими намеками и ассоциациями: «Что я вижу! — восклицает Сеттембрини,— вот шествуют инфернальные вершители наших судеб!.. А Кроковский!.. Он носит черное, намекая, что истинный объект его изучения — то, что скрывается в ночи. У этого человека в голове царит одна мысль, и мысль эта — грязная».
Обличения подобного рода возникают не от случая к
171
случаю, не в качестве отдельных остроумных выходок желчного пациента. Они составляют строго последовательную нарастающую в силе своего пафоса и имеющую вполне определенную логику развития линию. Приведенные суждения Сеттембрини и в еще большей мере его саркастическая характеристика «гениального», не столько научного, сколько рекламно-коммерческого открытия, сделанного гофратом Беренсом относительно «особой пользы для здоровья» весенне-летнего горного сезона, обычно считавшегося «мертвым», являются как бы отправной точкой для собственных наблюдений и суждений Ганса Касторпа и высказываний по поводу той же проблемы других лиц, которые то развивают, то опровергают приговоры преисполненного педагогическим пылом гуманиста. При этом все остальные «свидетели» вовсе не преследуют каких-либо обличительных целей, и, уж во всяком случае, не преследует их принципиальный (вначале) созерцатель и соглашатель Ганс Касторп.
Отличающаяся изрядным тупоумием и вульгарностью фрау Штёр — одна из неизменных соседок Ганса Касторпа за ежедневными пятиразовыми «трапезами» — просто сплетничает от скуки, замечая, что гофрат Беренс постоянно сидит за столом богачки фрау Золомон из Амстердама, а серьезный и молчаливый Иоахим просто информирует двоюродного брата о незнакомом ему мальчике, который был лишь слегка нездоров, когда приехал, а после пребывания здесь у него стала сильно повышаться температура «и болезнь очень развилась», — но объективно обе речи поддерживают и продолжают ту критическую линию, зачином которой были речи Сеттембрини. В еще большей, пожалуй, степени объективно разоблачительными оказываются речи самого Беренса. Сначала в разговоре у него на квартире, куда Иоахим и Ганс были приглашены после проявленной первым заинтересованности в опытах гофрата в области живописи. Потом в лаборатории, где Касторп застал Беренса раздраженным ссорой, возникшей между двумя больными, один из которых нарушал элементарные правила гигиены, на что и указывал справедливо жалующийся на него сосед. «Но, — поясняет гофрат, — я не могу его выгнать, меня дирекция со света сживет». Позицию дирекции, так же как свою капитуляцию, Беренс освещает как нечто само собой разумеющееся, и весь инцидент воспринимается им, собственно говоря, как нарушающий спокойное течение жизни эпизод, не менее неизбежный, впрочем,
172
при его профессии, чем обязанность нравиться принцессе или другой выгодной для санатория пациентке. Столь же естественными и неотъемлемыми своими обязанностями Беренс считал присутствие на общих «трапезах», участие в общих беседах и развлечениях (он даже фокусы показывал), откровенно признаваясь в стремлении любыми средствами поддержать атмосферу, импонирующую «публике». Порою непосредственность и грубоватость Беренса поданы даже как нечто симпатичное. Так с самого начала «передний план» романа осложняется сочетанием оценки «со стороны» и самооценки и вместе с тем — введением иронической мифологической «проекции», заостряющей характеристику бытовую. Всем этим, однако, еще не исчерпывается строение даже этого сравнительно простого плана романа.
Характеристика Беренса, кроме взгляда Сеттембрини, наблюдений Ганса Касторпа, самопризнаний, включает и объективные, «безоценочные» свидетельства «самого повествования»: оно открывает в нем проницательный ум, тонкость психолога, разбирающегося в людях (его характеристики Ганса, Иоахима, мадам Шоша), талант врача — диагноста и хирурга, на дне души уцелевшие чувства: память о безвременно погибшей жене, тоска по настоящей деятельности, искры сочувствия к некоторым пациентам (к Иоахиму, Карен Карстед). Все эти тщательно фиксируемые повествователем оттенки еще более осложняют характеристику. Но к релятивистской неопределенности не приводят. Ибо — и это тоже заявлено уже «передним планом» романа — главенствует надо всеми предлагаемыми точками зрения и всеми аспектами характеристики практическая деятельность персонажа, его поведение. По мере духовного роста героя романа этот аспект наблюдения становится в центр его внимания не только по отношению к ближайшим и важнейшим для него лицам (о чем мы скажем ниже), но и по отношению к гофрату Беренсу. Именно «инфернальная» суть личности и деятельности, если использовать определение Сеттембрини, а по существу, обусловленность, зависимость от вполне реальных социальных кругов и их реальных интересов определяют итог характеристики персонажей «переднего плана» и субъективно (для Ганса Касторпа), и объективно — как вывод из повествования в целом. На образе Кроковского это можно показать с еще большей определенностью. «Самим повествованием» (то есть
173
от автора) знаменитые среди больных лекции Кроковского, посвященные проблемам взаимосвязи любви и болезни, весьма двусмысленно освещаемой, названы «главным аттракционом заведения». Объективно-описательное изложение лекций говорит само за себя: они — действительно аттракцион в смысле изощренности глумления и над наукой, и над здоровьем, и над нормальными чувствами нормального человека: «Оратор не оставлял даже уголка для сентиментальной веры в честь седин и ангельскую чистоту нежного дитяти».
Отстраненная наблюдательность со стороны героя и нейтральность тона авторского повествования сменяются интонацией заинтересованной и даже страстной, по мере того, как из пассивного слушателя и собеседника Касторп превращается в отказавшегося от соучастия свидетеля. Это происходит на спиритических сеансах, к которым Кроковский привлекает героя романа, давно ставшего не гостем, а пациентом. На проходящих ночью сеансах присутствовала избранная публика. Медиумом была приехавшая из Дании робкая и скромная девушка, мелкая служащая какого-то банка — Элли Бранд. Касторпа потрясла атмосфера извращенности, жестокости и насилия, которой было проникнуто все это «действо», и прежде всего обращение Кроковского с несчастной девушкой, необыкновенно легко поддающейся гипнозу в силу патологических отклонений в психике, о чем экспериментатор был, разумеется, вполне осведомлен.
Уходя с «сеанса», Касторп испытывал такое сильное негодование и раскаяние, какие ему редко доводилось испытывать: «Ганс Касторп стремительно шагнул… к выходу и коротким движением включил белый свет. Девица Бранд лежала в тяжелом шоке… Кроковский, стоя, выражал ему свое возмущение; Ганс Касторп подошел к нему вплотную, попытался что-то сказать, но не мог произнести ни слова… Получив ключ, он несколько раз угрожающе кивнул, глядя доктору прямо в лицо, круто повернулся и вышел из комнаты».
Сцена эта отдаленно намечает ситуацию одной из самых сильных новелл Т. Манна, написанной незадолго до прихода к власти фашизма,— «Марио и волшебник» (1929), — и является моментом, в котором особенно отчетливо обнаруживаются нити, тянущиеся от переднего пласта в глубь содержания — от внешней истории Ганса Касторпа — к внутренней.
174
«Критика санаторной терапии», как следует даже из того, за чем мы попытались проследить, далеко выходит за рамки медицинских проблем и смыкается фактически с тем собственно идейным (или интеллектуальным) планом романа, который воплощается в обсуждениях, спорах, размышлениях героев: прежде всего это беседы Сеттембрини с Гансом Касторпом и Иоахимом Цимсеном, а также баталии между этим их «педгогом» и его идейным антагонистом Нафтой.
Т. Манн недаром говорит, что «критика санаторной терапии» образует не просто «передний», а «один из передних» планов романа. И действительно, с не меньшей решительностью и прямотой, чем критика терапии, и тоже с первых же моментов пребывания Ганса Касторпа на Волшебной горе выдвигается на первый план тема собственно воспитательная, определяя идейно-тематические мотивы и одновременно фабульно-проблемные узлы определенных глав романа. В беседах Ганса Касторпа с Сеттембрини первый сразу же становится в роль воспитуемого и просвещаемого, а второй — в роль наставляющего и руководящего, о чем весьма четко тут же и заявляет: «…у меня определенный педагогический умысел… У нас, гуманистов, почти у всех есть педагогическая жилка… Не следует снимать с гуманиста обязанность воспитывать людей, ее просто нельзя отнять у него, ибо только он может передать молодежи идеи человеческого достоинства и красоты».
Однако восприятие Сеттембрини своей педагогической миссии как миссии просветительски-гуманистической осложняется, начиная с этих же первых глав, иным освещением. Оно исходит отчасти от автора: глава, посвященная появлению Сеттембрини, названа «Сатана»; отчасти — от героя романа, который воспринимает странно выделяющегося на фоне фешенебельной санаторной публики итальянца с его пронизывающими черными глазами, скептической улыбкой, артистическими жестами и неизменной клетчатой парой, прежде всего как носителя отрицания, разрушения, сомнений и критики.
«Ну, и насмешник же вы, господин Сеттембрини»,— говорит Ганс Касторп после первого знакомства. «Вы хотите сказать, что я зол? Да, я чуть-чуть зол», — уточняет сам Сеттембрини. И это признание в контексте предшествующих речей Сеттембрини о гимне Сатане, сочиненном поэтом Кардуччи, духовную близость к которому он, Сеттембрини, особенно подчеркивает, является развитием его
175
мысли о том, что сатанинское начало неотделимо от гуманистического. Сатана — мятежник, непримиримый борец со злом, мстительная сила разума, точно так же, как и он, господин Сеттембрини.
Так переходит мотив мифа и на этот план романа, и притом имеет здесь более серьезное звучание, чем в речах того же Сеттембрини возникающие мифологические ассоциации, относящиеся к врачебному персоналу.
Название главы учитывает не только портрет нового наставника Ганса Касторпа, его манеру речи и способ мышления. Прежде всего название главы, впервые вводя не просто библейскую, а фаустовскую ассоциацию, говорит о позиции, в которую персонажи становятся друг к другу: отношения воспитателя и воспитуемого осложняются отношениями соблазнителя и искушаемого.
Ибо с самого начала в отношениях Сеттембрини и Касторпа нарастает именно этот оттенок: стремление к безусловному подчинению и обращению в свою веру, с одной стороны, и сопротивление этому, при всей внешней податливости,— с другой. Сопротивление Касторпа питается прежде всего тем, что в речах наставляющего он улавливает перевес деклараций над доказательствами и несоответствие речей и поведения этого странного человека, притягательного и настораживающего, будящего мысль и побуждающего к внутреннему отпору.
Едва смолкли остроумные, злые, возвышенные и смелые речи Сеттембрини — Ганс Касторп спрашивает Иоахима: «У него, должно быть, нет денег?» И, получив подтверждение и пояснение, что отец и дедушка Сеттембрини тоже были литераторами, восклицает: «Бедняга!»
При дальнейшем обмене впечатлениями Ганс прежде всего отмечает не те или иные мысли, а внешность, одежду, вульгарность поведения (заигрывание с повстречавшейся деревенской девушкой). Уже в самом этом направлении мысли Ганса Касторпа обнаруживается под простодушием формы способность и потребность в весьма критическом способе суждений, хотя и отличном по своему характеру от сокрушительного «вселенского» скептицизма «сатаны». Ганс Касторп осуществляет свою критику на пути «приземления» любых умозрительных построений «отрезвляющим» соотнесением содержащихся в них мудрых, смелых и возвышенных мыслей, с одной стороны, с реальными, жизненными обстоятельствами, характеризующими положение «проповедника», с другой стороны, с деталями его
176
поведения. С девушкой, замечает Ганс, Сеттембрини вел себя так, что «стало неловко»; «но то, что он говорил потом о человеческом достоинстве, было замечательно». В этом «но» приоткрываются поистине огромные, хотя и неосознанные, во всяком случае, в момент первой встречи, возможности своеобразного критического «лукавства» Ганса Касторпа.
Оно-то и определит постепенно — чем дальше, тем с большей очевидностью — неведомое прежним историям молодого человека заострение нравственного плана исканий и самих отношений с «наставником». Что отнюдь не снимает между тем и собственно идейного, интеллектуального их содержания и пафоса.
Общение с Сеттембрини не просто открывает перед Гансом обширную область гуманитарных знаний, а приобщает его к социальным проблемам, к жгучим интересам проходящей через всю историю человечества борьбы за свободу, о которых он — потомок консервативного гамбургского купечества — не имел никакого понятия. «Настороженный и удивленный, но готовый поддаться влиянию этого человека, слушал он рассказы итальянца, раскрывавшие перед ним странный и, безусловно, новый мир».
При этом ни одно из рассуждений Сеттембрини не воспринимается Гансом Касторпом как нечто отвлеченное: в разговорах с ним Ганс Касторп ищет каких-то вразумляющих соответствий с тем, что было пережито, но не осознано в прошлом, и каких-то «опорных пунктов», которые могли бы послужить ориентации в обступивших его со всех сторон новых впечатлениях, чувствах и думах.
Богатую пищу для осмысления и переосмысления прошлого Гансу дает, например, рассказ Сеттембрини о своем деде-адвокате, горячем патриоте и смелом оппозиционере: он «доставлял, — как говорит внук, — немало забот правительствам». Будучи страстным патриотом, он был вместе с тем «согражданином и соратником всех народов: проливал свою кровь в Испании за конституцию и в Греции за независимость эллинов». Это соединение в одном лице патриотизма, мятежности, страстной любви к родине и стремления служить другим народам было особенно ново для Ганса и особенно глубоко, как покажет дальнейшее развитие его отношений с Сеттембрини, усвоено им.
Роль толчка к осмыслению прошлого сыграла одна деталь в рассказе Сеттембрини о своем деде: «…дедушка Джузеппе… появлялся среди своих сограждан только в
177
черной траурной одежде, ибо, как он заявил, он страдалец за Италию, свою родину, прозябающую в рабстве и нищете». По этому поводу Ганс Касторп особенно живо вспоминает о собственном деде, который тоже всегда носил черную одежду, исходя из прямо противоположных соображений: это была старинная мода, и, придерживаясь ее, Ганс Лоренц Касторп подчеркивал «свою непричастность к настоящему и глубокую коренную связь своей сущности с прошлым».
Отталкиваясь от красочных образов, воссоздаваемых собеседником — талантливым рассказчиком и оратором, анализируя воспоминания в свете наглядных контрастов, мысль Ганса Касторпа осваивает единство противоположностей и противоположности в единстве как закономерность, овладение которой дает ключ ко многим тайнам жизни, и приходит к осознанию социальных факторов и социальных противоположностей человеческого бытия вообще и жизни отдельного человека.
«Ведь дед Сеттембрини,— понимает Ганс Касторп,— сражался за политические права, его же дед или, во всяком случае, предки деда и были теми, кто владел первоначально всеми этими правами; за четверть века мятежная чернь с помощью хитроумных речей и насилия вырвала у них эти права… И тот и другой неизменно ходили в черном, дед северный и дед южный, и оба делали это, чтобы подчеркнуть расстояние между собой и неприемлемой для каждого необходимостью».
Отправляясь от ярких впечатлений детства, пробужденная мысль Касторпа приходила к еще более принципиальным открытиям и обобщениям. Он снова видел себя склонившимся вместе с дедом над фамильной чашей — купелью, которая передавалась от поколения к поколению, и снова, как в детстве, чувствовал «само время» как некую «движущуюся неподвижность» — дремотную, завораживающую, мечтательную. А с другой стороны, внимая Сеттембрини, Ганс прозревал иной характер связи идущих друг за другом поколений: карбонарий-дед, отец, посвятивший всю свою жизнь гуманитарным занятиям, и, как бы объединивший формы служения идеалам свободы, свойственные деду, и путь, избранный отцом, сам Лодовико Сеттембрини — оппозиционер, просветитель, агитатор и вместе с тем литератор и исследователь-социолог, сотрудничающий в труде, посвященном изучению социальных предпосылок человеческих страданий. В этой наследствен-
178
ной преемственности Касторп прозревал принципиальное отличие от «подвижной неподвижности» его собственной родословной. Сам факт приобщения изящного, но явно нищего плебея («шарманщика», как окрестил Сеттембрини Касторп по первому впечатлению) к такому «почтенному» в его глазах понятию, как родословная, был удивителен и открывал новые просторы мысли. Но еще более широкая перспектива для анализа и самоанализа открывалась фактом существования какой-то совершенно непохожей на воплощенную в серебряной купели наследственной преемственности: на основе этого открытия возникали новый облик и новое чувство времени.
Глубина, сложность взгляда на мир приходили к Гансу Касторпу и за счет постижения подобного рода противоположностей, и за счет открытия неведомых раньше «единств». Например, связи между изобретением печатного станка и другими достижениями техники и успехами в области культуры, морали, политики, и даже еще шире — достижениями самых высших идеалов человечества — братства, равенства, свободы. Сеттембрини подчеркивал, что почитает технику не ради нее самой, а ради ее «значения для морального совершенствования человека… Средства сообщения, сеть дорог и телеграфной связи… надежнейшее средство для сближения народов: техника способствует их более тесному знакомству, выравнивает различия между людьми, разрешает предрассудки и должна привести к всеобщему объединению… Техника и Мораль! — провозгласил Сеттембрини. — А потом… заговорил о христианстве и о Спасителе, впервые принесшем как откровение идеи равенства и единства, причем печатный станок весьма мощно способствовал распространению этих идей».
Когда при продолжении той же беседы Сеттембрини называет политику основой основ всей духовной деятельности человечества и связывает ее с литературой, словом и ораторским искусством — «она возникает из …единства гуманизма и литературы, ибо прекрасное слово рождает прекрасное деяние», — Ганс Касторп «был безмерно удивлен… И все же он был готов подвергнуться чужому влиянию… он охотно выслушивал любые теории, не замыкался перед ними». Это очень точная характеристика отношения Касторпа и Сеттембрини на первом этапе их отношений. Внимание и заинтересованность сочетались у Касторпа с критической оценкой личности наставника. И вместе с
179
тем — со способностью и стремлением усваивать не только содержание речей Сеттембрини, но и сам аналитический способ мысли, который отвечал живущим в Гансе способностям.
Увлеченный собственным красноречием педагог не замечает, что вооружает своего ученика оружием критики и анализа, которое все более оборачивается и в его собственную сторону.
Педагогическое кредо Сеттембрини, выдвинутое в главе «Сатана», основано на поистине «демоническом» утверждении абсолютного влияния педагога; он способен вполне нейтрализовать и вовсе «заменять» все остальные внешние влияния и опираться на потенциальные возможности «природы», «натуры» воспитуемого, дабы наставить его на желательный для себя путь.
Сеттембрини провозглашает, что молодой человек — вовсе не чистый лист бумаги, а скорее лист, на котором симпатическими чернилами все уже написано, хорошее и дурное, и дело воспитателя — энергично развивать хорошее, а дурное, если оно стремится проступить на этом листе, навсегда уничтожить, соответствующим образом влияя на него.
Однако уничтоженными оказываются не те «задатки» Ганса Касторпа, которые кажутся отрицательными его наставнику, а руссоистские иллюзии и сатанистские претензии (эти несовместимые, казалось бы, начала как-то уживаются в Сеттембрини!), которые декларируются этим последним.
Смысл рассказанной Манном истории — именно в повышении самодеятельности героя, в пересмотре отношений воспитуемого с воспитателем и в утверждении новых факторов воспитания в широком, историческом смысле этого понятия. Именно это мы и будем стремиться подтверждать, прослеживая отношения Ганса с Сеттембрини.
Один из моментов общения этих двух персонажей особенно характерен в смысле использования фаустовских ассоциаций. Мы имеем в виду главу «Суп вечности и внезапное прояснение», в которой Сеттембрини внезапно появляется перед Гансом, оказавшимся в это время уже не гостем санатория, а его постоянным жителем, «отбывающим постельный режим». В состоявшейся между ними беседе есть ощутимый отзвук сцены сговора, сделки, необходимо присутствующей во всех вариациях фаустовской темы.
180
«…Господин Сеттембрини стоял собственной персоной посреди внезапно залитой светом комнаты… Уголок рта под красиво загибающимся усом кривился знакомой трезвой и скептической усмешкой», — так предстает «Сатана» в этот трудный, поворотный для героя романа момент его жизни. Выражая уверенность в своевременности своего появления, он говорит: «…разрешите мне… оказывать вам некоторую помощь и влиять на вас в должном направлении». Соглашаясь на этот «договор», Ганс Касторп все более направляет, однако, яркий свет аналитической мысли, которым вооружил его наставник, на него самого.
Неуклонно и последовательно он прилагает к Сеттембрини ту высокую нравственную меру, которой тот вооружил его, создав яркие и пластичные портреты своих предков, особенно деда, который представал в его рассказах крупной, самобытной и, главное, гармонической личностью: страстным борцом, глубоким мыслителем-теоретиком, энергичным политиком, и притом — мужем, семьянином, человеком простым и сердечным[56]. Вот этой-то цельности, коль скоро Сеттембрини возвел ее в идеал и «заразил» своего ученика этим «идеалом», Ганс Касторп с беспощадностью требует от самого воспитателя. И без труда, разумеется, устанавливает, что самому Сеттембрини далеко до проповедуемого им, то на биографических, то на литературных «образцах», идеала личности. Итак, первый «счет», предъявляемый Гансом Касторпом своему наставнику, исходит из неприятия тех несоответствий между проповедью и личным примером, словом и поведением, с которыми легко примиряется Сеттембрини.
Мы не будем следить за всеми перипетиями отношений между Касторпом и Сеттембрини, казалось бы, чисто умозрительных, не выходящих за рамки теоретических разногласий и споров, а по существу, содержащих расхождения по самым насущным жизненным и нравственным вопросам и преисполненных напряженнейшим драматизмом. Отметим только отдельные моменты, знаменующие высшую напряженность в сопротивлении, оказываемом Гансом своему наставнику, и смысл одерживаемых им побед.
«Молодому человеку показалось, что своими двумя столь простыми вопросами он опроверг все теории Сеттембрини и прервал все его рассуждения, даже рассуждения о республике и возвышенном стиле». Речь идет все о той же знаменательной встрече: о визите Сеттембрини к неожиданно превратившемуся из гостя в пациента и тут же
181
уложенному в постель Гансу Касторпу. Основная цель визита — внушить воспитаннику недоверие к медицинским обследованиям и повторить рекомендацию покинуть санаторий, преодолев немощи тела бодростью духа и решимостью «не терять драгоценного времени», которое должно быть отдано служению практической деятельности. Смысл «простых вопросов» Ганса, противостоящих выдвигаемой Сеттембрини программе, заключается в указании на вопиющее противоречие между словесными декларациями и реальностью: сам Сеттембрини не может не верить результатам медицинских обследований, не уезжает из санатория, и если и предается деятельности, то уж, во всяком случае, не имеющей непосредственного практического значения, не гарантирующей от «выпадения» из действительности, из «настоящего времени», из текущего момента.
Позиции «сторон» в этой сцене все более и более обостряются в дальнейшем, во многом определяя нарастающий драматизм, характерный для композиции всего романа. В том же духе развивается столкновение между воспитателем и строптивым «подопечным» и в эпизоде в читальне, когда Сеттембрини, после призывов бежать «из этого болота, с этого острова Цирцеи», рассказывает Касторпу о своей статье для «Энциклопедии», доказывающей, что искоренение общественных «недугов» и мобилизация человеческой воли — залог преодоления страданий, тяготеющих над человечеством; но тут же он признает, какую муку причиняет ему его болезнь, не позволившая даже на несколько дней отлучиться из санатория для встречи с единомышленниками. И Ганс Касторп «дал отпор», устанавливая вопиющий разрыв между призывами и личным примером, который подается педагогом: «…в отношении себя, — говорит он, — мы более осторожны, чем в отношении других. Вы-то ведь не пренебрегли запрещением врачей… Вы боитесь смерти и остались здесь. — Это замечание до известной степени зачеркивало внутреннюю позу, которую принял Сеттембрини».
Еще большее драматическое напряжение отличает безмолвную «схватку» между Касторпом и Сеттембрини в новогоднюю ночь, когда последний, пытаясь воспрепятствовать сближению своего воспитанника с Клавдией Шоша, опять натолкнулся на решительный отпор. О строптивости «подопечного» свидетельствует и дерзость допроса, которому он подвергает «воспитателя» относительно еще одного проявления его непоследовательности, на этот раз в
182
отношениях с Нафтой. Соглашаясь с характеристикой, которую дает Сеттембрини этому приспосабливающемуся к духу времени иезуиту-демагогу, Ганс не хуже, чем «наставник», разгадывает цель рассуждений Нафты: скомпрометировать, подорвать идеи гуманизма и демократии, достижения человеческого разума и социального прогресса.
Ганс Касторп брезгливо относится к изощренной софистике, прибегая к которой Нафта провозглашает, например, неотъемлемой особенностью понятий «благо» и «нация» — трансцендентность и ирреальность, объявляет сутью человека — страсть к убийству, «мечтой молодежи» — послушание, а «тайной эпохи» — террор; носителем же идеи уничтожения цивилизации и террора является, как объявляет Нафта, пролетариат, «продолжающий» мысли отцов католицизма об авторитетной власти, послушании, аскетизме.
Проницательно разгадывая суть воззрений Нафты, ученик Сеттембрини не только восстает против желания последнего «ограждать» его от «нежелательного» влияния, но, переключая этот вопрос в нравственную плоскость, снова переходит в наступление на своего наставника. Почему, «наивно» спрашивает «ученик», Сеттембрини, считая Нафту столь легко разоблачимым демагогом и столь отвратительной личностью, не противится общению с ним, даже порою ищет его и не избегает длинных, по всем «изящным» правилам заправских диспутов ведущихся разговоров с ним? Необходимость ответить на эти «простые вопросы» и на этот раз заставляет Сеттембрини отбросить всякую позу и невольно обнажить слабые и уязвимые стороны своей внутренней позиции: «Голос господина Сеттембрини звучал мягко, покорно, но все же слегка дрожал…
— Господин Нафта умен — это встречается не так уж часто. Он любит рассуждать, я тоже… Я пользуюсь случаем скрестить клинки идей с достойным противником… Противоположность и враждебность его взглядов… особенно меня и прельщает, заставляет искать встреч с ним. Мне необходима разминка. Чтобы убеждения жили, их надо почаще бросать в бой, а я в своих убеждениях крепок».
Этот ответ полностью соответствовал наблюдениям над противниками самого Ганса Касторпа: споры велись именно во имя умственной «разминки», в надежде (явно не оправдывающейся) производить впечатление и укреплять авторитет среди немногочисленных слушателей, но не ради выяснений истины — тех реальных задач и загадок, которые, как казалось Гансу Касторпу, ежедневно и ежечасно
183
загадывает жизнь многообразной сложностью и богатством своих явлений и противоречий.
Уже после первой встречи с Нафтой и его спора с Сеттембрини Касторп улавливает противоречивость в позициях обоих противников: «один проповедует всемирную республику и решительно ненавидит войну и в то же время такой ярый патриот, что… готов начать цивилизаторскую войну,— а другой, считая государство изобретением дьявола и вещая о каком-то грядущем всеобщем единении, минуту спустя уже защищает законность природного инстинкта и высмеивает мирные конференции».
Сначала Касторп еще полон решимости «до всего докопаться», то есть почерпнуть из разыгрывающихся на его глазах боев какие-то ответы на интересующие его вопросы или хотя бы стимулы для развития собственной мысли. Но постепенно становится совершенно очевидной внутренняя бессодержательность настойчиво и изящно ведущихся прений: «Между противоречиями не было потрескивания, не вспыхивала молния, не возникало тока… Ганс Касторп отметил этот факт с изумлением и интересом»[57].
Именно от возрастающей умозрительности своих споров Сеттембрини и Нафта, возражая друг другу, впадают в непримиримые противоречия и в собственных воззрениях, обнаруживают внутреннюю противоречивость, слабость своих же позиций. Даже не словесная, а настоящая дуэль между ними вызвана не реальными жизненными причинами, а «доводимыми до крайней парадоксальности суждениями, гипертрофированным самолюбием и ни на чем не основанными претензиями выступать «вождями» неискушенной молодежи в лице все того же Ганса и его брата Иоахима.
Когда Ганс Касторп пытается отговорить Сеттембрини от дуэли с Нафтой и ссылается при этом на им же развиваемые идеи веры в разум, убеждающее слово, терпимость как мощные средства предотвращения насилия и кровопролития, он неожиданно слышит в ответ поучение, напоминающее взгляды Нафты: о необходимости возврата к первобытному состоянию, которая возникает или может возникнуть в жизни каждого человека. И лишь видя изумление Ганса, его воспитатель становится в характерную для себя гуманистическую позу: «Тот, кто не способен отстаивать свой идеал силой своей личности, своей рукой, своей кровью, тот недостоин его; главное в том, чтобы при всей одухотворенности оставаться смелым и мужественным».
184
Но свою декларацию Ссттембрини и на этот раз не подтверждает делом: его поведение в момент дуэли не доказывает готовности отстаивать идеал силой своей руки и своей личности: выстрелив в воздух, Сеттембрини — как сообразил Ганс Касторп — выводит из-под удара не только противника, но и себя, вынуждая его, согласно правилам такого рода поединков, тоже отказаться от выстрела…
«— Вы стреляли в воздух,— …сказал Нафта и опустил пистолет…
— Я стреляю, куда мне угодно… Теперь ваша очередь.
— Трус! — крикнул Нафта… и, подняв пистолет… выстрелил себе в голову».
Этот внезапный поступок психологически подготовлен: на предшествующих страницах говорится и о безнадежной стадии болезни Нафты, навсегда закрывшей перед ним карьеру, о которой он мечтал, и об особой нервной взвинченности, в которой находился он в последнее время. Не менее мотивировано всей предшествующей характеристикой и поведение Сеттембрини. Но вместе с тем сцена дуэли, так же как предшествующая ей ситуация и образы Сеттембрини и Нафты вообще, превышают свое непосредственное бытовое и психологическое содержание: каждый из них представляет одну из характерных и важных для европейской философской и общественно-политической мысли тенденцию: традицию гуманизма, просветительства, свободомыслия и гражданственности — Сеттембрини и новые вариации иррационализма, субъективизма, национализма и антидемократизма — Нафта.
Их столкновение и его исход содержат глубокое обобщение и смелое (в известном смысле более смелое, чем это представлялось самому автору «Волшебной горы») предвидение относительно исторических и политических судеб Западной Европы на ближайшие десятилетия. Неустойчивость, непоследовательность, противоречивость и, главное, явная неспособность (вернее, невозможность) утверждать свои теории и принципы на реальной основе, связывать их с определенной линией поведения и определенным характером действий, поступков — все это характеризует не просто слабость Сеттембрини и его педагогическую несостоятельность, но и слабость позиции гуманизма и демократии, коль скоро последние мыслились и обосновывались лишь в рамках буржуазных традиций. Они предстают как живые и сильные лишь своей историей, прошлым. Облик деда Сеттембрини, воспроизводимый его воспомина- 185
ниями, значительнее, ярче, чем личность потомка. Последний, собственно, только и существует за счет этой потомствепности. Представительствуя от буржуазного гуманизма и демократии, Сеттембрини, при всей видимости активного сопротивления, сдает позицию своему противнику. В начале встреч с Нафтой Ганс ждет, что Сеттембрини сумеет подавить, уничтожить этого мозгляка, «как лев». Из разговора же со своим наставником перед дуэлью Ганс видит, что он не только не наступает, но и неприметно для себя переходит в чем-то на позицию противника. О том же свидетельствует и сама дуэль.
В воззрениях Нафты, напротив, есть отсутствующая у Сеттембрини тенденция считаться с реальностью, быть современным. Он ощущает необходимость по-новому освещать определенные философские и нравственные вопросы — такие, как проблема насилия и жертвенности, активности и созерцательности, веры и опыта и многие другие, в связи с которыми Сеттембрини скорее демонстрирует старые ответы, чем ищет новых решений.
Однако небывалая острота и сложность современного мира лишь по видимости, как быстро примечает Касторп, охватываются софистической логикой Нафты. Ибо его собственная сущность, по очень меткому определению Сеттембрини, — хаос, распад. Именно эту сущность окончательно выявляет и подтверждает его конец: совершенное во власти аффекта, истерии, самоубийство Нафты и есть признание безвыходности, хаоса и духовного банкротства, которое, в свою очередь, символизирует историческую обреченность и нравственную несостоятельность тех общественно-политических сил, которые с немалой исторической прозорливостью были олицетворены в этом зловещем, преисполненном историческим предвиденьем образе. Так «размыкается» в историю собственно интеллектуальный план романа или, вернее, та «часть» его содержания, которая воплощена образами идейных антагонистов — Сеттембрини и Нафты.
Не менее органично и непосредственно «размыкается» в жизнь и позиция, занятая героем романа: духовная независимость Ганса Касторпа по отношению к названным персонажам — намек на потенциально существующие в Германии духовные и общественно-исторические силы «третьего пути». Они очень аморфны и неопределенны, по Манну, в своих позитивных возможностях; и все же предстают, как явствует из «подробностей» отношений героя к
186
«воспитателям», именно самостоятельной позицией. Во всяком случае, для героя романа — и это всемерно оттенено средствами формы — собственно интеллектуальная сфера, борьба идей не обладает самодовлеющим значением; она — лишь один из аспектов интенсивно идущей в нем внутренней работы, направленной к разгадке тайн природы, истории, человека и подчиненной единой и единственной (не вдруг осознаваемой) цели: найти практическую линию поведения в малом и большом круге жизни — применительно к ближайшему окружению и к миру — в широком и общем смысле этого понятия.
Если в «Будденброках» глубинный план структуры, воплощавший сущность видения писателем своей эпохи, как бы «просвечивал» сквозь доминирующую во всем романе традиционную в своем жанровом профиле фабульную «поверхность», то в «Волшебной горе» внешне доминирующий и, казалось бы, жанрообразующий «интеллектуальный» план не только исподволь, посредством введения особо значимых деталей, «прорастает» более глубинным и более значительным содержанием — это последнее теснит «передний план» романа напористо и демонстративно. Уже в пятой главе «Вальпургиева ночь», повествующей о кратком счастье Ганса Касторпа и Клавдии Шоша, происходит, демонстративно, зримо воплощаемое, «оттеснение» Сеттембрини от композиционного центра романа и господствующего места в думах и чувствах Ганса: «…Пью за тебя, Сеттембрини, будь здоров! Итак, прости и не поминай лихом!..» — «Слушайте, инженер, что это вам взбрело в голову? — спросил итальянец. — Прямо какое-то прощание!»
Это было действительно «прощание» в том смысле, что предвещало повышение роли в романе других мотивов, а в развитии Ганса — других лиц и влияний.
Тот же смысл имело и еще одно «прощание»: в начале важнейшей для романа главы «Снег», знаменующей достижение Касторпом нового уровня в духовном своем развитии. Сеттембрини провожает его на лыжную прогулку в горы и, смотря вслед, видит, как он взбирается на большую высоту: «…он усваивал все большее количество приемов. И в один прекрасный день скрылся в белесой мгле с глаз господина Сеттембрини, который, сложив руки рупором, прокричал ему вслед какие-то предостережения… и отправился восвояси».
Еще большее и еще менее преодолимое для Сеттембрини, поглощенного обычной «мозговой разминкой» с Нафтой,
187
расстояние пролегает между ним и Касторпом в день «хрипоты Иоахима», предвещавшей смертельную стадию болезни: «…перепалка продолжалась… Ганс Касторп перестал слушать, так как Иоахим, между прочим, заявил, что, кажется, простудился… Дуэлянты не обратили на это внимания, а Ганс Касторп… внезапно вышел вместе с ним, не дослушав». Так, последовательно растет дистанция между персонажами «переднего плана» романа и восходящим на духовные вершины и вместе с тем погружающимся в более глубокие и содержательные пласты произведения Гансом Касторпом. Любовь, природа, болезнь и смерть — совершаемое героем романа вступление в эти сферы предстает как переход от пребывания в умозрительной «школе идей», не осложненного необходимостью выбора практической линии поведения, к практическому опыту, с неизбежностью требующему духовной активизации, выбора нравственных позиций и принятия ответственных решений. На языке Ганса Касторпа (вернее, на свойственном Манну поэтическом и емком языке образов-понятий) это восхождение к самосознанию и к позиции нравственной ответственности обозначено словом «править» (regieren): «Свои ответственные умственные занятия в живописном уголке Ганс Касторп именовал довольно странно, как мальчишка игру,— словом «править», пользовался этим детским выражением словно для забавы, любимой, несмотря на то, что она сопряжена была со страхом, головокружением, сердечными перебоями, и его бросало от нее еще сильнее в жар» (Bd. 2, S.553).
Примечательно, что дуэль Нафты и Сеттембрини, положившая конец их многократным словесным сражениям во имя господства над душой Ганса Касторпа, происходит как раз в том живописном уголке, который служил местом ответственной «правительной» его деятельности: несостоятельная умозрительная педагогика терпит полный крах именно там, где задолго до рокового поединка рождается, формируется духовная самостоятельность героя, этот крах предвещающая.
Регулярные посещения укромного уголка в горах и само странное слово «править», которым Ганс Касторп окрестил свои уединенные размышления, начинают фигурировать уже после Вальпургиевой ночи и отъезда Клавдии Шоша́. И это характерно: новая в жизни героя эпоха ознаменована большим внутренним содержанием, отнюдь не только интеллектуальным, но — и даже преимуществен-
188
но — эмоциональным; именно оно-то, как мы уже говорили, теперь уже не оказывается «заслоненным» планом идейно-воспитательным: «Он сидел там, чтобы побыть одному, остаться наедине со своими воспоминаниями, перебрать впечатления и необыкновенные переживания минувших месяцев и все обдумать… необыкновенным было все, настолько до авантюризма необыкновенным, что сердце, такое же впечатлительное, как и в первый день приезда сюда, наверх, замирало и принималось бешено колотиться, едва он начинал все припоминать».
«Все» в данном случае означает прежде всего — необычные отношения с Клавдией Шоша, которую Ганс Касторп полюбил с первого взгляда, с момента ее появления в «трапезной». Он узнает, что она русская, замужем за французским инженером, служащим «где-то в Дагестане»; из-за своей болезни Клавдия часто отлучается за границу, подолгу живет в санаториях. Далее последовал длительный период с обеих сторон проявляемой заинтересованности «на расстоянии», когда Ганс Касторп, сдерживаемый и силой самого чувства, и неодобрением своих постоянных спутников и собеседников (Иоахима и Сеттембрини), и ревнивыми подозрениями относительно отношений Клавдии с врачом Беренсом и кем-то из соотечественников, так и не решился «познакомиться наяву». Но в полусказочной обстановке новогоднего карнавала, допускающей свободную и интимную форму обращения, Ганс Касторп, стараясь пользоваться французским языком, более понятным Клавдии, а для него чуждым и усиливающим ощущение «призрачности» происходящего, говорит о своем чувстве: «Я люблю тебя… я всегда любил тебя, ведь ты — это «Ты», которого ищешь всю жизнь, моя мечта, моя судьба, моя смерть, мое вечное желание… Наплевать, наплевать мне на всех этих Кардуччи, и на республику с ее красноречием, и на прогресс с его развитием во времени, оттого что я тебя люблю!»
Подлинность самого непосредственного чувства, поэтичного, страстного, которым дышат эти слова, поразительная пластичность всей сцены необычного объяснения — поза, жест, каждое движение персонажей — находят совершенно точное, классически краткое, наглядное и изящное словесное воплощение; диалог даже нарочито элементарен (герои говорят не на родном языке) и поэтому особенно ясен, прост, раздумчиво-медлителен по ритму. И вместе с тем это самое «подлинное», «живое» изображение чувств
189
несет в себе (даже если судить только по приведенному выше отрывку) самую глубокую суть миропонимания Ганса Касторпа. Это очень по-манновски: воплотить в кульминационном моменте любовной линии романа с небывалой и для собственно идейных глав отчетливостью сущность духовных исканий героя: центральную, определяющую не только для внутреннего мира, но и для всей судьбы Ганса Касторпа проблему времени. Любовь как вечное «Ты» противостоит «развитию во времени», иначе говоря, она — вне настоящего и в теснейшем единении с прошлым и будущим. А эти последние тоже предстают в слиянии друг с другом как нечто нерасчленимое, недифференцированное: «Ты» была всегда, и «Ты» — моя мечта. Вместе с тем «Ты» — олицетворение Природы и Духа. В первой из этих ипостасей Клавдия является перед Гансом Касторпом на портрете, исполненном доктором Беренсом. В духовно-богоподобном своем олицетворении — в скульптурном изображении Богородицы, которое Ганс Касторп видит у Нафты; и, наконец, в слиянии обоих начал, как прообраз Женственности и облик Самой Жизни, извечно сливающей плотское и духовное, образ Клавдии Шоша предстает перед Гансом Касторпом в одну морозную ночь, когда он, лежа в спальном мешке на своем балконе, постигает (и на это тоже вдохновляет его составляющее весь смысл жизни «Ты») тайны генетики, анатомии, истории, астрономии — самые разнообразные знания о человеке и его месте в мире: «И вот в эти минуты, когда молодой Ганс Касторп… смотрел на поблескивающую замерзшую долину, ему среди сумрака морозной ночи, озаренного блеском мертвых созвездий, предстал образ самой жизни».
Любовная линия является по существу сердцевиной романа, ибо как бы «стягивает» воедино искания в области идей и жизненный, нравственный опыт героя. «…Я всегда искал тебя»,— говорит Ганс своей возлюбленной, и это «всегда» имеет не только всеобъемлющее, но и вполне конкретно-временное значение. Ибо мадам Шоша́ с первого взгляда пробуждает у Ганса Касторпа воспоминания о страстном и робком чувстве к товарищу по школе Пребыславу Хиппе (ему посвящен целый раздел IV главы, который так и называется — «Hippe»). Сначала смутная, трудно уловимая, ассоциация вырастет в ясную картину прошлого, предстающую Гансу в том же самом уютном горном уголке, который становится именно с этих пор местом его «правительно»-ответственпой деятельности. И что
190
еще примечательно: толчком к овладению этим воспоминанием о первом детском порыве к духовной близости с другим человеком послужила случайная встреча прогуливавшегося Ганса с разговаривающими друг с другом жителями села, вернее, приветливо-напутственная фраза, с которой один из них обратился к другому: «Ну, счастливо и большое спасибо».
Эта фраза была когда-то произнесена Гансом во время разговора на школьном дворе, когда он отдавал Пребыславу взятый у него карандаш. Послужив возрождению прошлого, эти и некоторые другие слова того ожившего детского разговора возрождаются в качестве реплик (особо знаменательных, важнейших) в немногих беседах, происходящих между Гансом и мадам Шоша или ее «спутником» Пеперкорном и Гансом.
Мы видим, как важнейший для романа любовный план расширяется и обогащается здесь уже за счет возлагаемой на него философско-мировоззренческой «нагрузки». Происходит своеобразное его «срастание» с историей жизни Ганса «там, внизу», оставшейся, казалось бы, вообще за пределами структурного корпуса романа, существующей лишь на правах внешней, формальной экспозиции к истории Ганса — пленника Волшебной горы, воспитуемого, испытуемого новым для себя опытом и, видимо, порвавшего с элементарным, наивным опытом прошлого.
Роль более или менее проясненной ассоциативной связи мадам Шоша с Пребыславом Хиппе особенно возрастает в центральных моментах духовного самоопределения героя (главы «Снег» и «Отбитая атака») и в кульминационных эпизодах любовной линии, относящихся ко второй встрече Касторпа и мадам Шоша. Она возвращается в санаторий в сопровождении богатого «спутника» и покровителя, мингера Питера Пеперкорна. Он — голландец по происхождению, некогда крупный плантатор и человек большой энергии и физической силы, а ныне — старец, страдающий приступами неизлечимой тропической лихорадки и увлекающийся веселым застольем, оживленным обществом и пикниками. Суть ведущихся при таких встречах бесед менее всего интересует Пеперкорна — натуру духовно здоровую и внутренне цельную, по определению Касторпа.
Три главы, посвященные Пеперкорну и вообще всему периоду второй встречи Касторпа с Клавдией Шоша, составляют как бы самостоятельную большую новеллу; впрочем, видимая фабульная самостоятельность не исключает
191
того, что эти финальные для любовной линии романа главы насквозь пронизаны ассоциативными «ходами», воз- вращающими не только к первой встрече героев, но и к важнейшим эпизодам истории духовного развития Ганса и к ее предыстории. Остановимся в этой связи на предшествующей возвращению Клавдии главе «Снег». Она посвящена лыжной прогулке Касторпа в горы, которая чуть не кончается плачевно: разыгралась сильнейшая, хотя и очень непродолжительная метель, мешающая передвижению. Пытаясь укрыться от нее за углом какого-то сарая, Ганс не замечает, как засыпает (сон его, как выясняется потом, длится всего десять — пятнадцать минут), и видит яркое и удивительное сновидение: прекрасную расположенную у южного моря неведомую страну и ее столь же прекрасных обитателей; они трудятся, отдыхают, заботятся о детях и при всем том и прежде всего — наслаждаются той радостью, которую приносит общение друг с другом, проникнутое чувством особого благочестивого почитания: каждый чтит в другом человека.
Цельность этой идиллии-утопии нарушена, однако, резким контрастом: повернувшись в другую сторону, Ганс замечает какую-то таинственную колоннаду, а проникнув внутрь, он почти теряет сознание «от ужаса перед тем, что он увидел. Две серые старухи, полуголые, косматые… мерзостно возились среди пылающих жаровен. Над большой чашей они разрывали младенца… они заметили его и стали потрясать окровавленными кулаками, ругаться безгласно, но грязно и бесстыдно, да еще на простонародном наречии родины Ганса Касторпа». На этом сон обрывается. А Ганс обретает способность к ясным и поражающим своей глубиной его самого обобщениям и толкованиям увиденного применительно к тем общефилософским и этическим вопросам, которые занимали его с момента прибытия на Волшебную гору (а вернее сказать — всю сознательную жизнь), — о возможностях человека сопротивляться злу в мире, его окружающем, о силе любви и власти смерти: «Любовь противостоит смерти, только она, а не разум сильнее ее. Только она… внушает нам добрые мысли… разумно-дружеского общежития… с молчаливой оглядкой на кровавое пиршество… Во имя любви и добра человек не должен позволять смерти господствовать над его мыслями… Давно уже я искал эти слова: и там, где мне явился Хиппе, и на моем балконе, и раньше, всегда и везде. Ведь и в заснеженные горы меня тоже погнали эти поиски».
192
В этих словах воплощена, действительно, одна из центральных идей и одно из центральных направлений в исканиях Ганса Касторпа, вернее, та позиция, которую он в результате этих исканий обретает. Это позиция сопротивления, отрицания санаторной терапии, культивирующей страх перед смертью, и «воспитателей», подчиняющих всю жизненную практику и духовную суть человека выкладкам разума, что уже в силу своей умозрительной оторванности от жизни (будь то рассуждения замаскированного иезуита Нафты или рационалиста и безбожника Сеттембрини) тоже причастно смерти. Ибо, так или иначе, они стараются «поработить» тело, дух и органическое стремление людей к «взаимопочитанию» — чему-то внешнему, постороннему.
На самом же деле — считает отстоявший свою независимость в опасной «пурге» чужих мнений и влияний Ганс Касторп — даже самое страшное, угрожающее зло занимает лишь задний план жизни; во всяком случае, так видится и так протекает жизнь для людей, постигших любовь как ее сущность. Лишь «молчаливая оглядка на кровавое пиршество» омрачает человека Гансовой утопии, уже в этом столь выразительно отличающейся от пессимистической утопии «Сна смешного человека» Достоевского.
Но нас интересуют сейчас не внешние, а внутренние соответствия и соотношения. Сон Ганса Касторпа и вся глава «Снег», посвященная утверждению Любви (и в самом широком, и в интимном смысле), втянуты в орбиту все той же далекой, но устойчивой и пронизывающей любовную линию романа связью между «гением этих мест» — мадам Шоша и настойчиво возникающей «тенью» из прошлого «там, внизу» — Пребыславом Хиппе. Вся горная прогулка Ганса и сам сон проходят в сопровождении этих таких далеких, но ставших неразлучными двух «Ты».
«Он двинулся дальше, еще выше, к небу. Временами он втыкал в снег верхний конец палки и, вынимая ее, смотрел, как из глубины отверстия выплескивается синий свет… Так странен был этот нежный, горно-глубинный свет, зеленовато-голубой, прозрачный, как лед, и в то же время затененный и таинственно-влекущий. Он напомнил ему свет и цвет неких глаз… давно увиденные и неизбежно вновь обретенные глаза Хиппе и Клавдии Шоша».
Облик Клавдии Шоша предстает почти таким же, каким он явился в зимнюю ночь на балконе, и в самом сне: черты ее явственно угадываются в одной из прекрасных
193
обитательниц прекрасной страны: «…волосами, собранными в высокий узел на затылке… белой, длинной, из-за приподнятых рук казавшейся нежно округлой спиной».
Но самым примечательным в главе «Снег» в смысле развития ассоциаций является то, что олицетворяющий прошлое светлый образ Хиппе «встречается» с образом прошлого совсем иного порядка. В картине «кровавого пиршества» есть такая знаменательная деталь: «за гнусной, страшной своей работой они (старухи, разрывающие младенца. — М. К.) заметили его (Ганса. — М. К.) и стали потрясать окровавленными кулаками, ругаться безгласно, но грязно и бесстыдно, да еще на простонародном наречии родины Ганса Касторпа. Ему стало тошно, дурно, как никогда» (курсив наш. — М. К.).
Итак, сам того не сознавая, Ганс унес с собой наверх двоякий облик родины: он причастен и светлой, и страшной стороне его видения. С одной стороны, идущий из глубин воспоминаний Хиппе, с другой — страшные старухи, образ предельной жестокости, бесстыдства, в котором сгущается тот дух бессердечия и меркантилизма, о котором когда-то «новичок» санатория Ганс Касторп рассказывал Сеттембрини. Гансу казалось, что уже в то время, сделав выбор между «долиной» и «верхом», он навсегда изгнал эти отталкивающие стороны родины из своей памяти и из своих духовных исканий. В главе «Отбитая атака», которая предшествует повествованию об отважной вылазке в горы, описан приезд родственника Ганса, тщетно попытавшегося вернуть его домой. Разрыв получает, казалось бы, формальное закрепление. Однако глава о лыжной прогулке свидетельствует, что как бы высоко ни заносила Ганса «активизирующаяся» мысль и сколь властно ни формировала бы любовь духовную его жизнь — он не отрывался от «забытой» и «преодоленной» исторической реальности, воплощаемой в возвратах в прошлое, во всех образах, с ним связанных. Напротив, неприметно для самого Ганса проблемы, когда-то возникшие «там, внизу», переживания, глубоко затронувшие душу, вопросы, не получившие некогда разрешения, — все это, как показала неожиданная «встреча» таких связанных с прошлым образов, как Хиппе и старухи, говорящие на «простонародном наречии родины Ганса Касторпа»[58], оставалось неясной для него самого основой его исканий.
Касторпу кажется (причем он чувствует себя в данном случае даже выразителем «коллективных грез»), что не-
194
обыкновенная ясность и гармония, которые наступили в его мыслях после вразумляющего сна, делают его неуязвимым в отношении «путаницы» в идеях и чувствах, бесстрашным в отношениях со смертью, злом: «О, как вразумителен был мой сон! Как он поможет мне править! Я буду помнить о нем… Слова моего сновидения — напиток лучше портвейна и эля! Этот напиток пробегает по моим жилам, как любовь и жизнь».
Однако глава об отважной вылазке в горы, обогащенной «вразумляющим» сном, заканчивается весьма знаменательным образом: «Часом позднее его уже окружала высокоцивилизованная атмосфера «Берггофа». Ужин он уписывал за обе щеки. Привидевшийся ему сон понемногу тускнел. Мысли, бродившие у него в голове, уже в этот вечер стали ему непонятны».
Это заключающее главу авторское обобщение является вместе с тем введением в последнюю часть романа, в которой герой от опыта умозрительного впервые переходит к опыту практическому, совершенно непосредственно. Мы имеем в виду драматично развивающиеся отношения между Касторпом и мадам Шоша при второй их встрече и отношения с Иоахимом после его возвращения «с равнины». Обе эти ситуации сталкивают Ганса Касторпа с такой реальной «путаницей» жизненных обстоятельств и отношений, с такими красноречивыми напоминаниями о «мерзостном пиршестве», при котором он не может опираться ни на опыт и самостоятельность, приобретенные в спорах с Сеттембрини и Нафтой, ни на «вразумляющие» грезы.
«Ганс Касторп не договорил. Перед ним вырос Пеперкорн… Он… стоял перед креслом… Ганса Касторпа, и тот… попытался встать на ноги между обоими (то есть между мадам Шоша и Пеперкорном. — М. К.), в результате чего действующие лица этой сцены как бы образовали треугольник с креслом посередине». Здесь нарочито подчеркнуто, что герой романа — отважный путешественник в сферы мысли и духа — поставлен на этот раз в житейски банальную ситуацию «треугольника». Развитие же ее обнаруживает, что за внешней простотой в ней таятся непредвиденные сложности. Сложна и так до конца и не прояснена сама характеристика Пеперкорна. В наружности его соединяется безобразие и величественность, шутовство и таинственность, благодушие и хищничество. При том, что природная физическая сила, которая ощущается во всем его облике, соче-
195
тается со следами сильного и неизлечимого недуга. Особенно характерны были губы, столь прихотливо очерченные, что «казались разорванными», и руки, «довольно широкие, но с длинными холеными ногтями, напоминавшими острые копья». Столь же несогласуемы были отработанные ораторские жесты и невнятные, порою неудобопонятные речи, расслабленность и самоуверенность осанки и т. д. Все это противоречиво-недоговоренное остается непроясненным, так же как внутренний его мир, побуждения, прошлое, власть над Клавдией Шоша́ и сама смерть.
«…В его любви таится немало пугающего», — признается Касторпу мадам Шоша́, и смысл этого признания тоже остается не очень ясным. И побуждения к самоубийству явно не исчерпываются благородным «самоустранением» после откровенного разговора между «спутником» Клавдии и Гансом Касторпом. Многие намеки, детали говорят о том, что сама мысль о самоубийстве посредством сильно действующего змеиного яда, хитроумного приспособления и безмолвного черного слуги давно вынашивалась и была связана и с болезнью, и с какими-то обстоятельствами прошлого. Оставаясь нарочито неясным в своей характеристике, образ Питера Пеперкорна ясен зато по своим функциям: он способствует выяснению отношений Клавдии Шоша́ и Ганса Касторпа и тем самым существенно развивает и дополняет характеристику последнего.
«Я оказался в чрезвычайно оригинальном и весьма щекотливом положении… Сердце у меня здорово колотится… Может быть, посмотреть, где его кулак? Не занес ли он его уже надо мною?..» Эти совершенно необычные для рафинированного воспитанника Сеттембрини мысли проносятся в голове Ганса после того, как он сначала «невинно» внушил Пеперкорну подозрения о своих отношениях с мадам Шоша, а потом подробно, хотя и «деликатно», рассказал об их давнем знакомстве и новогодней ночи. Объяснение неожиданно закончилось не побоями, а брудершафтом. Но у Ганса Касторпа не оставалось сомнения, что именно оно послужило если не причиной, то последним толчком к самоубийству: он с полной определенностью ждет этого события в ночь его свершения. И с недоумением осознает себя если не виновником, то соучастником смерти человека. Так логика самой жизненной ситуации — примитивной, грубой, реальной — торжествует над той возвышенной позицией духовного «правителя» и победителя смерти любовью, в которой уверил себя отважный покоритель вершин
196
духа. Вместе с тем выявляется и та реальная, а не воображаемая или самовнушаемая роль, которую играет воплощаемое в Клавдии Шоша вечное и вместо с тем единственное «Ты» для Ганса Касторпа.
Первая разлука с Клавдией обосновывалась ее жаждой независимости, право на которую дает болезнь. Хотя и тогда ею же выдвигалась и другая причина: из-за робости ли или из-за высокомерия, но Ганс Касторп сам виноват, что разлука наступает в день сближения, ибо он не сумел использовать все долгие предшествующие месяцы. Окончательная же разлука, наступающая после смерти Пеперкорна, вовсе не обосновывается. Но вся логика отношений, складывающихся при второй встрече, подтверждает ту истину, которую высказала однажды мадам Шоша относительно рыцаря Волшебной горы: «…страсть — это значит жить ради самой жизни. А такие, как вы, живут ради переживаний. Страсть — это самозабвение. А ведь вы стремитесь только к самообогащению».
Ганс опровергает эту характеристику целым рядом доказательств. Но объективная логика отношений с Клавдией, в свою очередь, опровергает их. Он и на этот раз не последовал за нею и остался пленником Волшебной горы. Даже любовь не примиряла с долиной «там, внизу», по-прежнему не давала до конца удовлетворяющего наполнения жизни, не содержала ответа на вопрос, которым бессознательно задался Касторп еще в пору «обыкновенной» своей жизни, — чему посвятить себя, во имя чего жить? Поиски ответа на этот вопрос продолжаются и после отъезда Клавдии и гибели Иоахима, до тех пор, пока начавшаяся война не вселяет в Ганса Касторпа (так же как в сотни других представителей молодого поколения) иллюзию обретения искомого — на разных ступенях и уровнях духовного и жизненного опыта — ответа.
Для понимания типичности внутренних исканий Касторпа, казалось бы, таких исключительных, особенно важен образ его двоюродного брата и вся посвященная ему линия романа, тоже во многом превосходящая непосредственно фабульное назначение.
«Лейтенант — человек почтенный, но простая натура, без всяких затаенных опасностей», — говорит Сеттембрини, противопоставляя элементарного и заурядного Иоахима его тонко организованному кузену. «Он очень честный молодой человек, очень узкий, очень немец», — вторит этой характеристике мадам Шоша́. И тот же смысл вкладывает
197
в свои «отеческие» назидания Иоахиму Беренс: «Желает, видите ли, ехать и нацепить на себя саблю. Это же чистое мальчишество!» «Иоахим солдат, и этим все сказано», — заключает Касторп один из своих напряженно-драматических внутренних монологов. И, наконец, сам Иоахим простодушием своих рассказов о санаторских нравах, наивно-доброжелательными характеристиками людей («потом есть еще Кроковский — ассистент Беренса, ничего не скажешь, толковая голова») и постоянным устранением от всякого теоретизирования, анализирования и «высоких материй» вообще как бы закрепляет это установившееся о себе мнение. «Вот и ты говоришь «человечество», как Сеттембрини… уж очень ты стал возвышенно мыслить», — выговаривает он брату.
Когда Иоахим оказывается вовлеченным в отвлеченный разговор, он настолько чувствует себя не в своей сфере, что не может ничего сказать кроме самых банальных, вынесенных из военного училища, фраз: теряясь от изощренных словесных дуэлей Сеттембрини и Нафты или от потока многообразных сведений, которым оглушает его брат, он ссылается, например, на идеи Мольтке, говорит что-то невразумительное о чести касты и даже о свойствах расы, укрепляя слушателей в создавшемся мнении о его ограниченности, узости и консерватизме.
Но все это — лишь самый поверхностный слой характеристики Иоахима. Истина достигается постоянно вводимыми и постепенно усиливающимися контрдоводами, которые прежде всего складываются из линии поведения Иоахима, неожиданно открывшей его способность к глубокому критическому пониманию окружающего мира, а также из некоторых «догадок» о внутренних его переживаниях, о которых сам он со свойственной ему сдержанностью умалчивал. Всей своей судьбой Иоахим подтвердил однажды высказанное им суждение: «Дело не в том… какие у него мнения, а в том, каков сам человек».
Мнения о войне, касте и расе, которые скорее повторял, чем высказывал Иоахим, не отражали тех романтических представлений об аскетическом самоотречении во имя высокой общей цели, о чести и долге, которые воплощались для него в офицере — носителе идеала общественного служения, олицетворении кипучей целеустремленной (без четких представлений о ее цели) деятельности. И вот с этих-то позиций, иллюзорных и абстрактных, но принятых за идеал со всей силой чувств, присущих цельной и сдержанно-
198
страстной натуре, Иоахим с беспощадной последовательностью определяет свои отношения совсем окружающим миром, основывает свои оценки людей и с не меньшею неуклонностью обуздывает собственные чувства и эмоции.
Сложность борьбы, происходящей в душе «примитивного» Иоахима, приоткрылась Гансу Касторпу в разговоре о русской девушке Марусе, сидящей напротив Иоахима во время «трапез», очень привлекательной и очень больной. На шутку брата в адрес хорошенькой соседки Иоахим не ответил. «Его загорелое лицо пошло пятнами, как бывает обычно с загорелыми лицами, когда они бледнеют, и губы как-то горестно скривились; это придало его лицу выражение, которое почему-то испугало Ганса Касторпа».
Идеал деятельной жизни «там, внизу», дающий Иоахиму силу отречься даже от сильного чувства, определяет остроту его неприятия «санаторной терапии» в ее общем принципе, несмотря на свойственную ему добродушную покладистость в отношении конкретных ее носителей и всех их человеческих слабостей.
Внешним поводом к бунту Иоахима против санаторной системы послужили обычные для тех мест капризы погоды: в августе пошел снег, наступила зима. Спокойствие брата, пустившегося и по этому поводу в философские рассуждения, взорвало всегда сдержанного Иоахима: «…Ты… так собой доволен, что заодно доволен и всей здешней жизнью… Нет! Хватит! — почти выкрикнул Иоахим, — Все это свинство, гнуснейшее свинство, и если ты… то я лично…— И он быстрым шагом вышел из комнаты, в сердцах хлопнув дверью, — в его мягких прекрасных глазах как будто даже стояли слезы».
И на первом же врачебном обследовании Иоахим осуществляет
выношенное решение порвать «со всей здешней жизнью». Обычную «околесицу»
Беренса относительно необходимости «еще с полгодика исправно… нести здешнюю службу»
взбунтовавшийся пациент встретил с непоколебимой твердостью: «Вначале, господин
гофрат, вы говорили: три месяца. Потом курс лечения все растягивался то на три месяца,
то на полгода, а я все еще нездоров». В заявлении Иоахима, как он тут же
оговаривается, нет обвинения лично Беренсу. Его бунт вызван не профессиональными
или личными качествами «
199
пассивности, в примирительно-соглашательском, даже попустительском отношении к болезни. А соответственно — и ко «всему этому свинству» вообще, то есть ко всему лишенному времени и движения, идеала и цели миру обитателей Волшебной горы. Они добровольно приняли («так собой доволен, что доволен и всей здешней жизнью») эту систему существования, основанную на перспективе смерти, рассчитанную на медленное угасание — комфортабельно обставленное, оставляющее надежды на проблески личного счастья и иллюзию интеллектуальной и духовной «возвышенности» — бесплодной болтовни и «умничанья», как считает в своей непримиримости Иоахим.
Недаром Клавдия Шоша, узнав о его бегстве «на равнину» и обстоятельствах смерти, говорит, что Иоахим «был храбрый, гораздо храбрее, чем другие люди, некоторые другие». Так приходит новая оценка Иоахима, основанная на поведении, поступках — словом, на том, что сам он вкладывал в требование судить о человеке — не на основе выражаемых им «мнений», а по тому, «каков сам человек». К опровержению прежней оценки приходит и Беренс, когда на вопрос Касторпа о состоянии вынужденного вернуться в санаторий Иоахима отвечает с несвойственной ему определенностью: «Он понимал, что делал и что ставил на карту, он настоящий мужчина».
И, действительно, Иоахим «поставил на карту» или, вернее, сделал вполне сознательный и ответственный выбор, когда поднял бунт против «санаторной терапии». Влекло его на равнину не честолюбие и не мальчишеское легкомыслие, а решимость порвать «со всем этим свинством» и посвятить жизнь, отдать весь отмеренный ему судьбою срок служению высокому в его понимании идеалу.
Наиболее глубоко и сложно меняет свое отношение к Иоахиму главный герой романа. Это происходит, уже когда Ганс, лежа в спальном мешке на балконе, читал получаемые от Иоахима краткие открытки и проникал в скрытое их содержание и тем более после его возвращения. Ганс приходит к глубокому умозаключению (он, правда, выражает его в очень туманных определениях о «воздействии души на тело и вторичности болезни», к которым привык прибегать, рассуждая сам с собою), что практика столь вожделенной полковой жизни не принесла ее восторженному поклоннику той полноты удовлетворения, на которую он рассчитывал, когда рвался к «аскетической деятельности», и если еще не до конца раскрыла, то уже чувстви-
200
тельно намекнула ему на бессмысленность того риска, которому он себя подвергал, уехав из санатория.
То, что Иоахим является рыцарем именно абстрактного идеала (а не носителем идеалов прусского милитаризма, в чем он порою подозревается вкупе с самим создателем «Волшебной горы»), находит подтверждение в облике, в котором умерший брат мерещится Гансу Касторпу во время спиритического сеанса, к участию в котором привлек его Кроковский.
«У этого Иоахима были осунувшиеся щеки… На исхудавшем лице… лежала печать страдания и строгости… но взгляд оставался таким же кротким, а глаза — прекрасными, и он безмолвно и ласково, вопрошающе смотрел на Ганса Касторпа… Иоахим был не в штатском… но одежда не была и настоящим военным мундиром. В ней не замечалось ничего блестящего, цветного. Воротник — как у тужурки, на груди — карманы; довольно низко висел железный крест. Ступни Иоахима почему-то казались огромными, а ноги очень тощими; они были в тугих обмотках — скорее как у спортсмена, чем у военного… казалось, Иоахим нахлобучил себе на голову походный котелок, который держался, как шлем, на ремешке, проходившем под подбородком. Но, как ни странно, этот убор напоминал о старине, о ландскнехтах и почему-то очень шел ему».
Облик Иоахима, сотканный воображением Ганса Касторпа, состоит, как каждое видение, из реминисценций каких-то наиболее запомнившихся и ярких моментов общения с ним, разговоров о нем, из переоценивающих прежнее свое отношение размышлений, а также смутных предчувствий собственного будущего. Ибо видение имеет совершенно явное сходство не с обликом кадрового офицера германской армии, а с обликом самого Ганса Касторпа на последних страницах романа, когда он, разделив судьбу всего молодого поколения своей эпохи, приобщался к практической жизни и испытывал свои идеалы, проходя через страшную школу войны.
Печать страдания, жертвенности, тяжелых дум и сомнений лежит на облике Иоахима-видения, который становится очень похожим здесь на жертву и ненавистника войны — представителя погибшего поколения. Облик, казалось бы, преданного идее войны блестящего лейтенанта вовлекается в толпу оказавшихся на поле боя юношей, среди которых находится и Ганс Касторп. И побуждения, приводящие его к этому финалу, в каких-то своих посылках и
201
истоках сближаются с побудительными истоками того романтического иоахимовского «рвения», которое так разделяло их поначалу. История расхождений и сближений Ганса Касторпа с зачинателем бунта против Волшебной горы составляет одну из существенных сторон формирования характера этого сына XX века, этого любопытствующего путешественника, незаметно превращающегося в трагического искателя.
Путь Иоахима — его отъезд, невысказанные разочарования, возвращение и гибель — обращают героя романа (так же как вторая встреча с мадам Шоша) от стремлений к обогащению опыта духовного к столкновению с реальностью и к необходимости принимать уже не умозрительные, а житейски ответственные решения.
Ганс так формулирует вставший перед ним вопрос: «…нравственнее ли потерять себя и даже погибнуть или себя сберечь?» В контексте разговора с Клавдией этот вопрос имеет более узкое значение. Но по существу он содержит проблему, казалось бы, решенную, но практически остающуюся основной для Ганса Касторпа: проблему отношений с «равниной», то есть с тем миром, к которому он принадлежал, от которого оторвался во имя безбрежного расширения своих познаний и духовного горизонта, но которого (более или менее осознанно) никогда не терял из виду во время этих захватывающе интересных, поучительных и небезопасных странствований.
«Погибнуть» ли (не только в физическом, но и в нравственном смысле), служа делу и живя в мире, который разочаровывает, не удовлетворяет? Так в освещении Ганса предстает судьба его двоюродного брата. Или «сохранить себя», то есть сохранить свою духовную независимость, позицию внутреннего неприятия той «низменности» и «жестокости» жизни «там, внизу»? Об этом Ганс Касторп говорит с Сеттембрини во время одной из первых их бесед.
После смерти Иоахима и отъезда мадам Шоша этот последний вопрос осложняется вопросом «бесцельности», ненужности и бессмысленности как самосохранения, так и жизни вообще. Предвещающий финал момент романа возвращает к его началу, вновь обнаруживая первостепенное значение созидаемой автором «Волшебной горы» композиции для качественно новой характеристики героя. Обеспокоенные изменившимся настроением пациента, грозящим самовольным отъездом, «верховные власти» санатория решили предотвратить это следующим мероприя-
202
тием. Заявив с уверенностью, что «наконец открыли причину неустойчивости теплового бюджета Ганса Касторпа», они приписали это теперь не «влажному очажку» в легком, а стрептококкам, которые «в небольшом количестве имеются в организме». Заверив сначала пациента, что он «должен попристальнее и подольше изучить этот вопрос», гофрат Беренс наконец объявил новый курс лечения: «Курс стрептовакцины! Прогноз? Исключительно благоприятный…» Далее следуют ученые рассуждения Беренса: «…Поскольку сыворотка будет изготовлена па крови самого Ганса Касторпа, то при инъекциях в организм не будут вводиться никакие болезнетворные вещества, которых в нем бы уже не содержалось. В худшем случае лечение не принесет пользы, даст нулевой результат — но, поскольку пациент все равно должен оставаться здесь, разве это можно назвать «худшим случаем»?»
Максимальная активизация деятельности «санаторной терапии» не подняла, однако, настроения ставшего внутренне строптивым пациента: «Эти прививки себя самому себе казались ему каким-то отвратительным и унылым извращением… сочетанием себя с собой… бесплодным и безнадежным». Проницательный Беренс умел понимать настроение своих пациентов: он видел, что с некоторых пор мимика Ганса «порой напоминала мимику покойного Иоахима в те времена, когда в нем созревали некие своевольные и упрямые решения».
Испытываемое Гансом Касторпом непреодолимое омерзение перед существованием без цели, без любви, без одушевляющих исканий, эта пассивность, апатия, фактически духовная смерть, в которые он впадает, обманувшись в тех возможностях, которые сулила вознесшая его над «равниной» нравственная «активизация», предстает и как контраст, и как параллель судьбе «храброго» Иоахима. В романе даны фактически два наиболее характерные варианта судьбы молодого человека Германии и Западной Европы первых десятилетий нашего века. И обе эти судьбы, — и того, кто стремился найти свой идеал в романтизированном служении существующему укладу буржуазного общества, и того, кто от него оторвался и внутренне противопоставил себя ему, — находят (хотя речь идет в данном случае преимущественно о Касторпе) обоснование в той главе о детстве и юности Ганса, которая в авторских заметках к роману как бы выведена за пределы его структуры (то есть не учтена в качестве одного из его «планов»), а по существу
203
является экспозицией, влияющей на организацию всей его мысли.
Оставшись сиротой после рано умерших родителей, Ганс Касторп в течение полутора лет прожил в доме своего деда — сенатора Ганса Лоренца Касторпа, главы фирмы по импорту и экспорту и члена магистрата, который с упорством держался за старину как в области коммерции, так и в политике.
После смерти деда Касторпа Ганс воспитывался в семье консула Тинапеля — родственника по материнской линии. По совету Тинапеля-старшего и его сына Джеймса Ганс Касторп, окончив реальную гимназию, поступил на политехнический факультет и получил, хотя и не обнаружив блестящих успехов, диплом инженера-кораблестроителя. Тем самым он обеспечил себе сверх устойчивой ренты возможности «прилично зарабатывать», что было необходимо — как издавна внушал ему дядя Тинапель — «чтобы здесь, в городе, играть известную роль и жить, как ты привык».
Когда Ганс приезжал на каникулы, то «каждому становилось ясно, что этот очень опрятный, очень хорошо одетый молодой человек с маленькими рыжеватыми усиками и несколько сонливым лицом молодого патриция, несомненно, достигнет почетного положения в жизни, и люди, которые интересовались делами города… испытующе поглядывали на него, спрашивая себя, до какой же роли в обществе дорастет со временем молодой Ганс Касторп… без сомнения, настанет день, когда с его особой придется считаться как с политическим фактором. Он будет членом городской думы и депутатом, будет издавать законы… войдет в какой-нибудь административный отдел, может быть, в финансовую комиссию или строительную, к его мнению будут прислушиваться… Было также небезынтересно[59], к какой же партии примкнет со временем Ганс Касторп!.. станет ли тормозом прогресса, консервативным элементом? Могло быть так, а могло быть и наоборот… он же инженер… представитель техники. Поэтому не исключено и то, что Ганс Касторп примкнет к “радикалам” и даже станет “бунтовщиком”, идущим на разрыв с почтенными традициями прошлого и даже готовым «вовлечь государство в рискованные эксперименты». Так представляются почтенным согражданам возможные вариации судьбы Ганса Касторпа.
Этот прием своеобразного безымянно-коллективного «прогнозирования» (нечто схожее по форме встречалось и
204
в отдельных главах «Будденброков») может быть оценен во всей полноте своего иронически-трагического звучания только в ретроспективе. Ибо весь путь Ганса Касторпа является яркой и последовательной демонстрацией неприятия этих прогнозов, а тем самым традиционного для «обычного» героя воспитательного романа пути.
«…Его путь неожиданно свернул в сторону», — утверждает Т. Манн, имея в виду своего героя. Но в сторону от традиционного направления жанра «свернул» — и это не было неожиданно после «Будденброков» — и сам автор «Волшебной горы».
Уже не исподволь, как в первом своем романе, а смело, демонстративно Т. Манн уходит от «обычных» представлений о характере и масштабе тех сил, которые детерминируют судьбу героя, определяют его жизненный путь, подсказывают нравственный выбор.
«Два дня пути уже успели отдалить этого человека, к тому же молодого,— а молодой еще не крепко сидит корнями в жизни,— от привычного мира, от всего, что он считал своими обязанностями, интересами, заботами, надеждами… подобно времени, пространство рождает забвение; оно достигает этого, освобождая человека от привычных связей с повседневностью, перенося его в некое первоначальное, вольное состояние, и даже педанта и обывателя способно вдруг превратить в бродягу».
Пространство, время, природа — все это уже тогда не просто занимает Ганса Касторпа как предметы размышления или зрительные впечатления, но и предстает перед ним именно как обстоятельства, мощно и властно воздействующие на человека, способные привести к каким-то вполне реальным изменениям в судьбе, психологии и самоощущении. Уже первые страницы книги призваны не зафиксировать оригинальные впечатления путешественника, но утвердить новое понятие «среды» и «обстоятельств», просто несоизмеримое с прежним: формирующими героя факторами становились и стихии природы, и самые общие категории человеческого бытия и сознания, при том, что — как мы уже выяснили — все это отнюдь не исключало свойственной роману остроты и конкретности восприятия исторического времени — духа той эпохи и тех ее всемирно-исторических событий, современником которых является его герой. «Это возношение в области, воздухом которых он еще никогда не дышал и где, как ему было известно, условия
205
для жизни необычайно суровы и скудны, начинало его волновать, вызывая даже некоторый страх… Развертывались величественные высокогорные пейзажи с их священной фантасмагорией громоздящихся друг на друга вершин… область лиственных лесов уже осталась позади, а с нею, вероятно, и зона певчих птиц, и от мысли об этом замирании и оскуднении жизни у него вдруг закружилась голова и ему стало не по себе…» и т. д. Картины природы, встретившей Ганса Касторпа в его поездке, столь же расширительны и неоднозначны, как и образы главных персонажей романа, о которых говорил сам писатель в докладе о «Волшебной горе». «…В подходе к персонажам читатель чувствует, — говорит Манн, — что каждый из них представляет нечто большее, нежели то, чем он кажется на первый взгляд: все они гонцы и посланцы, представляющие духовные сферы, принципы и миры»1.
Этот принцип позволительно, думается, распространить и па неодушевленных «персонажей» романа. Кроме функции описательной, пейзаж в «Волшебной горе» всегда имеет и функцию «символическую», — в данном случае он символизирует приобщение Ганса Касторпа к сфере высокой духовности, к новым отношениям с природой и временем. Значение этого расширительного понимания обстоятельств во всем своем объеме тоже раскрывается лишь в конце романа.
Но самым значительным для самой экспозиции и ее организаторской функции является малоприметная, внешне не акцентированная внефабульная мотивировка ухода Ганса Касторпа в пугающие и манящие его просторы, прочь от «равнины».
Ведь это только формально отъезд Ганса вызван желанием отдохнуть и навестить больного кузена. По существу же он обусловлен непонятным для него самого (ибо он уверен, что любит обычную, «хорошую», «благополучную» жизнь) глубоким равнодушием, вернее, отвращением, которое вызывает в нем будущая деятельность, сулящая столь блестящие перспективы. Причем эта субъективная причина имеет, в свою очередь, серьезное объективное обоснование, самому Гансу Касторпу неведомое вплоть до финальных глав романа: «Человек живет не только своей личной жизнью, как отдельная индивидуальность, но — сознательно или бессознательно — также жизнью целого, жизнью
206
современной ему эпохи… если в том внеличном, что окружает его, если, несмотря на всю внешнюю подвижность своей эпохи, он прозревает в самом существе ее отсутствие всяких надежд и перспектив, если ему открывается ее безнадежность, беспомощность и если на все — сознательно или бессознательно — поставленные вопросы о высшем, сверхличном и безусловном смысле всяких трудов и усилий эта эпоха отвечает глухим молчанием… не дает удовлетворительных ответов на вопросы «зачем»… то как раз у наиболее честных представителей человеческого рода такое молчание почти неизбежно вызывает подавленность».
Вот бессознательные поиски ухода от этой подавленности и определяют уход Ганса в неведомые ему духовные выси. Это «восхождение» принесло огромное обогащение его мысли и чувствам; но при всем том «удовлетворительных» ответов па вопросы «зачем» — так и не было обретено. Ибо Ганс отвергает исчерпавшую свои ресурсы «терапию» санатория («прививки себя себе»), а вместе с нею и свою горделивую умозрительную «правительную» деятельность с ее утопической верой в возможность счастья и добра, «оглядывающегося» на зло, но существующего в непосредственной от него близости.
Тот же вопрос «зачем», определивший некогда разрыв Ганса Касторпа с окружающим и поиски новых «миров», определил его неудовлетворенность и этими последними. «Удар грома», то есть разразившаяся война, явился лишь толчком для внутренне созревшего решения бежать с Волшебной горы, переставшей быть прибежищем от «безнадежности».
Так «симфоническая» экспозиция, вобравшая все в дальнейшем обогащенно звучащие «темы» романа, организует художественную систему, знаменующую новую разновидность романа воспитания. Ее можно было бы условно назвать «романом испытания». В основе его — новое, расширенное, понимание обстоятельств, новая мера интеллектуального и духовного роста героя и его непримиримости с «неспособной к ответам» эпохой, новая мера нравственной ответственности и выбора — моменты, дающие право говорить о дальнейшем обогащении традиций социально-психологического реалистического романа. Ибо и «Волшебная гора», которая нередко предстает в качестве одного из примеров «отхода» и «отказа» зарубежного романа от прямой своей родословной, демонстрирует неисчер-
207
паемость возможностей метода и жанра, верность которым Т. Манн пронес через весь свой творческий путь.
«Волшебная гора» в еще большей степени, чем «Будденброки», способна продемонстрировать, что яркая самобытность, индивидуальная неповторимость манновской поэтики, создаваемой им разновидности жанра, вовсе не приводит к изоляции. Приступая к анализу романа, мы уже упомянули о романе «потерянного поколения» как в чем-то соприкасающейся с Манном линии. После анализа «Волшебной горы» это и другие соотношения могут быть прослежены с еще большей очевидностью.
Оформление многих признаков новаторской структуры западноевропейского романа критического реализма справедливо связывается исследователями с антивоенным романом Ремарка, Олдингтона, Хемингуэя, А. Цвейга, А. Барбюса.
Многое, разумеется, отличает этих писателей друг от друга и от автора «Волшебной горы». Но общим является то, что важнейшие моменты романов и этих авторов, и Манна не могут быть раскрыты в своем настоящем смысле и даже обязательно приобретут смысл, прямо противоположный истинному, если главное значение придавать компонентам «переднего плана» повествования.
Роман о «потерянном поколении» строится из двух слоев, отражающих разные уровни сознания, разные глубины проникновения в действительность. Социальные предпосылки войны, понимаемые или чаще смутно ощущаемые всеми героями этих романов, и постепенное осознание ими несправедливости и уродства общественного устройства раскрываются на втором, формально второстепенном слое, удаленном от фабулы, прямых речей, развернутых размышлений и др. На первом же, формально важнейшем слое война предстает, с одной стороны, в своих беспросветных натуралистически описанных повседневных «буднях», с другой стороны — в «роковом» и «фаталистическом» ореоле, свойственном некоторым рассуждениям персонажей или рассказчиков. Исподволь меняющееся соотношение этих двух слоев, подспудно растущее содержательное и композиционное значение второго, глубинного, — именно в этом, по существу, и заключается все внутреннее движение произведений.
Вот, например, очень характерное в этом смысле место в романе Ремарка «На Западном фронте без перемен». «Я часто стою на посту возле лагеря русских… Они подхо-
208
дят к самой ограде и прижимаются к ней лицом… дышат запахами, которые приносит ветер из степи и из лесов… Кто же из нас сумел бы теперь увидеть врагов в этих смирных людях с их детскими лицами и с бородами апостолов? Каждый унтер по отношению к своим новобранцам… является гораздо худшим врагом, чем они по отношению к нам… Мне становится страшно, мне нельзя додумать эту мысль до конца. Этот путь ведет в бездну… Но я не забуду, о чем я сегодня думал, я сохраню ее в своем мозгу… Я достаю свои сигареты, переламываю каждую пополам и отдаю русским. Теперь у некоторых из них тлеют на лице красные точечки. От них мне становится отраднее на душе: как будто в темных деревенских домах засветились маленькие оконца, говоря мне о том, что за их стеклами находятся теплые, обжитые комнаты».
Здесь очень наглядно выступает сам момент движения. Мысль о враждебности унтера новобранцам вспыхивает ярко, но мимолетно и, испугавшись сама себя, уступает место туманной аллегории о засветившихся окнах в деревенских домах и т. д. И все же социально острая, четкая мысль об унтере и русских хотя как будто бы и отодвинута на задний план, так и не теряет своего первостепенного значения.
Иначе сходная композиция преломляется и определяется в своих функциях у Барбюса.
«И пока мы собираемся догнать других, чтобы снова воевать, черное, грозное небо тихонько приоткрывается. Между двух темных туч возникает спокойный просвет, и эта узкая полоска, такая скорбная, что кажется мыслящей, все-таки является вестью, что солнце существует». Такими строками кончается «Огонь» Барбюса.
«Черное небо» — деталь пейзажа, постоянно, на протяжении всего романа сливающегося с беспросветно-мрачными картинами «окопного ада» фронтовых будней. Но здесь, в конце, она приобретает совсем иную функцию — функцию образа-символа, не относящегося уже к фабульно-бытовому, верхнему слою повествования; она переходит во второй, глубинный, внефабульный и вместе с тем главнейший пласт структуры романа Барбюса. На этом слое, — вернее, в процессе создания специфической двуслойной структуры, — осуществляется внутреннее движение героя, развитие его мысли. Огромна, например, роль, которую играет в строении романа «Огонь» пейзаж, лирические авторские вторжения в повествование, лишенные,
209
однако, всякого дидактизма, а также выступления в роли рассказчика самого автора и т. д. Словом, именно в результате развития свойств новаторской структуры, а не в отрыве от нее, как это иногда представляется, произведение Барбюса, в соответствии с революционными и социалистическими идеалами писателя, утверждает глубокую правду о войне и ее революционизирующем влиянии. По этой же линии определяется соотношение внешнего и глубинного содержания романа о первой мировой войне у А. Цвейга («Воспитание под Верденом»). «Наследуется» и развивается такое строение романа и его содержательные возможности в литературе о второй мировой войне, в которой появляются совершенно новые содержательные аспекты и осложняется художественная форма. Однако в основе структуры произведения по-прежнему лежит двуслойность, незавершенность, «открытость». Сент-Экзюпери, В. Борхерт, исходя из этих принципов, каждый в своей совершенно особой манере, создали новые разновидности военной повести, очерка, рассказа.
Мы говорим о столь далекой преемственности не только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, насколько тесно примыкает манновский роман к руслу современной литературы. Не менее важно отметить, что в творчестве самого Манна от «Волшебной горы» тянется нить не только к «Иосифу и его братьям», но и к обобщившему во сто крат усложнившийся опыт второй мировой войны «Доктору Фаустусу»1.
Это крупнейшее произведение позднего Манна непосредственно выходит к центральной проблеме всего его творчества. «Доктор Фаустус» создает в прямой преемственности и с образом Ганно Будденброка и с преодолевающим власть ближайших обстоятельств и стремящимся к «правительной» деятельности Гансом Касторпом концепцию нравственно ответственной личности, в оригинальнейшей форме обобщившую национальный и исторический опыт эпохи.
III. Современный человек в призме
мифа и истории
Почти семнадцать лет работал Т. Манн над романом «Иосиф и его братья», состоящим из пролога «Сошествие в ад» (1926) и четырех частей: «Былое Иакова» (1933), «Юный Иосиф» (1934), «Иосиф в Египте» (1936), «Иосиф-кормилец» (1943). Перед обращением к заключительной части он отвлекся от этого гиганта, написав за три года сравнительно небольшой роман «Лотта в Веймаре». А закончив заключительную часть «Иосифа», сейчас же приступил к «роману эпохи» — «Доктору Фаустусу».
Огромный роман-миф, который включил в себя не только библейский сюжет, но и поднял целый массив восточного и западного фольклора, находится в самом тесном соседстве с романом, воссоздающим «анекдот» из жизни Гете, и с произведением о судьбе и творчестве современного художника.
Несхожесть в предмете изображения, в теме, объеме не исключает того, что эти романы Т. Манна связаны между собою нитями еще более крепкими и органическими, чем предшествующие.
В основе этой связи — исторические, биографические и собственно эстетические причины. «Иосиф» (в основных своих частях), «Лотта», «Доктор Фаустус» создавались в годы борьбы с фашизмом, когда и личная жизнь Манна, и его общественная деятельность, и творчество были подчинены попыткам противодействовать «зловещей лжи», которая имела столь большое значение для судеб его родины и всего мира. Глубокую боль испытывал Манн, понимая еще задолго до своего вынужденного отъезда из Германии, «что надвигается» на его родину, и наблюдая слепоту «немецкого бюргерства». Стыд и гнев угнетали его в последующие годы, когда, ежечасно следя за положением дел в Германии, он видел «непоправимое зло», которое причинял «ду-
211
шам и умам людей, праву и истине, людям и человеку» ненавистный ему «человеконенавистнический режим… Ничего не понимающий в требованиях истории»1.
«Германия — это мука». Так написал Т. Манн в своем дневнике в период самых драматических сражений на фронтах второй мировой войны и в разгар работы над «Фаустусом». И эта краткая запись сказала и о том, что политика Германии — постоянный источник собственных его страданий; и о том, что нынешняя Германия стала источником страдания для народов мира и своего собственного народа; и о том, что даже радость надвигающейся победы над фашизмом осложнена страданием от сознания: она не разрешит проблемы вины и ответственности как проблемы внутренней, отдельного человека касающейся.
Ситуация 30—40-х годов воспринимается Манном в нерасторжимости единства исторического и этического ее аспектов. «Необычайную этическую важность всего того, что происходит в Германии»2, Манн подчеркивал еще в конце 30-х годов, в пору работы над центральными главами «Иосифа», на подступах к «Лотте в Веймаре». В годы создания «Доктора Фаустуса» драматизм восприятия современности, современного человека (в обоих этих аспектах), естественно, повысился, обострился. Недаром сам Манн так ясно ощущал органичность преемственности между «драмой об Иосифе»3, как однажды назвал он свое произведение, и трагическим «Фаустусом».
Вполне очевидно, что исключительное значение на пути познания настоящего приобретает для автора этих романов обращение к прошлому — самому отдаленному, лишь мифологией сохраненному, и ближайшему — чтимому и любимому Т. Манном XIX веку, фигурой Гете олицетворенному.
Демонстративно само название «романа-итога»: «Доктор Фаустус». Фаустовская тема, в каких-то своих аспектах сказавшаяся в «Волшебной горе», а в негативном плане прошедшая через все стадии замысла «Признаний авантюриста», разворачивается теперь в главном своем содержании: в исследовании диалектики добра и зла, созидания и разрушения, как самого исконно-вечного и вместе с тем исторически-изменчивого начала, присущего человеческой жизни и самому человеку, ибо человек призван к
212
активному вторжению в борьбу добра и зла, наделен потребностью искать истину и нести ответственность за свои поступки.
«Фауст» — это символический образ человечества, и чем-то вроде такого символа стремилась стать под моим пером история об Иосифе»1, — категорически утверждает Манн, недвусмысленно приобщая свой мифологический роман к фаустовской этической проблематике. Ибо Иосиф, тут же поясняет Манн, несет идею «горделивого» утверждения «я» как главного «героя драматической повести своей жизни»2, то есть идею активной позиции человека.
Демонстративное вторжение проблематики «Иосифа» в гетевскую тему совершается в «Лотте в Веймаре», — этот «маленький роман» играет роль как бы интермедии между двумя крупными произведениями.
Напомним в нескольких словах фабульную канву романа. В «город Гете» приехала Шарлотта Кестнер (урожденная Буфф), в ту пору уже старая женщина, вдова и мать многочисленного семейства. Она воспринимается всеми веймарцами как Лотта из «Страданий молодого Вертера». Да и она сама чувствует себя в этой роли, хотя после вертеровского эпизода, со времени которого прошло более сорока лет, не виделась с Гете. Секретарь Гете — доктор Ример, Адель Шопенгауэр — приятельница невесты сына Гете — Августа, сам Август и другие лица из окружения Гете атакуют Шарлотту в гостинице и ведут длинные беседы, героем коих неизменно является Гете.
Суждения о великом художнике в речах этих персонажей сводятся к его «антипатриотической» позиции во время войны с Наполеоном, «неприличному» браку и холодности к близким и далеким людям. Собеседники Шарлотты далеки от понимания сути Гете. Но это не мешает тому, что в отдельных суждениях завязывается проблемный узел его характеристики, имеющий непосредственное отношение к центральной мысли романа.
«…Из одного глаза у него глядят небо и любовь, из другого — ад ледяного отрицания и уничтожающего равнодушия»,—утверждает Ример. И далее прямая аналогия с библейским Иосифом: «… в конце Книги Бытия… говорится, что Иосиф благословен господом, и благословениями небесными свыше, и благословениями бездны, лежащей
213
долу». Сравнение должно подтвердить, что личность крупная, художественно одаренная причастна «адскому»: она входит в противоречие с общечеловеческими нормами морали и рассматривает других людей как средство достижения своих, единственно существенных для нее творческих целей. Такова в тех или иных вариациях повторяемая всеми собеседниками Шарлотты версия личности Гете, а вместе с тем концепция художника и даже человека вообще. Ибо, по мысли философствующего Римера, в творчески одаренной, незаурядной личности сгущенно, масштабно повторяется извечная двойственность человека: происходящая в нем борьба между небом и адом, между любовью к людям и себялюбием. Нет нужды специально комментировать, насколько близка вся эта проблематика «Иосифу» и как органично предвосхищает она «Фаустуса».
«Версии Гете», выдвигаемой его окружением, противостоит взгляд на Гете наивной и смешной своей приверженностью прошлому Шарлотты. Ее «концепция» Гете основывается на сорокалетней давности записке, которая гласила следующее: «А я, милая Лотта, счастлив, читая в ваших глазах веру в то, что я никогда не переменюсь».
В этом признании, так же как во всех своих воспоминаниях, Шарлотта усматривала доказательство того, что она была для Гете не одной из мимолетных встреч, ставших стимулом к творчеству, что вертеровский сюжет имел непреходящее, абсолютное человеческое содержание. Иначе говоря, Шарлотта отрицает безнравственность Гете как личности, как художника, а тем самым и римеровскую концепцию принципиальной «двуликости» человека вообще, извечную для человека «склонность» считать себе подобных средством, а не самоцелью.
Наивная Шарлотта, не выходя из своего фабульного амплуа, не теряя исторической своей достоверности, представительствует вместе с тем от принципиальной для Т. Манна и остро полемичной для его (и не только для его!) эпохи концепции человечного человека.
Столкнувшиеся в начальных главах романа точки зрения на Гете (представленные Римером и Шарлоттой) должны, по логике композиции романа, найти опровержение или подтверждение в главах с участием самого Гете. Прежде всего — в его пространном внутреннем монологе, построенном по принципу «потока сознания»1, в котором
214
прихотливо и естественно перемежаются повседневные заботы, воспоминания, творческие замыслы, проницательные оценки окружающих людей и принципиальные суждения относительно своих идейных и жизненных позиций. Монолог этот, построенный, по свидетельству самого Манна, отчасти на «подлинных и документально засвидетельствованных высказываниях Гете»1, отчасти вымышленный, раскрывает прогрессивность политической позиции Гете, его оппозиционность к царящей в обществе атмосфере неуважения к личности, реакционных предрассудков, шовинистического угара; монолог воссоздает богатство духовного мира художника, неиссякаемость творческих возможностей и стойкость в одинокой непримиримости к окружающим. «Нет, не буду примиряться», — заключает свои размышления Гете.
Логикой внутреннего монолога воссоздается облик богатой, сильной, цельной личности, которая явно не укладывается в зловещую схему разорванности художника и человека между небом и адом. Но, играя очень большую содержательную и композиционную роль в этом романе, внутренний монолог не исчерпывает характеристики Гете, не несет полной правды и окончательной истины о нем. Важный вопрос «спора» между Римером и Шарлоттой,— способен ли Гете признать в людях, связанных с ним человеческими отношениями, не «средство», а «цель», обладает ли он «памятью сердца», человеческой памятью, о которой писал когда-то Лотте, иначе говоря, нравственен ли великий художник, крупная личность, — остается пока открытым.
Следующая глава, рисующая прием в доме Гете, на котором наивная старая Шарлотта появляется в туалете вертеровской поры, не вносит ничего нового в освещение этого вопроса. Зато обогащает представление о скрытом под маской «олимпийства» непримиримом конфликте автора «Фауста» с внешне послушными его воле, но внутренне чуждыми и не понимающими его людьми.
Целиком посвящена отношению Гете к Шарлотте, а вместе с тем проблеме абсолютной ценности человека последняя глава. После приема у Гете, никак не разъяснившего их отношения, Шарлотта получила от своего «вецларского друга» приглашение посетить театр. Он не сопровождал ее; но, возвращаясь из театра, она неожиданно обна-
215
ружила его присутствие рядом с собою, в карете; по раско- ванности, по пренебрежению всякими условностями, по теплоте и грусти тона разговор этот, напоминает беседу Ганса Касторпа и Клавдии Шоша в новогоднюю ночь; речь идет и о прошлом, и о настоящем — о неизбежных и печальных внешних и внутренних метаморфозах, которые принесли обоим годы.
Несколько раз затрагивает Шарлотта вопрос об отношении Гете к людям — к тем, кто его сейчас окружает, к ней самой, к героиням его прошлых увлечений. Но ответа на этот вопрос в речах Гете фактически не содержится. И в обращенных к себе самому размышлениях, и в необычной беседе с «подругой» Гете обсуждает вопрос о художнике, а не о человеке. Он утверждает, что жизнь творческой личности состоит из цепи отречений и самосожжений во имя искусства, которое является не чем иным, как формой служения человечеству.
Решение «загадки» человеческой сущности Гете и его отношения к человеку и не может быть дано, по Манну, в умозрительной форме. Человеческий потенциал личности определяется — это приоткрыто уже в «Волшебной горе» и «Будденброках» — не думами, а поведением, решениями, поступками. Не тем, что сказал Гете самому себе, своим гостям или Шарлотте, а тем, что он очутился рядом с нею в карете, решается спор между Римером и Шарлоттой в пользу последней.
«Меня… радует… это ваше решение и сюрприз, который вы мне уготовили», — говорит Шарлотта, услышав из глубины кареты голос, который «некогда читал Кестнеровой невесте из Оссиана и Клопштока». И в этой простой реплике оттенена очень существенная для зрелого Манна проблема поступка, поведения.
В «маленьком романе» столь же рельефно намечены контуры этой проблемы, как и то, что она далека от разрешения. Недаром сцена в карете проблематична в самом своем освещении: реально ли присутствие Гете в углу кареты или оно — плод воображения Шарлотты? Читателю предоставляется возможность решать этот вопрос по собственному усмотрению. Тем самым автор «Лотты в Веймаре» дает понять, что в данном случае важна не «дорисовка» облика Гете и не то или иное разрешение его отношений с некстати возродившейся Лоттой. Важно прежде всего утверждение первостепенности значения нравственной проблемы как таковой — и тогда, когда изображается
216
личность масштабов Гете, и тогда, когда в поле зрения художника оказывается личность, олицетворяющая, как Шарлотта, «обычную», среднюю человеческую норму. Именно острота, с которой проблема поведения выдвинута в «маленьком романе», определяет его значение как «вставки» между центральными и заключительными частями «Иосифа» и как предвестника «Доктора Фаустуса». Предвещающи в этом смысле и повышенные в своей значимости формы повествования — «сказа»; они воссоздают сам способ мышления людей прошлого века и играют роль своеобразной призмы, преломляющей проблемы современности.
Всем этим «Лотта в Веймаре» отчасти предвещает «Фаустуса». Вместе с тем «Лотта» выводит на поверхность, проецирует на более близкий объект изображения проблематику «Иосифа», подтверждает его причастность фаустовской проблеме.
Содержание гигантских творений позднего Манна — «Иосифа и его братьев» и «Доктора Фаустуса», типологические черты утверждаемой в них формы трагедийного конфликта и общее значение нравственно-эстетического аспекта исследования современности, которое в них осуществляется и благодаря которому они оказываются вовлеченными в широкое русло современного литературного процесса, — все это может быть осмыслено в связи с самым широким общественно-историческим и литературным фоном.
Не только непосредственно вторгающийся в современность «Фаустус», но и «библейский эпос» об Иосифе неотделимы от общественной и литературной ситуации, от двух тесно связанных между собой этапов борьбы с «человеконенавистническими» формами жизни, которые представители современной «скверны» пытались навязать Германии, Европе и всему миру.
«ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ»
Проблема ответственности
Новая форма конфликта и ее типология
Перефразируя приводившееся выше высказывание Т. Манна, можно сказать, что понимание «необычайной этической важности» всего того, что происходило в мире в
217
период 30—40-х годов, сближает во многом очень разных писателей той поры1.
В период, отмеченный ростом сплоченности всех поборников прогресса, гуманизма и демократии, готовящихся к битве с фашизмом, приобретает особое значение проблема возможностей человека, его ответственности и его стойкости. В литературе реализма она воплощается в исследовании глубоких духовных потенций человека. Отсюда — присущее и зарубежным, и советским писателям сочетание жгучей заинтересованности в современности со стремлением обратиться к далекому и недавнему прошлому как источнику знаний о человеке и арсеналу художественных форм, эти знания воплощающих. Уже в статьях «Народный театр», говоря о перспективах развития французской литературы, Р. Роллан высказывал пожелание, чтобы она «более серьезно занялась трагедией каждодневной жизни и попыталась раскрыть ее извечную основу… Величайший из французских драматургов, романист Бальзак показал нам пример. Окружающая жизнь таит в себе не только поэзию, но и фантастические силы, действующие в античных легендах».
Здесь характерны три взаимосвязанных положения: убеждение, что трагизм «таит» в себе повседневная действительность; утверждение необходимости обращения к «извечному» в жизни и человеке, а также к самым древним художественным формам; интерес к открытому реализмом прошлого века парадоксальному «вхождению» драмы в роман.
Суть и пафос этого программного для французской литературы высказывания отчасти повторен Ролланом в 1934 году в обращении к советским писателям. Оно заканчивается словами: «Пусть вновь выйдут на поверхность… глубинные течения жизни такими, какими они вырываются в великих творениях Шекспира и Эсхила»2. Мысль Роллана близка Горькому. «Мы вступаем в эпоху, — говорит Горький на I Съезде советских писателей, — полную величайшего трагизма, и мы должны готовиться, учиться преображать этот трагизм в тех совершенных формах, как умели изображать его древние трагики»3.
218
Высказывание это соответствует пафосу всего горьковского доклада. Вспомним, например, утверждение, что не мысль, не чувства, а свершения: работа, творчество и вообще всякое деяние — предстают в новой литературе как «стержень» личности, как основной критерий ее оценки и вместе с тем как формообразующий центр создаваемого образа. Или мысль о том, что, рисуя образ человека определенного класса, образ, глубоко социально и исторически обусловленный, советская литература вместе с тем как бы заново открывает человека «вообще», в каких-то чертах его общечеловеческой первозданности[60]. Отсюда — естественность соотнесения с «младенческой» эпохой Греции. И притом именно с трагедией — формой, рожденной «в условиях… роста общественного сознания… граждан… приобщившихся к сознательной общественной жизни», и решающей «вопрос о собственной деятельности человека, о его ответственности за свои поступки»1[61].
Высказывания Горького и Роллана обобщают реальные процессы, характерные для литературы, стоящей на пороге «эпохи величайшего трагизма». В западноевропейском романе освещение проблемы ответственности и поиски соответствующей ей формы конфликта происходят у писателей самых разных по своим национальным и индивидуальным особенностям, создающих полюсно отличные друг от друга разновидности жанра. Достаточно назвать имена Роллана, дю Гара, Фейхтвангера, Г. Манна, Нексе, Брехта, Бехера, Т. Манна. Для немецкой литературы особенно характерна тенденция обращения к историческим, литературным, фольклорным, религиозным сюжетам и образам (Фейхтвангер, Г. Манн, Брехт, Ст. Цвейг).
Во французской литературе новая проблематика и формы осваиваются в характерном для ее традиций социально-бытовом или социально-политическом романе. Общечеловеческий аспект этической проблематики освещается сравнительно слабее. В романе дю Гара «Семья Тибо» трагедия заблуждения и расплаты за него, по-разному выразившаяся в судьбе братьев Тибо, воплощена, так же как в монументальных полотнах Роллана или Арагона, в конфликте большого общественного масштаба, неотделимом от общенационального события. Так приоткрывается соотношение тенденций, характерных для западноевропейского романа,
219
и намечаются точки его соприкосновения с процессами, происходящими в советской романной классике. Поиски новой формы конфликта, воплощающего сущность современной эпохи и вместе с тем восходящего к глубоко традиционным понятиям о трагическом, с неотъемлемой для него проблемой человеческой активности, поступка, заблуждения, нравственной ответственности, играют большую роль в советской литературе. Проблематика эта характерна для всех крупных ее представителей, с Горьким и Шолоховым во главе.
Предваряя анализ, можно сказать, что особенно интересны с точки зрения нашей проблемы и продуктивны с точки зрения типологических сопоставлений написанные почти одновременно с «Иосифом и его братьями» огромные эпические полотна: «Семья Тибо» и «Тихий Дон». В «Иосифе» блестяще раскрывается способность Манна не подчинить мифологический сюжет непосредственно злободневной проблематике и вместе с тем не растворить его в абстракциях. Аспект современности, проблема человека XX века все время присутствует в избранном Манном широком этическом ракурсе. Причем о глубине познавательных возможностей и границах манновской интерпретации этого последнего свидетельствует именно органическая соотносимость некоторых сторон проблематики и форм его романа с названными здесь значительнейшими произведениями реализма XX века. Ниже мы попытаемся доказать это на конкретном материале. А пока обратимся к «Иосифу».
Советские исследователи доказали, что тетралогия Т. Манна является «битвой на территории врага». Область мифа, широко используемая для утверждения идеологии фашизма и походов против реализма, служит здесь защите принципов гуманизма и поискам новых путей в реализме. В докладе, посвященном истории создания «Иосифа и его братьев», Т. Манн говорит, что обращение к библейскому сюжету было в конечном счете «продуктом… времени в… широком и общем смысле слова, продуктом нашего времени, эпохи исторических потрясений, причудливых поворотов личной жизни и страданий, поставивших перед нами вопрос о человеке, проблему гуманизма во всей ее широте, и возложивших на нашу совесть столь тяжкое бремя, какого, наверное, не знало ни одно из прежних поколений». Развивая эту мысль, Т. Манн показывает, как «свойственная книге трактовка мифа по самой своей сокровенной
220
сути отлична от небезызвестных современных приемов его использования», ибо «здесь он весь»,— вплоть до мельчайшей клеточки языка, — пронизан идеями гуманизма»1.
Легенду об Иосифе Египетском писатель рассказывает «средствами современной литературы, всеми средствами, которыми она располагает,— начиная с арсенала идей и кончая техническими приемами повествования»2. Т. Манн подробно характеризует осуществляемую им систему повествования, в которой эпически-«наивная» объективность сочетается с тонким юмором, пластичность картин и красочность деталей — с ученым комментированием, в свою очередь, снабженным прямыми «публицистическими» авторскими вторжениями, вносящими элемент «анализирующей эссеистики… литературной критики, научности». Он отмечает переплетение эпического начала и наглядно-драматических сцен; рисует пестрый и вместе с тем гармонический и стройный стилевой «ковер» романа, замечая, что «все европейское составляет… лишь его передний план, точно так же как древнееврейская интонация повествования является лишь передним планом, лишь одним из равноправных элементов стиля, лишь одним из слоев его языка, в котором так странно смешаны архаическое и современное, эпическое и аналитическое», а также напластования «всех мифологий мира… еврейской, вавилонской, египетской, греческой»3.
Авторский разбор, помогая войти в специфическую атмосферу этого сложного произведения, освещает и общие черты столь типичной для реалистического романа XX века многослойной структуры, не вдруг обнажающей основную мысль, маскирующей ее целым рядом внешних «подступов» — и в сфере стиля, и в манере повествования, и в области конфликта.
Уместно здесь и еще раз вспомнить приводившееся во введении утверждение Т. Манна: «…Если говорить о стиле, признаю, собственно, только пародию. В этом я близок Джойсу»4 — и наше обещание вернуться к этому высказыванию. Даже из приведенных нами выше авторских характеристик «Иосифа» очевидно, что пародия является лишь
221
одним и отнюдь не главным из стилеобразующих начал романа. Ибо более существенным для стиля «Иосифа» является сочетание сказочности и достоверности, наивной серьезности и лукавого юмора, которое ощущается в его словесной ткани. К такому сочетанию обязывала автора, по собственному его признанию, необходимость создания ощущения дистанции между материалом, который он воспроизводил, и современностью — с одной стороны, и стремление к максимальному правдоподобию, к жизненности всего того, что им рассказывалось,— с другой.
Не вторгаясь в сложнейшую проблему стиля манновского романа в целом1 отметим, что не только пародия, но и юмор не играет в нем абсолютной и самодовлеющей роли: он призван оттенять «вполне серьезный подход к героям и их страстям» и вместе с тем обеспечивать соблюдение дистанции между автором и его необычными героями. Именно в этих оттенениях, сочетаниях и находит свое воплощение не абстрактно-извечное, а общечеловеческое содержание легендарной фабулы, которая послужила Манну канвой для воплощения волнующих его проблем и коллизий. Схема мифологической фабулы служит как бы усиливающей линзой современного по своему содержанию и структуре конфликта, создающего концепцию поступка, сосредоточенную на нравственных началах и все же выходящую в сферу общественно-историческую.
Лишь в двух словах характеризует Т. Манн мифологическую историю, которая легла в основу произведения,— «скупая, как репортаж». Но определение это, однако, весьма существенно; оно говорит о том, что самой главной чертой легенды был для Т. Манна ее действенный характер. Лаконичное, динамичное повествование, слагающееся из цепи событий, действий, поступков, вот что значит «репортаж».
Специфичность манновского восприятия этой легенды выступает с особенной отчетливостью при сопоставлении с отзывами о ней других художников. Гете в «Поэзии и правде», Л. Толстой в трактате «Что такое искусство?»,
222
Достоевский в «Братьях Карамазовых», в рассуждениях старца Зосимы, оценивают легенду об Иосифе с точки зрения ее эмоционального воздействия, чувств героев, яркости и общедоступности их впечатляющих образов.
Слово «репортаж»1[62], употребленное Т. Манном, говорит о переключении восприятия легенды об Иосифе из плоскости «характеров» и «психологии» в плоскость событий, поступков, столкновений. На основе каймы первобытного «репортажа» создается сложная система взаимосвязанных художественных коллизий, составляющих конфликт современного романа. Именно «безыскусственность» материала, использованного Манном, делает его роман своеобразной лабораторией, позволяющей наблюдать сам процесс осуществления типа современного романного конфликта в присущей ему тенденции выделить поступок как самое главное и самое проблематичное[63] свое звено. Уже первый том — «Былое Иакова» — призван не только создать фабульную предысторию жизнеописания Иосифа и ввести читателя в своеобразнейшую атмосферу повествования. В части о Иакове намечается то понимание конфликта, которое, художественно воплощаясь в судьбах персонажей и одновременно обсуждаясь авторским комментарием, будет полностью развернуто в центральных частях романа, до самого конца не утерявших связь с основными эпизодами своей «предыстории».
Первостепенный интерес в этом отношении имеет раздел «Иаков и Исав»: эпизод обманным путем полученного Иаковом отцовского благословения на первородство, которое по праву принадлежало старшему его брату — Исаву; описание бегства Иакова и расправы, учиненной над ним племянником — «мальчишкой» Елифазом, который заставил его пройти через великие унижения, прежде чем сохранил ему жизнь и, начисто ограбив, удалился; и наконец сон Иакова о его «божественном» возвышении, непосредственно следующий за сценой с племянником — «самым плачевным и оскорбительным из всего, что вообще случалось в жизни Иакова»2[64]. Ибо Иаков не только не оказал сопротивления, по превзошел всякую меру унижения в своих мольбах о пощаде, понимая, что, поступая так, он может спасти себе жизнь.
223
Многократно подчеркнутая постыдность поведения Иакова создает контрастный фон для возвышающего сна. Дело, конечно, не в самом сне, в котором Иаков предстает перед богом и получает «личные» заверения в особой благосклонности к нему и его потомству. Сон подан писателем как выражение духовных сил Иакова, его внутренней сущности: «…после нескольких часов глубокого забытья голова его была вознесена от всякого позора к величественнейшему видению, где соединились все таившиеся в его душе представления о царственном и божественном, которыми она, эта униженная, но втайне смеявшаяся над своим унижением, душа, наполнила, чтобы утешиться и подкрепиться, пространство своего сна». В противопоставлении сна и яви ударение сделано не на разрыве мечты и действительности, а на соотнесении поступка — и торжествующей над ним («смеявшейся над своим унижением») души (см. Bd. 3, S. 137).
Поступок как нечто внешнее по отношению к сущности человека, неадекватное ей, случайное и «бедное» сравнительно с душевной жизнью,— такой разрыв, такое унижение одного за счет другого проблематично и иронически заостряется в первой же коллизии «предыстории» романа. В том же плане намечается здесь и понимание «обстоятельств»: они целиком определяют поступок, но не затрагивают души. Определяемый внешними обстоятельствами поступок и свободная от них, преисполненная божественными представлениями и стремлениями, душа — таковы выявляющиеся в конфликте координаты человеческой личности. Пока именно координаты, а не полюса: личность не разорвана между двумя непримиримыми началами; для нее они предстают неравноценными и неравноправными: свою ценность личность определяет внутренними ресурсами; душа торжествует над случайностью внешних обстоятельств.
Целиком определены обстоятельствами, исчерпаны поступком лишь такие безусловно отрицательные персонажи как «буйные близнецы» — Симеон и Леви, учинившие погром Шекема, или Лаван, у которого Иаков прослужил семь лет за дочь его Рахиль и столько же после женитьбы на ней и которым он был так «жестоко и позорно обманут» в день долгожданной свадьбы. Применительно к Лавану проблема исчерпывается такой самохарактеристикой: «Глупости!— ответил Лаван. — Я суров настолько, насколько мне это позволяют обстоятельства, а если обстоятельства того требуют, то я мягок». Части романа, посвя-
224
щенные годам «рабства» Иакова («На службе у Лавана», «Сестры» и «Рахиль»), не только развивают, но и существенно обогащают и осложняют соотношение внешнего и внутреннего начал (поступка — души) в конфликте, а вместе с тем и сам конфликт. «…Лии принадлежала действительность, а помыслы принадлежали Рахили»1. Так весьма отчетливо сформулирована Лаваном суть ситуации, возникшей в результате совершенной им «бесовской замены» долгожданной, единственно любимой Рахили на ее старшую, не отличающуюся «миловидностью» и потому столь ревностно опекаемую родителем сестру — Лию, с которой обманутый Иаков провел первую брачную ночь. В рассказе об этом эпизоде присутствуют самые тонкие оттенки манновского юмора, подчиненного, как и во многих других местах произведения, не «размыванию» авторской позиции и внесению в нее релятивистской уклончивости2, а выявлению и заострению коллизии, открытию в ней превышающей фабульную ситуацию углубленности.
В иронически освещенном эпизоде «подмены» поступок решительно отделен от сущности совершившего его человека, вернее, даже не отделен, а резко противопоставлен ей. Поступок — вне человека, он целиком обусловлен обстоятельствами, а не затронутая ими душа («помыслы») и здесь, казалось бы, доказывает способность «смеяться над своим унижением»: ведь Рахиль на всю жизнь осталась для Иакова единственно «праведной», единственно любимой не только при жизни, но и после смерти, — чувства к ней распространились на двух сыновей, и особенно на походившего на мать красавца Иосифа. И все же очевидно, что торжество надменности духа над поступком отнюдь не безусловно: Лия и ее дети остаются «действительностью». И именно в этом своем качестве — «как противостоящая душе», «помыслам», «вознесению главы» — действительность участвует и в смерти Рахили, и в жизни Иакова и Иосифа.
«…Теперь, — говорит Лаван Иакову, — я научил тебя помышлять и о Лии». И в этой фразе, проникнутой, с
225
одной стороны, тупым лавановским злорадством, а с другой стороны, трагическим сарказмом автора, содержится грозное предварение: поступок не так-то просто «отделяется» от человека. Обстоятельства (олицетворяемые Лаваном), заставив человека совершить нечто, даже помимо его воли, объективно не остаются внешними по отношению к его «помышлениям»; соотношение: действительность, обстоятельства, поступок — и душа, помыслы, стремления чревато огромными трагическими осложнениями, проходящими через всю историю человечества, которая, собственно, и является содержанием «прекрасной придуманной богом истории об Иосифе и его братьях». Мы видим, что «лавановские» части вносят немалые осложнения в форму конфликта: он теряет локальность, как бы «перерастая» место и время своего возникновения, «обрастает» такими понятиями, как последствия поступка, субъективное преодоление и объективная непреодоленность обстоятельств, а тем самым и новый — объективный — ракурс их отношений с «душой». Все это уточнится, разовьется, получит новые многочисленные «ответвления» и наполнится, соответственно, новыми содержательными аспектами в центральных частях романа, главным лицом которых является сын «миловидной» Рахили — Иосиф.
В части «Юный Иосиф» нельзя не ощутить атмосферы немецкого воспитательного романа конца XVIII — начала XIX века — традиции, с которой Т. Манн так или иначе «сводил счеты» едва ли не в каждом своем произведении. Повествуется об учении и в прямом смысле: основам тех знаний, которыми располагал тогдашний мир, Иосифа обучал старший раб Елиезер; и о том, как складывался характер и развивался ум юноши под влиянием самых разнообразных впечатлений жизни, прежде всего — родовых преданий и неотделимых от них религиозных представлений. Ибо Авраам, от которого Иаков начинал свою родословную, был вместе с тем и основателем иудейства — религии, противопоставившей себя языческим культам и проповедующей единого бога, сотворившего мир и человека и не слившегося ни с одним из своих творений.
Но более всего контуры западноевропейского романа прошлого века проступают сквозь «придуманную богом историю» в расстановке персонажей и некоторых чертах конфликта, которые служат как бы отправной точкой для особенно явственных именно в этой сфере расхождений с традицией. Юный Иосиф, сын «миловидной», «пра-
226
ведной» Рахили, является тем центральным лицом, которое (так же, как герой воспитательного романа) выделяется среди своего окружения в силу нравственных и умственных качеств и противостоит ему. Расстановка всех действующих лиц определяется их отношением к Иосифу. С одной стороны оказываются обожающий его Иаков и самый младший из братьев, второй сын Рахили — Вениамин или Бенони (это значит «дитя смерти»: его рождение было причиной смерти матери), с другой — ненавидящие его остальные братья (сыновья Лии и служанок), среди которых первый по старшинству — Рувим и четвертый — Иуда были настроены более мягко сравнительно с непримиримостью других. «Разойдемся же в разные стороны, — решил Рувим,— потому что, пока мы вместе, нам не избежать новых пререканий и недоразумений. — Они разошлись, десятеро и один».
Этот отрывок вполне передает ту графическую четкость, с которой Манн рисует отношения Иосифа и братьев,— ситуацию первобытно-наивную и вместе с тем осложненную вековыми напластованиями, литературными ассоциациями и злободневно-острыми исканиями современных художников. И в произведениях романтизма начала прошлого века, и в сменившем его европейском реалистическом романе, вплоть до современных нам десятилетий, происходит именно такое «расхождение»: один противостоит многим— «десятеро и один». Причем расхождение предшествует прямому столкновению. Оно определено теми внутренними преимуществами, которые отличают «одного» от «многих». Братья сравнительно легко прощали Иосифу неучастие в общих работах, близость к отцу и даже его всегда происходящее как бы «невзначай» доносительство на них. Но они не могли простить ему «вещих снов». Ибо последние были, так же как сны Иакова, выражением «таившихся в его душе» внутренних возможностей. Они содержали предвестие «вознесения», то есть свойственные ему стремления к чему-то новому, неизведанному, необычному. Всем этим братья не обладали. Отсюда — двойственность отношения к Иосифу, которую «раздражающе ощущал» каждый из братьев. «Я не трус, — говорит Гаддиил, — но у меня почему-то щемит под ложечкой… Уж не склониться ли перед ним? У меня так и вертится на языке слово «склониться»… Поэтому-то у меня и руки чешутся ударить его». Ненависть, питаемая внутренним превосходством Иосифа, присуща всем
227
братьям: она согревающе всех сплачивала, так что даже их ярость дышала довольством согласия»[65].
Так обосновывается, углубляется в романе ситуация «расхождения» одного и многих, легшая в основу бесчисленного множества произведений мировой литературы, с пламенной страстью защищающих противостоящую косной и бездуховной среде одинокую личность. Точку соприкосновения с традицией можно усмотреть и в том, что Иосиф стоит перед необходимостью «приспособления к среде» и делает на этом пути ряд шагов: начинает принимать участие в общих работах, благоразумно умалчивает о некоторых особенно «возносящих» его снах и пр.
Но именно благодаря искусно создаваемым Т. Манном сближениям и ассоциациям с традицией, в «Юном Иосифе» особенно отчетливо выступают качественно новые черты конфликта. Прежде всего — новое место поступка, вызывающего непосредственное столкновение, определяющего отношения сторон и до конца выявляющего главного героя. В этом состоит самое основное и центральное расхождение формы конфликта «Иосифа» с постоянно подразумеваемой Манном западноевропейской романной традицией. Ведь в «историях молодого человека» XIX века разрыв со средой определялся не в поступках: поступки героя, во всяком случае, в основных частях этих «историй», были направлены не к обострению конфликта, а к приспособлению к среде. Противодействие ей существовало как противодействие внутреннее — в тех то дремлющих, то пробуждающихся человеческих чувствах, которые были присущи Жюльену Сорелю, Люсьену Рюбампре, Рафаэлю Валантену вопреки влиянию буржуазной действительности и стремлению приспособиться к ней. Самоубийство Люсьена, речь на суде Жюльена — эти акты отчаяния завершают историю героя, но не формируют конфликта. Основным и принципиальным для романа XIX века оставалось противопоставление поступков героя и его сущности: поступок не раскрывает, а скорее скрывает сущность человека; поступок — это сфера обстоятельств, а сущность человека — это сфера его естественных, исконных качеств, обстоятельствами искажаемых. Действительность и человек постоянно поляризуются как диаметральные эстетические категории1.
228
Вывод, сделанный на анализе некоторых произведений «натуральной школы», имеет прямое отношение и к процессам, происходившим в западноевропейском романе. Именно специфическая «поляризация» определяла такие черты конфликта, как его (условно говоря) бездейственность, то есть сосредоточенность не на поступке, а на внутренней сущности человека, вступающей в неравное единоборство с искажающими ее внешними силами.
В романе великих русских реалистов второй половины XIX века соотношение внутреннего мира человека и его поступков, проблема ответственности и перед обществом, и перед судом собственной совести, вопросы объективной необходимости и нравственной свободы предстают в исключающем «поляризацию», сложно опосредованном взаимодействии. Художественные решения названных проблем, даваемые Толстым и Достоевским, непосредственно предваряют искания большого романа XX века, сосредоточенного на значении поступка человека в современной общественно-исторической ситуации и новом понимании его роли в художественном конфликте.
В романе Т. Манна унижение поступка перед душой с самого начала проникнуто иронией, проблематично, не признано окончательным.
Отношение поступок — душа, обнаружив высокий потенциал конфликтности уже в первой части тетралогии, переходит в повествование о юности Иосифа. К рассмотрению последнего мы и возвращаемся после настойчиво «подсказываемого» самим Манном экскурса в прошлое столетие.
Внутреннее расхождение Иосифа с братьями при внешней к ним приспособляемости служит лишь экспозицией. Оно не становится основной движущей силой конфликта и не образует его центра. Разрыв весьма быстро сменяется непосредственным столкновением. Причем «нападающей», инициативной стороной становится, в резком расхождении с традицией, герой романа — возвышающаяся над окружением «одинокая личность». Завязка конфликта и его центр — дерзкий, вызывающий по отношению к братьям поступок Иосифа. В отсутствие братьев он выпросил у Иакова свадебное покрывало Рахили, которое, однако, в момент «подмены» было надето на Лию, так что претендовать на него, как на знак особой отцовской милости и шаг к «первородству», могли и ее сыновья. Разъяренный первенец Лии — Рувим — спрашивает Иосифа: «Как же ты
229
дерзнул выманить у отца покрывало в наше отсутствие?..» И Иосиф отвечает:
«— Скажи, с кого Иаков впервые снял эту фату?
— С Лии!
— Да, в действительности. Но по правде это была Рахиль… Поскольку, однако, она умерла, где она сейчас?
— Там, где глина — пища ее.
— Да, в действительности. Но правда не такова… Рахиль живет в другой стати…
Рувим опешил.
— Я и мать — одно целое,— сказал Иосиф… — Так чье же покрывало?»
Здесь опять явственно проступает XIX век и совершается отталкивание от него. Иосиф строит защиту своего поступка на противопоставлении (поляризации) действительности и правды: «Да, в действительности. Но по прав- де…» Логика его доказательств сводится к «уничтожению» поступка: не было ни похищения, ни выманивания покрывала, не было ни обмана, ни коварства, ибо — как говорит Иосиф— «по правде» покрывало ведь «уже было мое». Та же попытка отделить себя от поступка, как у Иакова, для которого подлинностью была владеющая его помыслами Рахиль, а не бывшая «только» действительностью Лия.
Так с самого начала в конфликт, героем которого является Иосиф, вплетается «разыгранная» родителем предыстория. Далее мы увидим, что значение ее, по мере развития действия, не убывает, а возрастает. Тут же, правда, обнаруживается и различие: для Иакова позиция «отделения» от поступка была проблемой умозрительной — предметом дум, чувств, нравственных исканий и страданий. Для Иосифа же отделение своего «я» (в сущностном его содержании — «по правде») от поступка — позиция, утверждаемая и поверяемая практически. Мы уже говорили, что «нападающей» стороной в конфликте с братьями был Иосиф. Не устрашившись «взбучки», которую дал ему Рувим, он с радостью принимает поручение отца навестить братьев, живущих на отдаленном стойбище, и украдкой берет с собой то самое покрывало Рахили, которое уже стало причиной раздора. В этом роскошном одеянии, оттеняющем его красоту, одухотворенность, Иосиф появляется перед грубыми пастухами, обращая к ним слова надменного, снисходительного приветствия. Приезд к братьям в этом платье и независимость поведения подчеркивали, что он продолжает отрицать права
230
Лии и ее потомков, основанные только на действительности, а не на правде. Но братья менее всего склонны встать на такую точку зрения. Они и знать не хотят, что у него «внутри» и что ему «примерещилось и ударило в голову».
Братья приняли вызов Иосифа: они сорвали с него платье, разорвали его в клочья, а самого Иосифа связали и бросили в глубокий высохший колодец: «…град разнузданной ярости… ужасающе не заботясь о том, куда он угодит, обрушивался на него с ясного неба и вдребезги разбивал его веру, его представленье о мире».
На этой, казалось бы, непримиримо-трагической и до конца выявляющей антагонизм сторон ноте кончается история юного Иосифа. Т. Манн лукаво подчеркивает, что для юного Иосифа — милого, смышленого, вкрадчивого и дерзкого семнадцатилетнего мальчика, бросившего вызов братьям, «яма» стала могилой. Недаром в последующих главах спасенный странствующими купцами и проданный им братьями Иосиф выступает под именем раба Узарсифа (что значит «исчадие болота, ямы») и именно под этим именем продается еще раз — в дом египетского вельможи Потифара, с которым связана часть романа, имеющая как бы нового героя.
Предельное «разведение» сторон и раскрытие их непримиримости сопровождается как бы встречным течением: обнаружением точек соприкосновения между разошедшимися антагонистами на отношении к третьей «силе». Такой третьей силой оказывается сам поступок. Из момента действий персонажей он обращается в «действующее лицо», отношения с которым определяют позиции персонажей (сближают или «разводят» их), а тем самым — уровень глубины и трагизма конфликта. И эта функция поступка, как мы попытаемся показать в дальнейшем,— не особенность необычного произведения Т. Манна, а общая закономерность конфликта, так или иначе проявляющаяся в большом романе XX века.
В сосредоточенном на сфере нравственных отношений романе Т. Манна необычность и новизна функций поступка выступает, однако, со специфической отчетливостью.
Поступок, как мы увидим, является не только основой фабулы и «лицом», выявляющим антагонистов, но и центром проявления самых существенных черт и принципов окружающего героя мира. Причем именно необычность положения поступка раскрывает и силу и ограниченность возможностей художника.
231
Мы сказали, что эпизод «ямы», на котором столкновение Иосифа и братьев приходит к условной развязке, служит вместе с тем моментом их временного сближения в отношениях к поступку. Действительно, расправой над Иосифом братья отвергли помыслы как подмену поступка, как способ ухода и сокрытия от него, к чему пытался прибегать Иосиф. Но по отношению к своему поступку братья становятся в ту же позицию. Размышляя над содеянным и расходясь в мнениях о том, как нужно поступить дальше (добить ли Иосифа, оставить ли погибать медленной смертью и пр.), братья едины в стремлении уйти от поступка — видеть в случившемся не поступок, а случай, «…то, что случилось,— это именно только случай1, а не поступок, поступком случившееся нельзя назвать. Случилось оно, правда, благодаря им, братьям, но они не совершили поступка, все вышло само собой». Здесь та же тенденция, за которую так жестоко поплатился Иосиф: отделить себя от поступка; только поступок противопоставляется не помыслам, а «случаю» — цепи внешних, неожиданных и вместе с тем всесильных обстоятельств. Так братья идут навстречу Иосифу. Характерно, что пребывающим в яме Иосифом учиненная над ним расправа тоже толкуется не как поступок, а как спровоцированный и совершенный в момент аффекта вынужденный акт. Иосиф считает, что он сам вынудил братьев к «яме». «Боже мой, братья! До чего же он их довел! Да, он понял, что он сам довел их до этого…»
Движение «навстречу» оказывается чреватым осложнением и расширением конфликта: учиненная братьями расправа над Иосифом — дело, казалось бы, узко семейное», осознается участниками в весьма широких масштабах. Характерны в этом смысле те комментарии и размышления, на которые наталкивает братьев вспомнившаяся им песня о страшной мести, совершенной неким сказочным героем. Возражая тем, кто готов принять песню за образец подражания и пойти на прямое убийство, Рувим говорит: «Я тебе скажу, что отнимает у человека его месть и делает нас непохожими на богатыря Ламеха. Тут две причины. И закон Вавилона, и рвение бога — оба говорят: месть за мной». Поступок, таким образом, осознается как та сфера, которая непосредственно сталкивает человека с моральным кодексом общества (закон Вавилона) и нравственными
232
общечеловеческими нормами (закон бога). Таков — идущий, конечно, не от «современности» Иосифа, а от чрезвычайно остро ощущаемой Т. Манном ситуации XX века — диапазон поступка.
Осознание принципиальной значимости поступка, его непосредственной соотнесенности с законом и богом не мешает тому, что именно в этой соотнесенности братья находят еще одно основание для отделения себя от поступка или, вернее, «уничтожения» самого поступка. Они ведь не оспаривают подобно легендарному Ламеху право на месть у закона или бога: это лишний раз подтверждает, что расправа над Иосифом — просто случай: когда «кровь льется», а не «ее льют». «Союзником» в уходе от поступка к случаю служит и такое понятие, как «современность». Братья не совершают поступка и потому, что действуют не от себя, а сообразуясь с «современностью», то есть с общепризнанной житейской «мудростью», которой как бы загораживаются и от закона, и от бога, в опасной близости с которыми находится поступок. «…Будем же… в ладу с современностью и продадим Иосифа», — сказал Иуда. Вдохновляемые духом времени, братья идут и еще дальше по пути «уничтожения» поступка. После «честной» продажи Иосифа и единодушного решения, что Иаков должен быть уверен, что «обожаемое дитя» пало жертвой дикого зверя, все совершившееся еще увереннее определяется братьями как случай, событие — словами, вполне неопределенными в смысле установления степени ответственности каждого из действующих в нем лиц, и именно потому, как им утешительно представляется, легко «смываемое» временем. А если этому последнему «помочь» еще каким-либо средством, то событие («случившееся») и вовсе исчезает. Выражая общее мнение, Асир говорит: «События можно удавить и уничтожить молчанием, навалив его на них каменной глыбой: от недостатка воздуха и света события задыхаются, так что они как бы и не состоялись. Поверьте мне, так гибнет многое»1.
Итак, с одной стороны — раскрытие тех путей и способов, которыми человек, находящийся «в ладу с современностью», уходит от поступка, а тем самым и от непримиримо-трагического столкновения. С другой стороны — обнаружение решающей роли поступка в определении отноше-
233
ний человека к другим людям, к обществу, к субстанциальным началам жизни и к себе самому, то есть утверждение принципиальной и, так сказать, неизбежной значимости поступка для человека XX века, с необходимостью вовлекаемого в непримиримые конфликты с самыми высокими общественными и нравственными «инстанциями». Своеобразнейшее и вместе с тем характерное, как мы попытаемся показать, соотнесение этих двух, казалось бы, взаимоисключающих концепций поступка определяет новизну строения конфликта в романе «Иосиф и его братья». В нем концентрируется противоречивость положения человека в ситуации XX века. С одной стороны, предельное принижение и обезличивание перед лицом автоматизированного империалистического мира; с другой стороны, обнаружение огромных человеческих потенций и утверждение человека как вершителя своих судеб в процессе революционных движений и освободительных войн, взрывающих этот мир изнутри и противопоставляющих ему новую систему общественных отношений и новые начала духовной жизни. Художник такого масштаба, как Т. Манн, не может обойти этой второй стороны. Как бы противоречиво и сложно ни представала перед ним проблема исторической активности человека, непосредственно связанная с обоснованием его прав и возможностей на совершение поступка и несение ответственности за избранную позицию, — именно эти вопросы, выдвинутые эпохой, стоят в центре его внимания, определяя новизну художественных форм и, в частности, новых форм конфликта.
Нетрудно увидеть, что в конфликте между Иосифом и братьями непримиримость столкновения, выражаемая в поступке, заслонена поисками ухода от поступка. Однако сама тщательность «разработки» этой второй линии тем более подчеркивает роль поступка как содержательного и структурного центра конфликта. Каждый «уход» неизбежно является новым возвращением к совершённому, и сама настойчивость стремления уйти, спрятаться от поступка все глубже раскрывает его объективную и субъективную значимость.
Чрезвычайно характерно, например, что, став жертвой братьев и пребывая в яме, Иосиф не предается отчаянию, мысли его поглощены его поступками по отношению к братьям: «…подлинные мысли его были не с… машинально-поверхностным… жалобами, а под ними; а под подлинными их глубинными тенями и басами текли, в свою очередь,
234
еще более подлинные, так что все в целом походило на бурную, вертикально-сложную музыку, которая занимала его ум одновременно своим верхним, средним и нижним потоком».
На «среднем потоке» сознания совершался уход от поступка; на нижнем, самом глубинном, не только осознание вины и принятие ответственности за свое поведение, но и понимание возможности и необходимости непримиримого противопоставления себя (в качестве представителя человечества) богу, который в данном случае предстает как проблематичная или даже мнимо-высшая нравственная инстанция. На «среднем потоке» мыслей Иосиф убеждает себя в том, что его поступки (вымогательство покрывала и пр.) согласовались с «возносящими» его снами, внушенными богом, то есть продолжает противопоставлять помыслы и поступок и слагать с себя ответственность за содеянное. Но на «нижнем потоке» своих размышлений Иосиф признает, что «внушаемая богом» убежденность в невинности своего поведения «была игрой, в которую он сам по-настоящему не верил и не мог верить». Так происходит четкое отделение «себя самого» от внушаемой богом «игры», и не только отделение, но и противопоставление, ибо богоугодную «игру» Иосиф, поднимаясь в этот момент до отрешающейся от корыстного послушания богу подлинно человеческой нравственности, считает «грубой и тяжкой ошибкой».
Находясь в яме, Иосиф внутренне примиряется с братьями. Но это не противоречит тому, что объективно он именно теперь возвышается над братьями и вступает в наиболее острый конфликт с ними. Ибо, восставая против «богоугодной игры», которую вел Иосиф, братья были очень далеки от нравственного ее осуждения: возвещаемая вещими снами близость Иосифа к богу рассматривалась братьями лишь с точки зрения тех духовных и жизненных преимуществ, которые, как им казалось, получал от нее Иосиф[66].
Мы видим, что совершается типичное для многослойной во всех своих компонентах структуры романа XX века вообще и манновского романа особенно «одновременное» течение двух разнонаправленных потоков конфликта. Более поверхностный стремится к вхождению в мирное русло, соответствуя — в конечном итоге — потребности найти тот или иной вариант «лада с современностью» (в житейски-узком[67] понимании), которая предоставляет человеку богатейший набор средств ухода от конфликта,
235
«удушения» поступка. Глубинный, «нижний», направлен не только к раскрытию значимости поступка, ставящего человека лицом к лицу с «высшей инстанцией», но и к утверждению его возможности противостоять ей в суде над «угодными богу» деяниями. Последнее не исчерпывается абстрактным нравственным бунтом, но означает и весьма существенный разлад с «современностью». Ибо «угодные богу» поступки в данном случае подразумевают поступки, основывающиеся на принципе самоутверждения и себялюбия — этих столпах даже самого неразвитого собственнического общества. Речь идет, конечно, не о «действительности», окружающей Иосифа, а о той стадии развития буржуазного мира, от изображения которой так, казалось бы, далек роман-миф и которая тем не менее присутствует в каждом моменте повествования. Чтобы явственно увидеть это, читателю манновского текста необходимо брать пример с младшего сына Иакова — Вениамина, который, разговаривая с Иосифом, «вслушивался не столько в слова брата, сколько в самый тон и ход его речи, и у него возникло… ощущение, что он улавливает смутные мысли Иосифа, которые — так казалось — были растворены в его речи, как соль в море».
Итак, уже в первой части тетралогии герой, на самом подспудном и самом глубоком потоке своих размышлений над поступком, обнаруживает способность к противостоянию «угодным богу» нравственным началам. Но здесь же обнаруживается и другое: не только братья, но и Иосиф пытается уничтожить поступок с помощью времени и забвенья. Однако это не удается: казалось бы, вполне «уничтоженный» поступок имел, как выяснится в последней части романа, продолжение и последствия; забвение из аргумента защиты перейдет здесь в аргумент обвинения. Ибо если не добровольно, то вынужденно герои романа принимают на себя ответственность за забвение поступка в той же мере, как за сам поступок.
Таким раскрытием понятия «забвение» тетралогия о Иосифе, уходя от ближайших традиций, входит в исконно трагические сферы, в мир представлений античной и шекспировской трагедии. Мы не можем, естественно, давать здесь сколько-нибудь развернутых обоснований. Напомним лишь выразительный в интересующем нас плане диалог между героями одной из тех трагических «античных легенд», к духу которых Р. Роллан рекомендовал обратиться художникам XX века.
236
Креонт
Ныне же дельфийский бог
Возмездия его убийцам требует.
Эдип
А кто ж убийцы? Где же он отыщется,
Вины старинной трудноразличимый след?
Креонт
Здесь, бог сказал. Кто ищет — тот найдет.
То ускользает, что в пренебрежении.
(Перевод А. И. Пиотровского)
Копцепция трагического конфликта в классической трагедии предполагает отождествление забвения с пренебрежением, а последнее приравнивает к поступку, заслуживающему кары богов[68]. По понятиям софокловского Эдипа, «пренебрежение» — это невольная попытка спрятаться от поступка с помощью молчания и времени. Оно не только не освобождает от поступка, но усугубляет вину.
В произведении Т. Манна, в искомой им концепции конфликта и поступка, забыть — значит покориться силе времени, что помогает уничтожить поступок так же успешно и незаметно, как это делает молчание или полуосознанное нежелание знать: «…согласиться, что он… своей самоупоенной безумной любовью погубил Иосифа, Иаков не мог и, казнимый жестокой болью, от этой мысли отмахнулся…1 время, однако, шло… и позволило братьям знать не так уж точно, что они сделали».
Забвение опыта отношений с братьями и особенно тех мыслей, которые открылись ему на «нижнем потоке» размышлений в яме, играет решающую роль во всем, что случается с Иосифом в Египте. Ибо и возвышение в доме Потифара, и сопротивление, оказываемое хозяйке дома Мут-эм-энет — этой библейской Федре, и «вторая яма», и новое возвышение при дворе фараона, сделавшее его вторым лицом в государстве, мудрым реформатором-«кормильцем»[69], — совершалось Иосифом в значительной мере с помощью идей себялюбивого богоугодного «вознесения», которое и на этот раз в высшей степени соответствовало представлениям о «ладе с современностью», но входило в резкое противоречие с понятиями человеческой нравствен-
237
ности. Именно это противоречие продолжает оставаться центральным и вместе с тем по-прежнему глубинным во всех перипетиях отношений Иосифа с его «несчастной госпожой» (так названа Мут в докладе Т. Манна), в основном повторяющих тот сложный рисунок конфликта, который оформился в первой части. Столкновение антагонистов сопровождается выяснением их позиций в отношении к третьему «лицу» — поступку, который «обрастает» в этой части еще более сложной атрибуцией: предпосылки, мотивы, последствия и пр.
«Он постиг всю нелепость педагогического своего плана, и… у него мелькнула мысль, что его отношение к этому дому в новой его жизни не менее преступно, чем было некогда его отношение к братьям». Богоугодные, как и вся карьера Иосифа, «отношения к дому» и столь же богоугодный и выгодный, с точки зрения положения Иосифа, «педагогический план» относительно Мут осознаются на глубинном потоке сознания как «преступление». В отличие от первой части, противопоставление этих двух точек зрения приходит в разгар действия, становясь стержнем не только мыслей героя, но и всего хода конфликта с большей последовательностью, чем это имело место в «Юном Иосифе».
Поиски человеческой позиции, отделенной и от богоугодного себялюбия, и от стихийных начал, ведутся в определенный момент действия с обеих сторон. Ибо в страсти Мут низменное было переплетено с высоким с не меньшей сложностью, чем в стойкости Иосифа. И лишь предубежденность Иосифа отрицала это. В его глазах Мут представала олицетворением и того, от чего предостерегала богобоязненность, и того, что не принимала человечность. «Судьбе было угодно, чтобы решающим для любви Эни оказалось не то, чем эта любовь являлась, а то, что она означала для Иосифа». Этот столь типичный для западноевропейского романиста XX века заход в сферу проявлений отчуждения в любовных коллизиях носит отпечаток той легкой иронии, которая присуща, по словам Т. Манна, всему «эротическому содержанию» наиболее «романной» части тетралогии. Отнюдь не избегая тех возможностей, которые предоставляются юмору фабульной канвой, Т. Манн подчиняет ее, однако, решению самых серьезных и существенных для своего произведения проблем. Перипетии отношений Иосифа и Мут продолжают проблему, остро стоявшую уже в первой части.
238
И то, чем любовь Мут-эм-энет являлась в ее желаниях и помыслах, и то, что означала она для Иосифа (то есть опять же чем была она в помыслах), и то, как переплетается любование благочестивым «послушанием» и стремление к человеческой стойкости в мыслях Иосифа, — все эти виды помыслов самим ходом конфликта соотнесены с поступками. Вернее, как бы вливаются в поступок, который рассматривается теперь, в отличие от первой части, не в противопоставлении помыслам, а как объективное их выражение, и более того — истинная форма их бытия вообще: «Разве поступок вытекает из желания? Разве желание не выявляется, напротив, только в поступке?»1 Вопросительная форма, употребленная здесь Т. Манном, весьма знаменательна. С одной стороны, она подчеркивает полемичность такой постановки проблемы, прямо обращает ее к оппонентам; с другой стороны, она как нельзя более соответствует той поисковой напряженности, с какой проблема поступка ставится в самом романе. Важно заметить близость, но отнюдь не тождественность того содержания, которое, органически вытекая из сути изображаемого, подразумевается под словом «помыслы», столь существенным для первых частей, и словом «желания», появившимся в «египетских» главах. «Помыслы» Иакова, юного Иосифа и его братьев не сводились к собственно мыслям, но касались и области чувств, стремлений — всего, что определяет внутреннее состояние человека в данный момент. «Желания», включая все перечисленное, понимаются еще шире: не только непосредственно предшествующее поступку внутреннее состояние героя, но и определяющие его предпосылки, очень разные и от данного момента удаленные. Под получающими осуществление в поступке желаниями подразумеваются, собственно говоря, «склонности, симпатии, строй и опыт души, которые окрашивают все… естество и накладывают отпечаток на всякое… действие, так что оно гораздо правдивее объясняется ими, чем теми разумными доводами, какие мы приводим в его пользу не только другим, но и самим себе».
Эти слова являются не отвлеченными размышлениями автора, а обобщением принципа, который лежит в основе конфликта. Ближайшие обстоятельства и «разумные дово-
239
ды» поддерживают Иосифа в «двусмысленно-педагогическом» его плане; человеческие же основы его стойкости покоятся на предпосылках, далёких от данного момента и не непосредственно разумом диктуемых.
В качестве отдаленного мотива фигурирует возвращающий читателя к первым главам романа образ стоящего у колодца отца, предостерегающего своего любимца от низменных искушений, и — умирающего Монт Kay (старого управляющего Петепра), берущего с Иосифа клятву в человеческой верности хозяину. Но совершенно особая роль принадлежит Сфинксу, олицетворяющему старость страны и ассоциирующемуся с Мут.
«…Египтянка Мут олицетворяла в его глазах… старость страны, куда его продали, длительность, которая без обетования, беспутной неизменностью, глядела в дикое мертвое, ничего не сулящее, будущее, делая вид, что сейчас она поднимет лапу и прижмет к груди задумчиво стоящего перед ней сына обета». Последние строчки приведенного описания, воссоздающего психологическое состояние героя, во многом совпадают с далеко отстоящей от них картиной встречи только что вступившего в пределы Египта раба Узарсифа с изваянием Сфинкса: «…это… чудовище… продлевало свое бытие в будущее, но это будущее было диким и мертвым, ибо оно было лишь длительностью, лишь ложной вечностью, ничего не сулившей». Здесь очень наглядно выступает та исключительность роли поступка, о которой мы говорили выше. Перед нами сам процесс вовлечения общих закономерностей окружающего героя мифа в сферу поступка — в ряд непосредственных его предпосылок.
Воплощаемая символическим образом Сфинкса сущность окружающего Иосифа «дряхлеющего» мира раскрывается в ее соотнесенности с поведением героя. Сфинкс призван восполнить известную декоративность, присущую многочисленным описаниям быта, нравов, обычаев, обрядов и даже рассказам о религиозно-политической вражде, тяжелом положении народа и реформаторской деятельности Иосифа. Ибо подобного рода описания, поражающие красочностью, эрудицией и постоянно возникающими ассоциациями с отдельными явлениями современной писателю действительности, говорят больше о внешних приметах, чем о внутренней сути как непосредственно изображаемого, так и подразумеваемого (то есть современного) общества.
240
Сущность отталкивающего и притягивающего Иосифа Сфинкса[70] — противоестественная, античеловеческая двуликость, двусмысленность, возведенное в закон и претендующее на грозную монументальность соединение несоединимого. Причастность поведения Иосифа-кормильца к этой утверждаемой Сфинксом «старости Мира» раскрыта в сцене встречи с братьями. Еще не признав в Друге фараона своего Иосифа, они поражены противоречивостью его поведения: «Он был двусмыслен и двулик… его нельзя разобрать, как нельзя разобрать качество «тум», в котором встречаются небо и преисподняя».
И все же приобщающая к «старости Мира» двуликость не снимает ее неприятия: чуждость этого мира идее будущего отталкивает Иосифа. Именно образ Сфинкса осложняет конфликт романа этим аспектом. Здесь в равной мере характерно и то, что выход к будущему намечен в романе, и то, как он намечен. И для позиции Т. Манна, и для критического реализма вообще характерно, что к будущему Иосиф приходит лишь негативным путем, его отталкивает символ страны, лишенной этой идеи. Позитивные же представления о будущем не имеют сколько-нибудь четких контуров, сливаясь с уже известной нам идеей «вознесения главы» и разумно-выгодного союза с богом, который так почетно и разумно, несмотря на повторившуюся яму, устраивает судьбу Иосифа.
Итак, третья часть тетралогии, развивая конфликт, фиксирует внимание на мотивах поступка, особенно оттеняя значение предпосылок «далеких» и среди них — идеи будущего. Указанные черты конфликта все более проясняются к финалу. Ведь трагическая развязка всегда была особенно показательна и в смысле выявления последствий поступка, вины, ответственности, и в плане раскрытия перспективы и определения отношения героев к будущему. В романе же реализма XX века эта общая закономерность проявляется особенно характерно. На «верхнем потоке» содержания последней части — в «Иосифе-кормильце», — конфликт, казалось бы, входит в мирное русло, наступает почти идиллия. А по существу трагизм нарастает.
В этой последней, такой, казалось бы, величаво-спокойной части тетралогии непримиримое начало конфликта раскрывается, однако, наиболее глубоко и полно. Вместе с тем не иссякает противостоящий ему «поток» столкновения, стремящийся к мирному руслу. Причем обе тенденции, в полном соответствии с предшествующими стадиями разви-
241
тия конфликта, осуществляются как две противоположные концепции поступка, которые, вступая в последнее единоборство друг с другом, обогащаются здесь точкой зрения будущего.
Для приехавших в Египет за хлебом братьев неожиданность встречи с «первым купцом» и Другом фараона Иосифом — подтверждение невозможности уйти от поступка: ни время, ни забвение, ни отождествление с событием и случаем не избавляют от расплаты, не снимают непримиримость столкновения. Особенно остро ощущает это Иуда, вообще «склонный» к чувству вины и ответственности: «Иуду вина перед Иосифом и отцом мучила страшно. Он страдал от нее, ибо был способен страдать… все свои несчастья и беды он объяснял ею, видя в них расплату за участие, за соучастие в преступленье». Есть в этой какой-то почти автоматической «способности» страдать и виниться оттенок и двусмысленный, и иронический: всегда имеющееся наготове чувство вины скорее умаляет, чем утверждает ее значимость, то есть оборачивается одним из путей ухода от поступка и ответственности за него. Иронический оттенок усиливается тем, что, кроме истории с Иосифом, прегрешения Иуды связаны с любовными похождениями: «не было случая, чтобы, высвобождаясь из объятий какой-нибудь храмовой служительницы, он не сгорал от стыда и не предавался мучительнейшим сомнениям». Однако наличие всех этих оттенков в Иудиной «предрасположенности к вине» не исключает серьезности: как бы то ни было, но свойственное Иуде обостренное чувство вины и ощущение трагической непримиримости столкновения выделяют его среди других братьев.
Для Иосифа встреча с братьями — тоже момент, ведущий к максимальному проявлению отношения к поступку. Здесь в полной мере проявляется свойственное Иосифу богоугодное умаление роли поступка в конфликтных ситуациях жизни. Все двусмысленно-игровое поведение с братьями снимает значимость поступка: «Пока нет итога, налицо только поступки, а поступки могут казаться дурными. Но когда итог известен, о поступках нужно судить по нему». Итог уничтожает поступок еще более радикально, чем молчание, время, пренебреженье и другие направленные против него «средства». Итог меняет характер поступка и порождаемого им конфликта: преступление венчается праздником, трагедия — комедией. «…Встреча поступка с итогом — это беспримерный праздник, который надо справить
242
на славу, со всею пышностью священного озорства, чтобы мир больше пяти тысяч лет смеялся до слез»[71]. Эта позиция, ведущая, по существу, к оправданию средства целью, выступает в обличий широты, терпимости, доброжелательности — во всеоружии обаяния Иосифа-«тума» — «человека перепутья, переходящих друг в друга качеств», усвоившего двуликость Сфинкса дряхлеющего мира. Она перечеркивает поступок итогом и предстает в романе (и так же понимается самим Иосифом) как одно из высших проявлений послушания богу и смирения перед ним: итог полностью передается в его компетенцию как сфера, хотя и доступная человеческому разумению, но не допускающая человеческого решения: «…вопрос о том, следует ли судить о поступках по итогу и одобрять зло, потому что оно нужно было для благого итога, — это… жизнь. Такие вопросы жизнь и ставит. На них нельзя ответить всерьез… человеческий дух может подняться над ними, чтобы, душевно шутя над неразрешимым, вызвать улыбку у самого бога».
Но в этом нельзя видеть суть концепции поступка, выдвигаемой Т. Манном. И не к этому сводятся отношения с поступком Иосифа последних глав романа, рассказывающих о его встрече с отцом, предсмертных речах Иакова, обращенных к каждому из сыновей, и его смерти.
Сущность финала заключается в том, что человеческая позиция снова напряженно противостоит здесь позиции богоугодной и, несмотря на силу последней, одерживает победу над нею.
В конце романа сводятся воедино самые основные проблемы искомой в нем концепции поступка: богоугодное повиновение, любовь, будущее. На смертном одре Иаков отрекается от любви во имя признания повиновения: «Я любил ее,— говорит он о Рахили,— я слишком ее любил, но выше не чувство, не своевольная мягкость сердца, а величие и послушание». И вслед за этими словами он благословляет Иуду и его потомство в лице сыновей Фамари. Тем самым вознесенным, согласно повиновению, оказывается то двусмысленное отношение к поступку (острое и вместе с тем «легкое» чувство вины), которое воплощено в Иуде, и «любовь — честолюбие», составляющая суть Фамари — третьего женского образа романа. Именно эта «новая основа любви», утверждающая себя путем преступления, падения и обмана, оказывается,— в противоположность «злосчастно» непонятой в лучших сторонах своего чувства Мут и смертью расплатившейся за любовь Рахили, — достаточ-
но бесчеловечной для того, чтобы быть совместимой с «повиновением» и с гордостью осознавать себя «на столбовой дороге».
Недаром в сцене смерти Иакова, в описании толпы домочадцев, окружающих его ложе, суровая и торжественная фигура Фамари, стоящей между рослыми своими сыновьями, находится на переднем плане. Ее образ как нельзя более соответствует тому пафосу послушания и величия, который звучит здесь так победоносно. Но не победно. Утверждение повиновения в речах, обращенных к слушателям, вступает в явное противоречие с тем, что Иаков говорит одному Иосифу: «Если твои поступки и твои решения не определены любовью твоего сердца, то это повиновение… Повиноваться в своих поступках и решениях, ибо сердце не может повиноваться… это благословение мирское, а не духовное. Слышал ли ты когда-нибудь голос отказывающей любви?.. Ты первороден в земных делах… но спасутся народы не благодаря тебе, и водительствовать тебе не дано». Высшим назначением человека и критерием его поступков признается не богоугодное послушание, а любовь, в которой человек становится вне повиновения, — «ибо сердце не может повиноваться» — и противопоставляет себя богу: «Он не может отнять у меня сердце и пристрастие сердца, не отняв у меня жизни»[72].
Забвение этого, предпочтение богоугодного «послушания» караемой любви Иосиф воспринимает как вину и принимает отцовское отлучение. Проникновенные, сказанные шепотом слова Иакова: «Отцовское сердце видит не только блеск, но и грусть твоей жизни», — вытекают из логики развития конфликта и выражают суть его развязки.
Надо подчеркнуть, что «послушание» понимается не только как путь, обеспечивающий личное преуспеяние. В последней части раскрыто широкое общественное значение деятельности Иосифа-кормильца, преисполненной и гуманности, и политической прогрессивности (борьба с мелкими князьками и служителями реакционных течений в религии). Но она не выходит из повиновения, ибо лишена подлинно творческого, в общественно-историческом смысле понимаемого, начала. Последнее с неизбежностью противостоит послушанию: творчество там, где человек не угадывает «чужой» (то есть божественный) замысел, а сам определяет свою судьбу и строит свою историю. Иосиф так осознает свое место в жизни: «…брат ваш никакой не герой бога, никакой не вестник благодати небесной, а всего-навсе-
244
го эконом» («Volkswirt», Bd. 5, S. 419). Негативная часть определения, так же как при встрече со Сфинксом, весьма выразительна: роли послушного любимца бога, которая была дарована Иосифу с самого начала и обернулась «всего-навсего экономом», противопоставлена несостоявшаяся роль «героя» и «вестника», заключающая намек на творческую, устремленную к будущему, деятельность.
С большей определенностью, хотя тоже негативно, устремленность эта утверждена в характеристике Фамари, составляя важнейшую сторону посвященной ей и многозначительно оттеняющей основной конфликт «вставной новеллы»: «Бывают такие души: стоит лишь появиться в мире чему-то преобразующе-новому, как они… им загораются и начинают стремиться к нему. Их беспокойство не первично… Эти души иного склада, но уж если новое появится в мире… они не могут к нему не рваться». Явная ирония в адрес таких энтузиастов — не что иное как в негативной форме выраженное утверждение подлинно творческого, «первооткрывательского» начала, принципиально присущего человеческой деятельности и столь же неотделимого от понятия будущего, сколь чужда ему «любовь — честолюбие» Фамари и величие «эконома» Иосифа.
Мы уже сказали, однако, что главному герою романа величие, достигнутое на пути послушания, не приносит удовлетворения. Самоудовлетворенная ограниченность Фамари особенно ясно оттеняет это. Многозначительный финал «Иосифа и его братьев» на глубинном своем «потоке» осложнен мотивом трагедии необретенного пути, завязкой которой было забвение Иосифом той позиции отречения от богоугодной игры, до которой он поднимается в моменты нравственного прозрения.
Трагический поток конфликта и в финале предстает скрыто, подспудно: в интонации признаний и самооценок Иосифа, в обращенном к нему голосе «отказывающей любви» Иакова, в некоторых связанных между собою негативных ассоциациях.
Однако именно проходящее через все действие течение третьего трагического потока определяет не только масштаб романа, призванного — по примеру «Фауста» Гете — осуществить «потрясающе дерзкий эксперимент скрещивания» мифологической фабулы с трагедией о человечестве, но и его место в литературе XX века.
Трагический конфликт, сосредоточенный на поступке, делающий его своеобразным «лицом» конфликта, отноше-
245
ний с которым определяют размежевание героев, глубину их противоречий и существенные стороны окружающего их мира; рассмотрение поступка в связи с «помыслами» (стремлениями, желаниями, намерениями); выявление неотделимости от поступка таких понятий, как вина и ответственность, и наконец раскрытие поступка как основы трагедии необретенности пути, — все эти аспекты содержания и формы «Иосифа» своеобразно претворяют одну из характерных для современного реализма форм конфликта. Причем необычность фабулы, преломляющей нравственные проблемы современности через общечеловеческую призму и разрешающей введение специфических образов-понятий («помыслы», «забвение», «послушание», «вознесение», «отречение»), в известном смысле даже усиливает эту представительность. Мифологический «репортаж» создает своеобразный свод тех черт конфликта, которые типичны для произведений писателя. В этом смысле тетралогия «Иосиф и его братья» может быть названа своего рода художественным трактатом о нравственной сущности поступка и его месте и значении в судьбе человека.
Суть утверждаемой Т. Манном концепции поступка может быть сформулирована в нескольких словах: поступок — это высшее и обнаружение, и показание, и критерий активности человека по отношению к окружающему его миру; и, соответственно этому, поступок — центр конфликта романа, средоточие тех его «сил», которые воплощают трагическую непримиримость столкновения, заблуждения, вины, расплаты.
* * *
Итак, суть и сила манновского типа конфликта — в его сосредоточенности на поступке, в раскрытии поступка как главного критерия нравственной оценки человека и показателя социального потенциала личности. При этом, особенно в последних частях романа, становится очевидной не только психологическая, но и социальная и «идейная» обусловленность поведения, поступков героев — в тех, однако, специфических пределах, которые фабула мифа допускает. Манн демонстративно сосредоточивается на таком рассмотрении, которое обеспечивает самое пристальное, так сказать, «лабораторное», наблюдение за нравственным потенциалом человека, максимальную погруженность в
246
«собственно человеческую» среду — в те коллизии, которые непосредственно формируются решением и выбором, к которым приходят их непосредственные участники, к тем поступкам, которые предстают непосредственно реализуемыми желаниями и т. д. Выводы сводились к следующему: Манн устанавливает ответственность человека не только за отдельный поступок, но и за свою судьбу, свой жизненный путь; отвергая, высмеивая оправдательные ссылки на «случай», «события», он характерным для себя путем подходит к утверждению активной позиции человека по отношению к миру.
Органичность всей этой проблематики для предшествующего творчества Манна и с точки зрения предварения «Доктора Фаустуса» — очевидна. Ясна, как уже говорилось, литературная и общественная ситуация, в которой формировался этот своеобразнейший в реализме XX века роман, и его полемическая направленность против реакционных эксплуатаций мифа. Но не остался ли при всем том манновский «Иосиф» произведением-монстром, совершенным в своем роде, исторически «законным», но не имеющим точек соприкосновения с теми крупнейшими произведениями эпохи, которые составили магистральное русло исканий реалистического романа XX века? Ответить на этот вопрос мы попытаемся не суммарно, а на пути краткого (по необходимости) анализа некоторых аспектов содержания и формы двух крупнейших романов той эпохи: «Семьи Тибо» и «Тихого Дона».
И убеждения, и идеалы, и нравственные представления, и жизненная практика разделяли братьев Тибо еще со времени первого бунтарского поступка маленького Жака — побега из родительского дома: это происходит одновременно со вступлением Антуана на путь «послушания» и «лада с современностью». Образы-понятия из «Иосифа и его братьев» приходят на ум непроизвольно: они совершенно органично соотносятся со столь, казалось бы, далекой и от мифологии, и от немецкой философичности столь типично французской социально-психологической историей братьев Тибо. И дело не в одной общечеловечности фабулы манновского романа. Но и в общности исторической ситуации, явившейся объектом исследования для двух больших европейских романистов, ведущих свои «раскопки» на соответствующем уровне глубины. Однако глубинный «поток» конфликта формируется у дю Гара не только столкновением двух противоположных отношений к поступку, но и
247
настоятельной необходимостью соотнесения поведения каждого героя с событием. При этом происходит уже знакомое нам своеобразное сближение антагонистов: столкновение с событием и для Жака, и для Антуана означает переход в иную «зону» конфликта и неизбежность трагического финала.
Именно в этой связи встают проблемы ответственности, вины, любви, творчества, народа, будущего, поднимаемые и автором «Иосифа», но в рамках конфликта, к событию, фактически, не выходящего[73].
Раскрытие события как весьма веского «аргумента», определяющего решения и поступки вполне личного плана, является одной из значительных сторон содержания последней части романа. «Антуан… внезапно принял решение навсегда порвать свою связь с Анной… Он даже вынужден был признаться самому себе, что хотя политика как будто не играла тут никакой роли — все же трагические события, волновавшие Европу, отчасти способствовали этому отдалению, — словно его связь с этой женщиной была ниже уровня каких-то новых чувств, не подходила к масштабу событий, потрясающих мир»1.
Так нарушается линия поведения и воззрений Антуана, его попытки встать в позицию устранения от надвигающихся событий и замкнуться в чисто профессиональной деятельности. При этом Антуан ссылался на тщетность любых усилий изменить мир и человека, утверждая, что их состояние, в общем, его устраивает.
Но вот прошло несколько дней бурно развивающихся событий:
«Он смутно думал про себя: “Так
нельзя… Жизнь не должна быть такой… Вот из-за таких людей, как я… из-за таких
поступков, как этот, — распущенность и ложь, и несправедливость, и душевные
страдания воцарились в этом мире”.
И второй момент, на который интересно обратить внимание:
приведенный нами внутренний монолог передает «смутные» думы Антуана —
мысли, которые текут на самом глубоком уровне сознания (как не вспомнить и
здесь об Иосифе — о разделенных на «потоки» мыслях в «яме»!). Воздействие
события затрагивает именно сущность, а не оболочку человека, одновременно
способствуя отделению одного от другого: «Я чувствую, что под оболочкой доктора
248
Тибо скрывается еще кто-то, а именно — я сам… человек, который и сейчас еще живет во мне, — это как бы зародыш, с давних пор переставший развиваться». Это тоже итог размышлений, навеянных приближением войны. Казалось бы, он тут же смывается (или по-эдиповски остается «в пренебрежении») такими совсем новыми, а вместе с тем и знакомыми по манновскому роману, «помощниками» забвения как обязанности, налагаемые профессией, богатство, любовная связь — словом, если вспомнить Лавана, — «обстоятельствами». «Раз таковы условия жизни, которые для нас созданы! — мысленно продолжает Антуан свой спор с Жаком. — Реальность! Итак, будем исходить отсюда».
Однако время — именно потому что оно предстает в последней части романа дю Тара неотделимым от события, — не способствует «пренебрежению», а препятствует ему. Для Антуана, находящегося в армии и вернувшегося с войны после отравления ипритом, мысли глубинного потока, некогда быстро забываемые, становятся основными и определяющими[74]. Глубокое чувство товарищества в минуты опасности, стойкое противодействие преступным приказам командования в отношении раненых, бесповоротное решение «никогда не вернуться к прежнему образу жизни» после демобилизации, героический стоицизм и человеческая красота последних месяцев жизни, запечатлевшаяся в дневнике, — все это от преодоления преуспевающего доктора Тибо «самим» Антуаном. Но, с другой стороны, этот последний период жизни отмечен одиночеством, тщетностью поисков внутренних контактов с людьми, отсутствием даже «воспоминаний о том, что в книгах зовется «большой любовью». И это предстает как расплата за слишком поздно пришедшую «память» о своем подлинном «я» и именно так понимается Антуаном. Так что можно снова вспомнить классическую трагедию: вина и ответственность принимается героем добровольно, свободно. «…Сегодня вечером (уединение, давность…) я понял довольно ясно, что благодаря… жизненным правилам, благодаря привычкам, которые вырабатывались в силу подчинения правилам, я искусственно, сам того не замечая, исказил свой первоначальный облик и создал себе некую личину… постепенно… я без труда приспособился к этому выработанному мной самим характеру». Вот к такому, отмеченному «суровостью» (слово из дневника Антуана) восстановлению прав памяти и значимости поступков приводит своеобразный
249
«союз» времени с событием, играющий, можно сказать, решающую роль на финальном этане конфликта.
Судьба Жака раскрывает это с не меньшей очевидностью, «…казалось, в воздухе носилось что-то угрожающее, страшное, что-то не зависящее ни от нее, ни… от него, но что должно было внезапно разразиться». Это — из описания объяснения Жака с Женни после проводов Даниэля в его полк, вот-вот посылаемый на позиции, и накануне отъезда самого Жака по ответственному, связанному с войной, партийному заданию.
Грозовая атмосфера надвигающегося события неприметно влияет на решение Жака объясниться с Женни. Недаром оно складывается без размышлений, вернее — вопреки им, и осуществляется с немалым участием случая: «Несомненно, не вмешайся пустячная случайность, он пришел бы в себя и подчинился снова лихорадочному ритму своей жизни… Тогда целый мир возможностей навсегда закрылся бы перед ним… Но вмешался случай».
В сложном переплетении с другими факторами, событие способствует выяснению значения пребывающего в «пренебрежении»: поступков Жака и Женни, которые, вызвав некогда обиду и вместе с тем чувство вины у обоих, именно потому, с помощью времени и молчания, насильственно забывались. В союзе же с событием время из «душителя» поступка становится его «защитником» — фактором обнаружения подлинной значимости и того, что осуществлялось в действии, и того, что почти не фиксировалось сознанием: «Такие вещи не стираются… пускай пройдут четыре года, десять лет — какое это имеет значение?.. Они только растут, вкореняются в нас так, что мы этого даже не замечаем», — говорит Жак.
Так на личных линиях конфликта событие выступает как один из решающих факторов поступка. Тем самым оказывается осложненной нравственная аргументация, отличающая манновскую тетралогию. Но намечается и некая абсолютизация роли события, некий оттенок «роковой» исключительности и непреодолимости его влияния.
Сложность и противоречивость соотношения события и поступка раскрывается в судьбе и в общественно-политической позиции Жака.
В минуты откровенности с самим собою или в беседах с близкими Жак осуждает свою самонадеянность и индивидуализм, осознает уводящие от революционного пути стороны своего мировоззрения. Но он «забывает» о своих
250
сомнениях: они возникают как бы мимоходом, не выясняются до конца, а тем самым не преодолеваются. В этом состоит трагическая вина Жака Тибо.
Последние встречи Жака с товарищами по борьбе призваны создать фон, оттеняющий его вину: показать, что принимаемое им решение не является ни единственно возможным, ни исторически правомерным. Именно благодаря этому оттеняющему фону трагическая линия Жака предстает здесь не только как идущая от XIX века и характерная для первых частей «Семьи Тибо» «коллизия между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления»1 но и как трагедия необретенного пути.
И это очень показательно. Трагизм необретенного пути в реалистическом романе XX века оттенен так или иначе воплощаемой перспективой пути обретаемого, с какой бы сложной опосредованностью ни преломлялись новые исторические обстоятельства в творчестве художника критического реализма.
Это не значит, конечно, что необретенность пути сама по себе становится источником трагического, предпосылкой значительной коллизии. Но она становится ею в том случае, когда заблуждение предстает виною, а необходимость расплаты — нравственной, внутренней необходимостью, говорящей об открытии нового уровня ответственности человека перед обществом, перед историей.
Предсмертный дневник Антуана занимает большую часть эпилога и посвящен осознанию жизни братьев Тибо как трагедии необретенного пути. Причем о принципиальной возможности обретения пути в дневнике Антуана сказано с большей определенностью, чем в обращенном к Иосифу последнем наставлении Иакова. «…Почему бы, — размышляет Антуан, — в этом ребенке (сыне Женни и Жака. — М. К.) не видеть предназначения? Завершения непонятных стремлений… направленных на создание высшей разновидности семейства Тибо? Гений, которого природа должна неминуемо создать после того, как она создала лишь несовершенные прообразы его: моего отца, моего брата и меня? Эти неукротимые порывы ярости, эта властность, которые жили в нас… почему на сей раз не распуститься им, не стать подлинно творческой силой?» (Курсив
251
наш. — М. К.) И чем дальше, тем настойчивее представление о подлинно творческой силе связывается в дневнике Антуана не только с максимальной реализацией внутренних возможностей одаренной личности, но и с широкой преобразующей деятельностью, направляющей ход событий, совершенствующей общество, устремленной к идеалам будущего. При этом характерно, что, вопреки идеализации начинаний Вильсона и интересу к другим ординарным политическим проектам, Антуан отрицает (здесь опять вспоминается манновский образ — Фамари, с ее неистовым стремлением приобщиться к уже открытому) подлинно творческое начало в увлечениях «любой уже готовой теорией», обеспечивающей «одобрение большинства». Иронизирует Антуан и над «доброй волей и мученичеством мудрецов», преисполненных решимости, но не обладающих реальной возможностью вмешаться в ход событий и воздействовать на них. Принимаемая было аналогия из области медицины: поведение «настоящего человека» перед лицом события подобно поведению врача у постели больного — скоро отвергается. Ибо основным, хотя и не очень четко осознанным и не очень ясно формулируемым вопросом является для Антуана не вопрос реакции на «больную» ситуацию[75], а проблема возможности новых исторических обстоятельств и роли творческой активности личности в ряду их предпосылок.
Поступок, творчество, будущее снова составляют содержательный и формальный центр последней ступени трагического конфликта. Но здесь эта триада, в свою очередь, сосредоточена вокруг четвертого «слагаемого» — события. Отсюда свойственный всему роману дю Гара историзм, сказавшийся не только в проблематике, но в теме, жанре, характерах. Однако соотношение события и личности становится в «Семье Тибо» все более поверхностным по мере стремления выдвинуть событие на первый фабульный план романа. Отсюда относительное «обмеление» психологической глубины анализа, лишь в финале вновь набирающего исходную глубину.
Изображение судеб человека и раскрытие новых возможностей личности в непосредственной связи с огромными историческими сдвигами, в отношении с большим событием составляют суть шолоховского «Тихого Дона». В отличие от дю Гара, автор романа-эпопеи раскрывает по только роль события в формировании тех или иных решений или поступков героев, но утверждает логикой образов,
252
что поступки отдельных людей, в свою очередь, — действенный фактор в формировании события. Именно шолоховский роман в большей мере, чем «Семья Тибо», утверждает, что художественное исследование человеческой личности в системе исторических факторов не только не исключает, но, напротив, предполагает огромную роль собственно нравственной проблемы и воплощение конфликта, организованного поступком.
Новый подход к поступку, осуществляемый большой литературой XX века, мало где обнаруживает такую добирающуюся до исконных основ человека глубину, как в раскрытии поведения главного героя шолоховского романа.
«Крепко берег Григорий казачью честь, ловил случай выказать беззаветную храбрость, рисковал, сумасбродничал… джигитовал казак… с холодным презреньем играл он чужой и своей жизнью… четыре Георгиевские креста и четыре медали выслужил. На редких парадах стоял у полкового знамени, овеянного пороховым дымом многих войн». Таков апогей «послушания» и «лада с современностью», достигнутый Григорием на втором году войны, накануне революции, «…берег казачью честь» — то есть следовал традициям среды, находился в согласии («ладе») с нею; «ловил случай» — то есть находил благоприятные обстоятельства и согласовал с ними свои действия: сумасбродничал («самовольно увлек сотню в атаку») — то есть демонстрировал способности, любовался своей незаурядностью, удачливостью; «играл жизнью» — то есть не признавал ответственности, не задумывался о последствиях, иначе говоря — уходил от поступков. Приведенный нами отрывок (кн. 2, гл. IV) — самая развернутая авторская характеристика героя. Не случайно она носит в известном смысле итоговый характер и дается именно в этом переломном моменте повествования: перед обращением к принципиально новым по своей роли в судьбе героя событиям. «Итоговая» характеристика подчеркивает, что такое событие как империалистическая война не стало переломом на глубинном потоке конфликта — в отношениях с поступком.
Понятие вины просто не входит в те нравственные представления, которыми обладает Григорий той поры. Так же как к действиям, им тогда совершаемым, фактически неприменимо такое понятие, как решение. В этом смысле характерна сцена присяги: «Григорий стоял, не вслушиваясь в
253
слова присяги, которую читал священник… в уме вразброд шла угарная возня мыслей… Подходил под крест и, целуя влажное серебро, думал об Аксинье, о жене. Как вспышка зигзагистой молнии, перерезало мысли короткое воспоминание: …влажный горячий блеск черных, из-под пухового платка, Аксиньиных глаз». В коротком этом описании, с одной стороны, обнаружена полная свобода Григория от воздействия религии и даваемых ею нравственных ориентиров, некогда способных направлять действия и организовывать поступок, — мысли и чувства Григория ни в малейшей степени не ищут в этот трудный для него момент поддержки у церкви, они полностью изолированы от окружающего «благолепия»; с другой стороны, здесь раскрыта беззащитная невозмужалость этой отказавшейся от внешних опор и еще не нашедшей опоры внутренней, идущей вразброд угарной и смятенной мысли, не способной организовать решение. Эта нравственная эмбриональность подана во всей специфичности особенностей, накладываемых на нее «местными» нравами, обстоятельствами, бытом. И вместе с тем она ощущается как одна из самых общих проблем, порождаемых веком. Именно о той же нравственной неразвитости говорит присущее манновскому герою убеждение в том, что «все любят его больше, чем самих себя»: оно тоже исключает само понятие вины и ответственности. Причем это специфическое нравственное состояние, не до конца преодолеваемое даже в моменты «расплаты» (в «ямах»), играет немалую роль в формировании конфликта. Герой романа дю Гара Антуан тоже лишь накануне серьезных испытаний ощутил, что его настоящее нравственное «я» существует только как «зародыш, с давних пор переставший развиваться». Тогда Антуан понял, что убивающий этот зародыш энергичный «доктор Тибо» умеет действовать, но не поступать: он произносит смелые профессиональные приговоры и вместе с тем чувствует себя беспомощным в сфере нравственных решений. Жизнь Антуана и роман дю Гара обрываются на этом прозрении, осложнившем течение конфликта лишь в финальной части романа.
Для героя «Тихого Дона» соотношение энергичного действия и поступка, стихийным чувством подсказанной решимости и решения, жалости и знания (нравственного знания), вины и ответственности — является тем углубляющим русло конфликта потоком, который создает личность. Конфликт формируется, таким образом, не только размежеванием Григория-казака и Григория-человека; Григория, на-
254
ходящегося в ладу со средой, — и из нее «выламывающегося»; Григория, «играющего своей и чужими жизнями», — и подвластного порывам человечности. Одновременно выявляются и постепенно все более непримиримо сталкиваются в душе героя и в его судьбе уже названные «ряды»: действие и поступок, жалость и знание вины, решимость и решение, знаменующие этапы отношения героя к другим людям и к себе самому.
Проблема поступка необычайно остро встает в образе Григория, с какой-то особой нерасторжимостью сливаясь со всем, что относится к нему.
«…Она, жизня,
В двух подчеркнутых нами словах, почти следующих друг за другом, по существу, суть кульминационной стадии конфликта.
С одной стороны, привычная и, казалось бы, неопровержимая ссылка на обстоятельства, пошатнувшие все устои, непреодолимо вторгающиеся во внутренний мир каждого человека, затрагивающие и властно определяющие личные судьбы; переплетение закономерности событий, прихоти случая, неизбежности влияния ближайшего окружения — все это объединено одним словом «жизнь», и на все это возлагается ответственность за «вины», невзгоды и судьбы: «жизня… виноватит…» И с другой стороны — признание личной, непосредственной ответственности и принятие всей полноты виновности за общий «ход» всей круто «похитнувшейся» жизни. Это выявляющееся в кульминации «Тихого Дона» противоречивое отношение к поступку преломляет общую проблему формирования личности в ситуации XX века.
«Выметываясь из русла, разбивается жизнь на множество рукавов. Трудно предопределить, по какому устремит она свой вероломный и лукавый ход». (Кн. 1, гл. XVIII). Подобных авторских обобщений, подчеркивающих власть трудно предопределимых ходов жизни, их вероломство и лукавство по отношению к искомой человеком истине и соответственной линии поведения, очень много в «Тихом Доне». Правда, слово «жизнь» подразумевает порою совсем иное содержание и вообще весьма многозначно в употреблении, но в интересующем нас сейчас и многих аналогичных случаях оно, включая очень разные аспекты, в чем-то близко манновской «современности». Слово «жизнь»
255
подразумевает здесь прежде всего сумму ближайших социально-бытовых и политических обстоятельств, которые порою однобоко и даже искаженно преломляют общую историческую ситуацию, а также проявления биологических начал и «стихий», от которых не изолированы ни социальные коллективы, ни отдельные люди.
Постепенно, трудно зреет у Григория сопротивление освобождающему от ответственности принципу «жизнь виноватит». Вопреки «ладу» с так понимаемой жизнью, подвластности ее «неписаным законам», происходит трудное восхождение Григория на высшие ступени отношений с поступком, определяемые трагической виной, ответственностью, памятью — в эдиповом ее понимании. Власть «неписаных законов жизни» постоянно наталкивается на стремление к обретению собственной позиции, волю к поступку и неуклонно углубляющееся чувство ответственности и вины. Вся стержневая для романа линия конфликта организована этим обостряющимся и вместе с тем все более лаконично и подспудно выражаемым сопротивлением легкой возможности прятаться от вины и ответственности за случаем, событием, забвением, непреодолимыми обстоятельствами.
Но позиция «я виноватый» постоянно поддерживается и активизируется памятью о том, что оставалось в «пренебрежении». В полном соответствии с ассоциативным строем реалистического романа XX века в сознании героя всплывает то тот, то иной мотив из давно, казалось бы, забытой, «вытравленной из сознания» правды.
От эпизода к эпизоду восстанавливаются права некогда оставшегося в пренебрежении, углубляется неудовлетворенность собою, ощущение необретенности пути, того, что «…может, и я в этом виноватый».
Готовность нести наказание за заблуждения, за «забвение» вступают в финале романа в последнее предельно напряженное единоборство. С одной стороны, сгибаясь под ударами жизни, Григорий скрывался за ними от вины и ответственности, «судорожно цепляясь за землю». С другой стороны, не может ждать удобного укрытия от ответственности, скрываться от вины милостью благоприятного стечения случайных обстоятельств. Преодолев судорожную приверженность земле, герой романа избирает тяжкую, возвышающую дорогу искупления.
Нами выделен, разумеется, тот аспект воплощенной в «Тихом Доне» проблемы ответственности личности, кото-
250
рый, при всей дистанции, соотносим не только с дю-гаровским воплощением героя, приобретающего новые нравственные критерии при столкновении с новой исторической ситуацией, но и с манновским «лабораторным» поиском ответа на вопрос — что есть современный человек по своему нравственному потенциалу. Во всяком случае, как ни парадоксально это звучит, в зарубежной литературе XX века вряд ли есть произведение, в котором постановка проблемы ответственной личности более близко соотносилась бы с сутью манновского «мифологического эксперимента», чем одна из линий романа русского писателя, который остался неизвестным или не признанным Т. Манном. То, что такие насыщенные социальной проблематикой полотна, как «Семья Тибо» и «Тихий Дон», могут составить в отношении «мифологического эпоса» не только пассивный фон, но и активное соотношение, подтверждает всегдашнее убеждение самого Манна: нравственная проблема (и даже тот нравственный «заряд», которым обладает само слово) не может оставаться «нейтральной» к социальным и идейным «нуждам» своего времени.
Непосредственно последовавший за «Иосифом» роман о «Фаусте XX века» раскроет и подтвердит это еще с большей несомненностью. Но прежде, чем перейти к «роману-итогу», скажем несколько слов в пояснение и в оправдание предпринятых нами неожиданных обращений к дю-гаровскому и шолоховскому эпосу.
Нам представляется, что это обращение в известной мере подтвердило, что не только жанр, тема и характер героя, но и тип конфликта1 способен продемонстрировать типологическую близость произведений очень различных, но устремленных к познанию современного человека. Решая такую задачу, нельзя идти путем установления более или менее близких текстовых совпадений. Огромность дистанции в темах и жанре толкает на «обходные» пути анализа. Соприкасающиеся черты проблематики и форм произведений, столь несопоставимых по внешним своим данным, могут быть выявлены лишь изнутри, при специальном обращении к тексту каждого из них, рассматриваемому, однако, под
257
одним и тем же углом зрения и в одной и той же перспективе. Наш анализ и был направлен к тому, чтобы соприкасающиеся черты проблематики и форм могли раскрыться органически и столь во многом непохожие произведения встретились бы в сфере их сближающей, с тем чтобы обогатить в какой-то мере наше понимание каждого из них.
«ДОКТОР ФАУСТУС»
Раскрытие
нравственных потенций „героя нашего времени" в романе-трагедии
Т. Манн говорил, что «Доктор Фаустус» был единственным его романом, который не «возрастал» в своем значении в процессе создания, а сразу же писался так, как был задуман: роман эпохи в виде мучительной и греховной жизни художника. Так могло быть потому, что периодом созревания этого замысла была фактически вся творческая жизнь его автора: проблема Фаустуса не только незримо присутствовала в прошедшем через всю жизнь «Авантюристе», но какими-то своими сторонами осуществлялась в центральных для творчества Манна образах. Он сам перечисляет их в порядке приближения к герою «Фаустуса»: Томас Будденброк, Ганс Касторп, Иосиф, Гете и, наконец, Ганно Будденброк, — всем им в той или иной мере была присуща неудовлетворенность своей судьбой, беспокойные искания; все они сталкивались с «искушениями», с необходимостью выбора и испытанием стойкости.
Т. Манн имел все основания выделять «трагический образ… маленького Ганно» среди других «предшественников» Леверкюна, и называть поздний роман «запоздалым собратом» именно «Будденброков», и подчеркнуть эту преемственность героев, связав того и другого с музыкой. Ибо Ганно Будденброк был первым героем, поставленным Манном перед выбором между жизнью и смертью, то есть в подлинно трагическую коллизию. В свете «романа-итога» явственно обозначается роль трагического начала в романах Т. Манна: тот или иной атрибут трагического героя, трагического конфликта присутствует в каждом из них. Ситуация выбора, проблема свободы от обстоятельств, проблема ответственности и организованный «вокруг» поступка конфликт — все это, как уже отмечалось нами,
258
имело первостепенное содержательное и формообразующее значение в организации манновского романа. Причем всегда возникала при этом особая организация самой формы романа, которая должна была так или иначе осваивать органичную для Манна этико-трагическую проблематику.
Разумеется, «Доктор Фаустус» был «романом эпохи» и в узком смысле этого понятия, то есть эпохи разгрома фашизма, и она, несомненно, имела решающее значение для окончательного оформления фаустовской темы. Но вместе с тем и прежде всего он был романом эпохи в широком смысле слова — романом, стремящимся проникнуть в историческую и духовную ситуацию конца XIX и первых четырех десятилетий XX века, которую автор «Фаустуса» (и это свойственно манновскому методу вообще) исследует и изображает главным образом в последствиях и сдвигах, вносимых ею в духовную жизнь и нравственные возможности человека. Проблема трагической вины порождена эпохой в узком смысле слова и занимает «передний план» повествования и характеристики героя. Но к ней не сводится трагическая проблематика, развиваемая романом в целом. Потому что как бы ни было велико значение для манновского (и гетевского) Фауста мотива вины и искупления — основой образа является отношение к злу, противодействие ему, уменье обратить зло в добро, в творческую продуктивную силу. Это и есть проблема «Фаустуса», идущая от эпохи в широком смысле слова. Этот-то трагический фаустовский аспект, возникший задолго до «Доктора Фаустуса», стал объединяющим стержнем для столь разных и хронологически удаленных друг от друга романов Т. Манна. Вместе с тем в широком аспекте фаустовской проблематики наглядно раскрывается близость манновских исканий и интересов к тем вопросам и проблемам, которые оказываются актуальными для современной ему европейской литературы.
Для западноевропейских писателей и мыслителей проблема трагического как проблема противостояния современного человека злу, господствующему в окружающем его мире, как вопрос формирования «настоящей» личности (в понятие это вкладывался разный смысл) остро вставала с самого начала века. В системе философских воззрений Ницше, Шопенгауэра, Шпенглера она играла очень большую роль. «Счеты», которые сводил зрелый Манн с этими мыслителями, были в значительной мере сосредоточены
250
на этой проблеме, что мы и попытаемся показать при анализе самого романа, ибо все, что говорил Манн по этому поводу в статьях или письмах, органичнейшим образом связано с воплощенным в романе художественным решением.
В более поздние годы проблема трагического противостояния человека миру получила свою интерпретацию у философов и писателей экзистенциалистского толка (или, вернее, была «снята» ими), расхождения с которыми воплощены опять-таки на страницах самого романа.
Проблема непримиримо-трагического противостояния злу, а также вопрос о формах претворения трагического конфликта стоят в центре внимания художников-реалистов, пишущих в самых разных жанрах.
Для Роллана, например, начиная с «Народного театра» и на протяжении всего его творческого пути, проблема трагического выступала то в плане создания новой народной трагедии, то в связи с романом-эпопеей. Шоу (в эссе о «Гамлете») размышляет о возможностях смыкания трагического с комическим, с сатирой. Франс в раннем «аллегорическом рассказе» «Трагедия человека» ставит этот вопрос в историческом и мировоззренческом плане. А для Голсуорси («Силуэты шести писателей», «Несколько трюизмов по поводу драматургии»), для Моэма («Подводя итоги»), так же как для Т. Манна, вопрос о трагическом тесно связан с проблемой нравственных возможностей современного человека и с вопросом о путях воплощения трагической проблематики и конфликта в современных драматических или повествовательных жанрах.
Те же ракурсы проблемы и исканий в области формы получают продолжение в таких, например, характерных явлениях последующих десятилетий, как эпическая драма Брехта, произведения на «испанскую» тему Хемингуэя («По ком звонит колокол»), романы Арагона (особенно построенный на сложной ассоциативной связи с расиновской трагедией «Орельен»). И всегда стремление к воплощению трагической ситуации, трагического героя претворяется выдвижением новых формальных решений в области структуры произведения или его повествовательной формы, так же как это было у Манна.
«Я решил, — вспоминает Т. Манн, — поставить между собой и героем посредника — «друга»… главным моим выигрышем при введении фигуры рассказчика была возможность выдержать повествование в двойном временном пла-
260
не, полифонически вплетая события, которые потрясают пишущего в самый момент работы, в те события, о которых он пишет»1.
«Временные» функции рассказчика, то есть освещение всей сознательной жизни героя романа (он начал творить в начале 900-х и кончил свою деятельность в 1940 году) биографом, пишущим в 1943—1947 годы (то есть в годы реального создания романа), призваны к воплощению единства узкого и широкого понятия «эпоха», о котором мы говорили выше. Но у рассказчика есть и другая не менее важная функция, — контрастно оттенить присущий герою романа «демонизм», то есть его приобщенность к злу современного мира, на которое рассказчик взирает со стороны, с позиций нравственных норм и понятий прошлого века. Кроме того, фигурой рассказчика Манн утверждает первостепенное значение не субъективной самооценки, а объективных «показаний» при испытании нравственного потенциала человека, личности (недаром автор «Фаустуса» признавался, что роль рассказчика отчасти подсказана ему «биографией» Феликса Круля), которое предпринимается[76] и в этом его романе; и, наконец, рассказчик должен внести в атмосферу «фаустовской» тематики некоторый оттенок «снижения» и юмора, необходимых для ее существования в рамках не высокой трагедии, а современного романа.
Все эти многообразные функции рассказчика — результат синтезирования богатого опыта литературы прошлого и очень современных тенденций2 — мы попытаемся раскрывать постепенно, в ходе анализа романа. А пока скажем только, что все эти функции рассказчика раскрываются в своей основной направленности именно в полифоническом единстве3, ибо в конечном счете все они направлены к раскрытию сущности демонически-трагического героя и созиданию соответствующей трагедийной структуры конфликта в рамках современного эпического повествования. Именно к этой единой задаче сводится многообразие функций рассказчика.
261
Несостоятельность нравственных «измерений» прошлого века применительно к той мере «изысканного» зла, с которой встречается человек, погруженный в ситуацию нового века, прямо заявлена словами самого героя романа, во многом определяющими его отношения[77] к рассказчику.
«…Девятнадцатое столетие было, наверно, на редкость уютной эпохой, ибо человечество никогда с такой горечью не расставалось с воззрениями и привычками прошлого, как в наше время», — сказал однажды Адриан Леверкюн.
В словах Леверкюна звучит и ирония, и грусть, и небрежность, и почтение, и превосходство, и удивление, и ощущение власти традиций, и желание покинуть уют прошлого и столкнуться со всей противоречивостью и жестокостью своей эпохи. Это сложное отношение к духовной жизни прошлого века претворяется во всем романе, начиная с первых же глав, рисующих детство Леверкюна.
Если вспомнить воссозданный с такой архаической эпической обстоятельностью и медлительностью в самой манере описания уклад жизни на фольварке Бюхель и столь же подробно, в деталях выписанные портреты его обитателей, то нельзя не почувствовать, как близки эти картины атмосфере некоторых глав «Поэзии и правды» или «Вильгельма Мейстера».
Невозможно отделаться от этих ассоциаций, читая, например, начало главы III «Доктора Фаустуса».
«Леверкюны были родом искусных ремесленников и зажиточных земледельцев, процветавшим в Шмалькальденском округе да еще в Саксонской провинции на берегах Заале. Прямые предки Адриана на протяжении многих поколений владели фольварком Бюхель, в приходе Обервейлер, неподалеку от железнодорожной станции Вейсенфельз, — всего в сорока пяти минутах езды от Кайзерсашерна, — от которой дальше приходилось добираться уже на лошадях. Хозяева такого фольварка, как Бюхель, с его пятьюдесятью[78] моргенами пахотной земли, лугами, лесными угодьями и поместительным деревянным домом на каменном фундаменте, по справедливости считались богатеями. Вместе с овинами и скотным двором усадьба образовывала четырехугольник, в середине которого — никогда мне ее не забыть! — росла могучая старая липа, в июне месяце вся покрывавшаяся пахучими цветами и, как кольцом, окруженная зеленой скамейкой…
Как часто, должно быть, играл и потом засыпал в тени старой липы маленький Адриан, второй сын Ионатана и
202
Эльсбеты Леверкюн, родившийся в 1885 году в одной из верхних комнат бюхельского дома, в пору, когда только зацвели деревья…
Ионатан Леверкюн был немец в лучшем смысле слова, тип, который ныне едва ли встретишь в наших городах… Черты его, прочно сохраненные сельской жизнью, казалось, были вычеканены в далеком прошлом и в наши дни перешли из времен, предшествующих Тридцатилетней войне… Пепельные, всегда спутанные, не по моде длинные, волосы… ниспадали на затылок и на выпуклый лоб с проступающими жилками на висках возле маленьких красивой формы ушей, переходили в кудрявую окладистую бороду, белокурые завитки которой плотно покрывали скулы, подбородок и углубление под нижней губой».
Эта непосредственно смыкающаяся с «уютным» прошлым обстановка кажется особенно «уютной», потому что главы о детстве Леверкюна прямо следуют за вступлением рассказчика — Серенуса Цейтблома — совсем о других временах.
Цейтблом — профессор филологии, знаток и любитель музыки, буржуазный демократ по своим политическим взглядам, ушедший в отставку после прихода к власти фашизма. Представляясь читателю как друг Леверкюна, находящийся рядом с ним всю его недолгую жизнь, рассказчик, прежде чем перенести читателя в усадьбу, где рос маленький Адриан, характеризует тот исторический момент, в который приступает к повествованию. «…В настоящее время (Цейтблом начинает свои записки в мае 1943 г. — М. К.) нечего и думать о том, чтобы моя рукопись увидела свет, если только чудом она не окажется за стенами осажденной «крепости Европы» и там хоть отчасти приоткроет темную тайну нашего одиночества… Перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, неспокойствие, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне…» и т.д. Казалось бы, подобные отступления рассказчика не имеют никакого отношения к основному повествованию. Но это впечатление обманчиво. В романе нет самостоятельных, не подчиненных основной коллизии, основному характеру содержательных «сфер», — по выражению самого Т. Манна из «Романа об одном романе». И это является одной из очень важных особенностей структуры «Доктора Фаустуса».
Вообще надо сразу же оговориться, что без постоянного раскрытия прихотливейших и сложнейших связей (запо-
263
мним это слово: оно будет играть большую роль в дальнейшем) каждого данного высказывания героя, каждого данного момента повествования с предыдущими и последующими нельзя проникнуть в художественный мир романа[79], а следовательно, и в заключенную в нем концепцию трагического. Но вернемся к прерванной мысли.
Впечатления детства не исчерпывались для Адриана бытовой идиллией.
В романах Гете и многих романах XIX века полный «тайн» и противоречий «большой круг жизни» вводится в произведение лишь после разрыва героя с окружающей его в детстве патриархальной идиллией. В романе Т. Манна «большой круг» незаметно, как бы исподволь входит в непосредственное соприкосновение с «малым», оттеняя и растворяя его в себе. В ходе повествования получается как-то так, что немногочисленные страницы, посвященные философским размышлениям и занятиям Леверкюна-отца, оказываются в центре глав о детстве Адриана, а количественно преобладающие, тщательно выписанные картины быта отходят на второй план, тускнеют.
Казалось бы, очень незатейливые наблюдения старшего Леверкюна над бабочками, раковинами, причудливыми узорами инея на стекле, его опыты с вибрирующей пластинкой, каплей и пр. подаются с такой проникновенной серьезностью, таинственностью и значительностью, с таким продуманным подчеркиванием определенных деталей, что создают в своей совокупности специфическую мистическую атмосферу, свойственную произведениям многих писателей романтизма.
Человеку не дано проникнуть в окружающий его мир, — он за его порогом, он лишь предчувствует и лишь духовно, вполне пассивно, проницает (именно проницает, а не пытается противостоять, как герой революционного романтизма) эту таинственную жизнь и свои связи с нею.
«Что касается таинственных письмен, не перестававших волновать воображение Ионатана Леверкюна, то они словно были выведены красновато-коричневой краской на белом фоне новокаледонской раковины среднего размера…»
«Теперь уже установлено, что проникнуть в смысл этих знаков — невозможно… Они ускользают от нашего понимания, и как это ни обидно, но так оно будет и впредь…» — говорит Ионатан. И прибавляет в, заключение: «…Смысл этих знаков нам недоступен».
264
Так в идиллическую картину уютного примитивного существования обитателей Бюхеля, деформируя, оттесняя, разлагая образ этой патриархальной уравновешенности, внося в него что-то «двусмысленное» (здесь уместно употребить это приобретающее впоследствии большое значение и очень любимое героем романа слово), вторгается атмосфера «тайны», смутного страха, непознаваемости объективного, перед лицом которого человек трагически бессилен и обречен. Старомодный, патриархальный Леверкюн-старший, по существу, приобщает своего сына и его друга к «вопросу вопросов» современного им декаданса, хотя и сам Ионатан, и один из его слушателей (рассказчик) связывают эти рассуждения и изыскания скорее с далеким прошлым — веком алхимиков, чем с настоящим. У Адриана же все рассуждения отца о «тайне» и ее «непостижимости» не вызывали ничего, кроме насмешки: «Адриан… я это отлично видел, трясся от сдерживаемого смеха».
Трагический «вопрос вопросов» так называемой «литературы конца века» не только не воспринимается Адрианом как нечто значительное (для вполне сознательного восприятия он еще просто слишком мал), но даже не вселяет в него бессознательного ощущения чего-то важного, грозного.
Слово «уютный», определяющее отношение героя к прошлому веку (в данном случае, конечно, только к определенной стороне духовной жизни его последних десятилетий), раскрывается здесь в одном из своих смыслов и звучаний: уютно жить в эпоху, принимающую за трагическое то, что попросту смешно. Разумеется, этот оттенок оценки далеко не исчерпывает содержания высказывания. В дальнейшем мы еще не однажды вернемся к «счетам» Леверкюна с XIX веком.
Атмосфера, окружающая Адриана Леверкюна в годы юности — в гимназическую пору, во время пребывания на богословском факультете в университете в Галле и в Лейпцигской консерватории, — это во многом атмосфера его детства: патриархальное медленное течение жизни, старомодность, ограниченность, традиционность и консерватизм взглядов, понятий, узкий круг однокашников, учителей, родных.
Чуждость Адриана этой среде, его ярко выраженная обособленность, превосходство над окружающими, достаточно хорошо им самим осознанные, — все это, можно
265
сказать, классически воссоздает предпосылки трагической коллизии, характерной и для многих произведений романтизма, и для реалистического романа прошлого столетия.
В изображении отношения героя к окружающим его людям ощущаются черты то типично романтической, то традиционно реалистической манеры повествования. Впрочем, это сплетение часто дополняется и вполне специфическими принципами изображения, связанными с введением в текст, или сначала, скорее, в подтекст, фаустовских ассоциаций.
Вот Адриан-гимназист в провинциальном Кайзерсашерне; вместе со своим другом он осматривает лавку музыкальных инструментов, принадлежащую его дяде. В суховато-обстоятельное описание обстановки, предметов вторгается напряженный пафос, в бытовую картину — трагическое пророчество: «Он… как вообще холодный по натуре человек, сохранял несколько насмешливое равнодушие ко всему этому великолепию и на мои восторги по большей части отвечал коротким смешком или неопределенным «да, недурно», «смешная штука» и пр. …он прятался за этой отговоркой, прятался от музыки. Долго, с вещим упорством, прятался этот человек от своей судьбы».
Даже прозаичнейшее описание отношений с учителями не лишено той же приподнятости, напряженности мысли и стиля: «…Адриан по всякому поводу давал понять мне и, как я опасался, учителям, сколь безразличен, сколь второстепенен был для него курс гимназического обучения. Меня это пугало — не из-за будущей его карьеры (с такими способностями она была ему обеспечена), а потому, что меня тревожил вопрос, что же в таком случае для него не безразлично, не второстепенно? Я не видел «главного», да и нельзя было его увидеть».
Рассказ о школьных годах племянника провинциального купца то и дело перебивается такими, например, тирадами: «В отличие от меня, он очень заботился о том, чтобы в самой насмешке оставить за собой свободу признания, право на дистанцию, дающую возможность сочетать благосклонное попустительство, условное приятие, даже восхищение с издевкой, с язвительным хохотком… В такой позиции… есть нечто… пугающее, дерзостное, невольно заставляющее тревожиться о его душе».
В тех же первых главах романа рассказчик несколько раз упоминает о «страшном конце» Леверкюна, о его «по-
266
трясающей жизни», об ужасающей связи между гением и темным царством. Описывая город, в котором прошли гимназические годы Адриана, рассказчик называет его как бы невзначай «городом ведьм и чудаков» и заканчивает это описание опять-таки неожиданно патетическим вопросом: «Отпустил ли его Кайзерсашерн? Не оставался ли при нем, куда бы ни вели дороги Адриана?»
Постоянные упоминания о греховности, дерзостности, тревоге о душе, средневековая обстановка и резкий контраст с нею человека гениального, необычного — все это, соотносясь, конечно, с заголовком романа, зароняет в читателе мысль о существовании какой-то многозначительной связи между Леверкюном и Фаустом. Связи, которую нужно выуживать в подтексте, схватывать в деталях, даже не имеющих прямого отношения к герою романа[80].
Наивно-восторженный взгляд на Леверкюна, в основном присущий рассказчику, все чаще сменяется страхом, ужасом, непониманием, с которыми этот поклонник классической древности и вообще всего традиционного и устоявшегося взирает на отрицание Адрианом авторитетов и традиций, на его искания и заблуждения. Постоянная соотнесенность с «классическим» Цейтбломом — заурядным приверженцем: гуманизма, прогресса, демократии и свободы в их обычном буржуазно-демократическом понимании — еще рельефнее подчеркивает «греховное», фаустовское начало в Леверкюне. Ассоциация Леверкюн — Фауст осложняется контрастом Леверкюн — Цейтблом. «В отличие от меня», — очень часто говорит рассказчик. Позиция удивленного, смятенного, восхищенного, испуганного, настороженного, ограниченного, но всегда заинтересованного и чуткого наблюдателя и «сопереживателя» сохраняется за рассказчиком и тогда, когда от повествования о прошлом он переходит к размышлениям о настоящем. «Неустанная официозная пропаганда крепко внедрила в наше сознание, как убийственны, как ужасающе страшны будут последствия поражения Германии, и мы против воли пуще всего на свете боимся его. Но есть нечто, чего мы — одни считая себя за это преступниками, другие откровенно и в сознании своей правоты — боимся еще больше, чем поражения, и это — победа Германии. Я едва решаюсь себя спрашивать, к какой из этих двух категорий я принадлежу». Здесь та же интонация смятения и восхищения, с какой рассказывается о дерзостно-пугающих «странностях» гениального, великого и греховного друга. И сам Цейтблом отмечает это.
267
«Все это я говорю затем, чтобы напомнить читателю, в какой общеисторической обстановке пишется история жизни Леверкюна, и показать ему, что волнение, связанное с моим трудом, постоянно и нерасторжимо сливается с волнением, причиняемым злобою дня».
Так, интонацией рассказчика, играющей, как мы увидим дальше, исключительно большую роль в раскрытии художественной мысли романа, Адриан соотнесен и с прошлым, представленным фаустовскими ассоциациями, и с будущим «лирических» отступлений рассказчика. Герой романа постоянно как бы «просвечивается» различными временными аспектами, является точкой, центром их пересечения. Но значимость этого очень своеобразного «сведения времен» вполне раскроется лишь в дальнейшем повествовании.
В первые же главы романа эти более сложные аспекты еще не включены. Повествование почти не выходит из традиционных сфер. Фаустовский подтекст чуть намечен. Те же самые места романа («что же… не безразлично, не второстепенно?..»; и «в такой позиции есть нечто… пугающее, дерзостное…» и пр.), которые приводились в подтверждение его наличия, в прямом своем значении воспринимаются вполне традиционно: просто рассказчик говорит о незаурядности Адриана и его несовместимости с окружающей его средой. Такие обобщения, непосредственно раскрывающие контраст между героем и действительностью, можно встретить и у Гете, Ж. Санд, Гюго, и у Стендаля, Бальзака, даже Флобера. Но в произведениях названных писателей прямые высказывания автора о герое тут же подтверждаются поведением и мыслями самого героя. Они служат как бы трамплином, отталкиваясь от которого автор рисует все большее углубление трагического расхождения героя с действительностью со всеми вытекающими из этого катастрофическими для него последствиями. В романе Т. Манна противоречия героя с окружающей его действительностью, средой так броско, определенно очерченные в характеристиках рассказчика, не подкрепляются, не находят продолжения в словах и поступках самого Адриана. Как только наступает момент, когда рассказчик дает слово Адриану, сейчас же обнаруживается, что косность среды и свое возвышение над нею (которое он прекрасно видит и замечает, как правильно свидетельствует рассказчик) отнюдь не воспринимается им как почва для возникновения непримиримого, трагического конфликта,
268
Сознание своей обособленности, одиночества в эту пору столь же мало может настроить его на трагический лад, внушить страх, как атмосфера «тайны», знакомая ему с детства. Адриан игнорирует, не замечает, отметает это противоречие. Для него это когда-то обладающее реальным трагизмом столкновение (столкновение между незаурядной личностью и окружающей ее средой) прежде всего банальность, которая лишена какого бы то ни было серьезного содержания.
Эта мысль особенно ясно выражена в рассуждениях и спорах о «юности», которые ведут с Адрианом его однокурсники — студенты богословского факультета во время их загородных прогулок. Под «юностью» они подразумевают свойственное «передовой» молодежи индивидуалистическое бунтарство, неопределенные мечты о либеральных реформах, о национальном возрождении. Всем участникам компании эти настроения «юности» кажутся значительными, содержательными, революционными по отношению к косной среде и даже к существующему строю. Отвечая на эти мнения, Адриан говорит: «В один прекрасный день оказалось, что век, который изобрел женскую эмансипацию и стал ратовать за права ребенка, — весьма снисходительный век, — пожаловал и юность привилегией самостоятельности, а она уж, конечно, быстро с нею освоилась… Нашему времени стоит только услышать: “Я-де обладаю специфическим жизнеощущением”, — и оно готово перед вами расшаркаться. Юность ломилась здесь в открытую дверь».
Последняя фраза Адриана поистине замечательна: трагическое столкновение незаурядной личности («специфического мироощущения») с окружающей средой предстает как комическое вламывание в «открытую дверь», как жалкая пародия на некогда значительное общественное содержание.
Товарищей Адриана целиком поглощают произносимые ими речи, они совершенно серьезно исчерпывают противоречия жизни теми схематичными антиномиями, которые возникают в их споре и которые кажутся им глубокими, во многом непреодолимыми.
Адриан же, который как будто бы тоже целиком захвачен спором, оказывается только внешне включенным в атмосферу этого разговора: «Ну, спокойной ночи, — сказал Адриан, — прерывая спор. Дискуссии… всегда следовало бы вести перед сном, тогда им хоть обеспечен благополучный исход. После отвлеченного разговора бодрствование духа —
269
пренеприятная штука». Последняя саркастическая фраза очень убедительно свидетельствует насколько далек Адриан от того, чтобы отнестись всерьез к этим отвлеченно-умозрительным коллизиям и принять их за отражение действительно серьезных жизненных противоречий.
Т. Манн как будто бы полностью оградил, изолировал своего Леверкюна от тех кричащих противоречий жизни, общественного уклада, на которые с первых же шагов так больно и постоянно натыкались молодые люди Стендаля, Бальзака, Флобера: непосредственно герой романа не страдает от сословной иерархии, социального неравенства, власти денег. Но это не значит, что Адриан, хотя и совершенно иными путями, не сталкивается уже в раннюю пору своей жизни с одной из отличительных «примет» своего времени, намекающей (пока только намекающей) на его страшную сущность.
Город Кайзерсашерн, в котором прошли гимназические годы Адриана, назван «городом ведьм и чудаков», что вполне соответствует тому большому и, как кажется, ничем не оправданному вниманию, которое уделяется рассказчиком этим странным «достопримечательностям» города.
«Но возвратимся к чудакам Кайзерсашерна: был там еще один мужчина неопределенного возраста, который от каждого внезапного окрика начинал отчаянно дрыгать ногой; при этом с его лица не сходила какая-то печальная уродливая гримаса, словно он просил прощенья… Далее, в Кайзерсашерне проживала некая Матильда Шпигель, казавшаяся выходцем из другого века… Был там… еще и мелкий рантье… прозванный ребятишками «Тю-тю-лю-лю» из-за привычки к каждому слову прибавлять эту дурацкую трель».
В чудачестве этих персонажей проступает общая черта: «изъян» каждого из них лишает их возможности общения с людьми. Их человеческая сущность оказывается как бы запертой, изолированной. Видна, обнажена лишь уродливая маска — изъян, и только очень пристальному, специально нацеленному вниманию могли раскрываться печаль, страдания, доброта и человечность, скрытые под нею.
Принципиальная важность этих совершенно второстепенных, «проходных» персонажей еще раз подчеркнута столь типичной для Т. Манна маскировочно-вуалирующей фразой рассказчика: «Может быть, не совсем уместно, что я заговорил здесь об этих юродивых»[81].
270
Автор романа очень хорошо знает, насколько уместен этот разговор, ибо на следующих страницах он продолжает его очень развернуто. В романе появляется относящийся тоже к «чудакам», но уже отнюдь не второстепенный образ Кречмара.
Вендель Кречмар — музыкант, органист, лектор, педагог — страдал очень «тяжелым заиканием», которое было для него «настоящей трагедией». «Ибо это был человек большого, мятущегося ума, страстно приверженный к словесному общению».
Страсть неизлечимого заики к сложным и длинным словесным выступлениям, конечно, чудачество, но вместе с тем, как прямо сказано рассказчиком, — «настоящая трагедия»: трагедия невозможности общения, связи с людьми при непреодолимой потребности в этом.
Казалось бы, заикание — «индивидуальная особенность» провинциального органиста и лектора — это просто реалистическая деталь, подробность, которая призвана внести еще один штрих в картину убожества умственной жизни маленького провинциального городка. Но в романе Т. Манна значение этой детали не исчерпывается такой традиционной функцией. Заикание Кречмара, которому и посвящен-то всего один какой-то абзац, непосредственно соприкасается с самой глубокой и заветной мыслью произведения, воплощенной в нем концепцией трагического. «Настоящая трагедия» Кречмара — невозможность взаимосвязи, общения — неотделима от всех трагических исканий Леверкюна-композитора.
Кречмар не только вводит Леверкюна в мир музыки, но и формирует его взгляды, направленность интересов, толкая его в определенное, близкое себе, русло. Рассказы о современных композиторах и понимание современных жанров, новелла о проповеднике и музыканте Бейселе, трактовка Бетховена и многое другое, о чем говорил Кречмар в своих мучительных для слушателей и для него самого лекциях, — так или иначе отзывается в дальнейшем повествовании, играя важную роль в развитии основной его линии.
Образ Кречмара, так же как и многие другие образы романа, связан с определенным периодом жизни героя, а потом сходит со сцены. Интересно напомнить при этом, что в романе Т. Манна нет самостоятельных, вполне независимых от главного героя линий действия: каждый персонаж необходим до тех пор и постольку, поскольку он свя-
271
зан с жизнью Адриана Леверкюна, и исчезает сейчас же, как эти связи оказываются исчерпанными, прерванными. В романе Т. Манна нет эпической широты и свободы, делающих возможным самостоятельное существование многих линий действия, порою скрещивающихся, сходящихся, порою — вполне независимых, но никогда не теряющих своего самодовлеющего значения. Единству действия «Доктора Фаустуса» могла бы позавидовать любая трагедия классицизма: оно приковано к одному центру, к одной трагической судьбе, и не знает никаких отклонений, никаких параллелей, ничего равнозначного и равновеликого этой судьбе. Но к вопросу о структурных особенностях романа, в соотнесении с содержательной спецификой его трагической концепции, мы вернемся ниже. Ведь пока мы все еще находимся в преддверии основного действия — в «экспозиции», употребляя выражение самого Т. Манна. Основное противоречие еще только слегка намечено, трагический герой еще только приближается к встрече со своим антагонистом.
Адриан Леверкюн приобщился к музыке еще до лекций и уроков Кречмара. Однажды рассказчик застал своего друга за инструментом.
«— Праздность, — сказал он, — мать всех пороков. Мне было скучно, а когда я скучаю, меня часто тянет сюда побренчать. Эта старая шарманка стоит в забросе, но в смиреннице много чего скрыто. Смотри, как любопытно, то есть, конечно, любопытного тут нет ничего, но когда это делаешь сам, да еще в первый раз, все эти взаимосвязи и движения по кругу и вправду кажутся любопытными…
Под его руками зазвучал аккорд…
— Такое созвучие, — заметил он, — само по себе не имеет тональности. Здесь все взаимосвязь, и взаимосвязь образует круг…
— Впрочем, это старая история,— сказал он.— Я уже давно над этим думаю. Слушай, вот так звучит благороднее! — И он принялся демонстрировать мне модуляции в далекие тональности, используя так называемое терцовое родство и неаполитанскую сексту.
Как называются все эти штуки, он не знал, однако повторил:
— Взаимосвязь — все. И если тебе хочется точнее ее
272
определить, то имя ей — «двусмысленность»…1 — в музыке двусмысленность возведена в систему. Возьми один тон или другой. Можно понять его так, а можно и по-иному… если у тебя есть смекалка, ты можешь обратить в свою пользу эту двусмысленность».
Первое, что открылось Адриану при соприкосновении с музыкой, — это неограниченные возможности в осуществлении взаимосвязи, на которой держится, которой управляется весь этот волшебный мир. Этот интерес Адриана к взаимосвязи как бы идет навстречу, предвосхищает основной пафос лекций Кречмара.
Тут же Адриан делает другое открытие: несмотря на всю свою значимость, взаимосвязь сама по себе не образует музыкальной формы. Взаимосвязь реально осуществляется в определенной тональности, она с необходимостью осложняется различными модуляциями, которые лишают ее первоначальной определенности, разбивают и видоизменяют образованное аккордом единство. Вот почему Адриан говорит, что взаимосвязь осуществляется как двусмысленность («имя ей двусмысленность»), хотя по сути своей — это противоположные и даже враждебные понятия.
Так, конечно, совершенно своеобразно, по-своему, в искусстве, в мысли, не выходя еще к жизни, Адриан сталкивается с проблемой осуществления связи, взаимосвязи, общения и тех объективных препятствий, которые стоят на пути их осуществления.
Мотив взаимосвязи кайзерсашернских глав с новой остротой, трагизмом возникает в эпизодах, посвященных прибытию Адриана в Лейпциг, его встрече с «ядовитым цветком» и последующему развитию их отношений.
Впервые столкнувшись с низменной и грязной стороною жизни, Адриан не только смущен, растерян. Он потрясен нахлынувшими на него противоречиями, трагической запутанностью жизни, своей собственной, неведомой ему до сих пор запутанностью, противоречивостью. Интуицией гениального художника Адриан мгновенно прозревает ту угрозу, которую несет в себе эта овладевшая жизнью и сознанием двусмысленная запутанность, противоречивость; он понимает, как опасно хаос, дисгармонию, неопределенность признать законом и не противопоставить им опреде-
273
ленность решений, прочность взаимосвязей. И в то же мгновение Адриан чувствует, что уход, бегство от этой путаницы, сложности — не выход.
Большой художник, глубокий, сильно и смело чувствующий человек — не может убежать; он поражен, испуган противоречиями жизни, ее дисгармонией, но он и захвачен, покорен ее сложностью: трудность, трагизм борьбы с хаосом прельщает и манит его.
Комментируя письмо Адриана, рассказчик совершенно правильно обращает внимание на архаически-торжественные обороты речи, к которым прибегает его автор, рассказывая «фарсовую», как он сам говорит, историю с гидом. Религиозный стиль письма рассказчик, извиняясь за своего друга, объясняет лишь «словесной игрой». Между тем ясно, что этот религиозный, торжественный, трагический оттенок в стиле письма соответствует серьезному, глубоко обобщающему значению, которое придавал сам Адриан всему этому странному происшествию.
Согласно придуманному авторскому заданию, рассказчик порою нарочито «приземляет» образ прекрасной Эсмеральды, трактует его только в социально-бытовом и психологическом плане, который был традиционен при освещении данной темы, данной проблемы в классической реалистической литературе, и в западной и в русской. И только после того, как эпизод с «ядовитым цветком» подробно и всесторонне «обыгран» рассказчиком в этих традиционных планах, в этом обычном освещении, автор, хорошо учтя необходимость контраста, разрешает ему так вести изложение, чтобы показать, что образ ядовитого цветка, Эсмеральды, уже явно, — можно сказать, даже торжественно, — открывает гетевско-фаустианское, символико-обобщенное начало романа: «…любовь и яд навсегда слились для него в ужасное единство, единство мифологическое» (ср. Bd. 6, S. 209).
Леверкюну открывается неизбежность «двусмысленности» — неразделимость добра и зла, прекрасного и низкого. Ведь встреча с гетерой Эсмеральдой происходит одновременно с первым знакомством со «странным посетителем», который, еще не опознанный Леверкюном, но туманно-многозначительно отмеченный рассказчиком, выступает в лейпцигских главах в образе гида. Неразрывное единство любви как прекрасного плодотворного начала и яда — безобразия, боли, грязи жизни, — познание этого и есть итог первого столкновения трагического героя с его под-
274
линным антагонистом — с разрушающей взаимосвязь «двусмысленностью» современного буржуазного общества, сознания.
Не уходя от этих противоречий, в полной мере познав их власть, не уклонившись, не побрезговав, Адриан воспринял это единство добра и зла как неотвратимость. Но вместе с тем оно никогда не переставало быть для него «ужасным».
Последующие главы «Доктора Фаустуса» повествуют о жизни в Лейпциге, в котором рассказчик, вернувшийся после военной службы, застает Адриана, о пребывании в Мюнхене в доме вдовы Родде, о путешествии в Швейцарию, Италию, о знакомстве с усадьбой Швейгештилей. Эти главы образуют как бы второй акт трагического действия, в котором, как это было в классических трагедиях, возникшее при встрече антагонистов непримиримое противоречие, идя к кульминации, но еще не достигая ее, углубляется, борьба становится напряженнее, противоборствующие ему силы грознее и выявленнее.
Окружающий Адриана мир обрисован так же подробно и широко, с такой же традиционно реалистической полнотой и обстоятельностью: детальные описания места действия, широкий круг действующих лиц, развернутые характеристики их общественного положения и психологии — таковы особенности, характеризующие и эту часть романа. С другой стороны, здесь проявляются новые специфические черты — и идущие в русле традиций реализма, и выбивающиеся из него, казалось бы, сближающие произведение Манна с явлениями декаданса и модернизма.
Лейпцигская компания Адриана, которая собиралась в кафе «Централь», мир дельцов и артистов, с которыми он столкнулся при поездке в Швейцарию, артистическая богема в доме вдовы Родде — весь почти бальзаковский фон этой части романа проникнут, однако, специфическим для предвоенной эпохи духом: духом неуверенности в прочности существующего, смутной тревогой, ощущением конца.
«Нормальный» буржуазный мир предчувствует свою агонию, свою нежизнеспособность. Недаром поклонница и покровительница Адриана — госпожа Толна (она появляется, правда, несколько позднее, уже после окончания войны), этот своеобразный Вотрен[82], воплощение сил старо-
275
го нормального буржуазного общества, выступает в романе как что-то бесплотное и невидимое. Она готова положить к ногам Адриана все, чем соблазнялись когда-то молодые люди XIX века. «Ему стоит лишь нагнуться, чтобы создать себе поистине царственную жизнь», но «Адриан никогда себя до этой мысли не допускал».
Это вовсе не значит, конечно, что Адриан «лучше», чем молодые люди Стендаля, Бальзака, Флобера. Это значит лишь то, что в вотреновских[83] соблазнах не содержится силы, что настоящее буржуазного общества уже лишено субстанционального значения. Недаром, как отмечает рассказчик, Адриан был так же отрешен и отключен от своего лейпцигско-мюнхенского окружения, как когда-то от окружающей его среды студентов-богословов. «Отрешенность» от эмпирической действительности является для героя трагического реалистического романа XX века необходимым условием поисков возможности «прорваться» к субстанциональным, скрытым от него силам и закономерностям истории.
Перспектива будущего в его соотношении с настоящим десятикратно усложнилась в начале нынешнего столетия сравнительно с тем, что было известно его «уютному» предшественнику. Никогда еще силы будущего не были выявлены всем ходом мировой истории, и прежде всего историей России, с такой определенностью, непреложностью. Но это не исключало того, что ближайшим реальным будущим для Германии были фашизм и война. Обращение к подлинно правомочным историческим силам будущего, познание перспективы развития могло состояться именно при условии «отрешенности» от настоящего, в котором зримо выступал облик фашистского «завтра». «Отрешенности» не в смысле бегства, ухода от вопросов времени, а в смысле понимания (или предчувствия) неправомочности текущего момента, исторической обреченности так, казалось бы, победоносно поднимающихся из его недр сил «тьмы», «преисподней», если воспользоваться словами, которые употребит Леверкюн в своей венчающей роман трагической исповеди. Сложнейшее переплетение настоящего, реального положения вещей, таящейся в его недрах ближайшей исторической перспективы и будущего, отдаленного, открывающего подлинные силы истории, является той предпосылкой, которая определяет сложность и ярко выраженную специфичность трагического героя, трагической коллизии в романе Т. Манна.
Объективная сложность исторической и национальной ситуации, в которой создавалось жизнеописание Леверкюна, а также особенности миропонимания художника, ограничивающие его историческое видение, преломляются в романе сложностью, необычностью, даже изощренностью многих специфических, как будто бы нарочито мистифицирующих читателя моментов повествования, композиции, сюжетостроения, соотношения персонажей.
Для раскрытия основной коллизии все большее значение приобретает подтекст, казалось бы, совсем незначительные детали, еле приметные интонации рассказчика — все то, что создает глубинные, подспудные слои повествования.
Вспомним, что говорит рассказчик относительно соотношения главной и второстепенных, обрамляющих частей лейпцигского письма Леверкюна. Мысль рассказчика сводится к тому, что основной, главнейший для развития коллизии и характера момент нарочито спрятан, завуалирован менее важным, более поверхностным содержанием. Здесь рассказчик нащупывает один из существеннейших принципов строения романа, приоткрывает особенности развития протекающего в нем действия, коллизии. Не меньшую проницательность проявляет Цейтблом, называя встречу Адриана с Эсмеральдой переживанием громадной глубины (S. 244). Вот именно на громадной глубине происходят и другие трагические встречи героя, развивается вся трагическая коллизия романа. И многие его художественные компоненты, многие — порою кажущиеся просто нарочитыми — сложности его строения и содержания имеют единственное, но тем не менее необходимое назначение: создать адекватную этой глубине художественную фактуру. Ведь для того чтобы возникло ощущение глубины, нужно воплотить и лежащие над нею верхние, более ближние слои, постепенное прохождение через которые, снятие которых открывает глубинные просторы трагического действия.
В начале главы XXI, как и во многих других главах, рассказчик сетует на свою неспособность придать повествованию должное единство, на разнородность затрагиваемых в главе тем и проблем. При этом рассказчик как будто бы полно обрисовывает содержание главы: в ней речь пойдет, говорит он, «о драматических замыслах Адриана, о его ранних песнях, о скорбном выражении его глаз, которое я стал замечать после нашей разлуки, о духовно-обо-
льстительных красотах шекспировской комедии, об иноязычных стихах, положенных Леверкюном на музыку, и его брезгливом космополитизме, затем об артистическом клубе в кафе “Централь”, упоминание о котором переходит в уязвимо растянутый портрет Рюдигера Шильдкнапа».
Покорный авторской воле, рассказчик, как всегда, и очень точен, и не очень прав: в главе действительно говорится обо всем, что им названо. Но названное здесь — это именно те верхние слои, сквозь которые пролегает путь в глубину. И потому читатель не может согласиться с главным утверждением рассказчика: с его сетованием на невозможность создать «целостность», как-то скрепить этот столь «разнородный» материал. Читатель, еще раз тонко спровоцированный Манном на несогласие с рассказчиком, ясно ощущает, что единство внутри данной главы, и ряда глав, и всего романа в целом определяется не на тех поверхностных слоях, о которых говорит Цейтблом, а на «громадной глубине», которая так или иначе почти всегда неожиданно, как бы невзначай, приоткрывается в каждой части произведения. Вот, например, характеристика Шильдкнапа: в ней рассказывается и о его детстве, и о неудачнике-отце, и о его собственной неудавшейся карьере, и о любви к философии, и о переводах, и об отношении к Англии и к англичанам, и о манере одеваться и ухаживать за женщинами, и о даре пародирования, и о ряде других столь же безразличных деталях[84] поведения и психологии этого второстепенного персонажа, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения ни к его дружбе с Леверкюном, ни к предыдущему или последующему развитию действия.
Но среди всех этих безразличных, нейтральных деталей есть одно наблюдение, одна черточка, которая сразу придает повествованию большую глубину, включая образ Шильдкнапа в систему важнейших для миросозерцания Леверкюна идей и представлений.
Продолжая свой рассказ об отношениях Шильдкнапа с женщинами, рассказчик замечает: «Казалось, он довольствовался сознанием, что может иметь сколько угодно любовных похождений, и побаивался всякого альянса с действительностью, усматривая в нем посягательство на потенциальное. Потенциальное было его вотчиной, бесконечный простор возможного — его королевством, тут он поистине был поэтом… Излюбленным его словцом было «хо-
278
рошо бы». Эта формула выражала грустное размышление о возможностях, осуществить которые мешает нерешительность».
Разрыв между возможностями и их реализацией, замыкание в не имеющем выхода потенциальном, то есть невозможность истинных, раскрывающих подлинную сущность человека, связей с людьми, — все это возвращает нас к образам кайзерсашернских чудаков, к образу Кречмара, к теоретическим размышлениям юного Адриана о препятствующей взаимосвязи двусмысленности и, наконец, к роковой для него встрече с «ядовитым цветком», в которой тоже своеобразно варьируется противоречие, разрыв между истинной потенциальной трагической сущностью «происшествия» и его игриво-анекдотической видимостью.
В этой же связи становится понятной та обстоятельность, с которой рассказывается в романе о предшествующих Адриану постояльцах Швейгештилей: о даме, «мысли которой, как выразилась госпожа Швейгештиль, не вполне согласовывались с мыслями остального мира и которая здесь спасалась от этого несогласия», и о несчастной барышне, дочери высокопоставленных родителей, которая зачахла после родов от горя «в своей комнатке, в обществе канарейки и черепахи, которых ей подарили сострадательные родители», а также о «придурковатой девочке, лет тринадцати или четырнадцати» — дочери синьоры Манарди, в доме которой Адриан жил во время своего пребывания в Италии. Безумие девочки выражалось в том, что она настойчиво произносила какие-то отдельные слова, как бы вопрошая окружающих, но смысл этих слов и их вопросительная интонация оставались ими непонятыми и безответными.
Так совершенно «лишние», не играющие никакой роли в развитии фабулы персонажи непосредственно воплощают одну из основных его мыслей, лежащую в основе действия, развития коллизии: мысль о трагической разобщенности людей, о трудности установления взаимосвязи, единства, о невозможности «прорыва» сквозь двусмысленную пестроту и разорванность явлений современной действительности к истинной сущности жизни, человека, истории. Именно в этом углубляющемся осознании непреодолимости «двусмысленности» и заключается трагическое содержание интересующих нас сейчас глав романа.
Огромна и, по-видимому, пестра творческая продукция Адриана лейпцигской и итальянской поры: здесь и полные
отчаяния пьесы по мотивам «Божественной комедий», и шуточно-пародийные и вместе с тем трагические и мрачные по своему содержанию песни на стихи Брентано и Блейка, и тоже грустная, хотя и преисполненная остроумия, опера «Бесплодные усилия любви» на сюжет знаменитой шекспировской комедии. Эти произведения не просто упомянуты в романе, — Т. Манн достигает того, что каждое из них, как он сам говорит, «звучит» для читателя.
Вместе с тем лейпцигско-итальянские главы еще в большей мере, чем предыдущие и даже, пожалуй, последующие, насыщены теоретико-музыкальной проблематикой: вспомним обращенные к рассказчику длинные рассуждения о собственном творчестве самого Адриана, и его споры с рассказчиком, и комментарий последнего к этим разговорам и спорам. Уже сами литературные источники тематической музыки Адриана говорят о том, как важны для него, так же как для Манна, предшествующие культурные традиции: он отталкивается от них в своем осмысливании современности, в преодолении враждебного искусству безудержного субъективизма, отказа от объективных законов формы; с другой стороны — переосмысливание старой тематики, старых форм служит необходимой основой для излюбленного им пародирования общеизвестного, с целью утверждения нового содержания, новой формы.
Порою кажется, что все эти и многие другие, еще более специальные, вопросы, которые обсуждает Адриан со своим другом, имеют самодовлеющее значение. Но достаточно привести хотя бы одно высказывание Адриана, чтобы стала ясна их органическая связь со всей основной трагической проблематикой романа.
«Вспомни только, — сказал он, — как я сразу вступился за его1 деспотично-ребяческую теорию главенствующих и служебных звуков, которую ты упрекал в дурацком рационализме. Мне инстинктивно понравилось в ней нечто наивно соответствующее самому духу музыки: здесь, хотя и в смешной форме, проявилось стремление сконструировать какое-то подобие строгого стиля. На нынешнем, уже
280
не столь ребяческом этапе развития наставник такого рода нужен нам не меньше, чем нужен был Бейсель своим овечкам: мы нуждаемся в систематизаторе, в поборнике объективного и организации объективного, поборнике, достаточно гениальном, чтобы связать традиционное, даже архаическое, с революционным. Хорошо бы… — Он засмеялся. — Я заговорил совсем как Шильдкнап. Хорошо бы! Мало ли что хорошо!»
Воспоминание о двух «чудаках» — Кречмаре и Шильдкнапе, — сопутствующих Адриану на разных этапах его жизненного пути, их непосредственная включенность в это теоретическое высказывание о необходимости «строгого стиля», о трудностях его поисков — очень знаменательно. Ведь под строгим стилем, этим, как говорит Адриан, выразителем «самого духа музыки», он понимает осуществление всех присущих музыке возможностей взаимосвязи, которые на современном этапе во многом так и остаются в потенции, как остается нереализованной жажда к общению заики Кречмара и планы деятельного вмешательства в разные сферы жизни неудачника Шильдкиапа.
Но как бы современная музыка, все принятые в ней изобразительные средства ни сопротивлялись осуществлению «строгого стиля», последовательному установлению системы взаимосвязей, Адриан, пробиваясь через хаос, дисгармонию, субъективизм, стремится «внести порядок в царство звуков и подчинить магическую стихию музыки человеческому разуму».
Наибольшего приближения к искомой системе взаимосвязи Адриан добивается в одной из песен брентановского цикла «О, любимая». «Она вся, — говорит он, — производная одной первоосновы, одного многократно варьируемого ряда интервалов из пяти звуков: h-e-a-e-es (гетера, гетера Эсмеральда. — М. Г.)… Основа представляет собою как бы слово, как бы шифр, знаки которого, разбросанные по всей песне, призваны детерминировать ключ… Каждый звук такой композиции, будучи мелодичным и гармоничным, должен был бы удостоверить свое родство с этой заранее данной основой».
Слово, шифр любви, оказывается в этой пьесе Леверкюна той основой, которая, обеспечивая единство, взаимосвязь, противостоит хаосу, дисгармонии, разобщенности. Строгий стиль достигается Адрианом ценою невероятного творческого напряжения, виртуозного владения формой. Именно благодаря почти пугающим слушателя ухищре-
281
-----------ниям формы, свидетельствующим о неимоверных трудностях противостояния общепринятому стилю, обиходным средствам, осуществляется композитором «строгий камерный стиль» и в первых сценах оперы «Бесплодные усилия любви», с которыми рассказчик познакомился в «странном убежище» Леверкюна в Италии. Поражающая техническая изощренность этой музыки не воспринимается как самоцель: она оставляет впечатление героического усилия, подвига, мастерства во имя утверждения власти разума и любви над стихийными, «темными» (как говорил однажды Адриан), началами музыки. Восторг, грусть, восхищение «поразительно сливались у слушателя» оперы Адриана: «Но восторг и грусть, восторг и тревога — разве это почти не определение любви?» — говорит рассказчик.
Попытки Леверкюна — художника и человека — противостоять хаосу и мраку идущих к фашизму Германии и Европы не означали, однако, что хаос и мрак не продолжали все глубже проникать в его собственный разум, душу и творчество. Двуликость, двусмысленность отчасти присущи и самому «строгому стилю», на пути достижения которого Адриан одерживает свои основные творческие победы.
Рассказчик говорит Адриану об опасностях, которые таит в себе «строгий стиль»:
«Поразительная идея,—сказал я.—Это лучше уж назвать сквозной рациональной организацией… насколько я способен судить, неизменность… неизбежно привела бы к прискорбному оскудению, застою в музыке… Я усматриваю реставраторские тенденции в твоей утопии… Возврат к старинным формам вариации тоже знаменателен в этом плане… рациональность, к которой ты призываешь, очень смахивает на суеверие — на веру в неуловимо-демоническое… Перефразируя твои слова, я сказал бы, что твоя система скорее способна подчинить магии человеческий разум».
Так говорит заурядный (как он сам себя не однажды рекомендует) приверженец гуманизма, прогресса, демократии и свободы в их обычном буржуазно-демократическом понимании, чувствуя в системе Адриана некую потенциальную враждебность этим охраняемым им основам: интерес к примитивному и старому, обеднение во имя опрощения, покушение на свободу творца во имя выражения объективного торжества системы. Адриан спорит с рассказчиком. Но как бы ни были остроумны, эрудированы
282
и глубоки его ответы на то, что говорит Цейтблом, они являются, собственно, не опровержениями, а скорее — дополнениями; Адриан не отрицает, не может отрицать того, что в строгом стиле есть все те черты или, вернее, все те потенциальные опасности, которые находит в нем его друг, но он со всей убедительностью и глубиной доказывает, что в нем есть и другие, противоположные, начала. Вывод, обобщение Адриана сокрушает не его оппонента, а его собственное стремление к единству, цельности, противостоянию хаосу, «скверне» окружающей его жизни. Адриан говорит: «…Интересные явления жизни… по-видимому, всегда отличаются двуликостью, сочетающей прошлое и будущее, они, по-видимому, всегда… прогрессивны и регрессивны. В них выражается двусмысленность самой жизни» (S. 263).
Рассказчик совершенно прав, усматривая в этих словах большое обобщение — обобщение исторического и прежде всего национального исторического опыта. Адриан не возражает и не может возразить и на это. Он, конечно, понимает, что этим своим обобщением он фактически признает неизбежность проникновения «двусмысленности» в свою собственную, призванную бороться с нею, систему, а так же[85] — определяющее значение «двусмысленности» и в жизни. Он почти сдает и свою последнюю позицию, утверждая неизбежность «слияния разума с магией», то есть призывая на помощь разуму как раз ту «темную магическую стихию музыки», над которой должен был восторжествовать строгий стиль, апеллирующий к «человеческому разуму», утверждающий взаимосвязь[86], цельность.
Коллизия, возникшая при первой встрече героя с «двусмысленностью», углубляется здесь и в творческом, и в человеческом плане. И все время раздирающие Леверкюна противоречия, переживаемая им борьба вуалируются, прикрываются верхними, «ближайшими» пластами повествования. В итальянской главе, например, подробнейшими описаниями и рассуждениями о чем угодно: об оригинальной пище, которой потчевала Адриана добрая итальянская матрона, о тонкостях композиторского искусства, об идиллическом покое и уединении, которые находил Адриан и его приятели в монастырском саду, и пр. Глубинное трагическое русло романа и здесь внезапно пробивается на поверхность всего в нескольких фразах, буквально в двух абзацах главы.
283
Можно сказать, что итальянские главы написаны во имя, или в подтверждение, в развитие одной мысли, сформулированной в конце главы XXIV: «Он был в буквальном смысле слова человеком, уклоняющимся, сторонящимся, соблюдающим дистанцию. Физические проявления сердечности никак не вязались с его натурой… Заметнее, чем когда-либо, эта особенность выступила наружу во время нашего недавнего совместного житья, причем мне казалось— сам не знаю почему, будто его «не тронь меня!», его «отойди на три шага!» несколько изменило свой смысл, будто он не столько отвергает поползновение, сколько боится и избегает обратного поползновения, с чем явно и было связано его воздержание от женщин… я содрогался при мысли, что… его целомудрие идет не от этики чистоты, а от патетики скверны»1. Эти последние слова имеют чрезвычайно широкое обобщающее значение, гораздо более обширное и глубокое, чем весь окружающий их контекст, не лишенный характерного для рассказчика морализаторского привкуса. «Патетика скверны» — это емкое, символико-обобщающее интеллектуально-образное определение внутреннего состояния Адриана, а косвенно — и состояния окружающего его мира.
«Патетика скверны» — это постепенно крепнущее в Адриане убеждение в своей фатальной причастности к «скверне», к злу, жестокости и безнравственности того мира, который он отвергает, а также к страшному ближайшему будущему, которое он с присущей ему «необычайной чуткостью предвиденья» угадывает, которое страшит его и вместе с тем утверждается им как неизбежное.
«Патетика скверны» — это убеждение в том, что приобщенность к жестокости, злу, грязи, извращенности, болезненности — неизбежность и закон для современного человека, особенно для человека крупного, талантливого, творческого[87]. Вспомним слова Адриана, цитированные выше, о том, что «интересные явления жизни… всегда отличаются двуликостью», то есть всегда несут в себе прямо противоположные начала. Не в меньшей мере Адриан начинает склоняться к убеждению в фатальной неизбежности, «двуликости» интересных, незаурядных, творческих людей, их произведений, деяний.
Так в роман входит мотив «интересной», выдающейся личности. Фаустовский подтекст уступает место подспуд-
284
ным параллелям с биографией Ницше, о чем подробно сказано в «Романе одного романа»1. Вместе с тем проявляются и ницшеанские черты понимания трагического, — прежде всего та черта, которую особо подчеркивал в своей статье о Нищце сам Т. Манн: в сферу трагического («естественного трагизма») вхожи «незаурядные», «сильные», «настоящие» люди, то есть люди, которые не тешат себя иллюзиями морали, справедливости, а берут жизнь такою, как она есть, не творя суд над нею, принимая ее жестокость, несправедливость как нечто неизбежное. «Это одно и то же: жить и быть несправедливым», — говорит Т. Манн, излагая Ницше2. Отрешиться от всякой «слабости» любви и боли за человека и отдаться своим инстинктам, естественным «велениям» (ибо «в человеке нет ничего сверх биологии, ничего такого, что целиком не поглощалось бы и не растворялось в желании жить») — это и значит быть «трагическим человеком», в противовес «теоретическому», моральному, антитрагическому человеку, это и значит прожить героическую и трагическую жизнь3.
Даже из этих самых кратких извлечений из статьи Т. Манна о Ницше видно, что Адриан Леверкюн в итальянский период своей жизни близок герою «естественного трагизма». Ведь «патетика скверны» есть не что иное, как принятие лжи, жестокости, ужаса жизни, которую Ницше называл «естественным трагизмом», «трагической мудростью». Правда, Адриан далек от того, чтобы упиваться безнравственным разгулом жизни и чувствовать удовлетворение от своей приобщенности к «сильным», «трагичным». Отдавшись «патетике скверны», Леверкюн не перестает страдать от нее и стремиться к сопротивлению, «прорыву». Но это станет ясно из последующих глав, а сейчас манновский герой — во власти «скверны».
Ницшеанское понимание трагического, трагического героя определенным образом, более или менее опосредованно, преломляется у многих очень разных писателей. Т. Манн писал в этой связи, например, об Уайльде4. Речь идет не о прямом заимствовании ницшеанских идей, а об общности направления, в котором происходит пересмотр традиционной концепции трагического. Прежде всего он
285
проявляется в понимании трагического, так же как это было у Ницше, очень расширительно, — это свойство самой жизни, одно из ее наиболее глубоких, скрытых и вместе с тем обязательных, важнейших сущностей. Здесь нельзя не вспомнить о Шпенглере, которого Т. Манн, еще в статье 1924 года порицал за проповедь безусловного подчинения судьбе как трагическому фатуму, предопределяющему гибель всех следующих друг за другом «эпох» и «культур». «…Если есть что-нибудь более ужасное, чем судьба, — пишет Т. Манн, — так это человек, который подчиняется ей, не делая ни малейших попыток сопротивления»1[88].
Шпенглер действительно совершенно недвусмысленно отождествляет трагическое с судьбою, а «судьбой» подменяет понятие закономерностей исторического развития человечества. «Люди обоих (то есть античной и западной. — М. К.) культур, — утверждает Шпенглер, — ощущают как основную форму своей жизни и выдвигают как основной вопрос трагическое, или судьбу. Если мы назовем направление жизни необратимостью, то это и будет ядром всех возможных трагических конфликтов»2. Исходя из этой общей предпосылки, Шпенглер пишет о трагедиях Эсхила, Софокла, Шекспира, Клейста, Гете и других.
Мысль о трагическом как о свойстве самой жизни развивается в начале века Метерлинком в статье «Трагизм повседневности». «Я восхищаюсь Отелло, — писал Метерлинк в этой статье, — но мне кажется, он не живет величественной повседневной жизнью Гамлета, у которого есть время жить, потому что он бездействует»3.
«Иметь время жить» — то есть, по Метерлинку, иметь возможность приблизиться к тайнам жизни, к ее непостижимо трагической, ужасной и непреодолимо влекущей сущности. Молчание, бездействие, неподвижность — вот условия погружения в эти таинственно-угрожающие глубины жизни или, вернее, — смерти, потому что постичь тайну жизни, по Метерлинку, это и значит понять близость смерти, стоящей за спиною человека, каждый миг подстерегающей и зовущей его. Слова, действия, любые формы активности отгораживают человека от окружающей его тайны
286
смерти, закрывают от него «трагизм повседневности». Действия, активность ограничивают человека прозой обыденности и вместе с тем оберегают его. Сопротивление, активность — это те временные средства, с помощью которых человек имеет возможность оградить себя от поглощения трагическими «безднами» жизни. Именно временные, потому что даже самая пламенная любовь, самоотверженность не могут побороть тягу человека к покою и созерцательности, заставить его преодолеть усталость.
Как-то трудно представить себе, что исходным пунктом всех этих рассуждений о трагизме повседневности и повседневности смерти (от которых сам Метерлинк впоследствии отошел) служат трагические образы Шекспира! Но нетрудно убедиться, что в дальнейшем переосмысление классического трагического образа осуществлялось еще более решительно. Например, у Кафки.
В отрывке «Прометей» Кафка излагает четыре сказания о Прометее.
«О Прометее сообщают четыре сказания, — говорит он. — Согласно первому, он, изменивший богам ради людей, был прикован к горам Кавказа, и боги послали орлов, которые пожирали его вновь и вновь выраставшую печень. Согласно второму сказанию, Прометей, пытаясь умерить боль, которую ему причиняли удары клювов, все глубже вжимался в скалу, пока не слился с нею.
Согласно третьему сказанию, в беге тысячелетий измена его была забыта. Боги забыли, орлы забыли, забыл и он сам. Согласно четвертому сказанию, все устали от бесцельности происходящего. Боги устали, орлы устали, и устало закрылась его рана.
Остается лишь необъяснимая горная цепь. И сказание пытается объяснить необъяснимое. Но так как в основе его лежит зерно истины, оно снова должно прийти к необъяснимому»1.
Отраженное мифом реальное столкновение между тираном, его прислужниками и свободолюбивым защитником людей сводится на нет; возникает совсем иная ситуация, из которой начисто исчезают все конкретные обстоятельства мифа. Остается ситуация абстрактная, «общечеловеческая», выражающая трагическую сущность самой жизни. Усталость, равнодушие, забвение как неизбежный финал неутомимости, энергии, непримиримости — всего того, что
287
отличает деятельность, направленную на борьбу со злом, на достижение идеала, вдохновленную, казалось бы, неистощимой убежденностью,— вот подлинный смысл и подлинный трагизм прометеевского мифа по Кафке. Причем и то, и другое в равной мере неизбежно и обязательно: стремление к деятельности во имя убеждений, идеалов и — обнаружение ее бесцельности, ненужности, торжество неподвижности, покой безнадежности. Таким образом претворенный «прометеевский» мотив не только присутствует во многих произведениях Кафки, но смыкается с другими разновидностями «естественного трагизма».
«Согласно четвертому сказанию, все устали от бесцельности происходящего. Боги устали, орлы устали, и устало закрылась его рана»; героизм, непримиримость, страсть, мука — все это обнаружило в последнем варианте мифа свою относительность, «двуликость»: страстность обернулась равнодушием, целеустремленность — бесцельностью, несгибаемость — усталостью, — вполне в духе рассуждений Адриана Леверкюна о «двуликости» всего «интересного».
Можно сказать, что различие между первым и четвертым вариантами мифа у Кафки выразилось прежде всего в утрате героем своего антагониста: боги и Прометей в равной мере подвержены «усталости». Она всесильна. И именно раскрытие ее власти над обеими сторонами, а не их столкновение между собою стоит теперь в центре мифа. То, что разъединило, столкнуло Прометея с богами, выглядит у Кафки случайным, преходящим. А то, что их объединило — усталость, забвение, — неизбежно, вечно, «повседневно», «естественно» для человека и жизни: «…все устали от… происходящего…»
Метаморфоза, которую переживает трагический миф у Кафки, — подмена ситуации, исчезновение антагониста, — нашла характерное продолжение в создаваемых одновременно с «Доктором Фаустусом» «античных» трагедиях французских авторов, упомянутых нами в самом начале.
Разъясняя американскому читателю свои позиции, Сартр писал о своих пьесах и пьесах своих единомышленников: «Верно то, что мы более заняты возвращением к традиции, чем новаторством, верно также, что проблемы, которыми мы занимаемся сейчас в театре, совершенно отличны от тех, с которыми мы обычно имели дело перед
288
1940 годом»1. И тут же Сартр говорит о своем понимании традиций: «Наследники театра характеров, мы, однако, хотим иметь театр ситуации: нашей целью является использование всех ситуаций, которые являются самыми общими человеческому опыту, таких, которые хотя и случаются однажды, но случаются в жизни подавляющего большинства людей»2.
«Самыми общими человеческому опыту» ситуациями оказываются в трагедиях Сартра и Ануя отнюдь не ситуации произведений древних авторов, внешние контуры которых воспроизводятся как будто бы очень тщательно. Эти старые ситуации призваны лишь оттенить сменяющую их более общую, «вечную» ситуацию — ситуацию двусмысленности и усталости: раскрывающиеся в ходе действия поступки и борьба героев не приносят ожидаемых результатов, оказываются ненужными. Эта «истинная» извечная ситуация потенциально содержалась, по мысли Сартра, и в старых трагедиях (ибо она «извечна»), но не была раскрыта, обнаружена. Современный драматург как бы заново «прочитывает» эти старые ситуации, извлекая на первый план их главное, «общечеловеческое» содержание. Именно результатом такого «прочтения» произведения древних авторов глазами людей, вооруженных модернистским мироощущением, и являются «Мухи» Сартра, «Антигона» и «Медея» Ануя[89].
В своих поступках, действиях герои этих новых пьес как будто бы повторяют своих классических «предшественников». Преодолевая все препятствия, они осуществляют акт мести, восстанавливают справедливость, утверждают свободу человека. Но в процессе этого, как будто бы традиционно развивающегося действия борьба с внешним, реальным антагонистом все больше теряет свое значение, все больше выявляется относительность, двуликость совершаемого подвига. Освободив Аргос от тирана, Орест уводит за собою тучи мух, осаждавших город все годы рабства и унижения. Мухи символизируют падение города и его граждан. Но вместе с тем аллегория имеет и другое значение: мухи посланы самими богами, чтобы пробуждать своими укусами совесть жителей Аргоса, не дать им забыть об ответственности. Благородный пришелец — Орест, совер-
289
шив то, что должно было быть совершено самими гражданами, не стал освободителем. Он не пробудил ненависть к тирану, а вызвал ее к себе, но, главное, лишил граждан того чувства вины, которое подавало надежду на будущее возрождение[90]. Так, бунт во имя свободы оборачивается прямо противоположным «ликом», заставляя, если следовать за логикой драмы, убедиться в относительности понятий свободы и рабства, тирании и героики, добра и зла.
В некоторых драмах Ануя тоже очень ясно выступает «потеря антагониста». Непримиримое страстное сопротивление, протест уступает место чувствам усталости, обреченности, бесперспективности, которые охватывают всех, возникая как вторые лики страсти, веры, целеустремленности.
«Я рожу что-то большее, чем я сама, оно стремится к жизни, и я не знаю, хватит ли у меня сил…» — говорит героиня драмы Ануя «Медея»1. «Бо́льшим», чем человек, непереносимо утомительным для него являются в драмах Ануя преданность идее, сила чувства, страсти — словом, любое проявление незаурядности, духовной независимости, наконец, просто даже цельности натуры. Именно эта необычность чувства испугала и оттолкнула Язона, желающего жить и любить «как все». И он не одинок в своем желании освободиться от Медеи, в своей усталости. Освобождения от Медеи хотят все окружающие ее люди: и старая нянька, и царь Креон, и жители селений. Самое же главное заключается в том, что Медеей тяготится, от Медеи устала и сама Медея. Она в ужасе от происходящих в ней роковых изменений, от своего второго «лика».
«…Вспоминай,— говорит Медея, мысленно обращаясь к Язону, — что некогда жила на свете девочка Медея, взыскательная и чистая… Она и была твоей настоящей женой… мне хотелось, чтобы я всегда оставалась такой… даже сейчас, в это мгновенье, я хочу, хочу так же сильно… Но невинной Медее суждено было превратиться в добычу богов».
Сильные страсти, цельность, идеал предстают в драме Ануя именно в виде некоего дара богов, но дара весьма двусмысленного: они притягательны — и отталкивающи; значительны — и бесполезны; опаспы — и ничтожны и т. д.
290
Прямой подемикой с традиционной трагедийной развязкой, пафос которой всегда был сосредоточен на значительности итогов борьбы героя, выглядят финальные сцены названных пьес Ануя. Судить об этом можно хотя бы по последней партии хора в «Антигоне».
«Хор (подходя к авансцене). Вот и все. Действительно, без маленькой Антигоны им всем было бы спокойнее. Но теперь кончено… Те, кто должны были умереть, умерли: и те, кто верили во что-то, и те, кто верили в противное, и даже те, кто ни во что не верили и попали в эту историю случайно. Все мертвецы одинаковы — они окоченели и гниют никому не нужные».
Хор, как и полагается хору, подводит итог предшествующего действия[91] и говорит о его результате: «все мертвецы одинаковы»; различия между героями и трусами, страстными и равнодушными — относительны, борьба — бессмысленна: смерть лишь с предельной ясностью выявляет это.
Итак, обращение французских драматургов к старым трагическим образам приводит в те годы к утверждению концепции трагического, которая является, конечно, «возвращением к традициям», но совсем не к тем, о которых говорил сам Сартр[92].
Вариация «естественного трагизма» (в принятом нами широком и условном его толковании), представленная в «античных» трагедиях начала 40-х годов, решительно расходится с классическим пониманием трагического, прежде всего в вопросе об отношении героя к его антагонисту[93]. Именно в этом пункте расходится с «естественным трагизмом» и манновский роман.
Столкнувшись с двуликостью всего «интересного», впав в «патетику скверны», Адриан Леверкюн, как мы уже говорили, не до конца сдается двусмысленно-изощренной софистике своего сознания даже в самый кризисный период своей жизни. Недаром фаустовские ассоциации, ослабев в некоторых главах, выступают затем уже вполне открыто в знаменующей кульминацию главе XXV, посвященной встрече Адриана со «странным посетителем». Сохранение сущности традиционного фаустовского понимания отношений героя с антагонистом как отношений непрекращающейся борьбы (в данном случае борьбы внутренней) утверждается здесь сложно, противоречиво и все же с полной определенностью в итоге. Неотвратимость «скверны», своя собственная осквер-
291
ненность внушает Адриану такой ужас, который требует молчания: «Если что знаешь, молчи», — так начинается его запись разговора со «странным посетителем». И через несколько фраз снова: «Если что знаешь — молчи. Держи про себя. Вымолчи все на нотную бумагу». Олицетворением ужаса скверны, которая овладела, однако, лишь частью души и сознания, хотя и требует остального, и является дьявол, предстающий перед Адрианом в его видении. Дьявол, посетивший Леверкюна, не имеет ничего общего со своим традиционным обличием, лишен каких бы то ни было грозных примет и атрибутов ада. Для визита к герою XX века они не нужны, с ним дьявол чувствует себя запанибрата, является к нему, совсем, так сказать, неофициально[94], приходит запросто, для дружеской беседы, для того чтобы закрепить, как он заявляет, фактически уже давно состоявшееся знакомство и скорее оформить сделку, чем соблазнить на нее. Правда, внешность «странного посетителя» несколько раз, как и полагается согласно традиции, претерпевает изменения, но сущность его облика фактически сохраняется: прежде всего это облик приспособленца, прихлебателя, жалкой, потрепанной, побежденной жизнью посредственности — как бы живой прообраз самой последней ступени, на какую можно опуститься, находясь под безраздельной властью «скверны».
Посетитель Леверкюна — это вполне модернизированный дьявол: он не заинтересован в том, чтобы вселять в своего подопечного дух критики, сомнения, отрицания, предоставлять в его распоряжение свое «ничто», игравшее такую большую роль в договоре гетевского Фауста, явившееся для последнего необходимой отправной точкой для поисков «всего» («в твоем ничто — я все найти сумею»,— говорит Фауст Мефистофелю). Посетитель Леверкюна, напротив, предоставляет в его распоряжение готовый «идеал», основанный на отречении от критики, от разума: «…Мы предлагаем… как раз истинное и неподдельное — это тебе, милый мой, уже не классика, это архаика, самодревнейшее, давно изъятое из обихода. Кто знает ныне, да и кто знал в классические времена, что такое наитие, что такое настоящее древнее, первобытное вдохновение, вдохновение, пренебрегающее критикой, нудной рассудочностью, мертвящим контролем разума, — священный экстаз? Кажется, черт слывет у вас беспощадным критиком? Клевета, опять клевета, дорогой мой! Дурацкая болтовня! Если он что-либо ненавидит, если что-либо на свете ему враждебно, то это
292
именно беспощадная критика. Если он что-то хочет и что-то дарит, то это как раз триумфальный, блистательно беззаботный уход от нее!»
Эта дьявольская тирада, проникнутая очень родственным «естественному трагизму» духом, производит, быть может, наиболее страшное впечатление из всего, что высказано в этом зловещем диалоге. Потому что здесь Леверкюн (ведь не кто иной, как он сам, говорит за дьявола и прекрасно осознает это, записывая диалог) делает еще один шаг к отречению от святая святых и своего творчества, и своей человеческой веры — к отречению от строгого стиля, осуществляющего взаимосвязь, царящего над хаосом. Он приходит к мысли о возможности подмены вдохновения — экстазом, наитием, питающимся темными, архаическими, «самодавними» инстинктами и теми возбудительными для духовной деятельности средствами, которыми обладает болезнь — состояние гораздо более нормальное и распространенное, чем здоровье: «Без больного жизнь за всю свою жизнь не обходилась и дня», а заодно и «разрешающих от бремени» всяких сковывающих нравственных прерогатив — «всяких там целомудренных сомнений».
«Бремя связей и обязательств» по отношению к людям заменяет пьянящее самоуспокоение, удивление и преклонение перед силой своей личности, своего гения, противопоставление себя всем остальным смертным, удовлетворение абсолютным одиночеством, гордой изолированностью.
От «бремени» связей и нравственных обязательств освобождает наконец сама эпоха — то адское будущее, которое ждет человека. Под воздействием невиданных мук, разрешенных потерей всякого «респекта» перед душою, в человеке неизбежно обнажаются «самодавние» инстинкты плоти, примитивное, но самое жизнестойкое начало, побуждающее людей к насилию, вовлекающее в оргию взаимоистязаний, сладострастного неистовства, безудержной взаимной ненависти: «Вынужденные ради великой боли глотать собственные языки, они не составляют содружества и с глумливым презрением, сквозь стоны и визги, осыпают друг друга отборнейшей бранью, причем самые деликатные, самые гордые, те, которые избегали малейшей пошлости в выражениях, сквернословят особенно изощренно».
В этих обращенных к самому себе следующих одна за другой тирадах Леверкюна почти исчерпывающе дан весь
293
арсенал вариаций «естественного трагизма» (включая и самые новейшие, о которых Леверкюн не мог знать) — его представление о судьбе и возможностях человека. Специфику каждого из направлений Т. Манн очень искусно и тонко подчеркивает даже стилистически; в описаниях ада, например, ощущаются некоторые признаки стилистической манеры Кафки и современных экзистенциалистов, с присущими им нагнетающими перечислительными определениями, натуралистической обнаженностью деталей и вместе с тем нарочитой таинственной недоговоренностью о главном: «Нет, об этом нехорошо говорить, это лежит вне языка, язык не имеет к этому никакого отношения». А на уже приводившейся нами фразе: «Без больного жизнь за всю свою жизнь не обходилась и дня» — лежит отпечаток кокетливой ухищренности, любви к философическим афоризмам, которые отличали некоторые стили декадентов конца века.
Что касается тирады черта о самоупоении сильной личности, то черт произносит ее явно «под Ницше» — в торжественной, патетической и несколько архаической манере пророчества: «Это говорит тебе необальгорненный Саммаил. Он гарантирует тебе, что на исходе твоих песочных лет чувство собственного могущества и великолепия… вырастет в триумфальнейшее благополучие, в избыток восторженного здоровья, в божественное бытие… Ты будешь знаменем, ты будешь задавать тон грядущему, твоим именем будут клясться юнцы…» и т. д. (ср. S. 331).
Так, порою всерьез имитируя, порою почти издевательски пародируя, писатель демонстрирует (и в этой главе, и в некоторых последующих) легкость овладения всеми этими претендующими на глубокое и абсолютное своеобразие стилистическими манерами. А диалог-монолог, который ведет его герой, свободно переходя, сближая, тасуя, — словом, играя «модными» философско-этическими и эстетическими понятиями и представлениями своего века и так и не останавливаясь предпочтительно ни на одном из них, — с не меньшей убедительностью демонстрирует довольно легкую иссякаемость их содержания.
Тем не менее беседа с дьяволом — этот настоящий парад, смотр того, чем располагает модернизм в смысле понимания положения человека в современном мире, его возможностей или, вернее, «невозможностей» — обнажает не только философскую искушенность Леверкюна, но и его приобщенность к одной из самых основных и общих идей
294
модернизма: к идее необходимости той или иной формы двусмысленной трансформации человека в современной ситуации, необходимости его ущербности, надлома, обязательности отказа от самых насущно необходимых, естественных чувств и их проявлений.
Что может быть более чуждым Фаусту (всем старым Фаустам!), чем этот комплекс присущих Леверкюну модернистских идей, с особой силой раскрытых именно в непосредственно «фаустовской» сцене — в главе о «странном посетителе»? У читателя легко может создаться впечатление, что именно в этой обнаженно фаустовской главе автор задается целью подорвать внушенную им потребность в ассоциациях с Фаустом или, во всяком случае, доказать, что они носят лишь негативный характер. Но на самом деле это один из часто применяемых в романе авторских ходов, рассчитанных на то, чтобы стимулировать мысль читателя, еще больше овладеть ею и тем вернее достигнуть нужного восприятия.
Именно в тот момент, когда Леверкюн в сцене, максимально близкой к традиционной, выглядит очень не по-фаустовски, становится совершенно очевидным, насколько не по-фаустовски страшна, сильна в своем давлении на человека и окружающая его жизнь[95].
Средневековая замкнутость, гнет церковной идеологии, противоречия нарождающейся буржуазной формации — какими ясными и доступными антагонистами выглядят эти противостоящие всем старым Фаустам общественные обстоятельства сравнительно с обступающей Леверкюпа «скверной» современного мира, которая отнимает у человека все духовные ценности и всякую надежду на будущее. «Странный посетитель» Адриана, рисуя картину ада, символизирующую состояние мира, в котором живет его «подопечный», утверждает, что слова «безмолвие», «забвение», «безысходность» — это лишь «слабые символы», которые не раскрывают сущности ада, а дают о нем только приблизительное впечатление, рассчитанное на непосвященных. «Новоприбывший… поначалу не может постигнуть своими, так сказать, здоровыми чувствами и не желает понять, потому что ему мешает разум или еще какая-нибудь ограниченность понимания… что «здесь прекращается все» — всякое милосердие, всякая жалость, всякая снисходительность, всякое подобие респекта к недоверчивому заклинанию: «Вы не можете, не можете так поступить с душой». Обо всех этих «приобретениях» XX века, которые с
295
чисто манновской интеллектуальной пластичностью[96] выписаны в этой фаустовской главе, не знал, разумеется, ни один из настоящих Фаустов.
Итак, в главе о «странном посетителе» Леверкюн, с одной стороны, с особенной рельефностью вырисовывается на фаустовском фоне, а с другой стороны — поставлен лицом к лицу с окружающим его современным адом. В этом перемежающемся двойном освещении Леверкюн предстает теперь перед читателем, который, не только не руководимый автором, но, напротив, всячески сбиваемый им, должен до конца разобраться в сути заданной ему с самого начала фаустовской ассоциации.
Находясь под впечатлением картин ада, скверны, читатель не соглашается с выводом, который лукаво, с целью вызвать его на спор, подсказывает ему писатель: Леверкюн — вовсе не Фауст, ассоциации не имеют почвы. Читатель не соглашается с этим, потому что вся художественная логика главы о «странном посетителе» говорит о том, что ассоциация закономерна: человек, почти порабощенный скверной XX века и все же не до конца порабощенный ею, имеет нечто поистине титаническое. Находясь под страшным гнетом скверны, сам нося ее в себе, Леверкюн находит силы для презрения «странного посетителя» — посланца современного ада, вступает в спор с ним, опровергает его софистику, пусть в одном вопросе (любви[97]), пытается ставить ему условия, предъявлять требования. Все это приобретает принципиальное значение, — в романе осуществляются традиционно-трагедийные отношения с антагонистом: Леверкюн борется с разъедающей его ум и душу двусмысленностью. Он обращает против черта его же оружие, раскрывая противоречивость, несостоятельность его «запретов»: «…Ты станешь, — говорит черт,— отказывать всем сущим — всей рати небесной и всем людям… Ты, деликатное создание господне, обещано и помолвлено. Ты не смеешь любить… Любовь тебе запрещена, поскольку она согревает… Холод души твоей должен быть столь велик, что не даст тебе согреться на костре вдохновения. А он будет твоим укрытием от холода жизни».
Дойдя именно до этого предела своей дьявольской софистики запретов, Леверкюн обретает способность к самосопротивлению: как раз в этом пункте (а это ведь и есть основное условие «сделки») он обнаруживает самое уязвимое место в позиции своего «оппонента». Как же может черт запрещать любовь, когда чувственность всегда поощ-
296
рялась адом, а ведь и она причастна любви — всякое, даже самое низменное и примитивное влечение людей друг к другу — уже любовь[98]. Выходит, что черт сам попался в свои собственные сети, выходит, что и все предполагаемое соглашение построено на песке, потому что оно ставит основным своим условием то, что является его предпосылкой: договор запрещает любовь, но, с другой стороны, он и заключается во имя любви — во имя любви к творчеству, во имя обретения вдохновения, экстаза: «Сделка, в которую мы, как ты утверждаешь, вступили, она ведь тоже причастна к любви, болван. По-твоему, я вступил в нее… ради творчества… Но ведь говорят, что и творчество причастно любви». Так же как гетевский Фауст, уже в момент заключения договора увидевший возможность использовать черта в своих гуманных человеческих целях (« В твоем ничто — я все найти сумею»), Адриан Леверкюн в самый тяжелый, безнадежный момент своего трагического поединка открывает слабость адской софистики: самый главный и самый грозный ее пункт как раз и намечает выход из тупика. Имея дело с человеком, черт не может истребить любовь, потому что она и только она — стимул всех человеческих действий, начало начал жизни, только во имя ее человек может быть подвигнут на сделку с адом.
В сцене с чертом Адриан Леверкюн наиболее непосредственно соприкасается с традицией XIX века. И впервые соприкосновение это не вызывает у него иронической улыбки. Он очень отличен, конечно, от своего предшественника — Фауста Гете[99]. И все-таки он солидарен с ним в основном, — сила черта, несмотря на всю его власть над жизнью, сознанием, волей, не беспредельна. Казуистическая логика модернизированного ада может быть постигнута, а следовательно, она может быть и преодолена.
При всей свободе обращения с фаустовской ситуацией и образами, в романе Т. Манна сохранена суть традиционного трагического конфликта и характерная для него структура действия, целеустремленно и последовательно направленного на обострение конфликта, в ходе развития которого подготавливается нравственная победа повергнутого, но не сдавшегося героя.
Именно такая перспектива действия намечена в сцене с чертом и осуществлена в последующих главах.
Последняя часть романа — третий, заключительный акт трагедии Леверктопа. Это главы, повествующие о его
207
затворнической жизни в усадьбе Швейгештйлей, в Пфейферинге, о нарастающей болезни, о напряженном творчестве, в центре которого стоят два монументальнейшие произведения — «Апокалипсис» и «Плач доктора Фаустуса». В этих главах говорится также о «некоторых светских впечатлениях» тех лет, по выражению рассказчика, под которыми подразумеваются, с одной стороны, такие общественно-политические события, как первая мировая война и поражение Германии, нарастание политической и идео- логической реакции в послевоенные годы (кружок, собирающийся у любителя восточного искусства графика и иллюстратора Кридвиса), а с другой — события, происходящие в непосредственном окружении Леверкюна и в его собственной жизни. К ним относятся прежде всего три знаменательные встречи: встреча Адриана с молодым скрипачом Рудольфом Швердтфегером (Руди), художницей Мари Годо и со своим маленьким племянником Непомуком.
Главы последней части романа сопровождаются еще более напряженным и взволнованным, чем раньше, повествованием рассказчика о событиях, происходящих во время его работы над книгой. «… Бог мой, какая фраза, какое слово из написанных мною здесь не овеяны катастрофой, насквозь пропитавшей самый воздух, которым мы дышим?» — восклицает Серенус Цейтблом, относя это замечание и к атмосфере, окружающей Леверкюна в последний период его жизни.
Передний план в последней части романа занимает вся та «скверна», которая широко и картинно, но чисто умозрительно предстала в диалоге с дьяволом, а здесь облеклась в плоть и кровь таких реальнейших типичнейших образов, как Кридвис, Брейзахер, Инеса Родде, ее супруг, и прежде всего, конечно, великолепный Руди Швердтфегер. Отношения Леверкюна с Руди носят «странную неопределенность», которая, по словам Т. Манна, относящимся, правда, к другому эпизоду романа, создается «обилием прозрачных намеков». Эта глубоко продуманная писателем нарочитая «неопределенность» дает ему возможность сталкивать мнение рассказчика и восприятие читателя, твердой рукой направляя это читательское восприятие к нужным ему выводам, ассоциациям, ведущим в глубинный пласт трагического действия[100].
Изложение рассказчика, его действительно очень прозрачные, нарочито наивные намеки сводятся к тому, что
298
привязанность Леверкюна, носящая греховный характер, сыграла на первый взгляд как будто бы очень косвенную, но на самом деле решающую роль в гибели Руди — пустого, поверхностного, но безобидного юноши, который был дорог Леверкюну именно своей «простотой», наивным, непосредственным жизнелюбием.
Точка зрения рассказчика не может удовлетворить читателя уже потому, что она всерьез принимает адское соглашение и именно на этой вере строит версию о роковой причастности Леверкюна к гибели Руди.
Незаметно, но неуклонно компрометируя эту версию, Т. Манн заставляет самого рассказчика свидетельствовать против нее: повествование ведется таким образом, что для читателя все яснее становится глубокая, органическая враждебность этих двух людей, о которой Руди не подозревал только по причине присущей ему крайней степени самодовольства, лишающей человека возможности воспринимать впечатление, которое он производит на других людей.
В каком-то смысле отношения Адриана и Руди действительно связаны с «адской сделкой»[101], потому что Руди — средоточие и порождение той «скверны», которою дьявол пытался запугать Адриана. В лице Руди Леверкюн наиболее близко столкнулся со скверной уже не в умозрительной, а в бытовой и житейской сфере.
Бездумно, не вдаваясь ни в какие идеи и не примыкая ни к каким направлениям и школам, этот имитатор чужого творчества и чужого таланта впитал в себя, как губка, все «неизбежные» с точки зрения модернизма «знамения времени», прежде всего — убеждение в относительности духовных ценностей и нравственных понятий. В общем недолгая близость с Руди с самого начала была вызвана со стороны Адриана не потребностью в дружбе, как кажется ревнивому Цейтблому, а скорее потребностью в познании — глубоком, аналитическом проникновении во все извилины этого классического продукта «скверны». Потребность эта была полностью удовлетворена Адрианом. Венчающий познание приговор произнесен Леверкюном в самом начале их последнего разговора. Когда на доверительную просьбу о посредничестве между ним и Мари Годо Руди ответил очередной пошлостью, Адриан произнес следующие, преисполненные непримиримого осуждения слова: «Это жестоко и бездумно, бездумно, как всякая жестокость».
299
Он связал жестокость не с отсутствием нравственного чувства или веры или идеала или долга. Леверкюн, хорошо зная скверну, понимал, что эти понятия — просто звук пустой для приобщенного к ней современного человека. Осуждая жестокость, страдая от нее, можно апеллировать разве что к разуму, к мысли. Слово «нехорошо» — непонятно, смешно. Слова «неумно», «бездумно» доступнее для разума, и есть надежда, что пробужденная мысль не допустит жестокости, — ведь жестокость бездумна. Но «великолепный» Руди, конечно, все равно не понял Адриана. Он просто в силу своей безнадежной нравственной глухоты не расслышал того, что сказал его «друг»[102]. Вместо ответа Руди, как всегда в отношениях с Адрианом, с настойчивостью бывалой куртизанки продолжает добиваться своего.
Рассказчик прав, когда утверждает, что Адриан не любил Мари Годо, что, посылая к ней Руди, он больше испытывал его дружбу, чем добивался ее любви. Вернее, и дружба, и любовь подверглись здесь одновременному испытанию, результат которого (здесь рассказчик опять-таки прав) Адриан во многом предвидел[103]. Так или иначе, но каждый участник драмы, окончившейся кровавой развязкой, получил по заслугам — соответственно мере допущенного им глумления над чувством.
Вступая в противоречие со своей собственной версией отношений Адриана и Руди, рассказчик восклицает: «Бедняга Руди!.. Он попал в сферу действия… демонического начала… глубокого… рокового… Злосчастное «ты»! Оно не пристало голубоглазому ничтожеству, его отвоевавшему, и тот, другой, до него снизошедший, не мог не отомстить за… унижение, в которое тем самым вверг себя».
История с Руди — крах дружбы, любви — происходит почти одновременно со смертью маленького Непомука, который был последней глубокой привязанностью Адриана.
Ужасная смерть прелестного ребенка была воспринята Адрианом как новое подтверждение всеобъемлющей силы скверны; действуя в данном случае в союзе со злыми силами природы, она уничтожает все прекрасное, светлое в жизни, в настоящем и в будущем. Охваченному отчаянием Адриану кажется, что скверне подвластно все, ничего человеческого не остается в мире. Он говорит Цейтблому:
«— …Я понял, этого быть не должно.
— Чего, Адриан, не должно быть?
300
— Доброго и благородного, — отвечает он, — того, что зовется человеческим… Того, за что боролись люди, во имя чего штурмовали бастилии и о чем, ликуя, возвещали лучшие умы, этого не должно быть. Оно будет отнято. Я его отниму[104].
— Я не совсем тебя понимаю, дорогой. Что ты хочешь отнять?
— Девятую симфонию,— отвечал он…»
Итак, снова встреча с XIX веком, с одним из самых великих его творений. Проникнутая оптимизмом и гордостью за человека, вера Девятой симфонии кажется Адриану иллюзорной, «уютной», и он хочет отнять ее[105].
Иллюзорным и даже унизительным с точки зрения человека XX века, познавшего величайшее отчаяние и величайший гнев, кажется Леверкюну и мотив божественного прощения Фауста в финале гетевской трагедии, а также намек на возможность такого прощения, содержащийся и в народной книге[106]. В кантате Леверкюна «Плач доктора Фаустуса» «Фауст отвергает… мысль о спасении… потому что он всей душой презирает позитивность того мира, для которого может быть спасен».
Здесь, казалось бы, еще более, чем в главе о «странном посетителе», очевидно, что Леверкюн — вовсе не Фауст. Ведь он сам недвусмысленно заявляет, что отрицает плодотворность исканий, борьбы, что видит в союзе со злом не этап на пути к добру (именно эта мысль выражена в символике божественного прощения Фауста), а всеобщую и вечную неизбежность. Иначе говоря, Леверкюн подходит к отрицанию самой основной идеи Фауста, как бы стремясь освободить читателя от ставших для него привычными и обязательными ассоциаций. Однако и здесь, выступая на фаустовском фоне, Леверкюн одновременно опять как бы просвечивается вторым фоном — ситуацией XX века — и воспринимается в этом двойном соотношении.
Глубоко врезаются в память, долго звучат в сознании читателя трагические слова Адриана: «…Не должно быть… доброго и благородного… того, что зовется человеческим… Того, за что боролись люди, во имя чего штурмовали бастилии и о чем, ликуя, возвещали лучшие умы, этого не должно быть». «…Этого не должно быть»! Доходил ли, вернее, — мог ли быть доведен исторически, гетевский Фауст, даже в самые кризисные моменты своих исканий, до такой убежденности отчаяния? Конечно, нет! Такая формула долженствования (именно долженствования — «не долж-
301
но», а не «не может» быть) — порождение «скверны» XX века.
И вот в соотнесении с открытой этим веком мерой бесчеловечности Леверкюн соизмерим с Фаустом.
Ни в одной из предшествующих глав романа образ-понятие скверны не является столь всеобъемлющим и вместе с тем столь конкретным, как в главе, посвященной смерти маленького Непомука и следующих за ней.
Понятие скверны распространяется здесь и на природу, равнодушную к боли, страданиям, смерти человека, оно приобретает чуть ли не космический характер. Но тут же это понятие раскрывается с такой исторической определенностью и точностью, как никогда ранее,— под ним подразумеваются все те явления в общественной и духовной жизни Германии, из которых вырос фашизм, которые предвещали и подготавливали его. «Пусть то, что сейчас обнаружилось, зовется мрачными сторонами общечеловеческой природы, немцы, десятки, сотни тысяч немцев совершили преступления, от которых содрогается весь мир… Патриотизм, который отваживался бы утверждать, что вовсе чужда нашей природе, что никак не коренится в немецкой сущности кровавая империя, сейчас задыхающаяся в агонии… такой патриотизм мне представлялся бы скорее великодушным, чем добросовестным». Рассказчик имеет основание упоминать об «общечеловеческой природе» как источнике того, что «сейчас обнаружилось». Это правомерно, потому что явления «скверны» были подготовлены почвой империализма, то есть в каких-то своих сторонах носили очень общий характер и имели самое широкое распространение. Но именно в Германии, благодаря специфическим особенностям ее исторического развития, скверна уже в 20-е годы приобрела вполне отчетливый и угрожающий облик: «Как странно, —восклицает рассказчик, — смыкаются времена, — время, в которое я пишу, со временем, в котором протекала жизнь, мною описываемая. Ибо последние годы духовной жизни моего героя, 1929 и 1930 годы, после крушения его матримониальных планов, потери друга, смерти чудесного ребенка, который стал ему так дорог, уже совпали с возвышением и самоутверждением зла, овладевшего нашей страной и ныне гибнущего в крови и пламени».
Наряду с этим общественно-историческим содержанием скверны все больше раскрывается и еще одно ее значение — ощущение собственной оскверненности, присущее
302
Леверкюну. Оно особенно обостряется во время болезни мальчика: «Какая вина, какой грех, какое преступление… что мы позволили ему приехать, что я допустил его к себе, что мои глаза на нем отдыхали! Надо тебе знать, что дети — они из хрупкой материи и очень податливы ядовитым влияниям». Говоря о своей «ядовитости», загрязненности, Адриан мысленно возвращается к сцене с чертом, то есть к тому моменту своей жизни, когда давление окружающего его зла, своя несвобода от него, неизбежность причастности к скверне были им в полной мере осознаны. Но и тогда, как мы уже говорили, и теперь — с еще большей яростью отчаяния он пытается «прорваться» сквозь скверну модернизированного ада.
В момент смерти Непомука Адриан кричит, обращаясь к дьяволу: «Возьми его тело, над которым ты властен! Сладостной души его, сколько ни пыжься, все равно не возьмешь, вот оно, твое бессилие… все равно я буду знать, что он там, откуда выбросили тебя, шелудивый пес, и это сознание будет животворяющей[107] водой для моего рта, осанной тебе в поругание из тьмы кромешной!» Здесь опять — попытка отрицать всесилие скверны («вот оно, твое бессилие…»), ее абсолютность, желание угрожать, бросить вызов. Все это сочетается с суровым беспощадным самоосуждением: власть скверны над его собственной душой и творчеством исключает, как кажется ему, надежду на спасение («…века громоздятся между моей и его обителью…»). Итак, постепенное нарастание, обострение борьбы героя со своим неизменным антагонистом — скверной — характеризует все части романа, определяет их связь и единство, подготавливает трагическую развязку.
В «Докторе Фаустусе», так же как в «Фаусте» Гете, две развязки. Первая — в главе, посвященной детальному воссозданию последнего, трагического произведения композитора, и вторая — в последней главе романа, посвященной исповеди Леверкюна. В обеих главах воплощены моменты наивысшего трагического напряжения в столкновении героя романа со своим антагонистом.
В кратком послесловии к роману Т. Манн пишет: «Нелишне уведомить читателя, что… многими своими подробностями музыкально-теоретические разделы этой книги обязаны учению Шёнберга о гармонии». Этому учению обязаны прежде всего те взгляды на музыку, которые развивает перед Адрианом дьявол или, вер-
303
нее, те взгляды самого Адриана, которые идут от овладевшей им «патетики скверны», во многом сблизившей его с декадансом и модернизмом1.
Структура, которая, по свидетельству рассказчика, играет немалую роль в кантате о Фаустусе, характерна, как можно судить по этим описаниям, не только для музыки. В чем-то она напоминает охарактеризованную выше структуру трагедий Сартра, Ануя и других современных драматургов и писателей. «Это титаническое «Lamento» (оно длится час с четвертью) глубоко нединамично, лишено нарастания и какого бы то ни было драматизма — подобно концентрическим кругам от брошенного в воду камня, которые, один в другом, распространяются все дальше, по-прежнему оставаясь кругами».
Нединамичность, отсутствие нарастания, драматизма, концентричность построения — все это нетрудно найти в произведениях, утверждающих ту или иную вариацию «естественного трагизма». Эти особенности структуры непосредственно связаны со специфическими отношениями трагического героя к его антагонисту, развивающимися не по принципу нарастания противоречия, непримиримости, а по принципу нагнетания ощущения двусмысленности самого конфликта, фактической иллюзорности антагониста. В произведении Леверкюна нединамичность, принцип концентрического нагнетания, как будто бы главенствующий, оказывается, однако, постепенно подчиненным и преодоленным (подобно тому как постепенно преодолевается «естественный трагизм» в самом романе) другим формообразующим началом. «Грандиозные вариации плача», которые «ширятся кольцами… образуя… большие вариации… в себе, опять-таки являющиеся всего лишь чредой вариаций», предстают все же не самодовлеющими: «…все они восходят, как к теме, к в высшей степени пластичному основному сочетанию звуков, навеянному определенным местом текста», прощальными словами доктора Фаустуса из народной книги: «Гибну как дурной, но добрый христианин». Так само обращение к традиционному трагическому образу не позволило Леверкюну (так же как Т. Манну) ограничиться статичным, концентрическим построением, столкнуло этот принцип с принципом «восхождения» и подчинило ему.
304
Подробно, взволнованно и вместе с тем, что идет уже не от Цейтблома, а от Манна, артистически точно, глубоко продуманно воссоздавая кантату Леверкюна, рассказчик дважды употребляет слово «Umschlag» (поворот).Заключенное в нем понятие интересовало Леверкюна, когда он еще только приобщался к музыке и рассказывал своему другу о свойственной ей лукавой способности поворачивать любое созвучие.
Но затем ему ближе стали понятия «двусмысленность», «двуликость» — эти атрибуты порабощающей Адриана скверны. Все противоположности имеют способность двусмысленно и бесконечно поворачиваться разными гранями, переходя друг в друга: высокое и низменное, реакционное и прогрессивное, доброе и злое. Такое понимание движения свойственно Леверкюну и его произведениям на определенном этане, и, именно в таком смысле трактуемое, оно подменяет понятие развития в произведениях Кафки, Сартра и других, о чем говорилось выше. Но произведение Адриана «Плач доктора Фаустуса» содержит другой смысл, ибо несет элементы прямо противоположного содержания и призвано подчеркнуть принципиальное изменение, принципиально новое в музыке Леверкюна. «…холодный расчет обернулся1 экспрессивнейшим криком души, чтобы эта безотчетно доверчивая человечность стала свершением»; «…строжайшая связанность оборачивается вольным голосом наивысшей страсти, порождает свободу».
Итак, «оборачиваемость»[108] в «Плаче доктора Фаустуса» — не самоцель. Она лишь момент на пути к достижению цели: человечности, свободы. В развитии кантаты обнаруживается диалектический момент: в процессе реализации темы происходит подъем на новую, высшую, ступень, рождается новое качество: «Титаническая эта жалоба… этот плач неизбежно должен был стать экспрессивным творением, выражением чувств, почему он и стал песнью освобождения, подобно тому как старая музыка, к которой в нем переброшен мост через века, стремилась обрести свободу выражения. Только что диалектический процесс (благодаря которому — на определенной ступени развития, обусловившей это произведение — строжайшая связанность оборачивается вольным голосом наивысшей страсти, порождает свободу), этот процесс в своем логическом развитии беско-
305
нечно сложнее, бесконечно поразительнее, чем во времена мадригалистов».
Последнее произведение Леверкюна, написанное в годы полного осознания грозной власти скверны, в годы, данные ему чертом под условием отречения от любви и человечности, — самой своей темой, героем, структурой осуществляет прорыв именно в эту подзапретную сферу. «Плач доктора Фаустуса» выражает не только высшую степень человеческого отчаяния под гнетом торжествующего зла, но и непримиримое осуждение всем людям, подпавшим под его власть, идею неизбежности возмездия и необходимости искупления: «Плач, плач!.. Но разве… нет здесь прямой торжествующей, победной связи со страшным даром возмездия и искупления? Не есть ли это пресловутый «прорыв», так часто фигурирующий… в нескончаемых наших обсуждениях судеб искусства?»
Тем самым Адриану все же удается осуществить зародившееся в нем во время беседы с чертом фаустовское намерение использовать договор в своих, человеческих целях. Творческие силы, отпущенные ему адом, он использует для создания произведения, в котором с огромной выразительной силой звучит голос страдающего человека — «предельные акценты печали», произведения, всей своей художественной структурой устремленного к прорыву из адских тисков скверны, к поискам светлого начала, к надежде на спасение. «Вы только послушайте финал, послушайте его вместе со мной!» — восклицает рассказчик. «Одна за другой смолкают группы инструментов, остается лишь то, во что излилась кантата, — высокая «соль» виолончели, последнее слово, последний отлетающий звук медленно меркнет в pianissimo ферматы. И все: только ночь и молчание. Но звенящая нота, что повисла среди молчания, уже исчезнувшая, которой внемлет еще только душа, нота, некогда бывшая отголоском печали, изменила свой смысл и сияет, как светоч в ночи».
Достижение такого финала, при котором вся кантата, все ее содержание и форма «излились» в одно высокое «соль» виолончели, выразившее целое, — это и есть осуществление строгого стиля, воплощение взаимосвязи, единства, страстно утверждаемого Леверкюном на протяжении всей его жизни. Недаром мелодикой и гармонией в «Плаче…», свидетельствует рассказчик, нередко «также управляет впервые
306
мною обнаруженный буквенный символ, то есть пресловутое heaees, Hetaera esmeralda».
Для прежних Фаустов итог исканий, выразившийся в одной утверждающей ноте, что «повисла среди молчания», был бы странен и ничтожен. Для Фауста-Леверкюна, окруженного тем миром, который изображает и от которого страдает Т. Манн, такой финал звучит победоносно и величественно. Здесь снова действует соотнесенность двух фоновых освещений, которые скрещиваются в образе Леверкюна и к восприятию которых читатель приобщен с самого начала романа.
Уже этот первый финал трагедии Леверкюна обнаруживает близость к традиционным финалам настоящих трагедий в смысле той глубокой внутренней метаморфозы, которую переживает герой в результате столкновения с антагонистом и духовной победы над ним. В этом смысле можно сказать, что финал романа антитезно противостоит исходному моменту борьбы, как это и должно было быть согласно классической традиции.
В еще большей мере ассоциации с «настоящей» трагедией напрашиваются в последней главе романа. В ней повествуется о странном желании уже больного Адриана нарушить свое многолетнее отшельничество и собрать множество гостей (не только знакомых, но и малознакомых людей) в своем «убежище» — усадьбе Швейгештилей, с тем чтобы ознакомить их со своим последним творением и исповедаться перед ними. Приглашение гостей и исповедь Леверкюна явились его последними сознательными действиями. Уже в самом начале исповеди глубокие мысли, удивительные прозрения перемежаются с причудливыми фантазиями и видениями душевнобольного. И все же, превозмогая болезнь, Адриан договорил все, что хотел сказать. Силы оставили его, когда, подойдя к роялю, он попытался исполнить «Фаустуса». «Склоненный над инструментом, он распростер руки, казалось, желая обнять его, и внезапно как подкошенный упал на пол». Глубокий обморок (паралитический шок) перешел в безумие, от которого Адриан, проживший, вернее, просуществовавший, еще почти десять лет, так и не оправился. С присущей ему обстоятельностью рассказчик освещает (в эпилоге) и эти годы жизни Адриана. Но они уже не имеют отношения к трагедии Леверкюна. Она кончается сценой исповеди. В этой последней главе романа, согласно законам трагедийной структуры, действие снова сосредоточено в
307
итоговом высшем напряжении, на основном исходном столкновении: столкновении «трагически значительного человека», как называет рассказчик Адриана на последних страницах романа, со скверной окружающей его жизни, порожденной особенностями эпохи, общества, нации. Даже в своих самых внешних очертаниях сцена, разыгравшаяся в «игуменском покое» усадьбы Швейгештилей, напоминает финалы настоящих трагедий. Они происходят обычно при участии чуть ли не всех действующих лиц, все участники финала с особой сценически четкой пластичностью располагаются относительно друг друга, образуя две враждебные группы, что соответствует предельной выявленности позиции, занимаемой каждым персонажем по отношению к главному герою и его антагонисту; последние слова финала, произносимые обычно после гибели героя, принадлежат, как правило, наиболее близко стоящему к нему лицу: они часто имеют форму краткой сентенции, афоризма, но обладают большой смысловой нагрузкой, призваны подвести итог действию, выявить значение борьбы и гибели героя.
Эти классические элементы финальной традиции присутствуют в последней главе романа Т. Манна, как мы попытаемся показать, отнюдь не в качестве формального рудимента, а во всей своей глубоко содержательной значимости. Более того, смысл последней главы романа трудно раскрыть без соотнесения с этой классической традицией. Потому что именно такое соотнесение скорее всего позволяет разобраться в сложной символике, стоящей за, казалось бы, самыми «простыми», бытовыми обстоятельствами и деталями, описанными рассказчиком. Нерасторжимое слияние конкретно-бытового и обобщенно-символического планов становится особенно характерно для конца «Доктора Фаустуса», и прежде всего для речи-исповеди.
Съезд гостей в Пфейферинг описан рассказчиком как настоящее вражеское вторжение, которое вызывает невольный протест у всех обитателей усадьбы, начиная с верного пса Зуло и кончая почтенной матушкой Швейгештиль. Пестрая и шумливая толпа гостей почти целиком состояла из художников, поэтов, ученых, артистов, композиторов, с готовностью, а порою и с энтузиазмом посвятивших свое творчество утверждению того, говоря уже приводившимися словами рассказчика, «зла, которое овладело страною и через несколько лет привело ее к гибели в крови и пламени».
308
На этот раз «скверна» ворвалась в простое и строгое «убежище» Адриана уже не в лице «странного посетителя», созданного его собственным сознанием, а в своем вполне реальном обличии. Сам вид этой суетной праздной публики, привлеченной лишь любопытством и жаждой сенсации, кажется рассказчику оскорбительным. Он всячески подчеркивает, что почти все созванные Адрианом гости резко враждебны ему, несовместимы с ним. И это не замедляет сказаться.
«Публика стала… рассаживаться, — повествует рассказчик. — Вышло так, что за столом с Адрианом сидели старики Шлагингауфены, Жанетта Шейрль, Шильдкнап, Елена и я. Остальные разместились по обе стороны комнаты…» Итак, с самого начала две группы: у стола, вокруг Адриана, и — «по обе стороны комнаты», вокруг доктора Краниха, поэта Даниэля Цур Хойе и других приглашенных, «в большинстве своем как внутренне, так и внешне… чуждых» Адриану. По мере нарастающего недоумения, испуга, возмущения, которые вызвала у большинства собравшихся речь Адриана, установившийся было порядок «рассаживания» нарушается, и это становится, в свою очередь, знаменательным, — недаром рассказчик так подробно останавливается на этих деталях.
«…Началось бегство. Так, старики Шлагингауфены поднялись из-за нашего стола и… направились к двери… комнату покинула еще одна группа гостей… несколько мгновений спустя… тихонько вошла матушка Швейгештиль… и, сложив руки под фартуком, осталась стоять у дверей… в комнате все еще было человек около двадцати, хотя многие уже поднялись и, видимо, были готовы к бегству… Вокруг Леверкюна, как бы защищая его, сгрудились женщины… Леверкюн, окруженный упомянутыми выше женщинами, — мы с Еленой и Шильдкнап тоже подошли к нему, — сел за коричневый рояль».
Эта картина большого зала с малочисленной группой слушателей явно напоминает описание лекций чудака Кречмара в первых главах романа. И это не только внешнее сходство. И там и здесь речь идет о стремлении прорваться к общению, к людям, установить взаимосвязь, поведать о том, чем полна душа и как она «страждет», если употребить выражение рассказчика, сказанное в несколько иной связи. Так же как для его учителя, для Адриана важно теперь именно непосредственное общение с людьми. Ему
309
мало в этот момент говорить с ними лишь на языке музыки. Адриан хочет видеть и чувствовать непосредственную реакцию слушателей, ибо он не только исповедуется перед ними, но и наставляет их; а наставляя, вопрошает, хотя эта вопрошающая интонация, едва ли не самая важная в исповеди Адриана, обнаруживается не вдруг. И это стремление к непосредственному контакту, к близости, то есть к тому, чего он избегал всю свою жизнь, знаменует следующую, высшую для Адриана, ступень преодоления «холода» скверны. Именно этим и определяется художественная необходимость второго финала. Прибегая к овладевшей его воображением символике, Адриан, превозмогая болезнь (в этом превозмогании тоже единоборство со скверной: ведь болезнь — ее порождение), вкладывая в слова всю свою муку, раскрывает перед слушателями сущность своих противоречивых «греховных исканий».
«Был у меня светлый быстрый ум и немалые дарования, ниспосланные свыше, — их бы взращивать рачительно и честно. Но слишком ясно я понимал: в наш век не пройти правым путем к смиренномудрому; искусству же и вовсе не бывать без попущения диавола, без адова огня под котлом. Поистине, в том, что искусство завязло, отяжелело и само глумится над собой, что все стало так непосильно и горемычный человек на знает, куда ж ему податься, — в том, други и братья, — виною время».
Так Адриан повествует о своем уже известном читателю признании неизбежности скверны, неизбежной двусмысленности всего «интересного», обо всем том, что сблизило его с разновидностями «естественного трагизма».
Однако на этот раз читатель узнает об этом как о пройденном для героя этапе, — это его прошлое. Теперь Леверкюн знает другое, — то, на что намекал во время болезни Непомука: утешение в том, что власть скверны не беспредельна, не абсолютна: есть светлое, прекрасное в жизни, которое может быть физически истреблено, но не может быть загрязнено и порабощено.
В исповеди эта мысль приобретает еще большую отчетливость, звучит с еще большей силой. Здесь уже прямо говорится о том, что помимо подчинения скверне, продиктованного давлением и влиянием «времени», существует и другой путь. Вставшему на первый путь, прежде всего самому Адриану, вечное проклятие; нашедшим второй — вечная слава.
310
«Ho ежели кто призвал нечистого и прозаложил ему свою душу, дабы вырваться из тяжкого злополучья, тот сам повесил себе на шею вину времени и предал себя проклятью. Ибо сказано; бди и бодрствуй! Но не всякий склонен трезво бодрствовать; и заместо того чтобы разумно печься о нуждах человека, о том, чтобы людям лучше жилось на земле и средь них установился порядок, что дал бы прекрасным людским творениям вновь почувствовать под собой твердую почву и честно вжиться в людской обиход, иной сворачивает с прямой дороги и предается сатанинским неистовствам. Так губит он свою душу и кончает на свалке с подохшей скотиной».
В этом достигнутом накануне духовной смерти признании второго пути, в беспощадности осуждения идущих по первому и осуществляется, уже не в творчестве, а в жизни, победа Леверкюна над своим антагонистом — «прорыв» из царства абсолютного владычества скверны к людям, к общению, к доверчивости, взаимосвязи, к тому, чего так долго не знала и не признавала надменность Адриана, окруженного леденящим холодом скверны. Именно с этого момента в исповеди Леверкюна явственно начинают звучать вопросительные интонации и становится ясным, что все ее содержание, так же как это было в его кантате, устремляется к одной вопрошающей «ноте»: есть ли надежда на спасение не лично для Адриана, но для его творений — для искусства художника, живущего в «страшную годину» и не сумевшего уйти из-под ее разрушающего воздействия? Есть ли надежда на то, что «будет хорошим сотворенное во зле»? Есть ли надежда, что искания, страдания, великие муки и труды художника («трудно тому, кто ищет трудного…», «я рьяно трудился…»), зараженного скверной, будут нужны людям в их борьбе со скверной, в их освобождении от нее? Вопросы эти обращены фактически не к собравшейся публике, которой почти не замечает весь ушедший в себя Адриан, а к неким абстрактным не зараженным скверной людям, «братьям и сестрам по человечеству», как выражается рассказчик. Недаром большинством собравшихся исповедь Леверкюна не услышана, не понята: ведь почти все «городские гости» Леверкюпа — плоть от плоти скверны. Они привыкли совсем к другим речам: «Все здесь сказанное ничего общего не имело с пошлыми виршами поэта Цур Хойе о покорстве, силе, крови, об изнасиловании мира, — это была тихая, суровая истина… — акт безрассудной доверчивости».
311
И лишь один человек не только внял и понял, но и ответил Адриану. Этим человеком была матушка Швейгештиль. Когда, договорив, Адриан падает у рояля, она «скорее всех к нему подоспела… Подняла его голову и, держа ее в своих материнских объятиях, крикнула, обернувшись к оторопелым гостям: «Уходите же, все зараз уходите! Ничего-то вы, городской народ, не понимаете, а тут надобно понятие! Много он, бедный человек, говорил о милости господней, уж не знаю, достанет ее или нет. А вот человеческого понятия, уж это я знаю, всегда на все достанет!»
Таковы последние слова, венчающие повествование о трагической жизни Леверкюна. Они опять-таки находятся в полном соответствии с традиционными финалами настоящих трагедий, в которых раскрывалось значение борьбы и гибели героя и устами того или иного персонажа, а в древней трагедии — хора, давалось отпущение его вольным и невольным прегрешениям, искупленным высотой стремлений, непримиримостью борьбы[109].
То же содержание выражено в простых словах: «…человеческого понятия… всегда на все достанет»… Это восклицание как бы удостоверяет, что с подлинно человеческой точки зрения искания, страдания, труды Леверкюна, на которые ушла вся его жизнь, не лишены значения, — достойны не только жалости и сочувствия, но именно «человеческого понятия», человеческого признания. Признание это как нельзя более подтверждается свидетельствами рассказчика о том, что произведения Леверкюна, и особенно «Плач доктора Фаустуса» «в продолжение полутора десятилетий» пролежал, как «мертвый, потайной и подзапретный клад, и лишь сокрушительное освобождение… быть может, вернет его к жизни». Творчество Леверкюна оказалось враждебным и опасным силам торжествующей скверны, потому что оно искало прорыва к человеку, к человечности.
Трагедия Леверкюна развивается в нескольких слитых между собою планах: эстетическом, общественно-историческом, философско-этическом. Потому неверно думать, что сложность «Доктора Фаустуса», — который даже среди романов самого Т. Манна выглядит произведением, перенасыщенным идеями, требующим максимальной активизации мысли читателя, — создается за счет большого места, отведенного здесь специальным проблемам музыки. При более внимательном чтении убеждаешься, что в «Фаустусе» нет ни одного музыкально-теоретического рассуждения,
312
носящего самодовлеющий характер, так же как в «Фаусте» Гете нет мифологических мотивов, которые образуют самостоятельную линию действия, оторванную от общего развития, общей проблематики. Сложность обоих произведений прежде всего — от сложности поднятых в них исторических, философских и нравственных вопросов, их всеобъемлющего характера, трагической противоречивости.
Роман Т. Манна «Доктор Фаустус» — это не только роман о судьбах европейской культуры[110] в первые десятилетия XX века, как иногда его определяют; это именно «Фауст» XX века — философско-трагическое, символико-реалистическое произведение о соотношении добра и зла, человеческого и античеловеческого в современном мире, — так, как это видел, понимал и изображал большой художник.
Классическая трагедийная структура, проникшая по воле писателя во все поры эпического «сказа», осталась верна своему основному, исконному назначению — воплощать идею непримиримости с царящим в мире злом, утверждать мысль о возможности победы над ним — победы, которую стоит купить ценою гибели.
Роман, написанный в самое трагическое десятилетие XX века и продолжавший искания, начатые в самом его начале, «роман… эпохи», «смятенный свидетель» всех ее «ужасов», и вместе с тем роман-«итог», обобщающий прошлое, преломивший один из самых значительных «вечных» трагических образов; роман, традиционный по самому своему замыслу и тем не менее опять-таки в самом замысле — в обращении к старому образу — близкий начинаниям современных художников, ищущих разрешения проблемы трагического не только в иных жанрах, но и с иных позиций, — вся эта сложность, поисковость, масштабность, противоречивость делают «Доктора Фаустуса» произведением подлинно «итоговым» для творчества Т. Манна. Вместе с тем роман «Доктор Фаустус» — произведение особенно значительное и показательное с точки зрения тех принципиальных размежеваний, которые происходили и происходят в современной литературе. Ибо различные понимания современного человека, оценки его нравственных потенций и возможностей (ответственности, активности, стойкости) — в связи с тем или иным ответом на вопрос о принципиальной возможности художественного воплощения трагической ситуации и трагического героя на основе познания современной действительности — образуют одну из самых существенных «демаркационных линий», разде-
313
ляющие романистов и на рубеже 40—50-х годов, и в наши дни.
О последовавших за «Доктором Фаустусом» романах Т. Манна («Избраннике», «Признаниях авантюриста Феликса Круля»), которые наиболее непосредственно, как нам кажется, подчинены задачам этого принципиального «размежевания», мы говорили в самом начале работы, подчеркивая тем самым значение нравственного аспекта для формирования творческой позиции писателя, его метода и поэтики. Мы надеемся, что рассмотрение остальных романов Т. Манна — «Будденброков», «Королевского высочества», «Волшебной горы», «Лотты в Веймаре», «Иосифа и его братьев» и «Доктора Фаустуса» — обосновали в какой-то мере это наше исходное положение.
Творчество Т. Манна — романиста охватывает пять с половиной десятилетий века. Его романы органичнейшим образом связаны с основными историческими вехами этого периода, насыщенного острейшими общественными коллизиями, событиями, решающими для судеб его родины, Европы и мира и повлекшими за собой новые «нравственные измерения» — новую меру падения и возвышения человеческого духа.
Преломив действительность своей эпохи через нравственную призму, Т. Манн не ушел от острейших общественных проблем. Раскрытие реальных социальных противоречий не обойдено и не оттеснено, но как бы поглощено в его романах «погружением» в острейшие и непримиримые нравственные перипетии и коллизии. Значение такого пути «глубокого познания» современности раскрывается в равной мере и в победах метода, и в открытиях поэтики, воплощаемых в каждом отдельном произведении художника, в органичнейшей взаимосвязи познавательного, эстетического и этического начал литературы, которая утверждается всем его творчеством.
Традиции и перспективы „высокохудожественной реалистичности“ в литературе
То, что в последние годы своей жизни Т. Манн обратился к
творчеству двух великих писателей двух самых близких ему литератур — немецкой и
русской, было, казалось бы, обусловлено внешними причинами: столетием со дня кончины
Шиллера и пятидесятилетием со дня кончины Чехова. Но оба его выступления
существенно отличаются от обычного жанра юбилейного «Слова». Это ощущается уже
в самом тоне. В них господствует не торжественность и праздничность, а
пристальный анализ, заинтересованный страстный поиск. Говоря о писателях,
отделенных от его современности многими десятилетиями, принадлежащими совсем к
иным эпохам, Манн останавливается на проблемах, которые всегда были важны для
его собственного творчества и актуальны для современной ему литературной и
общественной ситуации.
В центре этих статей Т. Манна находится проблема, поднятая в
«Бильзе и я» и прошедшая через всю жизнь. Какими путями осуществляется, в
условиях современной действительности, желание, которое владеет каждым
настоящим художником — «глубоко познавать и прекрасно создавать», и как служит
это владеющее художником стремление открытию подлинной человечности в человеке,
утверждению идей гуманизма и «добра»?
В пору «Будденброков» Манн ставил эту проблему в связи с
жанром романа. Теперь она приобретает всеобъемлющее значение, относится ко всем
жанрам. Тем более что границы этих последних мыслятся Манном все более
подвижными и условными: в лирическом стихотворении и трагедии он обнаруживает тяготение
к эпичности, а в малой эпической форме — лиризм и трагедийность. Впрочем, проблемы
формы вообще явно отступают теперь на задний
315
план перед проблемой методологической: о путях глубокого познания и прекрасного создания.
В орбиту манновских размышлений над этой проблемой входят не только «юбиляры». Манн снова обращается к той большой художественной традиции, которая на протяжении всей жизни была для него основной питательной средой: Гете, Вагнер, Толстой, Достоевский — эти великие имена предстают здесь в новых «поворотах» и служат выяснению отнюдь не только литературных проблем. Надо сказать, что ни в одном из предшествующих литературно-критических выступлений Манна нет такого органического «увязывания» эстетических, политических, этических подходов к рассмотрению произведений и творчества писателей, как в статьях о Шиллере и Чехове. Недаром одновременно с юбилейными «Словами» Манн пишет небольшую, но поразительную по проникновенности, страстности авторского чувства статью «Прощальные письма европейских борцов Сопротивления» (1954), которая формально отношения к «Словам» о Шиллере и Чехове не имеет, а по существу углубляет центральную для них проблему человека, заостряя идею «будущего» и «веры». Кроме того, даже по форме эта публицистическая заметка причастна «художеству». В ней с поразительной пластичностью и непосредственностью воссоздан облик самых «обыкновенных» людей, ведущих неравную схватку со злом в силу живущего в каждом не потерявшем человеческого облика человеке «стремления приблизить жизнь человеческую к доброму и разумному, ко всему, что продиктовано духом, дано нам свыше»1. По своему пафосу маленькая заметка о взволновавшей Манна книге оказывается близка всем его романам, всему творчеству. Недаром Манн замечает по поводу книги писем борцов Сопротивления: «Мы восхищаемся искусством, когда оно умеет говорить языком жизни. Но нас еще более захватывает, когда она, сама того но зная, говорит языком подлинного искусства»2.
Убеждение в том, что «подлинное искусство» всех времен — но особенно прошлого и нынешнего веков — «сопричастно» жизни общества, народа и жизни отдельного человека, то есть проблемам политики и морали в самом широком смысле этих понятий, является той основой, на которой объединяются «итоговые» статьи о творчестве великих
310
художников с перепиской и публицистикой Манна последних лет.
Автор «Доктора Фаустуса» и «Признаний авантюриста» далек от прекраснодушной оценки ситуации, сложившейся в послевоенном мире. Политический авантюризм, гонка вооружения, крайняя накаленность международной обстановки, атмосфера холодной войны, отражающаяся во всех сферах жизни, — все это оценивается Манном трезво и резко: «Мы живем в мире злейшей реакции, сочетающей суеверную ненависть и нетерпимость с паническим страхом, — пишет он в 1954 году в статье об участниках Сопротивления. — Оружие страшнейшей разрушительной силы… накапливают безумцы, грозящие… превратить землю в окутанную ядовитыми парами пустыню. Духовный упадок, загнивание культуры, равнодушие к злодеяниям юстиции… самоуправство чинуш, безрассудное стяжательство»1, — такой предстает в глазах Т. Манна и «старая Европа», и «новая» американская демократия, которая еще накануне второй мировой войны внушала ему немалые надежды и иллюзии. Теперь он иронизирует над «майским цветением своего демократического оптимизма»2 и говорит о том, что буржуазная демократия снова сближается с фашизмом: «…Можно подумать, что она нанесла ему поражение для того только, чтобы помочь поверженному вновь подняться на ноги, для того, чтобы топтать ростки добра всюду, где их можно найти, и покрывать себя позором бесчестных союзов»3.
Придя к столь решительной критике буржуазной демократии («то, что мы называем «западным миром», не способно внять требованиям мирового духа», — писал он в одном из писем еще 1948 года), Манн говорил, что демократия существует сейчас лишь в форме социализма и что будущее принадлежит ему. Однако «роковое стечение исторических обстоятельств»4, то есть действительно исключительно сложная общественно-политическая и идеологическая ситуация конца 40-х — начала 50-х годов, во многом определило горькое признание Манна, сделанное в 1952 году; он говорит, что не знает какой-либо «системы», которую мог бы предпо-
317
честь «изувеченной и находящейся в большой опасности» буржуазной демократии. Решительно и безоговорочно на сторону социализма Манн так и не перешел[111]. Но вместе с тем неприятие многих сторон буржуазного мира сказывается в мировоззренческой позиции позднего Манна весьма сильно и вносит новые черты в его понимание гуманизма. Даже приведенная выше небольшая выдержка из статьи о письмах борцов Сопротивления говорит, как мы уже отметили, что в манновское понятие человечного человека органично входит теперь присущее человеку стремление совершенствовать не только себя, но и окружающий мир, внося в него разум и добро. Гуманизм Манна, как доказали его советские биографы и исследователи, преодолевает созерцательность, индивидуализм, приобретает пафос социальной активности и будущего. Письма борцов Сопротивления предстают в его освещении именно как неопровержимое доказательство потребности и возможности человека: исправлять окружающую жизнь, вносить в нее добро и разум, даже под угрозой гибели, даже ценою смерти.
Т. Манн отчетливо понимал, что и воцарение фашизма, и победа над ним были сложнейшими процессами, включающими в себя многие и разнородные политические, социальные, идейные, моральные предпосылки. Да и во многих других суждениях Манна об истории общества, о культуре, литературе фактор социальный — столкновение основных для эпохи общественных сил, победа новой и сильнейшей общественной группы — присутствует постоянно. Бюргер, восторжествовавший над феодалом, буржуа — над бюргером, городские низы — над патрицианской верхушкой и наконец социалистический мир, существующий рядом с миром империалистическим и определяющий современную ситуацию, — от всех этих и многих подобных непреложных социально-исторических «реалий» Манн вовсе не склонен был абстрагироваться.
Подвиг отдельных героев, высота их стремлений, идеалов сами по себе — знает Манн — не могут привести к победе над таким социальным злом, как фашизм. Но они входят существенным моментом в реальную совокупность предпосылок, определяющих общественные процессы, прогрессивные сдвиги (в данном случае — победу над фашизмом).
В позиции участников такой неравной отважной благородно-человечной борьбы со злом, имеющим огромный перевес в силе, Манн усматривает некое сходство с пози-
318
цией передового художника. Ведь и он, вступая в борьбу со злом, не имеет шансов добиться непосредственно проявляющихся результатов.
Этот давно волнующий Манна вопрос об отношении художника и общества освещается в пору итогов в связи с творчеством Шиллера и Чехова без прежней недоговоренности, проблематичности, свойственной другим работам, даже статье 1952 года, специально посвященной этой теме («Художник и общество»). Творчество художника, с полной определенностью утверждает теперь Манн, до тех пор носит характер «эстетической игры», пока не приобретает подлинного совершенства, а вместе с тем — это совершается именно как единый, одновременный процесс — и подлинно человеческого, этического, а также критического в отношении общественного зла, передового по своему идеалу содержания.
В анализе творчества Шиллера это убеждение было выражено Манном в духе теоретических рассуждений самого Шиллера и даже в близкой ему манере: «…возвышенное понятие “добра”, стремление к нему присуще обоим мирам— эстетическому и моральному… истина и красота сплавляются в искусстве, наставнике рода человеческого»1. Творчество же Чехова, путь, которым он шел в большое искусство, рассматривается Манном как особенно убедительное подтверждение закона безраздельного слияния эстетического и этического начал, осуществляемого в искусстве: «…мало-помалу… в маленькие литературные поделки Чехова проникает нечто такое, с чем эти поделки поначалу не имели ничего общего, что идет от совести самой литературы и в то же время от совести автора… горькое, печальное, обвиняющее и разоблачающее жизнь и общество, выстраданное, критическое, короче говоря — литературное»2.
Итак, единство эстетического и этического, красоты и добра, истины и идеала — это и есть, по убеждению Манна поры итогов, суть настоящей литературы, то, что делает ее искусством.
Уже в статье «Художник и общество» принцип этого единства (или точнее — триединства) был сформулирован Манном очень четко: «Какие же принципы определяют сущность поэта, литератора? Принципы эти — познание и
319.
форма, то и другое одновременно… так что одно обуславливает, вызывает, требует другое. В этом единстве для него (писателя.— М. К.) все: интеллект, красота, свобода»1. И далее — особенно часто цитируемое исследователями рассуждение о сущности гуманизма вообще: «…все это только подтверждает неделимость проблемы гуманизма, которая… включает в себя все сферы. Эстетическое, моральное, общественно-политическое сливаются в ней воедино»2.
И все же в статье «Художник и общество» Манна очень остро волновало такое, казалось ему, трудноразрешимое противоречие: каким образом по форме «первоклассная книга»3 может быть создана писателем, проводящим реакционные идеи, стоящим на антигуманистических и реакционных позициях? Приводя примеры из истории (сочинения Жозефа де Местра) и из времени господства фашизма, Т. Манн и тогда говорил, что они в принципе не колеблют его убеждения в «моральности и свободолюбии» не только содержания, но и формы, то есть в неразрывности осуществляемого искусством «триединства». Возможность писать «первоклассно» по форме для писателя, ушедшего с позиций гуманизма и свободы (в самом широком смысле этих понятий), так же непрочна, считает Манн, как насильственно и авантюристски приобретенная власть для политика; это — не закономерность, а казус, в конечном итоге — недолговечный: постепенно «первоклассность» формы, печать таланта исчезают из творений писателя, отрекшегося от идей гуманизма и ставшего проповедником реакции. Очевидно, что вопрос этот возникает для Манна не только и не столько в связи с Жозефом де Местром, что обращение к французской революции достаточно условно. Он ссылается на эту эпоху и это событие лишь «в качестве критерия», соответствующего масштабу обсуждаемой проблемы.
В последних критических выступлениях Манна, при анализе творчества Шиллера и Чехова, проблема отношения взглядов писателя, его мировоззрения в целом, к творчеству приобретает еще более актуальное звучание. Ни Шиллер, ни Чехов не оторваны от своей эпохи, — анализ Манна историчен, конкретен. И вместе с тем насквозь пронизан, как уже говорилось, актуальной
320
для Манна проблематикой, во многом не утерявшей своей остроты и до наших дней. Нам не важно в данном случае выяснять степень правоты Манна, когда он рассматривает трагедии позднего Шиллера как трагедии реалистичные. Мы видим в этих подходах прежде всего освещение тех проблем и принципов, которые важны для его собственного творчества и современной литературы вообще.
«…По общему тону «Валленштейн» звучит горделиво и возвышенно, но патетику здесь сменила высокохудожественная реалистичность — плод… соединения трезвой объективности и поэтического вдохновения»1, — так конкретизирует теперь Манн принципы, непреложно, как он считает, осуществляемые высокой литературой, настоящим художником: трезвая объективность и поэтичность вдохновения. Попутно отмечается одна из черт, с подлинным искусством несовместимая, — «патетика», которая совершенно противоположна, по манновским понятиям, не только объективности, но и поэтичности художественного воплощения жизни.
Употребляемое Манном понятие «реалистичность» не совпадает с понятием «реализм» в нашем понимании и употреблении. Оно не обозначает ни литературного направления, ни метода,— эти понятия, вернее, их словесные обозначения просто отсутствовали в манновском обиходе. И все же между манновской «реалистичностью» и нашим «реализмом» какие-то точки соприкосновения существуют. «Реалистичность», в манновском понимании, означала «трезвость», обращенность к действительности; «высокохудожественная реалистичность» — в подлиннике это особенно ясно — означает свойственную высокому искусству способность «связывать» трезвую, реальную прозу с высоким и прекрасным вымыслом[112].
В настойчивом повторении слов «реалистичность», «реалистический», «реализм» в статье о Шиллере ощущается некоторый полемический оттенок, — ведь сторонниками «новой», в их понимании единственно современной, литературы манновское понимание «высокохудожественной реалистичности» отвергается с такой же враждебностью, как и любое другое употребление этого понятия.
Автор же «Слова о Шиллере» снова и снова к нему возвращается. Он утверждает, например, что Шиллер создал «убедительнейший, вполне реалистический образ — один
321
из самых противоречивых, какие знает история театра… Нет ни на йоту чувствительности в обрисовке образа: только правда — интригующая, многогранная, поражающая правда»1.
«Тем самым, — отмечает здесь же Манн, — в «Валлен- штейне» исполняется задача, предначертанная всякому истинному поэту: показать, «как было в действительности», по крайней мере, в том, что касается сокровенно-человеческого»2.
Однако и в сфере «сокровенно-человеческого», свойственной всей истинной литературе, осуществляются разные и противоположные принципы. Здесь, как и во всей манновской статье, творческая индивидуальность Шиллера оттенена сравнением и контрастом с Гете. Проникая в глубины человеческой психологии, Гете достигал полноты и уравновешенности, пропорционально освещая светлые, добрые и темные, злые стороны человеческой души и раскрывая глубокие социальные «первопричины», формирующие человеческие души, двигающие человеческими поступками. Шиллер же, показывает Манн на примере «Валленштейна» и других драм, раскрывает «сокровенно-человеческое» в моменты высочайшего напряжения всех духовных сил личности, в ситуации непримиримого столкновения личных интересов и общественных тенденций.
Уделяя много места отношениям великих друзей-антиподов, Манн заостряет проблему не только многообразия творческих индивидуальностей, но и многообразия путей, которыми могут и даже с необходимостью должны идти художники, руководствующиеся принципом «глубокого познания» жизни, эпохи, современника.
Замечательной чертой шиллеровского психологизма Манн считает
именно совмещение «сокровенного внутреннего мира героев и широкой картины
исторической эпохи»3. Последняя
именно совмещена со всей напряженно протекающей борьбой героев и ее психологическими
перипетиями: «…в “Валленштейне”… воссоздана вся эпоха религиозных
войн — пусть лишь в кратких намеках, характерных лозунгах, исторических
реминисценциях»4
322
Итак, те или иные формы совмещения сокровенных внутренних движений души и картин исторической эпохи раскрыты в «Слове о Шиллере» как признаки полной творческой зрелости художника, поры его идейной зрелости, жизненной умудренности; тогда же приходит способность к овладению «техникой» драмы и художественной формой вообще. «…Нужно смело изобретать новую форму для нового материала, мыслить жанр подвижным и емким», — сочувственно цитирует Манн автора «Орлеанской девы», видя в этом «новое, реалистическое, отношение к форме, к искусству»1.
Нова и смела сама характеристика зрелого Шиллера как личности и художника: «…испытываешь потребность сообщить небесно-голубому идеалистическому нимбу, которым принято окружать облик Шиллера, несколько более сочные тона, примешать к небесно-голубой более земные, реалистические краски, неотъемлемые от его величия в силу присущей ему энергии, цепкости, упорства, жизнелюбия — без чего он не стал бы тем, чем он был и есть»2.
Такая постановка вопроса, подкрепленная сопоставлениями Шиллера, с одной стороны, с Гельдерлином, с другой — с Гете в творческом и в психологическом планах3, несомненно, интересна о историко-литературной точки зрения. Но еще интереснее и значительнее те общие, актуальные для XX века аспекты теории, которые в ходе проникновения в шиллеровское творчество Томасом Манном прочерчиваются.
Когда автор «Слова о Шиллере» говорит о наделении такого героя, как Октавио Пикколомини, «двойным набором душевных ценностей, в конечном счете обесценивающим личность», или видит в «Деметриусе» воплощение «страшного жребия человека, потерявшего веру в себя… темы нравственного кошмара», — нам открывается связь драмы не только с эпохой ее создания. Ибо одновременно манновский анализ так освещает проблематику творчества Шиллера и ситуацию той эпохи, что читатель XX века находит в нем ассоциации с явлениями и проблемами современной литературы и жизни.
323
Тема «нравственного кошмара», например, или герой, наделенный «двойным набором душевных ценностей», ассоциируется с характерами и особенностями психологизма, распространенного в современной западной литературе, нередко возводимого (а в чем-то и действительно восходящего) к традиции Достоевского и воспринимаемого многими читателями и литераторами как чуть ли не обязательная черта подлинно современной литературы.
Вслед за другими исследователями Манн тоже отмечает роль творчества Шиллера для Достоевского, который был «особенно восторженным поклонником его» и порою, считает Манн, даже прямо заимствовал, по-своему истолковывая, некоторые его идеи. Приведя шиллеровскую строку, особенно восхищавшую Достоевского: «Насекомым сладострастье, ангел — богу предстоит», — Манн[113], однако, явно не разделяет его восхищения1. Манну кажется, что утверждаемая этой фразой дуалистическая концепция человека неорганична для Шиллера, или, во всяком случае, не выражает самых сильных и плодотворных для творчества сторон его миросозерцания.
Манну, например, представляется уж очень незакономерным и потому «страшным» то, что автор «Дон-Карлоса», «Телля», «Валлейнштейна» был застигнут смертью, когда работал над образом Дмитрия, вживаясь в противоестественную разорванность этого своего героя и не успев выйти к синтезу, к воплощению противостоящего ей позитива; ибо именно это Манн считает самой сильной стороной творчества Шиллера, подлинной сферой его гения[114]. «Внечеловеческое в нем пугает, — пишет Манн об образе Валленштейна, — но… в конечном счете он борется за добро, за разум, за благо людей, борется за мирную жизнь»2. Именно в обретенном синтезе противоречивых начал характеристики Манн усматривает основу идейной глубины и эстетического совершенства образа героя.
Манн придает принципиальное значение отступлению от первоначального замысла «Дон-Карлоса», задуманного как «семейный портрет королевской фамилии», а потом обогащенного «контрастом». Ибо, — утверждает Манн, «политический пульс» поэта, который «бьется в унисон с драматическим, подсказывает… что… надо… противопоста-
324
вить надменному презрению к людям благородные идеи, идеи свободы и счастья народов»1.
Не разорванность сознания и чувств человека на основе принципиальной непримиримости живущего в нем «насекомого» и «ангела», а столкновение противоположных социальных, идейных и этических позиций, от которых представительствуют герои, выступающие в конфликтах шиллеровских трагедий, — выдвинуто на первый план в манновском анализе. Именно в воплощении этой обнаженной непримиримой сшибки зла и добра, жестокости и милосердия, низости и благородства проявилась, утверждает Манн, «поэтичность» Шиллера, отнюдь не «убитая», а, напротив, обогащенная столь непосредственной близостью с политическими идеями и общественными страстями. Именно с этим единством связывает Манн (с прямолинейностью просто демонстративной!) бессмертное совершенство формы и языка великого поэта: «Идеи свободы и счастья народов… делают стих полнокровным и звучным, сообщают ему не только ораторский пафос, но зачастую неповторимо задушевные нотки… Он изобрел… речь самую блестящую, самую патетическую из когда-либо созданных в немецкой, а быть может, и мировой литературе»2.
Так эстетическая характеристика включает политический момент, а этот последний, в свою очередь, оказывается неотделимым от рассмотрения проблемы народности и всечеловечности в произведениях Шиллера. Особенно в таких, как «Песня о Колоколе» и «Вильгельм Телль».
Характеризуя «Песню о Колоколе», Манн находит в ней воплощение «игры человеческой жизни на всех ее путях, во всех ее извечно повторяющихся, до чистоты мифа вознесенных, перипетиях». И здесь же, вслед за В. Гумбольдтом, Манн отмечает художественное достижение этого стихотворения-поэмы3.
И все же манновская характеристика этого стихотворения не исчерпывается высоким его признанием. Существенной задачей является для Манна выяснение вопроса соотношения мифа и истории, а также проблема мировоззренческой позиции, с которой происходит обращение художника к мифу. Сама «Песня о Колоколе» свидетельствует, что «вознесение» к чистым и извечным началам ми-
325
фа не исключает воплощения моментов
исторического бытия, касающихся целого народа, целого исторического поколения и
отдельного человека. Т. Манн специально выделяет строки «Песни о Колоколе»,
посвященные революции, так передавая их суть: «…горе, коль “сам народ крушит темницы и цепи
разбивает в прах”». И
тут же следует манновский комментарий: «Здесь трудно удержаться от вопроса, кто
же должен разбивать цепи, если народ сам этого не сделает?»1
Характеризуя «Песню о Колоколе» и «Вильгельма Телля», Манн подходит к проблеме народности. Он защищает от литературных снобов и оторвавшихся от земли «идеалистов» (речь идет опять-таки не только о шиллеровском окружении!) право большой литературы на обыденность предметов изображения, на видимую примитивность идей и общедоступность как содержания, так и формы: «Что нравится избранным, то хорошо; что нравится всем без различия — еще лучше»2[115], — замечал он по поводу «Вильгельма Телля». Здесь «дышит и живет подлинная Швейцария… он создал живую картину людей и природы этой страны… и просто удивительно, как это поэт умеет писать портреты, не видя оригинала»3. Однако точность портретов, поэтичность обстановки, правдивость описаний нравов и психологии еще не составляют, по мысли Манна, поэтического «ядра» произведения. Оно заключено в «идее единства свободы и нации», хотя герои «Телля» борются лишь за сохранение исконно принадлежащих им прав и «ничем не напоминают пламенных трибунов и якобинцев», а время действия — конец XIII века.
«В “Вильгельме Телле”, — пишет Манн, — веет ветер французской революции, от которой Шиллер отрекся, но которая дала жизнь идее единства свободы и нации и потому… осталась родиной его пафоса»4. В этой фразе заключен целый узел чрезвычайно принципиальных для манновского понимания реализма проблем. Они не были с полной последовательностью и до конца разрешены им, но сама острота их выдвижения еще раз подтверждает, насколько чутко улавливал Манн те аспекты литературы прошлого, которые сохраняли современное звучание, и как органично двигалась собственная его мысль в русле традиций.
326
Проявившееся в «Телле» неприятие Шиллером определенных политических акций французской революции не затрагивает, как проницательно отмечает Манн, произведения в целом, не определяет его пафоса. Величие «Телля», утверждает Манн, в мысли о том, что понятия «свобода» и «нация» составляют необходимое единство, вне которого каждое из них в чем-то ущербно; это творение Шиллера свободно и от экзальтации абстрактного свободолюбия, и от псевдонародности вагнеровского толка.
Т. Манн подробно развивает эту мысль. Он считает, что немецким романтикам вообще не удавалось достичь подлинной народности, ибо, воспроизводя внешние приметы народно-национальной жизни, они не постигают ее сути. Тяготение к народности у них проявляется как «нарочитая смесь утонченности с инфантилизмом», что придает романтической народности нездоровый душок[116]. Коренное различие между Шиллером и Вагнером, между воплощенным благородством и умным честолюбием, заключается в том, что у Шиллера не найти и намека на снобизм. То, чего он достиг в «Вильгельме Телле», — это классическая народность»1.
Этой высокой оценкой характеристика «Телля» не исчерпывается. Он дает Манну особенно обильный материал для раздумий над острыми близкими современности вопросами и собственно политического, и общеэстетического плана. Манн стремится, например, осмыслить диалектику взаимосвязи тех исторических путей, которыми определялась национальная судьба народа, и того места, которое занимает он, его культура, его «дух», в историческом пути и в духовной жизни человечества; а также ту роль, которую играют в формировании национальной судьбы, культуры и «духа» свободолюбивые идеи и освободительные движения, ибо они, считает Манн, неотделимы и от национальной истории, и от общечеловеческого развития.
Невзирая ни на «обязывающий» жанр юбилейного «Слова», ни на «святость» имен Шиллера и Достоевского, Манн явно не присоединяется к идее «всечеловеческого представительства» как особой миссии отдельного народа, которую усматривает в некоторых их произведениях и выступлениях. Мысль, разделяющая, даже противопоставляющая «всечеловеческое» и «национальное», кажется Манну на-
327
тянутой и абстрактной и уже в силу этого легко подверженной любым истолкованиям и применениям. Натяжка и абстрактность усматриваются именно в умозрительности самой идеи всечеловеческого, вознесенного над реальным историческим и национальным опытом, оторванного от них.
Нельзя не заметить, что и эту идею (так же как идею «двойственности» человека) Т. Манн относит больше к Достоевскому, чем к Шиллеру. С неожиданной для Манна парадоксальностью получается, что речью Достоевского поясняется и обосновывается позиция Шиллера, а не наоборот. Так и сказано: «…стихотворение, которое осталось незавершенным… сильно напоминает речь Достоевского о Пушкине»1.
Когда в связи с теми же идеями говорится об отсутствии у Шиллера драмы, посвященной освободительной борьбе и основанной на национальной истории, — в тоне автора «Слова»[117] начинают звучать ноты горечи: «…в творчестве Шиллера подъем патриотических чувств, идею национальной свободы всегда олицетворяют народы чужих стран…[118] Великий немецкий поэт не создал для своего народа национальной драмы, воспевающей свободу; он отказал ему в способности стать самостоятельной нацией и советовал своим соотечественникам с тем большим усердием развивать в себе чисто человеческие качества». Тут же делается оговорка, что Шиллер «отнюдь не выражает пренебрежения к немцам, ибо всечеловеческое представляется выше ограниченного формальными рамками национального сознания, и вся сложность заключается в том, чтобы возвестить народу… его предназначение»2. Но логика манновских размышлений с непреложностью устанавливает непосредственную взаимосвязь между судьбою нации и ее способностью отстаивать свою свободу, а идея «всечеловеческого представительства» в том контексте, в каком она здесь поставлена, выглядит, несмотря на приведенную оговорку, как некая «компенсация» за упущенные возможности проявить должную активность в «рамках» национальной истории, на почве действенного утверждения патриотизма и свободы в их единстве.
Нас в данном случае интересует не столько актуальный, сколько принципиальный смысл манновских рассуждений: та последовательность, с которой Манн стремится
328
теперь к «приземленному», то есть исторически-конкретному восприятию понятия «всечеловеческое». Независимо от того, применяется ли это понятие к судьбам народов и наций или к жизненным позициям и поведению отдельного человека, развивается ли оно в публицистической декларации или воплощается в художественном произведении. Тенденция эта, как мы уже говорили, обнаруживается с особенной очевидностью, если рассматривать «Слова» о Шиллере и Чехове с точки зрения общности выдвигаемой в них проблематики и единства утверждаемых в них итогов.
Замечательна в этом смысле одна фраза в начале статьи о Чехове, где речь идет об отношениях Чехова и Толстого. «Мудрость же “непротивления злу” и “пассивного сопротивления”, презрения к культуре и прогрессу, которое позволял себе этот великий мира сего, казались ему (Чехову. — М. К.) в сущности реакционным юродством»1. Манн подчеркивает, что для Чехова поведение человека, основанное на только общечеловеческом принципе, на абстрактном понимании добра, вне отношения к реальному моменту исторического развития — не является идеалом. И это было той принципиальной позицией Чехова, к которой Манн присоединялся.
Собственно говоря, все «Слово о Чехове» посвящено развитию и обоснованию этой мысли. Сравнительно со «Словом о Шиллере» оно у́же по охвату проблем, но зато еще более сосредоточено на решении проблемы художника, которая особенно близка Манну и особенно непосредственно «вписывается» в современную ему литературную ситуацию. Потому, верно, «Слову о Чехове» присуща особенно лично-интимная, грустная и светлая интонация.
Пристально и любовно вникая в «повествовательное искусство Чехова, которое, несомненно, принадлежит ко всему самому сильному и самому лучшему в европейской литературе»2, а также в подробности его жизни, в атмосферу, его окружающую, Манн приходит к выводу, что не только в том или ином своем высказывании, но и всей своей жизненной и творческой позицией автор «Скучной истории» и «Моей жизни» противостоял тем, кто остановился на «пассивном сопротивлении», как многие герои его произведений.
329
«В уныние… впали многие тонко организованные натуры из окружения Чехова, задыхавшиеся без живительного озона свободы… Антон Павлович не запил, не надломился духовно, не сошел с ума…[119] что касается общего уныния, то Чехов противился, ему… на бумаге»1, — то есть облаченной в смешное, но, по существу, беспощадной критикой «русской жизни того времени», которая содержалась в его творчестве. Манн снова выходит здесь к проблеме критической и этической природы «самой литературы» и вместе с тем к необходимости конкретизировать ее.
Рассматривая творческую позицию Чехова в сопоставлении и противопоставлении с его современниками, не выдержавшими «уныния» русской жизни того времени (Гаршин, Г. Успенский), Манн тем самым заостряет проблему мировоззрения писателя, если сформулировать вопрос, исследуемый автором «Слова», в нашей терминологии. В самом деле, почему сила сопротивления, заключенная в «самой литературе», не оказывалась противоядием для чеховских современников, а для него стала формой активного сопротивления? Манн этот вопрос не формулирует в таких словах, но, по существу, всей логикой своих рассуждений отвечает именно на него.
Здесь прежде всего, считает Манн, играет роль степень таланта: свойственный «самой литературе» аналитический и этический пафос становится подлинной силой и оружием в руках очень большого художника[120]. Именно в этой связи Манн подробно останавливается на письме Д. В. Григоровича к Чехову, открывшего огромность его таланта и призвавшего молодого автора беречь его, то есть работать много, неустанно. Для Манна талант был всегда неотделим от налагаемого им чувства ответственности и потребности в интенсивном труде, требующем полной самоотдачи, безусловного и бескорыстного служения. Способность к такому труду-служению, считает Манн, уже сама по себе — активная общественная и нравственная позиция. Ибо служить искусству — значит, по Манну, служить не только красоте, но и добру, и не только добру, но и свободе, — мы уже не однажды возвращаемся к этому утверждаемому им единству.
Манну близки скорбь и сомнения Чехова «относительно смысла работы» и своего неумения «дать ответ на во-
330
прос: «что делать?»1 Манн прямо говорит, что он и многие современные ему писатели испытывают подобные же сомнения: в чем смысл их работы, не обманывают ли они читателей, создавая произведения, не содержащие ответа, как улучшить жизнь, как сделать человека внутренне красивее и счастливее.
Однако, утверждает Манн, сама неудовлетворенность, которую
испытывает писатель от «неумения» отвечать на эти вопросы, свидетельствует о
глубоком понимании им своей общественной и гуманной миссии; и в наши дни истинный
художник, считает Манн, умеет творить, преодолевая и самые неблагоприятные
обстоятельства, и сомнения в собственных силах, в важности своей работы. При всем
этом он «все-таки» пишет. Ибо что-то есть в этом примечательном «все-таки» («dennoch»), в нем содержится «некий
смысл»2. Манн верит: смысл труда
писателя — утверждение человечности человека, исконно присущей ему потребности
и способности сопротивляться злу, «скверне».
Обращаясь к произведениям Чехова, Манн открывает в них
пленяющее и поражающее его бесстрашие анализа, обнажающего суровую и грустную
правду жизни под многими покровами невольных заблуждений, сознательной лжи
сложной системы существующих общественных отношений.
В рассказах «Моя жизнь», «Случай из практики» воплощена
мысль об утонченном «искусстве порабощать». Она раскрывается, считает Манн, не
только в словах героя, но логикой отношений персонажей и проходящим через все
повествование контрастом между рядом существующими, но разделенными непроходимой
пропастью мирами: владельцы фабрик — самодовольные «буржуа эпохи прогресса»3, по манповскому выражению, и рабочие,
ко- торые даже внешним своим видом (подчеркивает Манн, приводя соответствующие
цитаты) свидетельствуют о том, что для них все осталось по-прежнему. Манна
восхищает презрение Чехова к иллюзиям, к самообманам: «…он с нескрываемым пренебрежением
относится к паллиативным средствам, с помощью которых «прогрессивный буржуа» пытается
лечить социальные болезни»4 Он глубоко
ощу-
331
щает, считает Манн, что «в данных
условиях… все совершается в силу какой-то неотвратимой необходимости», и даже
то, что «жизнь — это бесперспективная проблема». Бескомпромиссность чеховского
анализа дает Манну основание сделать и такое идущее в русле его собственных разочарований
и сомнений обобщение: «…человек — неудавшееся создание природы. Его совесть,
духовное начало в нем, очевидно, так никогда и не удастся полностью примирить с
его натурой, его бытием, его общественным положением»1.
Однако аналитически-критическое начало произведений Чехова
рассматривается Манном как лишь одна сторона его творчества. С большой
чуткостью улавливает Манн сложную гамму чеховского юмора — то грустного и мягкого,
то острого и меткого, когда объектом его становятся разнообразные оттенки самодовольства,
пошлости (Манн рассказывает о неизгладимом впечатлении, которое произвел на
него образ профессора в «Дяде Ване»[121]),
то трагического и «ожесточенного», когда речь идет о людях, забывающих о своем
человеческом достоинстве.
Нетерпимый ко всякой ложной патетике, недоверчиво-насмешливый к декларативным словесным излияниям — Манн точно определил «особую, предельно комическую, художественную функцию» длинных отвлеченных разглагольствований, которые ведут некоторые чеховские герои. Но, с другой стороны, он признал органичность и поэтичность речей героев, в которых «получали сознательное отражение» «расплывчатые» (все это — манновские определения), несколько «лихорадочно приподнятые», но исполненные большим чувством «прозрения будущего, которые писатель изредка позволяет кому-нибудь из своих героев или даже самому себе»2.
Манн ощущает и умеет раскрыть, что чеховское «глубокое познание и прекрасное создание» (то есть его творческий метод, как сказали бы мы) основано на «безошибочном чутье и способности видеть, какие силы скоро отойдут в прошлое и какие приметы времени следует отнести к будущему». Эту черту Манн (идя, как он говорит, за «чеховским биографом»[122]) считает определяющей и для художественных открытий, совершаемых Чеховым, и для воплощенной в его произведениях концепции человека, и для
332
достигаемой в них глубины познания эпохи. Все это ставится здесь Манном в связь с «углубляющимся пониманием того, что обществом отвергнуто (с точки зрения исторической перспективы. — М. К.) и уже отмирает и что должно прийти на смену ему»1.
Внимание к проблеме познания и воплощения новых начал общественной жизни, которые должны прийти на смену тому, что «уже отмирает» (исторически), но определяет жизнь и судьбу людей в настоящем, свидетельствует о потребности Манна в более прямых и четких «выходах» к общественной проблематике, к синтезу плана общечеловеческого, социально-исторического и политического. В «Слове о Шиллере» Манн выходил к этому синтезу в связи с проблемой свободы. В «Слове о Чехове» — будущего. Но оба аспекта находятся, разумеется, в самом тесном взаимодействии, соотнося эти статьи по проблематике, по функциям и сближая их с третьей, уже названной выше значительной и принципиальной статьей поры «итогов» — «Прощальные письма европейских борцов Сопротивления».
«…Чудесное слово “resistance”,
интернационально-единодушное сопротивление» — оно предстает здесь как олицетворение
«веры, чаяний и готовности к самопожертвованию европейской молодежи». Непримиримость
к злу слита для них с мечтою о «лучшем человеческом обществе»; «их мечты, их
смерть» — завещание и залог того,
что чистота, духовность, стремление к осуществлению общественного идеала не исчезнут
ни в современном мире, ни в современном искусстве и перейдут к следующим
поколениям. Ибо, утверждает Манн, «еще не было такого случая, чтобы идея, за
которую с чистым сердцем боролись, страдали и умирали люди, — погибла. Такие идеи всегда
осуществлялись. И пусть даже они носили на себе грязные следы действительности,
но жизнь их завоевывала»2.
Так маленькая заметка, к литературе отношения как будто бы
не имеющая, органически сливается с проблематикой статей о Шиллере и Чехове,
которые в этот период и в этих выступлениях были для Манна фигурами,
олицетворяющими самые значительные, перспективные и близкие ему самому принципы
«познания и создания», осуществляемые искусством. Во всяком случае, в этих
333
трех статьях дано выразительное обобщение — очерчен идейный, эстетический, этический синтез, утверждение которого в той или иной степени мы находим во всех романах Т. Манна, который движет его исканиями, определяет многообразие и дерзновенную необычность созидаемых им форм.
Слова, в которых Т. Манн двадцать лет назад определил значение Шиллера, могут быть отнесены к нему самому: «…толки о том, что его имя надо предать забвению, что он несовременен и ничего уже не может нам дать, — это предрассудок и безумие. Это мнение принадлежит вчерашнему дню, оно устарело… он мог бы уврачевать недуги нашего времени, если бы наши мысли чаще обращались к нему!»1
Не будет преувеличением сказать, что подведенный Томасом Манном «итог», утверждающий веру в будущее, нравственную ответственность человека и его активность, а также веру в социальную и этическую миссию большой современной литературы, именно в силу этого неисчерпаемой в своих эстетических возможностях и новациях, является вместе с тем программой и перспективой для писателей Запада, которые так или иначе тяготеют к «высокохудожественной реалистичности» в литературе. И более того: манновские «итоговые» размышления, во многом обобщившие суть его романистики, близки идеям и идеалам многих писателей и читателей современного мира. Романы Томаса Манна смело и оригинально осуществили новаторское обогащение традиций «высокохудожественной реалистичности» во имя исследования нравственных потенций человека XX века. Они еще долго будут порождать споры, искания, обращать нашу мысль к общим, но отнюдь не абстрактным вопросам человеческой жизни.
Содержание
Введение
Постижение человечности человека как творческая задача 3
I. Преодоление кризиса средствами „точного слова“ 26
«ИЗБРАННИК»
Новейшие «комплексы» в свете старой фабулы 30
«ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА КРУЛЯ»
«Испытание» имморализма формой повествования от первого лица 53
II. Пути „активизации“ социального романа 86
«БУДДЕНБРОКИ»
Открытие «далеких» обстоятельств
и объемной структуры романа 95
«ВОЛШЕБНАЯ ГОРА»
От героя воспитуемого к герою «Взыскующему и Вопрошающему» 162
III. Современный человек в призме мифа и истории 211
«ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ»
Проблема ответственности. Новая форма конфликта и ее типология 217
«ДОКТОР ФАУСТУС»
Раскрытие нравственных потенций «героя нашего времени» в романе-трагедии 258
Заключение
Традиции и перспективы «высокохудожественной реалистичности» в литературе 315
КУРГИНЯН
РОМАНЫ ТОМАСА МАННА
Формы и метод
Редактор С. Гиждеу
Художественный редактор
Г.
Масляненко
Технический редактор
Л.
Витушкина
Корректоры
Д. Эткина и А. Юрьева
Сдано в набор 23/I 1975 г. Подписано к печати А02284 от 23/V 1975 г. Бумага типографская № 1. Формат 84X1081/32. 10,5 печ. л. 17,64 усл. печ. л. 19,07 уч.-изд. л. Тираж 10 000 экз. Заказ 90. Цена 89 коп.
Издательство «Художественная литература» Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект имени В. И. Ленина, 109.